Степан Ванеян Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики
© Ванеян С. С., 2015
© Оформление. Издательский дом Высшей школы экономики, 2015
* * *
Эрнст Гомбрих: верхом на деревянном коне (вместо предисловия)
На самом деле под искусством я понимаю то, что получается, когда кто-то берет в руку перо.
Эрнст ГомбрихВ каждой культуре канонические писания прошлого приводили к необходимости комментариев. На Западе и изобразительное искусство стало каноническим. Когда я озираюсь на мои работы, я бы хотел видеть их понятыми в качестве такого вот комментария, облегчающего моим читателям доступ к творениям прошлого.
Эрнст ГомбрихУ меня была крайне амбициозная программа в виде некоего триптиха. План был и остается в известной мере неизменным: написать, с одной стороны, о теории отображения («искусство и иллюзия»), а с другой – о теории свободной игры форм, что есть орнамент («чувство порядка»). А к среднику принадлежали бы, естественно, иллюстрация текста и символизм. И обо всем этом я уже написал.
Эрнст ГомбрихОговоримся сразу: Hobby Horse (он же – Steckenpferd) – вещь реальная, хотя и деревянная. И маленький мальчик, гарцевавший на нем в своей детской, став взрослым и ученым, никуда уже, кажется, на нем не скачет, но все так же восседает верхом на этом скакуне, открыто стремясь вперед в своих повествованиях и воспоминаниях. Под ним подлинная реальность – и совсем не то деревянное сооружение, в котором прятались иные герои иных рассказов… И размышляет ученый муж не только на нем – но и о нем: что этот конь не скрывает внутри себя, а открывает, есть ли у него это нутро и куда он устремлен, кто на нем, а не в нем тем не менее куда-то проникает?
Попробуем и мы, воспользовавшись этой и многими другими метафорами, проникнуть внутрь того мира, что не открыл, а сложил, соорудил, создал сэр Эрнст Ханс Йозеф Гомбрих, будучи, казалось бы, всего лишь историком искусства. Но был ли он им, была ли до него и остается ли после него такая наука?
Открывая любую книгу Гомбриха (проникая в нее – хоть и с разрешения и по приглашению!), обнаруживаешь помимо прочего и тот факт, что уже 50 лет тому назад искусствознание имело все основания претендовать на большее, нежели просто на историю искусства: без гештальт-психологии, без психоанализа, без семиотического литературоведения, без аналитической философии невозможно было уже тогда представить себе современную (или пытающуюся быть таковой) искусствоведческую науку.
Это не примечательное или даже замечательное ответвление исторической дисциплины, а достаточно суверенная отрасль гуманитарного знания – не со своим предметом интереса (этого-то как раз нет, не может быть и не нужно) и не со своим особым методом (что невозможно), но со своим местоположением в контексте дискурсов, причем вовсе не только когнитивных, но и, так сказать, креативных (ужасное слово!), хотя на самом деле – коммуникативных, то есть социальных. А если совсем точно – несомненно, перформативных, которым предшествуют практики информативные, а цели которых столь же безусловно – трансформативные.
Обобщающе-общительный характер этой науки – разделяющей общность и с искусством, и со знанием, и с душой, и с плотью, – обрел в лице и личности Гомбриха классический вид и типический характер самой эффектной из риторических фигур, которой он сам уделял немало внимания в своих текстах. Он сам – настоящая персонификация энциклопедизма, историзма, психологизма вкупе с неподражаемой респектабельностью того, казалось бы, чисто английского способа обращения с научным знанием, который на самом деле свято, хотя и тайно хранит верность континентальной и прежде всего германской учености (в ее не худшем, если не лучшем – венско-австрийском – изводе)[1].
Итак, что же мы в состоянии выяснить и уяснить с точки зрения трех обозначенных выше позиций? Что пережил Гомбрих (его жизнь, а значит – информативность), что он знал (его впечатления и влияния – это как раз перформативная составляющая) и что он сотворил (а это – само современное искусствознание, современная история культуры, современная семиотика искусства и современная философия творчества и даже больше – преддверие и подготовка современного состояния науки об искусстве, то есть чистой воды трансформативность).
А за кулисами этой разворачивающейся постановки ждут своего выхода и ответов совсем иные вопросы: что значит, когда зрелый историк оглядывается на уголок собственной детской с игрушечным конем, что значит отсутствие у этого коня собственных конечностей, заменяемых ножками ребенка, что значит эта явная регрессия в контексте исторического когнитивного прогресса?
Из детства – в науку
Итак, жизнь, которую мы постараемся изложить, с одной стороны, в самых основных сюжетных линиях, снабдив всякого рода деталями и обрамляющими мотивами, вводя по ходу действия новых и неизбежных героев.
Гомбрих принадлежал и принадлежит Вене не только по роду деятельности и по типу образования, но и по происхождению: он родился 30 марта 1909 г. в высокообразованном еврейском семействе (перешедшем в протестантизм около 1900 г.), глава которого – Карл Гомбрих – юрист, по словам сына, «совсем не приспособленный к деланию денег»[2] (он был школьным другом Гуго фон Гофмансталя, с которым, однако, позднее разошелся, не вынеся его эстетизма). Мать Гомбриха – Леони Хоке – была по-настоящему замечательной пианисткой-педагогом, ученицей А. Брукнера, и преподавателем сестры Густава Малера. Эта музыкальная среда пронизала своим духом (дыханием и звучанием) детство и юность Гомбриха, питая – через воспоминания – на протяжении всей жизни его самые фундаментальные и, вероятно, достаточно латеральные настроения.
Таким, безусловно, глубинным аспектом является отношение Гомбриха к христианской вере – как раз в связи с обращением в христианство родителей[3].
В частности, Гомбрих подчеркивает, что отец его матери принципиально не хотел знакомить свою дочь с иудаизмом, у отца Гомбриха «было немного знания этой традиции», сам же Гомбрих «никогда с иудейским воспитанием не соприкасался». Обращением же не просто в христианство, а в довольно радикальный протестантизм (в католической Австрии!) его родители были обязаны своей хорошей и очень почитаемой знакомой, другу семьи Нине Шпиглер. Тогда она была замужем за известным евангелическим мистиком и христианским поэтом Зигфридом Липинером, евреем по происхождению, последователем Ницше и Вагнера, переводчиком Мицкевича, оказавшим, по мнению многих, в том числе и Гомбриха, решающее влияние на Густава Малера. Липинер собирал у себя дома своих последователей и единомышленников, в том числе и на лекции по искусству, трактуя его в духе Рёскина. Сын Нины – Готфрид, будущий физик-радиолог, был ближайшим другом Гомбриха и оказал на него большое влияние:
…именно он помог мне понять, что интерпретация образов таит в себе немало проблем[4].
Касательно иудаизма – вот такое соображение:
Я не испытываю ни малейшего желания отрицать или умалять мое еврейское происхождение, но когда я думаю об истории, я имею в виду скорее западную культуру, чем культуру гетто, хотя о последней, быть может, у меня слишком мало знаний[5].
В автобиографии Гомбрих подробно останавливается на своем отношении к Вене. Она для него была не имперской и декадентской Веной fin de siècle, а Веной послевоенной, пребывавшей в довольно плачевном состоянии. Кроме того, подчеркивает Гомбрих, следует всячески избегать «венского мифа» как такового: Вена совсем не была «монолитным обществом, где каждый толковал или о современной музыке, или о психоанализе». Она была
интеллектуально живым городом, но совсем не похожим на те самые клише, которые можно использовать, но не без щепотки соли[6].
Другой друг семьи – скрипач Адольф Буш познакомил юного Гомбриха с «Размышлениями над всемирной историей» Якоба Буркхарда. Сам Гомбрих был опытным виолончелистом, всю жизнь любил домашнее музицирование, хотя и не обольщался относительно своего дарования (впрочем, еще одно порождение венского гения – атональную музыку – он так и не смог принять вслед за своей матерью, которая хорошо знала Шёнберга, но не считала возможным поддерживать с ним отношения).
Гомбрих подробно останавливается на музыкальной стороне личности своей матери Леони Хоке, в том числе тщательно перечисляя тех великих музыкантов, с которыми она была знакома или кого ей посчастливилось слушать. Еще в детстве – это Иоганн Штраус в Народном саду (Volksgarten), в консерватории – Брукнер, потом Лешетицкий, а также Антон Рубинштейн и Брамс. С Шёнбергом она даже играла концерт, но тот никак не мог взять верный темп. Стать профессиональной исполнительницей ей категорически запретила ее мать, считавшая, что это занятие по степени неприличия мало чем отличается от участи «цирковой наездницы»[7]. Став преподавателем музыки, мать Гомбриха вошла в круг Густава Малера, будучи наставницей его сестры (сестра же Гомбриха Деа была ближайшей подругой дочери Малера Анны), сблизившись одновременно с известной певицей Анной Бар-Мильденбург – женой писателя Германа Бара, на вилле которых новорожденный Гомбрих провел первые месяцы своей жизни[8]. Кроме того, сестра Гомбриха была хорошей знакомой Антона фон Веберна и Альбана Берга[9].
Довольно конкретный и не лишенный символизма и многозначительности факт из ранней биографии: после Первой мировой войны, в 1920 г., организация «Спасение детей» отправила Эрнста и его сестру Элизабет почти на 9 месяцев в Швецию, чтобы спасти их от голодной смерти. Перед отправкой маленький Гомбрих находился на четвертой (из пяти по возрастающей) стадии истощения. В Швеции он жил в семье столяра, «очень милого человека», быстро научился шведскому и мог читать на нем всю жизнь (заодно «эти люди, как он надеется, помогли ему избавиться от его снобизма»)[10]. Чем не абсолютно экзистенциальное переживание, предвосхищающее грядущую судьбу изгоя и героя в одном лице?
Еще из раннего детства – кортеж императора Франца-Иосифа у Шёнбрунна, его же похороны, созерцаемые из дома на Рингштрассе, предупреждения об отравляющих газах и звуки канонады с итальянского фронта… Но главное – память о великолепной отцовской библиотеке, с немалым количеством книг по искусству, и о собственном интересе не столько к истории искусства, сколько к истории естественной, довольно органично питавшей и интерес к доисторическому существованию мира и человека, благо два соответствующих венских музея стояли (да и сейчас стоят) друг против друга[11].
До конца жизни в памяти Гомбриха живут прочитанные в детстве книги – их обычно дарили на Рождество и на день рождения, – в том числе и «История искусства как история духа» Макса Дворжака. Гомбрих вспоминает, что отец не только читал детям вслух Гомера и Махабхарату, но и вместе с матерью следил за порядком их собственного знакомства с литературой: в какой-то момент маленькому Гомбриху было сказано, что пора приступать к немецкой словесности, «и я начал читать Гёте, Шиллера и т. д.»[12].
После возвращения из Скандинавии Гомбрих обучается в начальной школе, от которой у него остались довольно сдержанные впечатления. Это была частная школа с щадящим режимом, так как маленький Эрнст, по мнению отца, был не очень крепок физически. Ко времени пребывания в начальной школе относятся два воспоминания: как однажды в 1917 г. учитель вбежал в класс с радостной вестью о сепаратном мире с Украиной и как уже при республике маленький Гомбрих прочел (сильно волнуясь и запинаясь) на празднике не совсем уместную в тех обстоятельствах детскую поэму о волнениях в некоем улье, где упоминалась «королева (!) пчел», изгоняющая трутней[13].
Основное же образование Гомбриха совершается в средней школе Theresianum[14], где он «не чувствовал себя счастливым, будучи скорее аутсайдером»[15], сочинял сатирические поэмы (их число дошло до 60) и справлялся с обучением исключительно благодаря феноменальной памяти, уже только этим вызывая почтение учителей[16]. Однако именно гимназия оказалась тем местом и тем опытом, которые, по признанию самого ученого, и составили основание всего его последующего существования, прежде всего – духовного. За этим опытом стоит в первую очередь влияние учителя немецкой литературы – объекта самых подробных и самых благоприятных воспоминаний. Это был «исключительный человек», вагнерианец, знаток Платона и Шопенгауэра, о которых он беседовал с учениками. От него Гомбрих «многому научился», в первую очередь – любви к Гёте, привлекавшему юношу «множественностью» своих интересов, в том числе и естественно-научных[17].
Именно в гимназии естественно-научные и доисторические пристрастия детства постепенно трансформируются в любовь к истории, сначала к древней (Египет – с попыткой изучения иероглифики), затем – строго хронологически – к античной, увенчавшуюся в 15 лет написанием эссе о вазописи[18].
«Шаг за шагом я приближался к визуальным искусствам, но ни в коем случае не к искусству современному; это и интересно, и странно: у нас никто ничего не знал, что происходило в современном искусстве; никто его в Вене среди нас и не видел: импрессионистов – конечно, да, но современную живопись – нет»[19].
В возрасте 17 лет Гомбрих пишет свою первую вполне серьезную, сознательную и продуманную искусствоведческую работу на тему изменений взглядов на искусство от Винкельмана до наших дней. Это было выпускное гимназическое сочинение (так называемая matura – позволявшая сдавать экзамены на аттестат зрелости), и писалось оно под впечатлением от полученной на день рождения тогда еще совсем свежей книги Вильгельма Ветцольда о немецких историках искусства XIX столетия[20]. История искусства как наука уже в то время для Гомбриха – довольно примечательный путь развития знания и интереса к искусству, начиная с Просвещения (Винкельман и Гёте), через романтизм (в лице Вакенродера и Шнаазе) и вплоть до современного ему экспрессионизма в науке. Пример тому – все тот же Дворжак. Гомбрих вспоминает, как в 1921 г. один знакомый принес в дом трагическую весть о смерти ученого. Гомбрих-подросток не знал, кто это такой, но благодаря реакции взрослых ощутил «великую утрату»[21].
Кроме того, от этой юношеской работы сквозь всю жизнь, по признанию самого Гомбриха, тянется важная идея, обретшая свое завершение чуть ли не в последней книге: именно романтизм привил вкус и интерес к несовершенному, не сложившемуся, к «примитиву», которому многое прощается, ибо это соответствующий взгляд на ту же Италию XV в.[22]. Имеется в виду книга «Предпочтение примитива…»[23]. Гомбрих упоминает о ней в 1991 г. как о находящейся в процессе написания, но издание оказалось фактически посмертным. Кстати говоря, современное Гомбриху искусство (очевидцем которого он фактически был в родной Вене) именуется в книге «революционным примитивизмом». Интересно также заметить, что переход от классицизма через романтизм к экспрессионизму в истории вкуса Гомбрих описывает как превращение интереса к «теме» в интерес к «экспрессии». «Тема» же мыслилась в совершенно гётевском духе, то есть «драматически», как восприятие и переживание того, что «происходит» в изображении, понятом, таким образом, как все то же представление, разыгрываемое одновременно и на сцене перцепции, и за кулисами апперцепции, и в зрительном зале научного конвенционализма, о чем – далее.
Одновременно история искусства – это уже и собственная несомненная жизненная стезя, ступив на которую в столь раннем возрасте Гомбрих совершает и следующий логический шаг – поступает в 1928 г. в Венский университет, вооруженный перенятой от Дворжака идеей, что искусство – это «волшебный ключ, отмыкающий прошлое»[24].
Надо сказать, что семейство Гомбриха принадлежало к тому интеллигентному среднему классу, где совершенно явно наличествовал культ и Гёте, и всей классической древности вкупе с Возрождением, что было непременным условием подлинного Bildung[25], а «история искусства была аспектом духовной жизни, а не какимто “предметом”», обладая «особой витальностью»[26].
Гомбрих помнит разговоры о литературе, что велись в их доме, и имена тех писателей, что упоминались. Литература была в основном русская и скандинавская, среди французских авторов – лишь Мопассан и Анатоль Франс, «никогда – Пруст». Два брата матери, один врач, другой юрист, были
абсолютно немузыкальны, но безмерно учены, отличаясь фантастическим знанием греческой, латинской, французской, итальянской и скандинавской классики и не имея ни малейшего представления о вещах практических[27].
Неприязнь к нуворишам с их тщеславием и одновременно высокомерие по отношению к малокультурным единоплеменникам, выходцам из Восточной Европы, плохо владевшим немецким языком и «всегда боявшимся ассимилироваться в культуре Вены», – вот что придавало «особый привкус» этой социальной прослойке, применительно к Вене «золотого века»[28]. Но эта, казалось бы, локальная культура, добавляет Гомбрих, была культурой Музиля и Рота, писавших о ней не без ностальгии. Гомбрих описывает ее, заметим, с абсолютно тем же чувством…
Тем не менее отец Гомбриха от его желания изучать историю искусства
не был особо в восторге, но проявил немалое великодушие, не запретив этого делать, находя, однако – вполне справедливо, – что этим занятием хлеба не заработаешь[29].
Гомбрих добавляет, что его «до сих пор удивляет, что оно для него, тем не менее, бесхлебным занятием таки не стало». Впрочем, как он признает в другом месте, это была «довольно глупая идея» из-за своей безнадежности, но, если учитывать тогдашнее положение Австрии, «какие идеи и планы тогдашней молодежи не были безнадежны?..»[30].
Кстати говоря, лояльность отца относительно выбора профессии сыном сам Гомбрих объясняет тем, что «он (отец) в свое время послушался своего родителя, стал юристом поневоле и немало от этого потом страдал»[31].
Университет: между Стжиговским и Шлоссером
В университете (точнее, во втором Институте истории искусства, альтернативном кафедре Й. Стжиговского) Гомбрих занимается соответствующими дисциплинами (конкретно – историей искусства, классической археологией и восточноазиатским искусством) под руководством в первую очередь Ханса Титце. В его некрологе[32] Гомбрих, в частности, говорит о «плодо творных, хотя порой и мучительных колебаниях между Титце – приверженцем истории и Титце – сторонником современности». Последняя ипостась Титце стоила ему музейной карьеры: будучи хранителем Альбертины, он пытался продать дублеты, чтобы на вырученные деньги приобрести образцы современного искусства; это вызвало неслыханный скандал, и Титце вынужден был подать в отставку. Гомбрих в воспоминаниях характеризует его как «не очень хорошего лектора, но живого и прилежного человека»[33]. Другие наставники – Карл Мария Свобода и, конечно же, Юлиус фон Шлоссер[34], благодаря которому была защищена докторская диссертация, посвященная по тем временам довольной острой теме – архитектурному маньеризму[35]. Деятельность Шлоссера, по мнению Гомбриха, отличало
глубинное сомнение в беззаботном эстетизме и формализме – ведь в разные эпохи и у разных обществ под искусством понимались весьма разные вещи.
Финальный оборот этого раннего для Гомбриха текста звучит пророчески, если обратить его от учителя к ученику: «в такое время, как наше, он сознательно предпочел быть “анахронизмом” в лучшем смысле этого слова»[36].
Собственно диссертации предшествовала и другая архитектуроведческая работа, посвященная венской Петерскирхе и предложенная Гомбриху в качестве испытания Карлом Свободой. Гомбриху повезло: он нашел одного престарелого пастора, владевшего неизвестными до сих пор документами, в которых студенту было дозволено «копаться», совмещая это занятие с прочесыванием настоящих архивов. Этот первый опыт «завораживающей» работы с историческими источниками «пришелся по вкусу» молодому Гомбриху[37]. Успех этого текста как раз и позволил Гомбриху войти в весьма узкий круг учеников Шлоссера.
По признанию самого Гомбриха, решающее влияние на методологию диссертации оказала недавно вышедшая книга другого ученика Шлоссера – «амбициозного и специфического» (слова учителя) Ханса Зедльмайра. В его «Архитектуре Борромини» (1930) были совмещены сразу два крайне актуальных тогда психологических подхода: гештальт-психология и кречмеровская типология-психосоматика[38]. В одном принципиальном тексте – уже послевоенном – Гомбрих признает «плодотворным» опыт применения Зедльмайром принципов гештальт-психологии к архитектуре: структурный анализ выявляет «смыслонаполняемость» архитектурных построений. Хотя зедльмайровское понимание структуры как «аристотелевской энтелехии, пребывающей в организме» требует своего дальнейшего прояснения[39].
При этом диссертация – опыт полемики с предыдущей историографией маньеризма, а именно с преобладавшим тогда пониманием данного стилистического явления как кризиса ренессансного духа. Это дворжаковская идея, отказ от которой позволил Гомбриху увидеть в маньеризме совершенно новую роль художника-артиста, творчество которого – в первую очередь свободная игра на радость заказчику. Такой художник мало подходит на роль носителя глубочайшего духовного кризиса своего времени. Так трактует свою диссертацию уже совсем немолодой Гомбрих, обращая внимание на то, что скептицизму по отношению к стереотипам научной традиции он научился именно у Шлоссера[40].
К сожалению, архитектура так и не стала главной темой творчества Гомбриха[41]. По его собственным наблюдениям[42], от тогдашней типично венской методологии – «исчерпывающий формальный анализ и попытка психологической трактовки экспрессивного содержания» – у него остался впоследствии лишь интерес к психологии. Это тем более обидно, если учитывать, что интерес к архитектуре, по признанию самого Гомбриха, пробудился у него еще в детстве, когда он пробовал даже зарисовывать на улицах родного города примечательные архитектурные формы, прежде всего барочные[43].
Шлоссер же еще до диссертации имел возможность, по всей видимости, не только повлиять на своего ученика, но и сформировать его исследовательский менталитет своими учебными семинарами, которые были одновременно и сугубо, и строго научным общением почти равных коллег. У Гомбриха есть подробное описание трех разновидностей семинарских занятий, которые вел Шлоссер.
Во-первых, это занятия по первоисточникам, например сравнительный анализ двух редакций Вазари. Напомним, что это была главная специализация самого Шлоссера, автора знаменитой и актуальной до сих пор «Литературы по искусству»[44]. Знание итальянского языка студентами – не обсуждалось[45]. В частности, сам Гомбрих занимался жизнеописанием Джованни Беллини[46].
Во-вторых, это семинар, посвященный анализу конкретного произведения искусства, проходивший еженедельно по вечерам в Музее истории искусств, в отделе прикладного искусства, который Шлоссер возглавлял до университета. Для каждого студента выбирался отдельный памятник, о котором в течение года должна была быть написана работа. В один год Гомбриху достался оклад каролингской рукописи, при описании которой студент сделал одну оплошность, указав на сирийские аналогии одной арочной формы, чего при Шлоссере делать не стоило – подход Стжиговского в этом замечании был слишком явным. Шлоссер в ответ просто сказал, что «Сирия – примечательная местность», и закрыл тему[47].
В другой раз это была пиксида, считавшаяся позднеантичной, и начинающий историк искусства сумел доказать, что это – каролингская копия. Работа понастоящему восхитила Шлоссера, который не видел различий между учителями и учениками. Студенту было предложено опубликовать работу в музейном ежегоднике, в результате чего родилась первая научная публикация Гомбриха[48]. У него были все шансы стать медиевистом, однако этого не произошло, так как он довольно рано понял, насколько все неопределенно в этой отрасли истории искусства, прежде всего из-за скудости источников[49].
В-третьих, это был семинар проблемный, вернее сказать, исто риографический-методологический, когда, например, Гомбриху досталась известнейшая книга А. Ригля, его первое фундаментальное сочинение – «Вопросы стиля» (1893)[50], посвященное эволюции орнаментики. Шлоссер, знавший Ригля лично и питавший бесконечное к нему почтение (хотя и не без дистанции[51]), тем не менее позволил студенту подвергнуть критике риглевское чересчур однолинейное понимание развития того же древнегреческого аканфа. Молодой Гомбрих, как он сам замечает, уже здесь чувствовал себя противником всякого дарвинизма и детерминизма. Кроме того, проблематика орнамента в дальнейшем продолжала волновать ученого, что привело к появлению его «Чувства порядка» (1979) – совсем не историко-художественного, а сугубо теоретического сборника[52]. Еще большее, уже на наш взгляд, влияние на формирование теоретических позиций Гомбриха оказала работа над предложенной тем же Шлоссером книгой современного исследователя Карла фон Амиры. Это был позднесредневековый юридический трактат «Sachsenspiegel», посвященный практике условных жестов, применявшихся в тех или иных ситуациях согласно строгим правилам (выражение почтения, поклонения, несогласия, возражения и т. д.). Существенно, что рукопись была весьма изобретательно иллюстрирована соответствующими рисунками – полусхемами-полудиаграммами, напоминавшими стробоскопические фотографии. Жест как одно из фундаментальных и прямых средств коммуникации – вот тематическое поле, повлиявшее на отношение Гомбриха к речевому сообщению, на его понимание знания и значения как конвенционального производного от «остенсивного» акта – основы всякой верификации, то есть возможности прямого указания на подразумеваемый предмет или на опыт знакомства с ним.
Впрочем, не обязательно забегать так далеко вперед: уже и Варбург в преодолении Дарвина обращал внимание на роль жеста в художественной экспрессии, о чем напоминал в свое время Ф. Заксль[53]. Да и риглевское противопоставление оптически-визуального и гаптически-тактильного имеет далеко идущие и глубоко коренящиеся когнитивные перспективы, как это позднее будет комментировать сам Гомбрих.
Речь идет о той распространенной в психологии XIX в. идее, что предполагает невозможность воспринимать пространственные отношения на уровне сетчатки (сетчатка – плоскостное образование, сродни поверхности тела, и визуально определенные переживания, например, глубины вызваны влиянием другого, так сказать, сенсорного канала – а именно осязания, задающего условия и определяющего содержание опыта переживания движения). Поэтому получается, что зрительный опыт в любом случае и – главное – не случайно верифицируется осязанием: существующим можно признать лишь то, что можно потрогать. Отсюда и вся перспектива противопоставления образа и слова, опять же с когнитивной точки зрения: только о том, что определяется языком, о чем можно выстроить непротиворечивое и конвенциональное высказывание, можно говорить в терминах истинности.
А язык связан с плоскостью, поверхностью письма, которое, в свою очередь, определяется как жестикуляция, как манипулирование на поверхности: повторы, следы, перечитывание и т. п. Эти открытые проблемы Гомбрих затрагивает в своей немецкоязычной автобио графии, переходя тут же на проблемы языкового высказывания как критерия научности:
Мы до сих пор еще верим в «гаптическое и оптическое». ‹…› Хотя сегодня нам известно, что образ на сетчатке – весьма обманчив, ибо сама сетчатка – орган селективный[54].
Мы в свою очередь совершим верификацию этого положения, перейдя к этой теме в связи с оценкой Гомбрихом иконологии.
Вся последующая полемика с иконологией растет, как мы видим, если забегать чуть вперед, из этой студенческой курсовой, тема которой, напомним, была предложена профессором, про которого ходили слухи, что он не читает ничего, кроме ренессансных источников.
Гомбрих описывает случай из своей студенческой жизни: однажды после лекции замечательного ученого Эрнста фон Гаргера, специалиста по римскому провинциальному искусству, студенты обратили внимание, что об одной его идее им уже говорил Шлоссер. Преподаватель посчитал, что студенты над ним смеются, он не поверил, что Шлоссер хоть что-то читает, тем более – сочинения своих коллег[55]. Вообще, у Гомбриха можно найти на редкость много всяческих характеристик преподавателей. Среди них – уже упомянутые Титце и ассистенты Шлоссера, Свобода и Ханлозер, ученик Стжиговского Генрих Глюк, специалист по восточноазиатскому искусству, египтолог Юнкер, археолог Эмиль Райш, гротескная копия Шлоссера, «человек в своем роде не от мира сего», и, наконец, уже вышедший на пенсию, но продолжавший читать лекции археолог Эммануил Лёви, «особо тонкий и тонко чувствующий человек с просто потрясающей обходительностью – ну совсем как в старое доброе время!»[56]. Напомним, что книге Лёви «Die Naturwiedergabe in der älteren griechischen Kunst» (1900) посвящены весьма прочувствованные места историографического вступления к «Искусству и иллюзии». Напомним также, что имя Лёви всегда всплывает в связи с Фрейдом, испытавшим влияние этой книги. Можно сказать в этой связи, опять же отчасти предвосхищая последующий разговор, что чтение может быть альтернативой письму и средством все той же верификации…
Но вначале, однако, Гомбрих готов был предпочесть лекции Йозефа Стжиговского – главного оппонента и личного недруга Шлоссера: «Шлоссер ненавидел Стжиговского, и тот, конечно, ненавидел его»[57].
Стжиговский по-своему тоже был венским изгоем, но, так сказать, внутренним и по совсем иным, прямо противоположным по отношению к Гомбриху причинам (из-за крайней скандальности и отчетливого расизма). Тем не менее он снискал весьма внушительную интернациональную репутацию:
…он потом стал нацистом, хотя и маргинальным; антисемитом же он не был никогда[58].
Гомбрих весьма тонко и проницательно трактует его методологию как «ранний вариант экспрессионистского анти-искусства» с характерным желанием «полной переоценки искусства как такового»[59]. Хотя в его рассуждения о Стжиговском вкралась странная ошибка: Гомбрих считал его врагом так называемого искусства власти. Но это было как раз изобретением Стжиговского: искусство не столько «власти», сколько «силы», архаической, хтонической и нордической, нашедшей себе окончательный выход в нацистской культуре, призванной объять весь мир, весь «круг земной»…[60] Впрочем, это предсмертное «Европейское искусство власти…» можно (и должно!) трактовать как попытку (не совсем удачную, впрочем) адаптироваться к новому режиму. Так что, вспоминая Снорри Стурлоссона, не следует забывать и всю великую плеяду несомненных учеников Стжиговского, среди которых и О. Демус, и Фр. Новотны, и Д. Фрай, если брать только европейский круг его методологической власти…
Еще только поступив в университет и войдя в круг студентов-искусствоведов, членов своеобразного «клуба», организованного вдовой Дворжака, которая собирала их раз в месяц у себя дома, он выбирал как раз между Стжиговским и Шлоссером. Друзья уговорили его предпочесть последнего. Лекции же первого напоминали скорее «народные собрания», что не могло прийтись по душе Гомбриху, равно как и сама личность Стжиговского –
демагога и пламенного оратора, зажигавшего массы, ему внимавшие, в противоположность Шлоссеру, к которому на лекции, напоминавшие монолог[61], хотя бы два студента обязаны были приходить чуть ли не насильно, только чтоб скамейки не оставались пустыми…[62]
В целом Гомбрих не просто колеблется в характеристиках двух самых влиятельных университетских профессоров, но заметным образом испытывает влияние и того, и другого.
В других своих воспоминаниях о Стжиговском Гомбрих признается, что он
стремился на его лекции, но нашел его самого весьма эгоистичным, крайне тщеславным и постарался побыстрее избавиться от влияния его метода[63].
Тем не менее в ином контексте он определяет эту методологию довольно точно как основанную на «этнологическом понятии культуры»[64]. О Шлоссере же говорится как о «великом ученом», чья «невероятная эрудиция» была всем известна, так что «любой испытывал к нему уважение, вопреки его холодности и странности»[65]. В другом месте двум своим учителям-соперникам Гомбрих дает следующие характеристики: Стжиговский для него оставался «весьма важным историком искусства, первым отказавшимся от истории искусства, ориентированной на Запад», будучи «фанатичным оппонентом классической традиции». При том что «искусство Рима он попросту ненавидел, считая творческим лишь искусство кочевников».
Он был слегка не в себе; на его лекции меня тянуло, но он был настолько самонадеян, так поглощен разговорами о себе самом и о своих важных открытиях, что у меня не могло не возникнуть некоторое отвращение; его лекции были наподобие политических митингов с участием не одной сотни студентов.
Шлоссер же представлял собой тип
тихого престарелого ученого, чьи лекции – размышления, предназначенные для него одного.
Зато тот,
кого он принимал в свое общество, общался с невероятно ученым человеком; думаю, я научился у него всему и сверх всякой меры[66].
Кстати говоря, можно сравнить впечатления Гомбриха от «позднего» Шлоссера с воспоминаниями другого его студента, обучавшегося у того десятью годами раньше. Для Ханса Зедльмайра Шлоссер – первооткрыватель новой, психологизированной методологии, ироничный аристократ, скрытый итальянец и откровенный крочеанец[67].
Наконец, Гомбрих рано осознал и тот факт, что Шлоссер – это представитель именно «венского искусствознания», историографом которого тот был и к которому сам Гомбрих себя, безусловно, причислял. Именно Шлоссеру принадлежит известная периодизация венской науки об искусстве по школам: «первая» (Айтельбергер фон Эдельберг и Мориц Таузинг), «вторая» (Франц Викгоф, Алоиз Ригль, Макс Дворжак, он сам) и «новая» (все его собственные ученики – Свобода, Зедльмайр, Пэхт и др.)[68]. Гомбрих начинает венское искусствознание с Викгофа и его единомышленников, издававших «Kunstgeschichtliche Anzeigen», ставя им в заслугу беспощадную борьбу с «любительством» и изящной словесностью в истории искусства и представляя их исполняющими особую миссию, которой, однако, «они наделили себя сами»: история искусства должна обрести ту же «серьезность, что есть в науке». Но Гомбрих остается Гомбрихом:
…конечно, это никакая не наука, они просто думали, что она может быть наукой[69].
Касательно тогдашнего себя он признается, что тоже
верил, будто история искусства должна быть рациональной, ясной и не нести никакой околесицы[70].
Так что можно сказать, что в самом Гомбрихе какимто специфическим образом Стжиговский и Шлоссер если не примирились, то нашли комплементарные зоны соприкосновения. И более того: вся блистательная лекционная деятельность Гомбриха не является ли восполнением и исправлением юношеских впечатлений – популярность Стжиговского и ученость Шлоссера теперь едины.
В 1932 г. студент Гомбрих, поддавшись уговорам своего друга Курта Шварца[71], проводит один семестр в Берлине, где слушает лекции Г. Вельфлина, О. Вульфа и В. Вайсбаха, а также, что крайне существенно, В. Кёлера – гештальт-психология уже тогда произвела на Гомбриха соответствующее впечатление. Как он пишет, лекции проходили «на высочайшем уровне». Не забывал Гомбрих и о театрах с музеями.
О лекциях Вельфлина гораздо позднее – уже будучи не просто маститым, а даже, наверное, слегка уставшим и умудренным ученым – Гомбрих отзывался с откровенной иронией, ощущая себя, несомненно, по крайней мере на равных с великим формалистом:
Вельфлин пробудил во мне еретика. Он читал в audimax подобно звезде первой величины свои удивительные лекции, с небольшим швейцарским акцентом, с величественным видом и с интенсивно-голубыми глазами. ‹…› Он вел себя по-вельфлиански: прибегая к сравнительному зрению – то есть с двумя диапроекторами. ‹…› Постепенно я стал находить, что все это давно знаю, и непонятно, зачем мне все это рассказывают? Я был тогда совсем юн и мятежен, да еще все эти дамы со своими мехами, заполнявшие аудиторию…[72]
Берлин в целом Гомбриху запомнился «невероятно оживленным» (он попал, между прочим, и на лекцию Э. Шредингера, через год ставшего нобелевским лауреатом). Со Шварцем они потом совершили обширную (Гамбург, Бремен, Марбург) поездку по Германии, у которой, однако, на пороге стоял Гитлер, очевидный победитель проходивших как раз в то время выборов. Так что, по словам Гомбриха, все со страхом ощущали канун нацизма…[73]
В студенческие годы Гомбрих по совету другого своего друга Отто Курца пробует изучать китайский язык[74]. Они совместно брали уроки у одного старого миссионера, только что вернувшегося в Вену, и происходило это в здании Этнографического музея[75]. Тогда же юноша сближается с «венским кружком» (Мориц Шлик, между прочим, был убит в 1936 г. на ступенях Венского университета).
Университет: между Курцем и Крисом
Касательно собственно студенческой жизни Гомбрих вспоминает, что «в стенах университета они (студенты) проводили весьма счастливую жизнь». Увы, речь идет именно о жизни «внутри», так как снаружи университета, как он признается, те же его однокурсники составляли банды, выискивавшие и избивавшие евреев[76]. По другой версии, как раз внутри университета никто не был застрахован от хулиганов по причине традиционной экстерриториальности этого учебного заведения по отношению к полномочиям полиции. Одной из жертв, между прочим, стал Курц: на него напали в библиотеке и разбили голову стальной дубинкой[77].
Примечательной и приятной особенностью тогдашней студенческой жизни были праздничные вечера-капустники в конце каждого учебного года, для которых юный Гомбрих сочинял пародии на приглашенных преподавателей[78].
Одна из таких сатир стала началом большой дружбы: преподаватель Эрнст Крис на вопрос студента Гомбриха, узнал ли он себя в одной из таких постановок, признался, что узнал, но добавил, что совсем не хотел бы, чтобы его узнали другие…[79] Это была аллегорическая пьеса в барочном духе, где Гомбрих играл молодого историка искусства, которого искушает Сомнение, – намек на скептицизм Криса.
Кстати, Крис не остался в долгу, усомнившись в правильности выбора Гомбрихом жизненной стези:
Почему Вы, в самом деле, изучаете историю искусства, когда могли бы писать пьесы вроде этой?[80]
Крис был «прото-учеником» Шлоссера (по его же словам[81]) – искусствоведом и психоаналитиком в одном лице. Он еще гимназистом слушал лекции Шлоссера, которые тот читал специально для школьников во время зимних каникул, а позднее стал первым дипломником профессора (1922) после его перехода из Музея истории искусств в университет.
Вначале «устрашающе начитанный» Крис, помогавший Шлоссеру в издании «Литературы по искусству», был критически настроен по отношению к Гомбриху. Когда тот по совету Шлоссера показал Крису свою работу о каролингской пиксиде, старший коллега усомнился в необходимости этой работы как таковой. Уже после защиты Гомбрихом докторской Крис продолжал настаивать, чтобы его друг сменил специальность, оставаясь при своем мнении вплоть до кончины[82].
Интересно, кем бы стал Гомбрих, если бы он последовал примеру своего старшего товарища? Неужели тоже психоаналитиком? Более подробную версию истории их дружбы Гомбрих излагает в «Tributes…», воспроизводя, в частности, целую речь Криса против истории искусства как профессии:
Хотите ли Вы стать арт-дилером? Хотите ли Вы писать экспертные заключения для коллекционеров? Если нет, то что Вы здесь делаете? Нет достаточных оснований говорить, что Вы любите искусство. Если же Вы его правда любите и имеете возможность его любить, сами становитесь собирателем. Но если Ваши интересы интеллектуального свойства, Вы обязаны их реализовать, а не выбирать ложное поле деятельности. Мы реально слишком мало знаем искусство, чтобы выносить о нем достоверные суждения. Лучшие наши коллеги, способные к этому, обязаны спасаться в чуть более продвинутых научных отраслях; они склонны обращаться к психологии, но на самом деле психология не настолько развита, чтобы помогать истории искусства. Прислушайтесь к моему совету: смените круг интересов[83].
Похоже, что научное развитие Гомбриха совершалось не столько вопреки этим добрым советам друга, сколько параллельно им. Он доказывал возможность альтернативной науки об искусстве, преодолевающей банальность любительства и ограниченность знаточества, именно в психологии находя весьма действенную поддержку. Но и по прошествии времени Крис продолжал задавать Гомбриху один и тот же вопрос относительно истории искусства: «Кто хочет знать эти вещи?»[84]
Впрочем, диагноз и приговор – тавтологичность – можно дать всей исторической науке, если не всему гуманитарному знанию, которое есть всего лишь «собирание марок» (Резерфорд). В нашем Заключении мы попробуем описать место и роль Гомбриха в этой эпистемологической «аллегории», в юношеские годы писавшего сценарии и участвовавшего в собственных пьесах, а позднее сосредоточившегося на одних лишь «скриптах», оставив молодым право и возможность разыгрывать спектакли. Вот только кто теперь автор декораций и есть ли они, кто сидит в зрительном зале и нужен ли он там, когда на сцене разыгрывается представление с его участием, где ему показывают его самого, как это случилось с Крисом?
Интересно, показательно и символично, а главное, программно в одном своем позднем и совсем не обязательном тексте – предисловии к чужой (но немецкой!) диссертации – Гомбрих приводит почти полностью текст одной такой пьесы[85].
Крис обеспечил Гомбриху место ассистента при собственной должности хранителя в Музее истории искусств. Он был в родственных отношениях с важнейшими друзьями Фрейда: его жена, Марианна Ри, была дочерью самого близкого Фрейду человека – Оскара Ри, личного врача Фрейдов и участника еженедельной карточной игры с самим Фрейдом… А с ним, в свою очередь, еще в молодости имела знакомство мать Гомбриха (муж одной из ее кузин, педиатр Кассовиц, покровительствовал Фрейду в начале его карьеры), но их отношения не имели продолжения, за исключением воспоминаний о том, как Фрейд умел «блестяще рассказывать еврейские анекдоты»[86].
Главный плод дружбы между Крисом и Гомбрихом того периода – монументальная книга о карикатуре. Она была опубликована только в сокращенном виде на английском языке в 1940 г.[87]. Интересно, что до сотрудничества с Гомбрихом Крис работал вместе с его другом Курцем над книгой «Легенды о художниках» (1934), английский перевод которой вышел с предисловием Гомбриха[88].
Книга о карикатуре, вдохновленная идеями Фрейда о бессознательных корнях остроумия, возникла из более ранних экспериментов Криса и ассистировавшего ему Гомбриха с физиогномической экспрессией[89], связанных с их увлечением Францем Ксавером Мессершмидтом и его знаменитыми головами, выставленными примерно в то время в венском Бельведере. Эксперименты проводились, однако, не над головами Мессершмидта, а над статуями донаторов в Наумбурге. Смысл замысла заключался в том, чтобы проверить гипотезу Криса, предполагавшего, что экспрессия этих псевдопортретов связана не столько с четкой узнаваемостью эмоций, сколько с их интенсивностью, но неопределенностью. (Эти творения привлекли внимание Криса еще в связи с его совместной с Курцем работой над «Легендами о художниках», где ведущая мысль заключалась в компенсаторных функциях большинства историй, рассказываемых о художниках пред лицом иррациональности их творчества.)
Интерес Криса к этой проблеме пробудила его супруга, тоже психоаналитик, обратившая внимание на явные психотические симптомы в творениях скульптора. Участникам эксперимента показывались лица статуй или целиком, или наполовину (правая-левая, верхняя-нижняя) и предлагалось описать якобы наличествующие эмоции (по аналогии со своими). Сравнивали испытуемые и иные статуи, с иной физиогномикой (например, Бернини). Крису удалось наладить сотрудничество с Карлом Бюлером. Он как раз тогда занимался теориями экспрессии и просил своих учеников участвовать в эксперименте, что было весьма примечательно ввиду известной нелюбви Бюлера к Фрейду. Одно время Гомбрих участвовал в экспериментах самого Бюлера. Для Криса подобная работа виделась как реализация его собственной миссии посредника между науками и психоанализом[90].
Крису принадлежит отдельное исследование творчества Мессершмидта и других художников, страдавших расстройствами психики[91]. Он искал ответ на вопрос, почему физиогномическая экспрессия лучше всего удавалась мастерам с нездоровой психикой[92].
Сам Крис рассматривал книгу о карикатуре как своего рода прощание с искусствоведческой наукой и музейной средой, чтобы в дальнейшем сделать акцент на медицине и более интеллектуальной деятельности. От этого решения его отговорил сам Фрейд, предложивший должность главного редактора своего журнала «Imago», задуманного именно как место встречи психоанализа и наук о культуре. Как предполагает Гомбрих, Фрейду импонировала идея иметь близкого человека, «стоящего одной ногой в одном, а другой – в другом лагере»[93]. Лишь после войны конфликт был разрешен окончательно: Крис полностью отдался психоанализу и навсегда оставил историю искусства, хотя его скоропостижная смерть делает невозможными какие-либо решительные выводы относительно этой предельно незаурядной личности – этого «экстраординарного ‹…› сложноустроенного ума» (слова Гомбриха, описывающего с интересными наблюдениями за «ритмом научного воображения» Криса).
Книга была полна весьма выдающихся наблюдений, в том числе и о соответствии восстановления защитных возможностей Эго способности испытывать удовольствие от шутки, при том что, несомненно, существует связь между деструкцией психики и искажениями в восприятии и, соответственно, в воспроизведении модели, то есть объекта карикатурного воздействия. Стоит обратить внимание, что отсутствие разговоров о детерминизме избавляет эту мысль от ассоциации с М. Нордау (хотя вопрос о детерминизме уже в классическом психоанализе – открытый, а применительно к аналитике бессознательного – почти постулируемый). Главное, что психическая жизнь человека совершается одновременно в двух измерениях – и на уровне социальном, и на уровне историческом (помимо собственно уровня душевного).
Позднее Гомбрих будет достаточно подробно комментировать основной замысел Криса о карикатуре, раскрывая по ходу и собственные взгляды на одни из самых глобальных вопросов истории искусства[94]. Для Криса карикатура была поводом для принципиальных размышлений о «развитии магического образа» как такового. Мысль эта выражена в контексте общих представлений еще самого Фрейда об искусстве как одном из способов «канализации» агрессии, понятой, в свою очередь, как выражение бессознательных сил. Поэтому Крис предположил, что сатирическое, то есть искажающее, изображение может быть еще одним «выходом агрессивных импульсов». История карикатуры для него – одна из страниц истории магических практик (как самых опасных, предполагающих ритуалы с использованием восковых фигур-кукол, заменителей реальных людей, предполагаемых жертв подобного колдовства, так и легитимизованных в качестве заменителей подлежащих наказанию, но не пойманных преступников, – знаменитые effigies позднего Средневековья, прототипы и медиумы портретного искусства[95]).
Идея Криса состояла в том, что если в ренессансную и последующие эпохи карикатура, то есть уродование физиогномики (явная агрессия, когда было «буквально не до шуток»!), применяется к почтенным персонажам (случай Бернини и его изображений папы), то это означает, что время магии и веры в колдовство прошло, а соответствующая потенциальная способность и потребность человека заменяется или обслуживается возникшим изобразительным жанром карикатуры. Комментарий Гомбриха касательно подобной теории звучит так:
Крис, подобно Фрейду и Варбургу, был полностью под властью эволюционистской интерпретации человеческой истории, воображая ее как постепенное движение от примитивного иррационализма к триумфу рассудка; уже Варбург организовывал свою библиотеку таким способом, чтобы отразить человеческий прогресс от магии к разуму, так что и наша книга по истории сатиры выглядела как аналогичное развитие… теперь мы уже не можем смотреть на эти вещи таким образом: слишком много случилось такого, что разрушает подобный розовый оптимизм.
И дальше – главное замечание:
…я сам пытался позднее поместить карикатуру в более общее развитие репрезентирующих искусств; но я рассматривал ее скорее как техническое новшество, чем как симптом перемен в человеческом сознании; нельзя отрицать наши невероятные технические успехи, но не меньшая правда заключается и в том, что в иных моментах мы все еще отличаемся совершенной дикостью[96].
Впрочем, Гомбрих может предложить и более благосклонную позицию относительно эволюционизма: «…не слишком ли эволюционистично это мыслилось нами?»[97] А уже в чисто дружеских воспоминаниях о Крисе в «Tributes…» он предпочитает вообще никак не характеризовать книгу.
Но самое главное, что сделал Крис для своего друга, – это именно знакомство с кругом Аби Варбурга, в первую очередь с директором его библиотеки Фритцем Закслем и с личным секретарем Варбурга Гертрудой Бинг, эмигрировавшими в Лондон вместе с библиотекой в 1933 г.[98]. Интересно то, что Гомбрих настаивает на близости практиковавшейся в Вене науке об искусстве и иконологии Варбурга, крайне благосклонно относившегося к Шлоссеру (тот отвечал искренней взаимностью).
…Еще в годы учебы Гомбрих сводит дружбу с уже упомянутым Отто Курцем[99]. Гомбрих находит на редкость трогательные слова, характеризуя друга:
Его публичная Персона была чем-то большим, чем просто раковиной, возникшей ради защиты его ранимого и совершенно детского Я. В практических делах он был беспомощен в полном соответствии со стереотипом лектора-профессора, где бы он ни сталкивался с агрессивностью, равнодушием или напыщенностью, он всегда пожимал плечами и уходил в свой мир. ‹…› Его человеческая теплота выражала себя в любви к детям и животным, а также в его глубинной отзывчивости на великое искусство и великую музыку, в частности Моцарта и Гайдна. Его чувство качества было безупречно, и его дружба – непоколебима. Не много можно найти похожих на него[100].
Близкое знакомство с маленькой дочерью Курца зародило в Гомбрихе мысль о написании истории искусства для детей (он рассказывал в письмах к девочке о своей работе над диссертацией, посвященной Палаццо дель Те в Мантуе, – еще один аспект маньеризма, уже не методологический, как в случае с зедльмайровским гештальт-кречмерианством, а куда более живой и реально подлинный). Гомбрих позволяет себе на самом деле совершенно маньеристическую мысль: та или иная идея может быть правдоподобной, если она остается понятной при переводе на язык ребенка (с уточнением, что важное условие – «бешеный темп» письма)[101]. Маньеризм этой максимы – в допущении двойной модальности мышления: есть манера взрослого способа выражения, а есть – детского, при этом между ними возможен переход и взаимообмен, когда, например, взрослая докторская диссертация пишется как веселая детская сказка[102].
Неподготовленность как непосредственность и неопосредованность никакими теориями и установками – ведущая проблема тогдашней, в известной мере гештальт-феноменологической теории искусства, когда у того же Зедльмайра в его Предисловии к «Архитектуре Борромини» (1933) ведутся рассуждения о «неэвклидовом архитектуроведении» в контексте непосредственного, не отягощенного никакими установками опыта любителя.
Нельзя забывать, что все это может быть и просто общим местом уже тогда стандартного экспрессионистического способа мышления с его акцентами на примитив и дикость, неиспорченность, непорочность и детскость, которые суть архаичность и а-историчность. Тот же Пикассо – модернистский вариант Джулио Романо: они оба знали и классическую традицию, и вызов-провокацию. Чередование, переход или совмещение того и другого – сама суть игры. Гомбрих прямо признается, что, когда он писал свою диссертацию, у Пикассо в самом разгаре был неоклассический период и этот дух витал в воздухе, которым они оба дышали, не подозревая об этом[103].
Та же мысль, но в другом месте, выглядит еще более определенной:
…дискуссия о маньеризме, из которой я вышел, была сильно окрашена в цвета экспрессионистического искусства. ‹…› Лишь гораздо позже я догадался, что Пикассо как раз тогда находился в своей классицистической фазе и несомненно повлиял на меня[104].
Кстати, не отрицает Гомбрих и влияния на него абстрактного искусства (переход от чистого формализма в искусствознании к проблемам изобразительности – не без воздействия абстракционизма).
Наконец, возвращаясь к Зедльмайру, стоит обратить внимание, как уже в поздние годы (1990) и именно в немецкоязычных своих воспоминаниях Гомбрих предельно дружественно отзывается об этом представителе когда-то «молодого венского искусствознания», который вместе со своими единомышленниками пытался выявить в истории искусства рациональное зерно:
…это было лозунгом молодых: как можно быть рациональным в истории искусства, как можно делать рациональные высказывания[105].
Признавая свое единство с Зедльмайром в понимании рациональности как определенности высказывания, Гомбрих довольно характерно добавляет, что «в Англии он научился несколько подбирать щупальца», имея в виду, вероятно, необходимость отчасти камуфлировать свою причастность к германской учености.
Практический выход из подобной теории был просто идеальным: издатель Вальтер Нойрат (в будущем – основатель Thames and Hudson) добился превращения писем Гомбриха девочке в книжку, посвященную «всеобщей истории для маленьких читателей»[106], тут же переведенную на польский, голландский и все скандинавские языки, что серьезно облегчило материальную сторону существования Гомбриха. (По окончании университета он быстро убедился, что его специальность, как и предрекал отец, не способна «питать существование»[107].) При этом немецкая версия очень скоро была запрещена нацистами, но не по антисемитским, а по пацифистским соображениям.
В немецком переиздании 2004 г. есть трогательное предисловие внучки Гомбриха Леони со всевозможными подробностями появления этой книжки. Там говорится, что юной корреспондентке Гомбриха, недоумевавшей, зачем ее милый знакомый занимается такими скучными вещами, предназначался просто рассказ о рыцарских нравах; Нойрат настоял на том, чтобы весь текст был написан за 6 месяцев; а готовая рукопись впервые была прочитана будущей супруге Гомбриха во время их прогулки по Винервальду.
Сам Гомбрих признается, что, вовсе не будучи историком, он черпал вполне достоверные сведения из энциклопедий, которые мог найти дома[108]. Внучка добавляет, что работа над книгой включала в себя три ежедневные стадии: утреннее чтение этих самых энциклопедий, дневное посещение библиотек (ради источников) и вечернее изложение текста в письменном виде[109].
…Тогда же Гомбрих женится на Ильзе («Лонни») Геллер – чешской пианистке, ученице Рудольфа Серкина (и его, Гомбриха, матери). Сама невеста настояла на том обстоятельстве, что «на медовый месяц у них нет времени». Молодые лишь навестили родственников в Праге[110]. И в 1937 г. уже в Англии у них рождается единственный сын Ричард, будущий специалист по буддизму и профессор в Оксфорде.
По поводу своей женитьбы Гомбрих делает два примечательных наблюдения: с одной стороны, музыка, благодаря жене, оставалась «в центре» его жизни, а с другой – как раз благодаря этому обстоятельству его реакция на классическую музыку всегда оставалась «более непосредственной», чем на визуальные искусства[111].
Различия чтения (read) текста и реакции (respond) на образ – основа основ всей методологической коллизии между формальным анализом и семантическим подходом в лице той же иконологии. Впрочем, мы должны иметь в виду, что парадигма художественной формы в контексте теории «чистого зрения» крайне далека от всякого рационализма и тем более позитивизма, когда непосредственная и витально насыщенная и обоснованная реакция может восприниматься как альтернатива рационализму, дискурсивности и логицизму как таковому (не без опасности, правда, психологизма и рудиментов органической теории). И это все – скрытая проблематика постклассического венского искусствознания, отраженная довольно тщательно, хотя и не без осуждения, в гомбриховской книге о Варбурге.
Аншлюс и Англия
В конце 1935 г., накануне Рождества, Гомбрих покидает Австрию. Его уговорил сделать это Крис, сам переживший полную изоляцию среди своих коллег-искусствоведов, но не гнушавшийся следить за развитием ситуации в соседней Германии по первоисточнику, регулярно читая «Völkischen Beobachter».
При этом как психоаналитик он был максимально востребован, принимая по три пациента в день: двоих – с утра, до музея, и одного – после, уже вечером[112]. И только после этого наступало время для статей и книг, а также для общения с единственным подлинным коллегой и другом – Гомбрихом, когда они вместе обсуждали и писали книгу о карикатуре[113]. А ведь еще были обязанности главного редактора фрейдовского «Imago»! Гомбрих не скрывает своего восторженного отношения к Крису с его «разносторонностью и концентрированностью»[114]. При этом Крис был уверен, что не нуждается «в слишком продолжительном сне»[115], что имело, однако, вкупе с болезненным пристрастием к табаку (три пачки сигарет в сутки!) катастрофические последствия для его здоровья: он скончался в неполные 57 лет от сердечного приступа.
Единственной, но безусловной формой релаксации для Криса были занятия в саду с цветами, которые, как предполагает Гомбрих, заменяли ему те изящные вещи, что ждали его когда-то в венском музее. (Хотя еще прежде, до музея, у Криса было схожее эстетическое переживание: когда он, будучи в Берлине, ухаживал за своей будущей супругой, его потряс один цветочник, который составлял ему букет, так что Крису по-настоящему захотелось заняться флористикой[116].) Тем не менее именно анализ был его жизнью и единственным прямым способом стимуляции интеллекта. Подобно заметкам о Курце, финальные формулировки Гомбриха о Крисе достойны буквального воспроизведения:
У него было мало времени для обычных общественных обязанностей, он редко виделся с людьми за пределами профессии, он лишен был отдыха за пределами своего сада. Так что не знавшие его близко легко могли находить его недоступным и напряженным. Лишь некоторые имели возможность знать, как много он заботился о благополучии других и как мало – о собственном[117].
…В один прекрасный день Крис сказал Гомбриху: «Это нельзя терпеть, уезжай отсюда». В ответ Гомбрих спросил его, почему он сам остается, на что Крис сказал просто: «Пока Фрейд здесь, я тоже остаюсь – при нем»[118]. Крис добился для своего друга двухлетнего гранта, предполагавшего исследования или стажировку в Библиотеке Варбурга (работа над библиографией по теме «Nachleben der Antike»). Гомбрих же в свою очередь еще прежде добился благосклонности Гертруды Бинг, заочно очарованной молодым ученым из Вены[119]. Есть история о том, как Гомбрих однажды написал полушутливое письмо Крису в Лондон, удачно воспроизведя его почерк (речь шла о книгах, которые будто бы задолжал Крису Гомбрих, и в письме от имени самого Криса говорилось, что книги возвращены; понятно, что Крис был крайне обескуражен тем обстоятельством, что он сам себе доказывает собственную забывчивость). Письмо было показано Бинг, и та попросила Гомбриха, чтобы он написал и ей – ее почерком. Это было исполнено лишь отчасти и с уверениями, что дружеская близость и симпатия по отношению к Крису позволила ему легко овладеть его причудливым почерком, тогда как «суровая архитектура ее письма нанесла ему сокрушительное поражение».
По дороге в Лондон Гомбрих заглядывает наконецто в Париж, гуляет по Лувру, сводит очное знакомство с известным историком искусства Шарлем Стерлингом. Попав в Лондон и в Библиотеку Варбурга уже в начале 1936 г., он
обнаружил себя среди очень ученых мужей и дам, знавших крайне много о Древней Греции и Риме и ничтожно мало – о современной Англии[120].
Гомбрих признается, что в то время немецкие и австрийские ученые-иммигранты существовали совершенно изолированно, образуя своего рода «анклав немецкой культуры в Англии», и о «реальной интеграции» речи быть не могло[121]. Следует также представлять себе «без всякой фальши», по словам Гомбриха, то «чудовищное время» и то положение дел: эмиграция в Англию была вовсе не автоматической, ведь «академики и интеллектуалы» из Германии и Австрии могли рассчитывать на приглашение в Англию лишь в случае, если они со своими специальностями не составляли конкуренции местным ученым[122].
В 1938 г., накануне аншлюса, Гомбриху удается вывезти из страны и родителей, благо что отец Гомбриха к тому времени почти совсем разорился и препятствий для отъезда никаких не было. (Надо сказать, что и прежде жизнь молодого ученого в тогдашней уже довольно антисемитской Австрии была малоприятной, в том числе и с точки зрения перспектив научной карьеры: после габилитации, напомним, он смог найти лишь место внештатного ассистента при Крисе, тогда – хранителе Музея истории искусств, преемнике, между прочим, Шлоссера[123].)
И, тем не менее, позиция Гомбриха по «еврейскому вопросу», если уместно здесь это выражение, отличалась крайней степенью неоднозначности. Существенен для него, например, тезис, что само
понятие еврейской культуры – это изобретение Гитлера, его предшественников и его последователей[124].
Поэтому если определять еврея как «члена определенного религиозного сообщества», как носителя языка, «понятного в синагоге» (это опять же гитлеровские, как говорит Гомбрих[125], дефиниции, но других нет), то в этом случае выяснение, кто, например, из венских художников начала века был евреем, – «задача для сотрудников гестапо»[126]. При том что все это однозначно относится лишь к «восточным евреям», а не к «ассимилированным»[127]. Культура не может и не должна иметь национальных аспектов, тем более что просвещенный (не местечковый!) еврей – всегда соль культуры как таковой, и особенно венской культуры начала ХХ в. Более того, этому уникальному – внеконфессиональному и вненациональному – положению потомков тех, кто за поколение до них выбрался из «невыносимо узколобой ортодоксии»[128], можно найти и социально-психологическое объяснение. Стоит только помнить, что расовая проблема возникает тогда, когда ослабевает или просто исчезает вера – как христианская, так и иудейская, так что и антисемитизм, и сионизм – одного поля ягоды[129]. Можно провести параллель с тенденцией «деевреизации» новозаветной экзегезы, характерной для либерального протестантского богословия начала ХХ столетия, воплощенного в фигуре А. фон Гарнака. Напомним, что Гомбрих принадлежал еврейству, вполне искренне и сознательно обратившемуся в протестантизм (в чем можно видеть способ в том числе и преодоления собственного прошлого)[130].
Австрийскому антисемитизму способствовало и крайне плачевное экономическое положение в Вене. Позднее Гомбрих вспоминал, что ему «бесконечно повезло» не видеть самого аншлюса[131]. Родители Гомбриха, как и многие другие в Германии, Австрии и всей Европе, поначалу даже не думали об эмиграции, особенно отец, привыкший к вполне респектабельной и безопасной жизни. Но когда мать Гомбриха была вызвана в гестапо (у нее выясняли сведения о некоторых ее учениках, что, впрочем, не имело никаких последствий), «им пришлось задуматься», по словам Гомбриха, и они согласились перебраться в Англию. Благо у матери Гомбриха там были друзья, которые обеспечили ее и ее супруга приглашениями[132]. Совсем иная – трагическая – судьба ожидала родителей Курца, отказавшихся эмигрировать (его мать должна была находиться при тяжело больной собственной матери). Во время войны следы их просто исчезают. Курц никогда и ни с кем даже не говорил на эту тему…
В Англии за безопасность пришлось платить бедственным материальным положением: мать Гомбриха вынуждена была зарабатывать уроками музыки, а отец – просто печатанием на машинке, что не могло не вызвать соответствующих чувств у их сына, признававшегося позднее, что у него «отчасти исчезли воспоминания о тех временах»[133].
Сотрудничество с Институтом Варбурга в Лондоне постепенно становится все более плотным и постоянным. Гомбриху в качестве помощника Бинг полагалось разбирать черновики Варбурга. Это была крайне тяжелая работа, ведь, по словам Гомбриха, он столкнулся с сильно фрагментированными, перенасыщенными примечаниями и примечаниями к примечаниям текстами самого настоящего невротика, не способного завершить начатое и постоянно уточнявшего мысль или начинавшего ее снова. Кроме того, Гомбрих пытался писать комментарии на английском (на подготовительный материал, посвященный атласу «Мнемозина»), но ему было велено делать это на родном языке[134]. В перспективе была задумана совместная с Бинг обширная книга об основателе библиотеки (в рамках запланированного его собрания сочинений), где Бинг отвечала за биографию, а Гомбрих – за идейную часть. Была составлена и библиография, после вой ны книга реально могла быть написана и напечатана, но Бинг скончалась (1964), и Гомбрих выпустил не труды Варбурга, даже не его «историю жизни», а «интеллектуальную биографию»[135].
О данном проекте Гомбриха можно сказать, что это в какой-то мере интеллектуальная автобиография его составителя. Всякий разговор о сознании другого человека – это отчет о собственном мышлении, способностях, границах и результатах собственного понимания и о содержании иного сознания – как о наполнении собственного Я. (Тем более что книга о Варбурге наполнена непубликовавшимися материалами его черновиков с комментариями Гомбриха, где уже сам отбор материала – аспект толкования.) Так что эта книга есть разновидность иконологии, но не столько визуальных, сколько ментальных, когнитивных и, главное, меморативных образов и символов[136].
Но еще до войны работа в библиотеке прерывалась поездками Гомбриха обратно в Вену, так как необходимо было завершить книгу о карикатуре. Книгу удалось закончить, но опубликована она не была[137]. Причина тому – позиция Заксля, с одной стороны стимулировавшего работу, а с другой – полностью проигнорировавшего ее результаты из-за занятости. Он так ее и не прочел, поручив это какому-то рецензенту, который оказался непримиримым противником психоанализа – со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В конце концов, когда библиотека переехала на новое место, какая-либо работа оказалась невозможной: запакованные на время переезда документы стали попросту недоступны. И Гомбрих переходит на преподавательскую работу в Институт Курто[138], где читает лекции о Вазари (фактически возобновляя на новом месте семинары Шлоссера, а также свой курс, подготовленный еще в 1938 г.[139]), работает вместе с Курцем над учебным пособием по иконографии («так или иначе сделанным», но так и не опубликованным, хотя были написаны заметки о соответствующих категориях: эмблеме, аллегории, символе, натюрморте, мифологии и т. д.).
Война и прослушка
Гомбрих вспоминает об откровенно благодушном отношении к Гитлеру многих своих знакомых – и поначалу, и уже перед самой войной[140]. Например, Курц весной 1933 г., уже после избрания Гитлера, не побоялся перебраться из Вены в Гамбург для работы в тогда еще не вывезенной Библиотеке Варбурга, став, по его же собственным словам, «единственным евреем, иммигрировавшим в Германию при нацистах»[141]. Правда, уже в конце того же года вместе с библиотекой он благополучно оказывается в Лондоне. Один лишь Крис, как отмечает Гомбрих,
был убежден в необходимости бороться с апатией и ложным оптимизмом…[142]
Тем не менее война, в которую многие не хотели верить (если только это предмет веры), все-таки разразилась и внесла немалые коррективы и в планы, и в труды: начинается шестилетнее сотрудничество (по рекомендации Криса) с секретной Службой мониторинга Британской радиовещательной корпорации (ВВС), располагавшейся в Ившеме (Ворчестер).
Работа нелегкая – тяжкий труд, долгие часы, сильное давление, но я был счастлив.
Чуть дальше, правда, Гомбрих говорит о «рабстве у Службы мониторинга»[143]. Он проверял и анализировал результаты прослушки радиоэфира, записанные с целью перехвата и перевода немецкого вещания и выявления важных сведений. Они записывались на специальные восковые диски (не хватало только античного стилуса!) и воспроизводились с помощью приспособления, родственного простому граммофону (основное содержание подобных передач – речи Гитлера и Геббельса).
Хотя кто знает, не довелось ли ему слышать и цикл передач такого «коллаборациониста», как Вудхауз, тогда же выступавшего по немецкому радио? Не похоже ли это в зеркальном отображении на ситуацию Гомбриха? Стал ли бы тот сотрудничать с немцами, если бы не угроза жизни? И стал бы Гомбрих английским патриотом, профессором всех мыслимых университетов и лауреатом всевозможных премий, если бы не угроза голода? В период работы Гомбриха на радио ситуация была для него и его семьи по-настоящему критическая. Достаточно сказать, что его отец был интернирован и провел в английском лагере некоторое время в 1940 г. Отто Курц и тот не избежал подобной участи «враждебного иностранца» весной 1940 г.![144]
Гомбрих не испытал ничего подобного только потому, что открыто и продуктивно сотрудничал с разведкой. И надо думать, он вполне отдавал себе в этом отчет до конца своей жизни:
Я не ощущаю себя англичанином; я чувствую себя именно тем, кем я являюсь, – центральноевропейцем, работающим в Англии; благодаря службе на BBC я всего лишь изрядно выучил английский[145].
…В Ившеме он сначала жил один, лишь позднее смог вызвать туда и семейство. Семейство обитало у местных жителей, которые откровенно побаивались странных иностранцев, к тому же нуждавшихся каждый день в горячей ванне. Это, по их мнению, было признаком как раз их сильнейшей нечистоты, а вовсе не чистоплотности – никак не могут, мол, отмыться… Через 6 месяцев Гомбрих с семьей переселился в загородный коттедж к знакомому друзей, который в свою очередь не мог понять, как их гость может, например, спать после 10 часов утра. (Гомбрих всего-навсего возвращался с ночных дежурств после четырех, не распространяясь о роде своей работы). Когда Служба перехвата переехала в Рединг, положение стало еще хуже: в городе иностранцы («мы были вражескими чужаками») просто не имели права выходить из дому. Гомбрих один имел такое право по долгу службы и мог ездить на велосипеде от дома до работы и обратно.
Положение дел слегка улучшилось лишь тогда, когда Гомбриха повысили до старшего ответственного службы прослушивания: сам он уже ничего не слушал, а «смотрел, как слушают другие»[146]. В дальнейшем, заметим от себя, Гомбриху по ходу его сугубо научной активности стала доступной и ситуация следующего по смыслу и содержанию порядка: он мог видеть, как слушают другие, как уже он сам говорит или, вернее сказать, вещает…
И именно он первый в Англии узнает о смерти Гитлера и сообщает об этом Черчиллю[147]. Вот, кстати говоря, пример интерпретации в действии: Гомбрих услышал вначале предуведомление немецкого радио о готовящемся важном сообщении, и тут же заиграла печальная мелодия – симфония Брукнера, написанная на смерть Вагнера. Дабы сообщение – как только оно прозвучит – было немедленно отправлено, Гомбрих заранее на кусочке бумажки написал возможные варианты продолжения, догадавшись приблизительно о том, что прозвучит в дальнейшем: «Гитлер сдался» или «Гитлер мертв». Немецкий же диктор сказал вскоре следующее:
…наш Фюрер пал в неравной борьбе с большевизмом.
Комментарий Гомбриха, обращенный к собеседнику, характерным образом переводит эмоции в оценку и звучит так:
Вам кажется это воспоминание мрачным, мне же оно представляется, наоборот, самым великим событием, в котором я когда-либо участвовал[148].
Упомянутое выше эссе «Миф и реальность…» – именно на эту тему, и в нем используется материал обширного официального меморандума Гомбриха, обсуждающего проблемы, с которыми он столкнулся во время своей секретной работы, хотя это было не резюме о проделанной работе, а «размышления о природе пропаганды»[149].
Существен в вышеприведенной цитате оборот «наоборот»: это обращенность и обратимость эмоционального содержания опыта – не в интеллектуальное, как можно предположить у ученого, а в оценивающее усилие, что и есть важнейшая специфика Гомбриха и именно его способа построения научного дискурса. «Так я стал посланником», – резюмирует он этот пассаж, который можно сравнить в связи с оценкой «Истории искусства» как не просто популярного, а популяризаторского текста с его замечанием касательно своего культурного «миссионерства». Примечательно и показательно, что для Гомбриха собственная вовлеченность в событие делает его, это событие, вовсе не ужасным, а, например, интересным, достойным обсуждения и оценивания (эмоция компенсируется, так сказать, аксиологическим усилием, актом оценивающей воли). А с другой стороны, именно вовлеченность – средство преодоления ужаса и зависимости, так как изнутри Я еще может влиять, а снаружи – лишь страдать, созерцая в бессилии собственное бессилие… Сказанное релевантно и в связи с проблемой взаимоотношения пафоса и толкования, надо думать, преломленной сквозь объект-теорию постфрейдовского психоанализа. Хотя и не без попперовского анализа «ситуационной вовлеченности» любого познавательного акта, прежде всего научного[150].
Пример подобной связки эпистемологии и аксиологии, кстати говоря, – характеристика того же Криса, который был верным учеником Анны Фрейд и, по словам Гомбриха,
из-за склонности большинства английских аналитиков, последователей Мелани Кляйн, изучать бессознательные фантазии психики везде и всюду неуклонно делал акцент на области, именуемой эго-психологией, на факторах защиты и контроля, которыми зачастую пренебрегали в тех самых вульгарных обзорах, что так ему претили[151].
…Именно тогда Гомбрих, отчасти по долгу службы, как мы уже выяснили, начинает серьезно изучать английский, не совсем безупречный, по его собственному признанию, в то время, но вскоре – и на всю оставшуюся жизнь – ставший блестящим и даже блистательным[152].
В дальнейшем подобного рода деятельность, так сказать, дешифровщика-оценщика стала для Гомбриха по-настоящему парадигматической: знание – это как перевод с одного языка на другой услышанного или подслушанного сквозь бессмысленный и бесполезный шум или даже сквозь непрестанную речь, в которой есть вещи не только не совсем понятные, но и просто не интересные. Например, непонятно (хотя и интересно), где открывается правда, а где притаилось нечто иное: Гомбрих помнит, как он с ужасом вслушивался в ликующие голоса немецких летчиков в небе Лондона, восторженно сообщавших об удачно сброшенных бомбах, – достоверность их радостных донесений он мог проверить только спустя два года по возвращении в этот самый город, казавшийся ему уже не существующим, но на самом деле – вполне устоявший…[153]
Подобная ситуация, когда эмпирическая верификация оказывается отложенной, заставляет думать о совсем иных критериях истины… Иногда невероятной и неважной кажется информация, просто не соответствующая исходным ожиданиям: Гомбрих вспоминает, как однажды в эфире звучала речь римского понтифика, который, как это ни странно, поминал почему-то одни лишь «атомы» – и ничего более… Никто не мог понять: при чем тут папа и атомы? На самом деле папа всего лишь открывал физическую лабораторию в Ватикане. Никто тогда не мог себе представить, замечает Гомбрих, насколько скоро разговор об атомной энергии станет «самым важным» и насколько важно было запомнить, что папа говорил на эту тему в начале войны…[154] Так что можно сказать, что один из аспектов интерпретации – дешифровка символов ожидания и правил знакомства, за которыми – усердная и усредненная, а потому бессознательная «фильтрация эфира».
Между прочим, такой подход очень удобен ввиду многочисленных критиков: возражения всего лишь как помехи для восприятия собственной непогрешимости (или фон, оттеняющий уникальность личных достижений).
Хотя, если говорить строго и серьезно, дискуссия может выступать и как контекст фальсификации – и не только оппонентов. При этом в основе такой когнитивной парадигмы лежит вполне гештальт-обоснованная методическая установка. Фоном-шумом для интерпретатора может выступать континуальная неразложимость и реальная симультанность визуального опыта, на котором должна быть буквально выписана дискурсивная конфигурация того или иного смысла согласно той или иной интенции или просто мотиву, руководящему вниманием интерпретирующего сознания, находящегося под властью ценностных ориентиров.
В данном случае не может не действовать и та когнитивная модель, что ориентирована на опыт слушания во всех его разновидностях (и перехваченных чужих разговоров, и исполняемой музыки, и даже произносимых собственных лекций, не говоря о речевых актах как таковых). Что услышано и что пропущено мимо ушей, а что продолжает звучать ретенционально?
И что выступает структурообразующим или просто константным элементом звучащего потока? И не предполагает ли речь именно слух как куда более мощную альтернативу зрению, удерживающему свои права при акте письма и тем более чтения – считывания в первую очередь визуальной информации:
…проблемы, связанные с языком, занимали меня не только во время войны[155].
Не бесследно, заметим мы, прошел для Гомбриха и опыт письма-чтения, и опыт говорения-перечитывания. Недаром один из поздних сборников Гомбриха, где он уже безбоязненно являет себя истинным философом науки, не только соответственно назван «Идеалы и идолы», но и имеет расшифровывающепоучающий подзаголовок «О ценностях в истории и в искусстве»[156]. Заглавный текст в нем (1973) начинается со сравнения ученой деятельности, непрестанно занятой поиском истины, с ездой на велосипеде, где условие движения – непрестанное вращение педалей (вспомним деревянного коня как если не способ передвижения, то уж точно – метафору динамики), а текст с многообещающим названием «Искусство и самотрансценденция» (1970) заканчивается апологией отца гештальт-психологии В. Кёлера[157].
Так что Гомбрих-слушатель по возвращении с передовой этого тихого и одновременно шумного радио-фронта не столько возобновляет, сколько активизирует ученые усилия Гомбриха-читателя и Гомбриха-писателя: в 1943–1944 гг. публикуются его эссе о Рейнольдсе[158], Пуссене[159], возникшие из богатейшего материала неопубликованной книги об иконографии. В частности, Гомбрих обнаруживает тот факт, что мифологические композиции Пуссена – это плод его штудий предшествовавших ему мифографов (тема присутствует и в эссе о Боттичелли, где, однако, Фичино – еще современник художника, тогда как фигурирующий в связи с Пуссеном Конти – уже предшественник). Получается, что картины Пуссена – это специфическая форма исторически-визуального комментирования текстов ренессансного гуманиста и своего рода наглядная документация способа обращения самого Пуссена с мифом и отношения к нему[160].
Если говорить точно, Пуссен читал тексты крайне популярного еще при жизни и на протяжении еще двух веков венецианского неоплатоника Наталиса Кома (Наталия Конти), объяснявшего миф как подлежащий раскрытию покров натурфилософской и моральной истин, тогда как Гомбрих отчасти читал, а отчасти взирал на того и другого с теми же целями и средствами: «объяснить» через «раскрыть» (метод явно психоаналитический, хотя уже поздний Фрейд с этим бы не согласился, не говоря уж о последователях его старшей дочери). По мнению Гомбриха, его исследование повлияло на Энтони Бланта (еще один иконологически-аналитический и, по-видимому, не полностью бессознательный со стороны Гомбриха мотив толкования как разоблачения: ведь известно, что Блант позднее был именно разоблачен как советский шпион). Примечательно, что Гомбрих при этом не ссылается на Кассирера[161] как на одного из известнейших комментаторов Конти, быть может, чтобы не выглядеть неокантианским комментатором классической иконологии…
Фактически связь с Библиотекой Варбурга у Гомбриха не прерывалась, хотя прямые контакты были невозможны по причине, например, переезда библиотеки из Лондона в Денхэм после очередной бомбежки, когда погиб один из сотрудников – библиотекарь Ханс Майер, вместе с которым погибли все материалы для третьего тома «Библиографии…»[162]. До нового местоположения было «дальше, чем до какого-нибудь кибуца», как потом будет выражаться Гомбрих[163].
Заксль, который был «выдающимся человеком, но почти никаким администратором»[164], теперь приглашает его научным сотрудником в Библиотеку Варбурга (тогда уже ассоциированной с Институтом Курто), но только преемник Заксля – Генри Франкфорт – обеспечивает Гомбриха уже и должностью преподавателя (до 1954 г.), которую ему прежде предоставлял лишь университет, да и то не совсем надежно, хотя и по специальности. Ведь в варбурговском научном центре читались лекции по
цивилизации Ренессанса, по платонизму, по Вазари, патронажу и прочим вещам такого рода; по истории же искусства – только в Институте Курто[165].
Франкфорт, став директором института (1948), первым делом спросил у Гомбриха, что он может для него сделать, и тот, недолго думая, сказал: «Одну простую вещь – дайте мне постоянную работу»[166].
В других воспоминаниях Гомбрих уточняет, что в момент его возвращения в Лондон в 1945 г. библиотеку прикрепили к Лондонскому университету строго в наличном составе и Заксль не решался ходатайствовать о его расширении: он не представлял, как скажет руководству университета, что, мол, «у меня тут есть еще кое-кто»[167].
Но самое существенное иное: под историей искусства в Лондонском университете (и во всей английской науке) понималось в те времена несколько не то, к чему Гомбрих привык в Вене. Гомбрих объясняет, что уже основатель института – Сэмюель Курто, будучи сам собирателем и знатоком, считал необходимым введение истории искусства в Лондонском университете, хотя и не знал, как это сделать. В самом университете существовала местная партия противников немецкой науки, понимавшей историю искусства на английский лад – «критика, знаточество, эстетика и т. п.»[168]. Заслуга Заксля – в преодолении этой позиции, в том числе и благодаря привлечению к преподаванию Энтони Бланта[169]. В этой связи Гомбрих воспроизводит и собственную – важную для нашего последующего разговора – позицию, замечая, что для английской гуманитарной традиции характерно выделение всей практики «созерцания искусства» в безусловно донаучную зону «художественной педагогики». Это своего рода пропедевтика, рассчитанная и нацеленная на детей и любителей. Напомним, что для немецкой науки процесс рассматривания произведения – это особый предмет научных усилий и главнейший источник и стимул методологической рефлексии, направленной, помимо прочего, на выявление общего основания художественного восприятия – как для подготовленного («искушенного»), так и для неподготовленного («невинного») глаза. Художественная критика, понятая по-английски, – это всегда оценка, которую производит критик, способный и желающий «свои впечатления и реакции облечь в словесные одежды»[170]. При этом Гомбрих замечает, что нет такого историка искусства, которому бы не приходила в голову мысль о ранге произведения, при том что сам он себя «никогда не чувствовал критиком и никогда в такой роли не выступал»[171]. Хотя и компенсировал, быть может, критику искусства критикой историков искусства в своих многочисленных рецензиях, хотя, как известно, будущая книга «Искусство и иллюзия» именовалась первоначально «Реальность и ранг художественного творения».
Напомним, что вся, казалось бы, сугубо немецкая психологическая проблематика XIX в. коренится в переосмыслении наследия английского эмпиризма XVIII в., чего не скрывает и сам Гомбрих. При этом он не замечает чего-то еще более существенного – опыта критики психологизма – со стороны все той же немецкой феноменологии, в своей ранней фазе оказавшейся источником формального метода (теория и практика «вчувствования»), а в более зрелой – структурного анализа и, конечно же, иконологической герменевтики[172].
После войны: наука об искусстве – программа и критика
Именно в военные годы Гомбрих работал над книгой, сделавшей его имя в буквальном смысле символом всемирного успеха классического искусствознания. Это «История искусства» (1950), написание которой, вернее сказать, составление ее английского варианта было обусловлено не только военными неблагоприятными обстоятельствами, но и деятельным и благожелательным участием основательницы «ФайдонПресс» Беллы Горовиц. Позже Гомбрих посвятил ей свой крайне принципиальный сборник «Размышления верхом на деревянном коне» (1963).
Война, по наблюдению самого Гомбриха, положила начало его в известной степени «двойной жизни». С одной стороны, героическая борьба за существование (вначале только за материальное, но в дальнейшем, позволим себе заметить, и за идеальное), а с другой – настойчивые усилия по укреплению своего места в науке. Когда эти две интенции-тенденции в жизни ученого пересекались, случались прорывы и к новому знанию, и к очередному признанию…
Собственно же история создания «Истории искусства» полна классических и практически мифологических примет всякого удачного писательского проекта. Был там и добрый, внимательный и благородный в своей терпеливости издатель, проявляющий одновременно мудрость и осмотрительность (Горовиц дала, конечно же, читать рукопись своей шестилетней дочери, немедленно одобрившей текст); был и нуждающийся, скромный и послушный писатель (Горовиц дала Гомбриху аванс в 50 фунтов, и тут он понял, что у него «мало времени, но много забот». Тогда он пробовал скрываться, затем попытался деньги вернуть, но издатель сказала, что ей не нужны деньги, а нужна книга); был и колоссальный и, конечно же, абсолютно неожиданный успех, сопровождавшийся многомиллионными тиражами, переводами на десятки языков и всяческими анекдотами, курьезами, воспоминаниями и не ослабевающим по сию пору потоком критики.
Характерный пример: для готовившегося издания художник-оформитель настойчиво попросил Гомбриха – из-за своих сугубо полиграфически-макетных соображений – дописать что-нибудь, чтобы иллюстрация поместилась ровно на том месте, где было ему удобно, тем более что он выбрал и соответствующий сюжет – фото знаменитого «Глочестерского подсвечника» XII в. Гомбрих послушно написал несколько слов, особо не задумываясь, и каково было его потрясение, когда он увидел рецензию на вышедшую книжку одного виднейшего медиевиста, специально упомянувшего именно характеристику данного памятника, многое ему заново открывшего в его понимании… И ведь этот ученый – удивительное совпадение! – был, помимо прочего, выборщиком в Оксфорде, что обеспечило Гомбриху там профессорство (речь идет о Томасе Боасе)[173]. Кстати, в Оксфорде жила Горовиц, и Гомбрих, когда думал отказаться от книги, старался там не появляться…
Примечательно, что в то же самое время в том же самом месте еще один оксфордский профессор дописывал свою не менее популярную книгу, также происходившую из одной предвоенной публикации, также детскую и также прошедшую детско-издательскую апробацию (но не у дочки, а у сына – книга была больше для мальчиков, хотя получила признание и у взрослых)[174]. Примечательно, что источник этих сведений – принципиально иного, синхронистического, рода (это эпистолярный жанр), что направляет верификацию в другое русло, хотя некоторые тематические пересечения не могут не поражать:
Боюсь, воздушные силы в основе своей абсурдны per se. Как бы мне хотелось, чтобы ты не имел ничего общего с этим кошмаром. По правде говоря, для меня это – тяжкое потрясение, что мой родной сын служит этому современному Молоху[175].
И именно в те самые военные годы (1944) пишется знаменитое, программное, многозначное и неоднозначное (как раз в своей программности) исследование «Мифологий Боттичелли…», чему далее посвящена целая глава[176].
Начало 50-х годов – время появления и других принципиальных и не менее программных текстов, охватывающих две темы: психология и иконология, теория восприятия и практика символизма. Хотя, вернее сказать, это единая теория визуального и вербального способов репрезентации, помещенных внутрь двух контекстов функционирования этой репрезентации, то есть в контекст практик – искусства и науки, – с учетом той уже единой картины, что возникает при пересечении того и другого (своего рода морально обоснованная идеология социально обусловленного знания).
Назвать следует, по крайней мере, два текста: это фундаментальные в своей изящной лаконичности «Размышления верхом на деревянном коне» (1951) и универсальные в своей ученой, почти схоластической демонстративности «Icones symbolicae…» (1948).
Надо сказать, что с ними связаны и два немецких историографических текста, которые сами, будучи известным резюме концептуального развития Гомбриха в начале его научного – еще венского – пути, оказываются методологическим основанием всех последующих мыслительных построений ученого, определяющего в них и саму науку об искусстве (а главное – ее границы), и свое в ней (и вне ее) место.
Отметим, что и сам сборник, в котором были помещены тексты Гомбриха, – «Atlantisbuch für Kunst» (1952) – представлял собой программное в послевоенной ситуации начинание: собрать воедино все самое свежее и, самое главное, свободное от навязанной идеологии знание об искусстве, способное теперь вновь иметь свободное хождение наряду с иными культурными ценностями по всей освобожденной Европе, в которой еще остались его носители. (Из выдающихся ныне классиков науки в сборнике присутствуют Ренэ Юиг, Мартин Вакернагель и Хельмут Кун[177].)
Наука – пространство публичного знания и признания
Итак, решающее обстоятельство, позволим себе повториться, повлиявшее на всю ученую карьеру Гомбриха, заключалось в том, что сразу после войны он издает еще довоенное начинание – историю искусства для детей. Впрочем, она превратилась в самую известную и популярную историю искусства – буквально всеобщую (для всех общую и подходящую для самых взрослых читателей) «Историю искусства» (1950), написанную именно в форме рассказов (Story) по истории (History) искусства – живым, остроумным и просто умным языком больше о проблемах творчества, чем о фактах, именах или датах. Получается история искусства именно как творческой практики, а не абстрактного понятия, призванная объединить довольно разнородные явления – и художественные вещи, и художественных личностей, и художественную жизнь, и все остальное, что, конечно же, Гомбрих имел в виду, но что имел смелость не обсуждать в книге, чтобы не перегружать ни ту же книгу, ни ее читателя… Так что, если говорить без обиняков, книга не должна была производить впечатление чего-то простого и тем более популярного, да она и не была задумана как простая и популярная.
В дальнейшем феноменальный успех книги определил и востребованность Гомбриха как лектора. Послевоенная преподавательская деятельность Гомбриха поражает разнообразием и размахом: он и Слэйдпрофессор в Оксфорде (1950–1953), и Дорнинг-Лоурэнс-профессор в Лондоне (1956–1969), между прочим, после Рудольфа Виттковера. Он продолжает читать лекции в Институте Варбурга и Курто (1954–1959), в 1959 г. он – приглашенный профессор в Гарварде, тогда же и вплоть до 1976 г. – «профессор классической традиции» в Лондонском университете, в 1961–1963 гг. – Слэйд-профессор уже в Кембридже, после чего там же (в Королевском колледже) – Летаби-профессор (1967–1969). В 1970–1979 гг. он занимает должность профессора в университете Корнелл.
Достойная для обсуждения тема и проблема: жанр публичной лекции как основание не только будущей книги, но и актуальной методологии, предполагающей не просто доступность идеи или концепции, но именно ее приемлемость и привлекательность: ни аудиторная публика, ни научное сообщество не должны быть отягощены чем-то крайним, радикальным и однозначно-навязчивым. Публичность как признак искренности намерений и условие признания, нельзя забывать о риторическом статусе такого рода речей и писаний.
В 1959 г. Гомбрих становится директором Института Варбурга и Курто (до 1976 г.), став преемником своей давней благодетельницы – сменившей в свою очередь Франкфорта – Гертруды Бинг. Испытав в прежние годы всю односторонность преподавания в этом учебном заведении, он в первую очередь обновляет именно процесс обучения: приглашает с публичными лекциями видных ученых (среди которых Виттковер и Курц), в том числе немало зарубежных. При этом сам он свое директорство сравнивал с активностью брокера, правда, в научно-академической сфере. Ведь это своего рода биржа, но только с другим наполнением (а вот смысл – примерно тот же: коммуникация и достижение поставленной цели, которая заключается в обмене ценностями, если не финансовыми, то хотя бы концептуальными)[178]. В другом месте Гомбрих выражается еще более изящно:
…и хотя меня никогда не вдохновляла управленческая деятельность, я не мог себе позволить, чтобы она вызывала у меня беспокойство[179].
Выход на пенсию в возрасте 67 лет означал как долгожданное избавление от административной и педагогической повинности, так и свободу писательских усилий[180]. Хотя, если говорить точно, перелом в житейской судьбе произошел как раз с началом директорства в Институте Варбурга и Курто: благополучное материальное существование, устойчивая педагогическая активность, многочисленные лекции по всему миру (с особой востребованностью в Соединенных Штатах Америки) и столь же многочисленные сборники, публикуемые по итогам лекционных турне и курсов. И как результат – награды, титулы и звания.
Поэтому можно сказать, что если до этого момента жизнь Гомбриха представляла собой жизненные события, наполняемые идеями, то теперь идеи, наполняющие публикации, – это и есть порядок жизненных событий. И история пребывания Гомбриха в этом мире может теперь (после изложения общественновнешней ее составляющей) излагаться по порядку тех же публикаций, хотя справедливости ради надо сказать, что, приглашенный в 1936 г. в библиотеку ради подготовки собрания сочинений Варбурга, Гомбрих так и не исполнил эту задачу за 40 лет…
Впрочем, сначала – еще немного о званиях. В 1972 г. он возводится в рыцарское достоинство, в 1975 г. выступает с лекцией Роменса в Оксфорде («История искусства и социальные науки»[181]), а в 1988 г. становится членом Order of Merit[182]. Это очень серьезно и доступно мало кому из историков искусства[183].
Но еще в 1956 г. он читает Меллоновские лекции в Колумбийском университете (его рекомендовал Кеннет Кларк), в результате чего возникает и в 1960 г. публикуется вторая по популярности и, наверное, первая по влиятельности книга, относящаяся к психологии искусства (и не только психологии, и не только искусства), – «Искусство и иллюзия», переведенная на два десятка языков (и даже на русский!) и имеющая около двух десятков переизданий (при этом русского издания пока еще нет ни одного).
Райтмановские лекции 1979 г. стали основой другой книги на ту же психологическую тему – «Чувство порядка» (совместно с Р. Грегори). Помимо этого, в последующие годы появляется, по выражению ее автора, «родная сестра» книги про искусство и иллюзию – «Образ и глаз. Новые опыты психологии визуальной репрезентации» (1982).
При всей малочисленности прямых учеников Гомбриха[184] (это следствие избранной формы преподавания – публичных лекций) с ним, несомненно, связаны такие фигуры, как Майкл Подро и Майкл Бэксанделл, а среди его оппонентов – в том числе и Томас Митчелл, хотя нельзя забывать и о таких величинах, как Нельсон Гудманн, Джеймс Гибсон, Карло Гинзбург, Норман Брайсон и Джеймс Элкинс.
Представим себе перекресток (или, лучше сказать, многоуровневую развязку), на котором сходятся, переплетаются и расходятся такие оживленные магистрали, как «Философия», «Психология», «Семиотика», «История», «Социология». И все это в населенном пункте, название которого читается (при въезде в городок) как «Изобразительное искусство». Так можно описать место и значение Гомбриха в искусствознании – вплоть до сего дня (не стоит уточнять, что на выезде из этого городка его название, как полагается, будет перечеркнуто).
Наши ассоциации с въездом и выездом вдвойне не случайны: один поздний немецкоязычный сборник Гомбриха назван «Гастроли»[185], так как в нем собраны тексты историка искусства на тему немецкой словесности. Это на самом деле игра, причем на чужом поле, или игра в гостях. И это на самом деле – весь Гомбрих, но это и весь тот род деятельности, который именуют историей искусства – своеобразная местность, по которой можно гастролировать довольно свободно, если свободно владеешь и ролями, и языками.
Ушел из этого мира Эрнст Гомбрих совсем недавно, 3 ноября 2001 г., оставив нам не просто внушительный список первоклассных текстов, но и впечатляющий опыт обращения с не менее эффектным списком идей и методов. Они были для него, как кажется, набором подручного материала, из которого можно было складывать самые разнообразные конструкции, именуемые суждениями и мнениями, позициями и принципами, теориями и подходами, неподражаемыми лекциями и тематическими сборниками статей.
При этом следует сказать, что сам образ науки как номенклатуры идей или даже Энциклопедии, в крайнем случае, Словаря – вещь достаточно спорная. Опыт Гомбриха – не только в составлении этих списков, но и в активном пользовании подобного рода Лексиконом, который, кстати, может быть и многоязычным. Собственно говоря, весь ХХ век – это опыт нескончаемого перелистывания, перечитывания и переписывания словарей прошлого, которое само – один-единый и нескончаемый вокабулярий, то обращающийся в архив, то запечатываемый, то вновь открываемый – при том что его фонды вовсе не общедоступны…
Так и хочется сказать: не породив ничего по-настоящему нового концептуально, Гомбрих создал нечто воистину большее экзистенциально-эпистемологично. Он реализовал почти безостановочную практику обновления научного и не только научного знания об искусстве постоянным обращением к внешнему опыту иных наук и иных типов знания, других, но дружественных, ибо полезных и приемлемых с любезностью, благодарностью, но не без иронии и не без готовности нечто пересмотреть, в чем-то усомниться и найти место новому и опять-таки иному – совсем в духе главнейшего друга Гомбриха Карла Поппера[186].
Без «Открытого общества и его врагов» Гомбрих не был бы тем, кем он был и есть (хотя книга Поппера появилась не без помощи Гомбриха, участвовавшего еще в 1945 г. в подготовке ее издания)[187]. Фактически, если бы не Гомбрих, познакомивший с рукописью фон Хайека, который заинтересовал ею в свою очередь Герберта Рида, рекомендовавшего книгу в издательство Routledge, Поппер мог бы так и не увидеть своего труда напечатанным (достаточно сказать, что Гомбрих по ходу редактуры книги за неполные 6 месяцев получил от Поппера 95 писем). А однажды его даже вызывали в полицию, так как военному цензору показалось подозрительным одно слово: он заподозрил, что разделение (division) главы на две части подразумевает некое военное подразделение – исторический контекст однозначно определял интерпретацию![188]
Момент дружеского расположения, близости, примыкающей скорее к доверительности, чем к фамильярности, – вот та модель «интертекстуальности», которую мог себе позволить Гомбрих. Как кажется, он исходил из постулата и императива коммуникации как общения, общительности и общности на основе взаимности и, можно сказать, любезности. Хотя и не без порядочности и корректности, что обеспечивало дистанцию взаиморасположения и уважительной сдержанности – без навязывания мнения и без назойливого притязания на истинность. Правда, это вело к своеобразному коммуникативному этикету номиналистической и подчеркнуто публичной конвенциональности: если уж договорились о правилах и условились о ролях, то будьте любезны соблюдать нормы взаимоприемлемого языка, минимально обремененного терминологией и максимально приближенного к повседневной языковой практике… Отсюда, как мы увидим ниже, и неприятие иконологии в ее последних и, значит, окончательных притязаниях и «эксцессах»[189]: в ее сугубо герменевтических посягательствах на всего человека, а не только на его способность накапливать знание и возрастать в научной обиходности и познавательной благопристойности.
Обратим внимание, что великий продолжатель дела Варбурга Эрвин Панофский был более последователен в своих по отношению именно к схоластике принципах познания, конгениальных и «конвиниентных» (термин, напомним, Ансельма Кентерберийского). (Для него это опыт и гештальт-эпистемологии, ориентированной на аналогичность, эквивалентность имманентного и трансцендентного в рамках тех или иных «символических форм».) Не объясняется ли подобная сугубо эпистемологическая изоморфность идей Панофского проблемам символизма как такового тем обстоятельством, что он все же был в большей степени медиевистом, чем убоявшийся в свое время этой нелегкой участи Гомбрих?..
Но не был бы Гомбрих тем, кем он есть, также и без Шлоссера, уже в диссертации о Джулио Романо научившего своего ученика просто и умно переводить разговор с общего на частное, за которым, однако, стоит главное – индивидуальное и личное. Ведь на самом деле маньеризм не плох и не хорош, это и не деградация ренессансного стиля, и не его обличение, это просто умение приспособиться к требованиям и притязаниям заказчика – к его потребности во все той же эффектной и остроумной новизне в соединении с виртуозностью и изяществом (свойства стиля мысли и письма самого Гомбриха).
Не состоялся бы Гомбрих также и без Варбурга, с которым он был знаком лишь заочно и виртуально, но от которого перенял самое главное – настойчивый дух смысловой (если не жизненной) пограничности. Отсюда его способность всегда оставаться на грани методов, на пороге новой теории, на переднем рубеже выбранной научной дисциплины и на страже того края, где наука незаметно обращается в само существование, избегая тем самым крайностей и сумасбродства всякого позитивизма, например марксистского, сознательным и неумолимым врагом которого Гомбрих оставался всю свою жизнь, что нельзя не вменить ему в величайшую заслугу.
Сохранились воспоминания достаточно раннего детства Гомбриха, попавшего вместе с матерью и младшей сестрой в уличные беспорядки 11 ноября 1918 г., когда народные торжества по поводу приведения к присяге нового – республиканского – правительства превратились в массовую панику, спровоцированную группкой коммунистов, взявшейся стрелять по зданию парламента. Мать рано почувствовала своим обостренным слухом музыканта, что начинается что-то неладное, и с трудом увела детей из толпы[190].
Но смог ли бы Гомбрих уладить не только личную жизнь, но и отношения с наукой без ближайшего друга – Эрнста Криса? Именно он обнаружил – вопреки постулатам самого Фрейда – в остроумии не только уловку бессознательного, но и ловкость, вернее сказать, искусность, артистизм и свободу сознания, способного шутить, творить и радоваться, даже ввиду угроз самого Оно: коллективного, неразумного и, соответственно, не творческого – бесплодного и унылого в своей полной нехудожественности, хотя и исполненного символизма. Поэтому методы и задачи психоанализа и истории искусства могут совпадать в критических оценках как порождений разума, так и плодов воображения – как в психологии, так и в искусствознании, хотя, вероятно, пафос разоблачающей разум подозрительности в корне был неприемлем для Гомбриха.
Есть вполне нейтральные наблюдения Гомбриха касательно сходства между тенденциями гуманитарной (в том числе искусствоведческой) мысли и направлениями современного ей искусства, в частности относительно все той же иконологии и сюрреализма:
…я верю, что существуют параллели между иконологией и сюрреализмом, когда постоянно заняты поисками новых толкований и символики, – та многослойность, что ссылается на Фрейда, правда, отвергавшего сюрреализм[191].
Так и хочется заметить, что многослойны сами рассуждения Гомбриха, составляющие определенную прослойку внутри его не только гуманитарной, но и когнитивнооценочной деятельности. Многослойно и многозначно, а значит, и «полифокально» выглядит сама деятельность ученого-историка, который не может не переносить на произведение-памятник многоуровневую структуру своей активности, объединенной в единое целое не столько единством личности (это никто не отрицает), сколько конкретной и ситуационной мотивацией-намерением (не будем говорить – интенцией).
Список друзей, вложившихся в эту поистине бездонную копилку «сверхнормального знания»[192], можно и нужно продолжить. Например, совершенно отдельная тема – это, несомненно, лингвистика Карла Бюлера с ее специфической и не совсем общепринятой теорией символизма (язык в триаде функций воздействия, выражения, воспроизведения). Она, тем не менее, была усвоена Гомбрихом еще в период работы над докторской диссертацией, и он активно применял ее впоследствии – зачастую вопреки более ходовым и востребованным семиотическим концепциям[193].
А ведь можно взглянуть как бы сквозь фигуру Гомбриха не только на постфрейдовский психоанализ с его эго-ориентированной теорией, но и на альтернативный (отчасти) вариант классической Оно-теории, исполненной в лице, например, «отца психосоматики» Георга Гроддека. Он говорил об Ид как о жизненно активной, творческой силе, в том числе ведущей борьбу со всеми уловками и страхами Эго (которое для него – своего рода коллективное и отчасти сознательное искажение бессознательных и потому безусловных и достоверных импульсов Оно, в своей природности более прирожденного и родственного всем уже сверхприродным инстанциям)[194].
Так что попробуем не то чтобы разобраться, а хотя бы разговориться на тему Гомбриха, сделав это по порядку, начав именно с главного – с искусства и с иллюзии, чтобы исключительно в заключение помянуть некоторые максимально фундаментальные проблемы – не столько решаемые текстами Гомбриха, этого «теоретика иллюзии»[195], сколько ими же и порождаемые. В лучших традициях фальсификации науки, подпавшей под власть Гегеля и поклонившейся «идеалам и идолам» историзма![196]
Отметим сразу один важный и довольно удобный алгоритм гомбриховских публикаций: это и отдельные книги (ровно 8), и отдельные эссе, собираемые время от времени в сборники, которых у нашего автора ровно 13 (не считая переводных) и которые содержат примерно 180 статей, ключевых в его творчестве и в науке об искусстве. К ним примыкают, их окружают почти непреодолимой защитной стеной отзывы, рецензии, предисловия, интервью и воспоминания (всего вместе со всеми переводами выходит чуть более 460).
Получается нечто вроде модели науки в духе И. Лакатоса, сохраняющей свое фундаментальное аксиоматическое ядро в окружении идеологически-социальных оборонных рубежей, хотя эта защита слишком напоминает нападение – с явным пересечением рубежей собственноручно избранной научной сферы.
Можно ли отнести к истории искусства и то, чем занимается Гомбрих, и то, что он в результате создает?[197] Ведь из его отзывов на конкретные публикации можно составить своего рода родную, но критическую сестру «Истории искусства», в своем немецком варианте выступающей под названием «Искусство и критика», где именно критика свободна от всяких иллюзий[198]. Тогда как английский вариант того же сборника дает нам понять, что как на искусство посмотришь взором (view), так оно и отзовется текстом (review): дав посмотреть на себя, оно позволяет пересмотреть и науку о себе…[199]
Парадокс Гомбриха заключается в том, что, хотя предметные границы науки проницаемы, их пересечение требует разрешения, которое, конечно же, тут же будет получено, но все-таки его следует попросить (даже не для порядка, а чтобы продемонстрировать благожелательность и любезность, воспитанность и миролюбие).
Так что представим себе всю эту массу имен, лиц и фигур, уже упомянутых по ходу изложения жизненных составляющих нашей главной фигуры: это все те, кто готов был воспользоваться приглашением Гомбриха (выраженным в той или иной форме) совершить с ним совместное движение и общее пересечение единых границ и рубежей. Воспользуемся теми или иными проблемами и темами, чтобы посмотреть, как же все-таки они взаимодействуют с ним, в какие коммуникативные связи и с каким смысловым наполнением вступает с ними Гомбрих.
Заметим сразу, что у нас выстраивается довольно своеобразная сценическая, сценографическая и, главное, сценарная конфигурация. Хотя порой кажется, что рубежи науки, ее стены и врата, возводимые и обороняемые под руководством Гомбриха, осаждаются и даже прорываются, тем не менее все это, безусловно, иллюзия, инсценировка и постановка, это спектакль и разыгрываемое представление. В этой пьесе, именуемой наукой, не только появляются новые декорации, сюжетные ходы, персонажи, правила игры. В ней, как это ни покажется странным, не отменяются и прежние постановки. Это как раз и не иллюзия, не обман зрения и не ошибка чтения: на одной сцене одновременно разыгрываются разные представления.
Вообразим и себя среди их активных (интерактивных!) участников: актеров-зрителей в иероглифически-буквальном – визуальном и текстуальном – смысле слова!
Гомбрих и Поппер: иллюзии истории и историзма искусства
…Кажется решающим следующее основание, на которое историк должен обратить внимание: все организмы до некоторой степени, а человеческие существа до удивительной степени, экипированы для исследования и учения путем проб и ошибок, путем переключения с одной гипотезы на другую, пока не найдется одна, которая обеспечит наше выживание.
Эрнст ГомбрихЯ не первый и, вероятно, не последний историк искусства, собирающий свое снаряжение на прилегающей области психологии, но видеть панацею в этом я вовсе не собираюсь.
Эрнст ГомбрихПсихология иллюзорного – язык взаимности
Книга «Искусство и иллюзия»[200] – плод, как мы могли убедиться, немалых мыслительных и текстуальных усилий человека, который был весьма оснащен – концептуально и экзистенциально – не просто для выживания, а для оживления – вот только чего и кого…
Уже во Введении изложена вся программа этой книги и, что самое главное, всего творчества Гомбриха, который, напомним, лишь в ней развернулся в полную меру. На момент появления его полноценной ученой книги ему было около 50 лет[201].
Начнем с самого, пожалуй, существенного положения: история искусства ограничена не только в своих возможностях, но и просто в желаниях. Не в ее власти и не в ее правилах и обычаях объяснять историю, она только описывает стилистические перемены и занимается классификацией на основе представлений о так называемых исторических стилях. Откуда же они берутся, а также откуда берется сама способность и тем более потребность в имитации окружающего мира, как возникает и как поддерживается иллюзия сходства – все это вне ее компетенции по определению. Ведь то место, где рождается иллюзия, – это сознание человека, который сам же и наблюдает за своими иллюзиями, точнее – за тем фактом, что невозможно уловить посредством наблюдения и даже самого серьезного внимания, как эта иллюзия действует. Ведь на то она и иллюзия…
Поэтому, быть может, следует заняться изучением методов создания этой иллюзии, то есть самого изображения? И оно не обязательно должно быть искусством, чтобы представлять собой иллюзионистический да и просто схожий с внешней реальностью образ, что видно уже из опыта наших дней, когда столько существует изображений, вовсе не претендующих на звание искусства. Это как проза и поэзия: изучение языка, то есть лингвистика, предшествует всякой поэтике – мысль, которой Гомбрих обязан своему венскому наставнику Юлиусу фон Шлоссеру.
Художники пользуются этим языком образов, часто не задумываясь об этом, будучи озабочены скорее проблемами исполнительскими, то есть техническими (особенно это касается старых мастеров), но это не значит, что проблемы не существует, просто ее решает психология, а не история искусства. И именно язык психологии – тот самый язык, на котором могут говорить и понимать друг друга и историк искусства, и его (искусства, не историка!) творец (то есть не Творец!). Тому и другому стоит еще раз, по словам Гомбриха, встретиться и обсудить на общем языке эти самые проблемы. (Идея так называемой интердисциплинарности, вернее, интертекстуальности не просто как места встречи, а как коммуникативного и конструктивного топоса – крайне характерна.)
Главное, что следует за такими программными заявлениями, – это краткая история понятия стиля, которая для Гомбриха, что совершенно справедливо и одновременно показательно, связана с традицией риторики, с ораторским искусством: стиль – это красноречие, то есть то самое, что производит впечатление.
Существенно в риторическом происхождении «стиля» то, что это понятие можно было использовать и метафорически и, значит, допустимо было переносить его и в область изобразительного искусства, сохраняя саму суть стиля – его выразительную природу, что, однако, не снимало и не объясняло изобразительную сторону дела.
Объяснение изобразительности не могло быть успешным в рамках одной схемы, связанной с представлением о техническом прогрессе (художник учится видеть, и его искусство развивается). Нужно было объяснять, что такое зрение и почему его одного недостаточно, связано ли оно с мышлением или с обучением, что делать с врожденными идеями и возможен ли «невинный» глаз, который видит так, как есть на самом деле. Да и чье это дело – объяснять?
Предпринимая попытку дать краткий обзор истории эмпиризма и формальной эстетики (упоминаются практически все, кто того заслужил, – от Плиния, Птолемея, аль Хазена и до Локка, Беркли и Гельмгольца вкупе с фон Гильдебрандом, Вельфлином и Риглем), Гомбрих допускает почти непростительные неточности и несправедливости (например, толкование зедльмайровского толкования Ригля, который и сам, мягко говоря, не совсем точно воспринимается как враг ценностных измерений знания), но делает это, однако, ради одного принципиального тактического замысла.
Смысл этого замысла заключается в следующем: мы не имеем права опираться в своем объяснении несомненного факта стилистических изменений в истории искусства на изменения человеческих способностей, в том числе восприятия или даже мышления. Ибо тем самым мы вводим идею эволюции в самом человеке, чего делать нельзя, так как в противном случае мы допускаем фактически тоталитаризм, пусть и гегелевского толка – человек не может быть зависим от сверхиндивидуальных сил и инстанций. Этому учит нас Поппер, указывая именно на «нищету историзма» и на «врагов открытого общества». Ссылки ни на «художественную волю», ни на историю духа тут не помогают, так как, по мнению Гомбриха, все это гипостизация общих понятий, придумывание объединяющих терминов, мифология вместо науки.
Поэтому, уверен Гомбрих, мы должны сделать ответственными за этот очевидный прогресс именно технические навыки. Мы увидим ниже, что именно такой ход мысли Гомбриха заставил иных его читателейкритиков подозревать мифологию в нем самом. А ведь где миф – там все та же тотальность (в том числе претензия на исчерпывающее объяснение).
И действительно: миф (термин сам по себе вполне нейтральный, однако у Гомбриха он приобретает негативный характер) состоит именно в самой идее истории, развития, эволюции чего-либо, а не в том, что все эти качества мы приписываем человеку. И достоинство человека ничуть не умаляется, если мы рассматриваем его внутри истории духа и в связи с Откровением Духа. (Трансцендентное, быть может, и враг научного знания, но вовсе – не человеческого существования.) Более того, гегелевская философия истории вполне способна быть именно альтернативой биологизму и органической теории с их «мнимыми законами эволюции человечества».
Тем не менее есть законные основания вслед за Гомбрихом (и многими иными – тем же Зедльмайром) видеть известный соблазн в отождествлении, например, изобразительной активности детей и примитивов, будто бы находящихся в равных обстоятельствах – в начале, у истоков истории и, следовательно, развития.
Хотя и здесь Гомбрих буквально примитивизирует ситуацию, выражаясь, например, так относительно априорного схематизма:
…мне кажется крайне маловероятным, чтобы кто-нибудь всегда носил в своей голове подобные схематические картинки человеческих тел, лошадок или ящериц[202].
Это, сказали бы мы, слишком механистичный способ изложения проблемы, равно как и представление, что в наших головах царит «сумбур чувственных данных», а известную константность изобразительной типологии можно объяснить исключительно желанием закрепить и защитить технические достижения с помощью традиции.
Именно понимание стиля и вообще изобразительной практики изнутри риторики и лингвистики заставляет Гомбриха истолковывать подобную типологию как аналогии языковой парадигматики, где, несомненно, присутствуют устойчивые языковые формы и целые формулировки, где необыкновенно влиятельны общие места-топосы, потребность в цитатах, ссылках и заимствованиях.
Метафора речевых актов переносится и на изобразительное искусство: художники последующих поколений просто по-новому или просто иначе «склоняют» старые грамматические или синтаксические формы и правила. Гомбрих ссылается на всех своих учителей, добавляя к их списку и Варбурга, понимая его иконологию как историю образов, прежде всего античных, чья миграция из эпохи в эпоху – для Гомбриха, но не для Варбурга – на совести художников, озабоченных больше зримыми вещами, чем «невидимым миром идей» (его они оставляют его иконологам).
И точно так же он сам пользуется формулами психологии, или склоняя, или спрягая их на свой лад – будь то Гибсон, Арнхейм, Эренцвейг или кто-то еще. В любом случае, отдавая должное интеллектуальной смелости названных и многих других авторов, Гомбрих видит и ограниченность тех направлений, что они представляют, и их зависимость от так называемой «ведерной теории души». Это выражение Поппера, противопоставившего такой модели психологии свою модель, названную им проекторной теорией, имея в виду активную роль психики в выстраивании структур не просто внешнего мира, но и самих актов восприятия, да и всего поведения (здесь имеются ссылки уже на Пиаже и фон Хайека). Человек ведет себя так, что скорее не столько реагирует на внешние стимулы (камень, естественно, в огород бихевиоризма), сколько выстраивает структуры, функционирующие как ответы на его собственные гипотезы, то есть, с одной стороны, на ожидания-предвосхищения, а с другой – на его воспоминания-узнавания. Поэтому трудно в такой ситуации говорить о некой независимой от человека истине, обусловленной столь же независимым внешним миром. Иллюзии можно не замечать, с ними можно смириться, но зачастую они принимаются как неизбежный компромисс или даже условие удовлетворительного существования (случай как раз с искусством). При том что всякое предположение – всегда временно, тогда как отрицание чего-либо – всегда окончательно. Такова схема прогресса знания, которую Гомбрих – весьма изобретательно и убедительно – переносит на историю искусства в ее стилистическом аспекте.
Тут рождается важнейшая идея Гомбриха: если мы не можем, не хотим или не считаем нужным выбирать между одной или другой иллюзией (напомним, что ничего иного мы сами себе предложить не в состоянии), то следует просто принять правила этой игры. Ее можно назвать «деланием/подделыванием», то есть последовательным перебором проб («делание» чего-либо) и ошибок (признание этого неподлинным и отказ – или признание этого полезным или так и иначе приемлемым и принятие как иллюзии, почти как самовнушения). Такой порядок рассуждений и приводит Гомбриха к аналогии процесса восприятия (пробы/ошибки) и процесса изготовления и опять-таки восприятия изображения (холст/натура). Произведение искусства – это «поделка», а производимый им эффект – «подделка».
Это именно игра, в которую, если мы дети, следует играть самозабвенно и неосознанно, а если взрослые – сознательно и ответственно. Но во всех случаях – искренне и с удовольствием. Принципиальным, основополагающим и крайне кардинальным для этой концепции является именно проблема истории, времени: порядок, череда проб и ошибок обязательно предполагает временное протяжение, и потому историю искусства тоже можно рассматривать как растянутый во времени эксперимент, если само искусство складывается путем этих поисков.
Это, несомненно, самое важное и самое опасное в теории Гомбриха: время для него уподоблено высказыванию, где один элемент последовательно и неуклонно сменяет другой. Ни о какой ретенции, протенции и тем более «первичной импрессии» речи не идет, и слова вроде «интенциональность» не употребляются, равно как и более близкие понятия вроде синтагмы и парадигмы.
Собственно, вся программа книги – и, скажем прямо, «квинтэссенция учения Гомбриха» – определена следующей формулой:
…исследование пределов, положенных сходству, с одной стороны, техническими средствами, а с другой – схемой; изучение связи формы и функции в процессе создания образов и, в особенности, анализ роли зрителя в прояснении смысловой неопределенности – только это может сделать правдоподобным голое утверждение, что искусство имеет историю потому, что иллюзии искусства представляют собой не только результат, но и обязательное орудие, необходимое художнику при анализе мира явлений (курсив автора)[203].
Другими словами, (1) сходство определяется средствами и схемой, (2) активность зрителя в направлении смысловой определенности (опять же – пределы!), (3) иллюзия – не только и не столько цель, сколько средство, причем в деле анализа явлений. В любом случае иллюзия – понятие не просто приемлемое, а позитивно обязательное как обозначение главнейшей реальности, с которой имеет – так или иначе – дело творческий субъект, то есть человек как таковой.
Именно последний момент – проблема аналитики феноменального мира – может и должен вызывать вопросы, главный из которых – верно ли отождествление деятельности художника с деятельностью ученого? Если это эквивалентные виды исследования, уместны ли здесь эпистемологические метафоры (опыт, эксперимент, гипотезы, открытия, опровержения), адресованные творчеству, да и любой другой изобразительной активности человека? Гомбрих, несомненно, к этому склоняется, держа в голове пример Поппера, расширяя его философию науки до философии истории и, соответственно, истории искусства, всегда имея в виду «рост визуального знания», если воспользоваться соответствующей формулировкой. Визуальное – это концептуальное, а концептуальное – когнитивное, последнее же – почти что научное…
Обращение к истокам – отвращение от неподлинного
Но главный вопрос состоит в следующем: не выглядит ли столь интенсивное обращение к той же психологии как некая форма риторики, призванная внушить читателю ту мысль, что сходство структур визуального и научного творчества (то и другое описывается, с точки зрения Гомбриха, в терминах психологии и лингвистики) обеспечивает и достоверность истории искусства? Не есть ли это специфическая форма подражательности, разновидность познавательного мимезиса, иллюзия если не точного, то хотя бы достоверного знания? И если подобная дискурсивность имитационна, то, быть может, она и симуляционна, особенно в свете несомненной повествовательной искусности и мыслительной искушенности в вопросах искусства и искусствознания?
Основная мысль первой части состоит в том, что художники пользуются особым языком – вполне конвенциональным не столько для передачи своих впечатлений от природы, которую они изображают, сколько для создания эффекта, направленного на зрителя, которому они внушают или просто передают те или иные условные правила, ему уже знакомые. Это в первую очередь правила узнавания на картине вещей, а также правила узнавания фактически самих правил: признания факта применения, использования этих правил художником.
За этими конвенциями стоят иные коды – правила, навыки наших реакций на окружающий мир, где мы крайне озабочены поддержанием предметной константности и вообще опознаваемой в своей неизменности картины мира (сам Гомбрих так не выражается). Но откуда сама эта потребность в постоянстве и почему существует эквивалентность между правилами восприятия и правилами узнавания?
Ответ на этот вопрос – уже не в компетенции психологии. Наверное, это просто одни и те же правила или, строго говоря, структуры априорного характера. Они равно присутствуют и в правилах языка, и в правилах поведения, и в социальных институциях, и в культурных обычаях – везде, где возможна ритуализация, то есть повторяющиеся действия, направленные на коммуникацию как с себе подобными существами, так и с не подобными сущностями, где есть всякая человеческая прагматика.
Но главное существо, с которым мы желаем быть в согласии, – это мы сами, наше сознание, или Эго, но равным образом – наше тело.
Во всяком случае, Гомбрих постоянно говорит о потребности и желании самостоятельно реализовать или подтвердить – в нашем восприятии хотя бы – наши же ожидания и привычки. Человек желает гармонии и равновесия, постоянства и повтора. Вопрос состоит в том, как он этого достигает. Символизм, о котором знал уже «великий Гельмгольц» и идее которого его научил, несомненно, Кант через Гербарта, приобретает у Гомбриха специфически семиотический характер: это символизм согласия в акте коммуникации с внешним окружением, вернее сказать, с участниками коммуникации, процесса общения, среди которых существуют и носители иных установок – не похожих на наши.
Власть стиля – сила кодировки
В любом случае от априоризма никуда не деться, и потому следующая глава гомбриховской книги начинается с цитаты из «Критики чистого разума». Сила и власть стиля, то есть правил «общения» с миром (природа и зритель-публика) и с собственным творчеством, заключены именно в сознании, в мышлении, в темпераменте, то есть во внутренних структурах и организации психики.
Власть стиля или кодировки проявляется уже на уровне восприятия мотива самим художником: например, мы уверенно можем сказать, как отличается фотография местности от того, как она предстает в пейзаже. Можно решить, что художник непроизвольно, бессознательно поддается власти правил, а иначе бы он все изображал точно и объективно. Но в том-то и дело, что нет никакой точности при передаче «сенсорных данных» с сетчатки по зрительному нерву в мозг (это одна из психофизиологических фикций, которую вполне допускает Гомбрих), но также нет и самой потребности передавать этот якобы объективный зрительный опыт на полотно. Равным образом во всей этой иллюзии нет и никакого обмана или уловки, ведь чисто логически атрибуты «истины и ложности» применимы лишь к пропозициям, высказываниям, описывающим положение дел и утверждающим наличие или отсутствие той или иной вещи.
В случае же искусства (равно как и восприятия) речь всегда идет об узнавании уже знакомых схем и стереотипов, в пределы которых как в готовые формуляры или бланки (образ самого Гомбриха) вписывается новая информация в той мере, в какой позволяет формуляр, без которого ни один чиновник (в том числе и сидящий в нашей памяти) не сможет зарегистрировать никакие сведения. Более того, наличествует целая система схем и стереотипов, которыми каждый раз пользуется художник, сознательно или не очень, приспосабливая свои возможности и потребности именно к тому, что ему может предложить его вокабулярий. Существенно уточнить одно: это не набор технических средств, которыми ограничен всякий мастер, – это порядок идей и язык желаний, с помощью которых художник пишет свои картины, да и просто формирует свои замыслы.
Что же это за система? Как она функционирует? Здесь-то мы и встречаемся со спецификой именно гомбриховского понимания всех этих проблем, столь, казалось бы, изученных и гештальт-психологией, и той же семиотикой. Для Гомбриха речь идет не только о наборе регулирующих схем-кодов, но и о процессе взаимодействия этих схем и конкретных потребностей в конкретной ситуации. Тогда действует принцип выбора-разветвления возможных реакций согласно логике проб и ошибок, и возможности создаваемых таким способом моделей реальности зависят от наших целей и намерений, исторических или культурных контекстов.
В любом случае эти модели – порождения нашего сознания, решающего, как и когда использовать ту или иную модель, какими функциями ее наделить, что связано, если быть точным, со степенью соответствия этой модели исполняемым ею функциям (это может быть как очень простая, так и крайне дифференцированная модель – все зависит от ее назначения).
Следующий вопрос – кем и как определяется это самое назначение и сколько их может быть? Для Гомбриха применительно к искусству – два: это или уже знакомое нам подражание природе, или исконная функция – нуминозная, творческая, магическая, почти что теургическая (у Гомбриха этого слова нет), связанная с возможностями непосредственно творения, а не имитации.
Наиболее задушевные, искренние и чувственно окрашенные (насыщенные пафосом – в терминах Варбурга) выражения, высказывания и формулировки (если не формулы…) Гомбриха касаются именно описания страданий, мук и испытаний тех художников, что были озабочены, озадачены и отягощены проблемой несоответствия их творческих чаяний, ожиданий, надежд и замыслов результатам их творчества, когда из всего великого и необыкновенного рождался не новый мир, не иной космос, а всего лишь – картина… Есть, как нам кажется, какая-то личная экзистенциальная нота в самих интонациях Гомбриха, воспроизводящего тексты того же Леонардо, разочарованного в живописи и находящего на закате жизни утешение в математике…
В любом случае Гомбриху удается различать изображение, которое служит задаче воспроизведения информации (это есть чистый знак), и изображение, которое на самом деле для нас (даже и в состоянии детства) является, открывается как самая настоящая реальность – пусть и в виде, например, снеговика, который по сути человек, хотя и из снега, ибо он создан человеком и им же и наделен человеческими свойствами.
Образ-метафора изображения как игрушки принципиален для Гомбриха: способность и потребность ребенка, то есть несформировавшегося человека, творить свой мир посредством игры – отдаваясь ей и регулируя ее своим участием, вовлеченностью и самозабвенной увлеченностью, искренностью и доверием – делает его (ребенка) и его мир максимально приемлемой моделью творчества как такового, ведь незаинтересованная самоотдача – и есть условие творения мира, совершенно как у Творца как такового.
Но как совершается это творение? Гомбрих не оставляет своей необыкновенно убедительной и честной патетики: мы своей способностью и потребностью в дифференциации, во вхождении в детали и подробности создаем хотя бы видимый порядок и покой в потоке неопределенности чувств, ощущений и ожиданий. Мы делаем это через научение и артикуляцию, не пренебрегая, по мнению Гомбриха, и врожденной способностью к физиогномическому восприятию, балансируя между животностью и рациональностью в потоке двойственных переживаний всякого рода символизма, который присущ нам как способность к проекции. О ней Гомбрих говорит, естественно, упоминая тест Роршаха и не забывая о его общетерапевтической направленности в рамках того же психоанализа[204].
Функциональный прагматизм – избавление от архаического историзма
Естественно, что там, где возникает тема психоанализа, по-новому возникает и разговор о началах и о происхождении. Так что далее речь заходит о тех страхах, что не просто вызывают магические образы и символы, зафиксированные в изображениях творческой силой мастера, дарующего жизнь несуществующему, а пробуждают их из самых глубин человеческой психики, в которой история может просто отсутствовать, ибо там совмещаются противоположные пласты человеческого существования – как архаического, так и исторического. В любом случае изображения хороши, только если они действуют согласно своим функциям, и именно этот прагматический подход спасает от власти архаической реальности, пусть и ценой умерщвления, погребения изображения путем переноса его в пространство музея, экспозиции, превращения в искусство, в иной логический контекст. Зато спасается психика…
Но какова природа той самой жизненности, которую мы привыкли связывать с подражанием и которой мы обязаны «греческой революции» V в. до н. э.? Важно и то, что именно мимезис – предмет всех последующих страхов и опасений, связанных с боязнью быть обманутым, ввергнутым в иллюзию и подмену, стать жертвой трюкачеств. Это видно уже у Платона, восстававшего именно против «подделывания», которое, с точки зрения Гомбриха, есть, с одной стороны, обязательный момент создания всякого изображения вслед за «деланием» (по принципу «схема/коррекция»), а с другой – удивительная загадка истории искусства. Лишь у греков и лишь в определенный момент оно выходит за пределы куда более универсальной практики воспроизведения концептуального образа, той самой схемы, которой подчинены не только архаические народы, но и те же дети…
Хотя именно пример детей, вовлеченных в культуру взрослых, воспитывающих и приспосабливающих их к себе, показывает всю нищету историзма, столь очевидную для Гомбриха – этого сознательного последователя Поппера и антигегельянца, твердо верующего в равнозначность исторических эпох, которые различаются не местом в эволюции, стадией развития и прогрессом знания или умения, а правилами и конвенциями, равно значимыми и для ранних культур, и для поздних.
Куда надежнее в этом случае пример игр, тех же шахмат, где неважно, как на самом деле должен выглядеть король, но сверхважно, как он взаимодействует с другими фигурами. Поэтому смысл открытия греками примерно в середине VI в. до н. э. возможностей мимезиса – в открытии возможности симпатии и суггестии: изображение внушает ощущение реальности зрителю, настроенному проявить доверие. Иными словами, революция свершается в сознании, в ментальной установке, настроенной ценить именно сиюминутное, индивидуальное, а не вневременное, постоянное, всеобщее, которое теперь приносится в жертву ради жизнеподобия, ради эффекта кажимости. Достигается же этот эффект, согласно Гомбриху, посредством нарратива и театра – связанности, логичности повествования, ориентированного на зрителя-слушателя как живого свидетеля и соучастника живых сцен и событий, которого надо заинтересовать и внимание которого надо поддерживать.
Но как достигается этот эффект, как создается произведение искусства? Ответ – в духе Гомбриха: схемаформула действует и на уровне собственно процесса создания художественной вещи, и здесь же она и преодолевается, корректируется в первую очередь опытом художника. Эта схема – как универсалия в схоластической логике, как скелет, арматура, в которую вмещается разнообразие «партикулярий». И самое важное – представлять, как это вмещение совершается, каков метод насыщения каркаса жизнью.
Метод этот напрямую связан и с обучающими практиками и традициями, где схемы восприятия, идеи или универсалии мышления суть уже изобразительные паттерны, устойчивые образцы, которым художник учится сызмальства и которые подвергаются постоянным модификациям, чтобы в результате остаться неизменными на протяжении столетий. Этот изобразительный язык – как всякий язык по своей сути – все та же система «аббревиатур», своего рода «стенографическая нотация», «файловая система», включающая в себя определенный набор вариантов, предполага ющий их комбинаторику. Подобное призвано неизменно сохранять свою адаптирующую и организующую функцию, принципиально амбивалентную по своей сути, отказ от которой – это просто еще одна революция, свершившаяся на рубеже XIX и XX вв. Это тот самый момент, когда схема не просто себя исчерпала, но и потеряла самое главное – остроту стимула. А ведь она предназначена для того, чтобы помогать нашему сознанию активно выстраивать мир, опираясь на схемы, с которыми сравнивается реальность: и иная, и богатая, и дифференцированная.
Но все это – достижения художников, совершающих акт кодирования той реальности, что прежде была закодирована нашим сознанием и нашими чувствами. Но кто же занимается декодировкой, расшифровкой столь непростой криптограммы? Это зритель, у которого, однако, есть своя «доля» и в процессе создания этой тайнописи.
Зрительская участь – декодировка запятнанной схемы
Важно себе представлять это сквозное соучастие зрения во всех ипостасях: это и просто процесс зрения (инстанция повседневного зрительного опыта), и зрение, настроенное и нацеленное на создание изображения (инстанция художника), и зрение, направленное на восприятие этого самого изображения (инстанция зрителя). Делает эти инстанции единым целым единая структура даже не просто механизма зрения, а зрения активного, созидающего реальность посредством воображения. Гомбрих этот механизм складывания реальности на всех уровнях именует – в случае с художниками – «пятнанием», имея в виду и тест Роршаха (он, правда, трактует его по-своему), и вообще до-фигуративные, до-предметные и, быть может, до-сознательные структуры психики. Это бесконечно разработанная уже к началу 60-х годов тема в искусствознании и художественной критике, и даже если Гомбрих не ссылается прямо ни на Гантнера, ни на Зедльмайра, то по его сдержанно-отстраненному тону изложения этих постулатов можно понять, что он с ними знаком, хотя и не склонен отягощать своего читателя историографическими ссылками и экскурсами (довольно удобная, по крайней мере, риторическая фигура умолчания; мы, в свою очередь, не будем углубляться в тот момент, что именно пейзажный жанр давал повод начиная с XVIII в. достаточно свободно экспериментировать с тем же «пятнанием»)[205].
В любом случае именно Гомбриху принадлежит интерпретация этого феномена: это не просто мощный стимул для воображения зрителя, как бы подстегиваемого искусством художника, который, кажется, оставляет незаконченным свое творение ради привлечения зрителя (это общая теория, начиная чуть ли не с кватроченто и до импрессионизма); это, по словам Гомбриха, «управляемая проекция» вовне того, что содержится внутри психики зрителя. И употребление психоаналитического термина в данном случае не случайно и говорит о склонности Гомбриха к конвенциональному, более номиналистическому, а вовсе не реалистическому истолкованию конституирующей деятельности сознания. Можно даже продолжить и «перенести» на сам гомбриховский текст ту идею, что питала художников, рассчитывающих на помощь зрителя: в данном случае, воспринимая проективную деятельность психики как деятельность символическую, Гомбрих резервирует за собой и за всяким иным критиком возможность последующей расширяющей и уточняющей дешифровки знаков, которым никогда не суждено достичь уровня и статуса эйдосов.
Ссылка Гомбриха на собственный военный опыт дешифровщика такого сугубо «символического материала», как немецкий радиоэфир, – это и подтверждение сказанного, и довольно характерный прием убеждения – посредством ссылки на заведомо более серьезную и потому убедительную, как может показаться, реальность (мы уж не говорим, что сама метафора «шифрования и дешифровки» взята Гомбрихом из рассуждений сэра Уинстона Черчилля). Хотя если подходить строго психоаналитически к ситуации дешифровки как проекции, то можно подвергнуть серьезным сомнениям «верификацию» того, что услышал Гомбрих в немецкой речи – родной и вражеской одновременно… На самом деле Гомбрих крайне откровенен, говоря, что в реальный шум записанного на восковые диски (!) радиоперехвата вкладывалось только то, что слушающий мог извлечь из своей памяти; но в том-то и состоит проблема трансфера – мы порой вкладываем вовсе не то, что осознаем, а то, что желаем сказать. Трансфер разоблачает коммуникацию, а не устанавливает ее и уж тем более не иллюстрирует.
Эта проекция работает в двух направлениях. С одной стороны, наше воображение стимулируется или активизируется не только эффектом недоговоренности, заставляющим додумывать и довоображать то, чего нет, но и эффектом внушения зрителю его компетентности. В него вселяется уверенность, что он может и вправе вносить свою изобразительную лепту.
А с другой – никакая проекция невозможна без своей локализации. Обязательно должен существовать «экран», плоскость проекции, причем часто таковой оказывается гештальтистский фон, в роли которого может выступать шум: из него вовсе не извлекаются нужные или реальные слова, они на него накладываются, извлекаясь из закромов сознания (тоже, получается, разновидность фона-экрана?). Только так знание превращается в информацию.
Гомбрих склонен видеть в прочтении «символических полей» активность наших зрительских «щупалец», которые протягиваются от ментальных установок к результатам перебора возможностей, принимаемых или отвергаемых…
Экран восприятия – щупальца эмпатии
Но что подвергается этому «тестированию», если перед нами – пустой экран? В том-то и дело, что пустота бывает разной. Ведь экраном проекции может выступать всякий контекст, особенно контекст прагматический (условия пользования изображением). В этом случае само тестирование есть действие и действие вновь есть проекция, но уже проекция предпочтений, а ценностный выбор как принятие одного осуществляется за счет отвержения иного. И тогда горизонтность этих установок – диапазон возможных и уже потому реальных смыслов и значений, которые, однако, суть границы опыта и самого мира: определенность того и другого – это и предельность, ограниченность как финальность, и исчерпанность.
Потому-то коммуникация предваряется интенцией, хотя у Гомбриха последняя – это скорее просто намерение, хотя и подкрепленное эмпатией. Здесь слово «эмпатия» – ключевое: оно объясняет следующий уровень восприятия художественного изображения. Ведь зритель, воспринимающий его, идентифицирует себя с художником, который в свою очередь так или иначе представляет или даже определяет реакции реципиента. На такой взаимности желаний и удовлетворений и строится отношение вокруг произведения – как в игре, где участникам полагается взаимность, но не одновременность ходов и ответов.
И хотя многое зависит от правил игры (одно дело, скажем, шахматы, другое – бокс), главное, что стимул и условие взаимообмена (неважно: ходами, ударами, решениями) – исходная двусмысленность, амбивалентность, неопределенность, предполагающая постоянную работу своего рода «коммутатора». Особенность Гомбриха в признании своего рода этикета – взаимности и диалогичности, но никак не конфликта, не одновременности, не столкновения. Быть может, именно поэтому он столь не любезен по отношению к современному искусству, где игры имеют провокационно вызывающий, именно конфликтный характер и потому не соответствуют его респектабельному вкусу. Но даже в рамках «телефонной модели» информационных процессов можно задаться вопросом, все ли перечисленные инстанции сосуществуют в одной психике (а вместо Эго – девушка-телефонистка за коммутатором), и если в повседневном опыте (который есть набор готовых ситуаций) мы озабочены «сообразностью» наших реакций, то в опыте художественном (который есть выбор ситуаций, зачастую рискованных) не может ли все быть иначе?
Так и хочется сказать, что для Гомбриха «опыт» – это опытность и проверенность, а «не опыт» – пытливость и неуверенность, и та же «сообразность» сродни все-таки сообразительности, рассудительности и предсказуемости благопристойного поведения – не без юмора, шуток и игривости, но в рамках хороших манер, взаимных уступок и сдержанной, благожелательной учтивости…
Тем не менее следует отдать должное Гомбриху: теорию «вынужденного иллюзионизма» и «терпимой двусмысленности» он проверяет на самой серьезной разновидности изобразительного «трюкачества» (его же собственный термин) – на примере перспективы, понимание которой Гомбрихом стало проверкой его собственной амбивалентности относительно строгости и верности избранным теориям.
Дело в том, что для Гомбриха совершенно не стоит вопрос, правильно ли линейная перспектива передает наше восприятие пространства внешнего, то есть видимого, мира. Для него это только приемлемый, потому что удобный, способ заставить наше зрение, а точнее, сознание выбрать из всех возможных (и невозможных) способов прочтения визуальных стимулов и символов такой, который предполагает, будто вещи располагаются на расстоянии друг от друга, а главное – от нашего глаза. Восприятие пространства, с точки зрения Гомбриха, остается исключительно на нашей совести: если мы желаем обманываться – пожалуйста. Вопрос о сходстве нарисованного и того, что «есть на самом деле», – абсолютно абстрактный (это как спорить, на что похожа луна – на десятипенсовик или на металлический доллар). Перспектива – просто средство устранения самых вопиющих двусмысленностей, что только позволяет хоть что-то воспринимать. (При этом его позиция отличается от позиции гештальт-психологов в том моменте, что для последних существуют определенные структуры, которые задают саму ситуацию пространственного восприятия, тогда как для Гомбриха пространство предстает вполне самостоятельной реальностью.)
Ключевой момент для Гомбриха – это сама процедура перспективных построений, когда задаются изоморфные структуры, то есть одни и те же формы, но в разных масштабах – за счет расположения их под разными углами. Таким способом задается эффект объемного восприятия: вместо того, чтобы «заглядывать за угол», то есть видеть сокрытые аспекты вещей, мы рассматриваем их под разными углами, то есть как будто с разных сторон. Перспектива – это самый оптимальный, то есть наименее затратный и наиболее прямой, способ имитации когерентных отношений между образами вещей, и потому, по мнению Гомбриха, это и наиболее приемлемый способ, сомнения в котором и отказ от которого ничем не мотивированы.
Можно усмотреть в интерпретации Гомбрихом перспективы как анаморфизма некоторую эквивалентность его методу вообще: собирание в одной точке разнородных теорий ради создания иллюзии многомерного, объемного подхода к истории искусства, хотя взятая по отдельности каждая парадигма выглядит искаженной, так как только под одним – попперианским – углом зрения снимаются заведомо и сознательно заданные искажения.
Но главное то, что этот способ создания иллюзии является вполне искусственным, условным. И уже потому он лучше всего соответствует как раз задачам и потребностям искусства – но вовсе не реальным ситуациям в обыденной жизни и повседневном восприятии. Другими словами, именно конвенциональность перспективы защищает ее от обвинений в неадекватности по отношению к реальности, ее искажении и просто видоизменении: эти качества и делают перспективу условием восприятия картины как ее прочтения в качестве сообщения, никак не вытесняющей реальность и не воспроизводящей ее.
Для Гомбриха, несомненно, еще более важно то, что перспектива своей конвенциональностью создает и заведомо игровую ситуацию, связанную с возможностью перебора некоторого (почти бесконечного) набора ключей, а это – признак не только свободы и смысла, но и просто движения как такового, а значит, жизни в ее разнообразии гармонии. Строго говоря, это и есть важнейший эффект перспективы: оставаясь в неподвижности, затрачивая минимум энергии, прибегая к самым элементарным, наипростейшим средствам (даже не нами активизированным, а художником), мы испытываем мало с чем сравнимое удовольствие: мы приобщаемся даже не к творчеству, а к самому творению. Но делаем мы это, подчеркнем еще раз, играючи, перебирая и выбирая противоположности, то есть иллюзию и реальность, обман и правду, уверенность (почти веру!) и сомнения (разочарования), надежду и удовлетворение… Мы приобщаемся к искусству, переживая – почти бессознательно, но тем более надежно – опыт трансформации (вот почему анаморфизм!) реальности, попавшей в поле нашего зрения[206].
Тем не менее в некоторых моментах сам Гомбрих выглядит вполне амбивалентным, не лишая и себя удовольствия то ли от игры, то ли от нарочитой двусмысленности-неопределенности. Дело в том, что потребность в игре для него – и здесь вновь ссылка на Поппера – связана с последовательным процессом приспособления, адаптации, уточнения и корректуры наших ожиданий и возможностей. В этой игре, как ни странно, есть не только правила взаимных ходов, но и достижения некой цели, чуть ли не биологически-витального свойства… Если еще вспомнить, что вся эта деятельность трактуется психологически как поведенческая активность, а разговор непрестанно вращается и возвращается к понятию стимула, то закрадывается подозрение, что в подобный очищенный и прибранный номинализм и скептицизм ненароком проникает самый неотесанный бихевиоризм (и не один, а с товарищами)…
Это особенно заметно в трактовке Гомбрихом кубизма, который обвиняется, с одной стороны, в приостановке вышеописанной виртуальной игры (все искажено настолько, что равновесия между противоположностями и вариантами достичь невозможно), а с другой – в исключении самой идеи приспособления художника к нашим стимульным реакциям: его более не волнует наше активное соучастие в построении изображения. Нам предлагается только плоскость с зафиксированными на ней следами его жестов и его действий: нам запрещается интерпретация, которую Гомбрих последовательно и в данном случае совершенно недвусмысленно связывает с иллюзорным, пусть и виртуальным, но пространством как залогом именно ответных реакций зрителя, то есть учета его «доли», его задействованности в колебаниях между деланием и подделыванием.
Именно такие обвинения в адрес кубизма (и, кажется, вообще авангарда) заставляют нас проявить некоторую настороженность по отношению к Гомбриху: игра игрой, но ему все-таки важно, чтобы было некоторое поступательное развитие, связанное именно с накоплением или знания, или опыта, или хотя бы впечатления. Сам того не желая, Гомбрих следует за схемой прогрессивного развития: любое действие, всякая практика есть прагматика, то есть нечто, имеющее эффект, причем растянутый во времени и временем определяемый, так как связан с накоплением, суммированием, прибавлением некоторого ценностного капитала, чего-то такого, от чего, раз достигнув, уже невозможно отказаться. Это, несомненно, идея конструирования, выстраивания как условия существования («дело живого организма – организовывать»). И эта жизнь осуществляется благодаря наличию вокабулярия визуально-изобразительных паттернов, готовых перцептивных схем-решений, логических классов и мыслительных навыков, подвергаемых «деклассификации», когда готовые простые формы и сама плоскость подвергаются корректуре, проверке посредством эксперимента и когда творчество выступает как трансформация привычного.
Но и паттерны вовсе не пассивны. Более того, они активны в сторону сознания, они тоже участвуют в делании, но выглядят подделками, причем именно сделанными – пусть и бессознательно. И именно их двусмысленность – стимул к творчеству, к поиску ответов через перебор и сравнение вариантов, что невозможно делать, минуя память и, соответственно, историю. Так что художник – экспериментатор, а художество – род исследовательского дискурса, потому что такова схема создания и искусства, и истории искусства: методом проб и ошибок, требующих выбора, то есть оценки. Но каковы критерии и кому они принадлежат? Соответствуют ли позиции и инстанции самому художнику или, быть может, зрителю?
Паттерны иллюзорного – волшебство физиогномического
История может смущать: постоянное обращение к предыдущему опыту ведет к дурной бесконечности ретроспективизма, пусть она в случае с искусством и выступает в виде коллективного визуального опыта (стиля). Позиция нативизма более четкая, но не учитывает «игру эквивалентностей», «мелодию трансформаций», природа которых – в самом искусстве, в волшебстве близости родства и цельности на всех уровнях жизни, в том числе и бессознательной. Примером этого могут служить воздействия света и текстуры в картине (телесное и эмоциональное), эффекты пространства на плоскости (телесность как двигательная активность), но главное, по мысли Гомбриха (предыдущие случаи он ненавязчиво дезавуирует, особенно пространство и тактильность), это, несомненно, физиогномика. Здесь как раз и обнаруживает себя случай целостности именно как понимания, согласия без лишних слов, то есть – наглядно и реально, мы бы сказали, феноменологически. Не будет ли в таком случае столь выделяемый Гомбрихом метод перебора возможностей ради достижения и обретения оптимального (то есть приемлемого в некоторой ситуации) варианта эйдетической редукции, хотя он несомненно и неумолимо отрицает саму возможность эйдетических образов и соответствующей памяти. Но, быть может, как раз в этом активном отрицании и спрятан ключ к размыканию скрытой феноменологичности автора «Искусства и иллюзии»?
Этот момент тем более примечателен в случае Гомбриха, который почти не скрывает своей текстуальной настроенности. (Он не только подчеркнуто опирается на текстуальные источники и позволяет себе не только прямое диалогическое обращение к читателю, заменяющему у него имплицитного зрителя, но и не менее риторическое описание эффектов от своей книги, в том числе мнимых и иллюзорных.)
Более того, предпочтение физиогномики – тоже риторического свойства, ибо она сама, как это видится Гомбриху, есть вариант наглядно-визуальной риторики характерологического начала в человеке. Она воспроизводится во всяком визуальном творчестве, где крайне важно именно воспроизведение, передача узнаваемого и выразительного, говорящего, то есть красноречивого, – начиная с самых возвышенных образцов портретного искусства и заканчивая комиксами того же Брюноффа с его слоновьей физиогномикой. Гомбрих, между прочим, весьма лоялен к мультипликации и вообще к «низким» жанрам изобразительности по причине как их незамысловатой наглядности в качестве иллюстраций излагаемых идей, так и общего интереса ко всякого рода «дивиантным» разновидностям изобразительной традиции, нарушающим нормы или просто в них не нуждающимся в той мере, насколько они важны для «высоких» жанров (чуть ниже он прямо говорит, что канон и схема не позволяют «жизни» слишком легко проникнуть в искусство).
Но куда важнее, что случай комикса и карикатуры, вообще «рассказа в картинках» (сама книга Гомбриха – не такая ли монументальная «манга»?) дает повод для обсуждения того обстоятельства, что выразительность сродни минимализму. Чтобы убеждать и производить впечатление, надо уметь пользоваться самыми необходимыми и немногочисленными средствами – и чтобы не утомлять зрителя, и чтобы, самое главное, недоговоренностью, недосказанностью побуждать его к сотворчеству, пробуждать в нем художника, внушая мысль, что он тоже может без лишних усилий создавать что-то достойное…
И тогда жизнь сама, как бы играючи, с юмором и легкостью входит в изображение. И мы могли бы сказать, что и в рассуждения Гомбриха с их богатым иллюстративным материалом (и визуальным, и текстуальным) точно так же проникает убедительное очарование милого и легкого разговора, ненавязчивого и тонкого размышления вкупе, например, с воспоминаниями о друге – в данном случае об Эрнсте Крисе, с которым писалось когда-то исследование карикатуры.
В рамках самой книги есть нечто принципиально новое – постепенное и ненавязчивое нарастание философских выкладок, намеков и отступлений сущностного свойства, когда, например, карикатура трактуется вроде как всего лишь юмористический жанр, но тут же вспоминается ее довольно позднее появление – в постренессансное время – по той причине, что в изображении человеческого лица всегда сохранялась серьезность архаической магии. И точно так же, именуя карикатуру редукцией, Гомбрих без лишнего пафоса указывает на ее сугубо аналитический потенциал постижения или приближения к гештальтэйдетическим уровням сознания. У самого Гомбриха всех этих страшных слов нет, хотя немецкий термин «гештальт» он вполне употребляет и в английском тексте, хотя дело не столько в слове, сколько в той принципиальной идее, что искусство – это поиск не столько подобий, сколько эквивалентностей, за что и отвечает именно гештальт со всей своей принципиальной перцептивно-ментальной транзитивностью.
Не менее существенно и то, что такого рода изоморфность процессов зрения и изображения делает неизбежной взаимозависимость между предсуществующей схемой, процессом ее видоизменения через воспоминание (посредством активного и непроизвольного фантазирования) и собственно порядком изготовления образов, в котором может присутствовать случайность конфигураций, особенно если это искусство в какой-то мере избавлено от ограничений и условностей – как в случае с карикатурой. Она выглядит – порой – неким методологическим и уж точно дидактическим идеалом для самого Гомбриха. В этом смысле и мы отчасти идем вслед за ним, когда он сравнивает ранних карикатуристов с Домье, извиняется в возможном кощунстве, а затем уже крайне серьезно указывает на презрительное отношение Домье ко многим своим современникам (к тем же импрессионистам), добавляя, что через полвека искусство самого Домье утратит последние признаки карикатуры и юмора и станет воистину трагическим в руках его прямых преемников – экспрессионистов.
Может показаться, что подобное избавление от всякого рода табу – ради эксперимента и свободы выражения – одновременно избавило художников и от их Бессознательного, в том смысле что позволило им напрямую выражать то, что в прежние эпохи было скрыто – согласно психоанализу – под спудом обязательного декорума, коллективных требований и условий. Но Гомбрих (и здесь надо отдать должное его трезвомыслию) резонно замечает, что невелика разница, чему подражать и что воспроизводить: внешнюю ли реальность или внутреннюю, – и в том и в другом случае художник отвечает лишь за эквивалентности, за подделывание, даже если претендует на делание…
Магия свободы – мифология сетчатки
Итак, мы только что поддались – на глазах у нашего же изумленного Эго – магии ненавязчивого красноречия Гомбриха. Впрочем, следующая фраза тут же рассеивает это волшебство: образ в бессознательном, по мнению Гомбриха, столь же мифичен и, главное, бесполезен, что и образ на сетчатке. Мы не можем в данном случае обсуждать степень реальности всего мифического и иррационального – это все заключено в пределах нашего тела, а точнее – его образа (которому принадлежит и сетчатка, между прочим). Важно исключительно то, что иллюзия тотальна, и она всегда напоминает о себе, когда дело доходит до человеческих дел и действий: любая манипуляция здесь сродни махинации, потому что, делая, мы подделываем. Тем более что Гомбрих прав: публика очень быстро будет вовлечена в игру, предложенную ей художником, и потому столь же быстро постарается забыть об интенциях художника «транскрибировать Бессознательное».
Но ради чего мы готовы мириться с этой тотальной, как кажется, неискренностью всего коллективного и со столь откровенной и горькой иронией нашего автора, отказывающего мифу и душе в той же степени реальности, что и игре и стилю? В одном месте, говоря об очевидном несовершенстве наших способностей даже относительно восприятия, Гомбрих как бы поддается традиционным способам объяснения этой человеческой немощи, предполагая, что дело, быть может, в первородном грехе. И тут же отвергает эту идею как, мягко говоря, устаревшую: наоборот, человек способен к развитию… А «невинного взгляда», как и вообще всякой наивности, в жизни человеческой нет.
Ответ – в последней главе книги, открывающей, не побоимся этого заявления, и новую главу в истории (уже истории!) искусствознания.
Дело в том, что за изображением стоит или скрывается выражение: существуют отношения, которые важнее, чем их участники, ибо они формируют структуры, существеннейшие из которых – бинарные, связанные с выбором, с усилием воли, направленной на лучшее или оптимальное, то есть на смысл (Гомбрих довольно трогательно в данном месте ссылается на Романа Якобсона, обратившего внимание автора на лингвистическую подоснову синестезии). И внутри этих отношений, этих «структурированных матриц», именуемых семантическими полями, и полагают себя, и реализуют себя и художник, и зритель (и даже тот, кто берется выступать результирующей силой, – историк или критик).
Все они вынуждены совершать акт выбора или предпочтения, ибо так устроены всякие коммуникативные структуры, которые суть своего рода клавиатура эквивалентностей, то средство экспрессии, что именуется традиционно стилем. Самое важное здесь – это «ситуация выбора» в пределах возможностей и желаний, при том что границы того и другого, ограниченность и вокабулярия, и способов обращения с ним – это не слабость, а сила художника, стимул для поиска нового, непривычного и неожиданного. Но на это надобно время, и именно потому-то у искусства есть история.
Да и само искусство – только инструмент, всего лишь «органон» для выражения чего-то бесконечно более важного за его пределами, ради чего можно пожертвовать определенностью смысла внутри изображения. А ради искренности и правды можно пожертвовать и самой рациональностью, хотя, как тонко замечает Гомбрих, как раз таки вполне рационально – видеть границы рациональности и пределы нашего понимания, предельное достижение которого – помочь изображению стать прозрачным и позволить заглянуть в глубины сквозь двусмыслицы и бессмыслицы и вопреки им.
Вот только в глубины – чего? Для Гомбриха это «невидимое царство ума». Но, быть может, есть нечто, превышающее и питающее этот самый ум, быть может, речь идет уже об ином Царстве?
У книги, как может показаться, двойное завершение. Причем каждое – несколько циклическое: это и возвращение к началу с его разговором о Констебле (в завершение слово предоставляется ему самому, его текстам), это и воспоминание и обращение к собственной «Истории искусства» (в «Ретроспективе»), цитируя которую и упоминая друзей, Гомбрих задает характерно эссеистическое, чуть меланхолически-умудренное звучание своего текста…
Ключи общительности – доступность научного
При любом возможном ответе самого Гомбриха относительно Царства и ключей от Него («ключ» – ключевое слово только что разобранной книги и, быть может, всего корпуса мыслей Гомбриха касательно искусства) налицо и такое если не царство, то уж точно регион, каковым выступает тот самый мыслительный консенсус, о котором, несомненно, имел попечение сам Гомбрих, что видно из его отношения к иконологии. Из сказанного выше относительно языка искусства становится понятным, насколько конвенциональность языка вообще и сугубо – языка искусства была решающим условием возможности что-то понять в искусстве – часто вопреки его откровенной иллюзорности (вслед за иллюзорностью, игровой неподлинностью самого сознания). Условность обретает продуктивность при условии взаимного согласия, например художника и его зрителя, и согласованности мнений или впечатлений, выраженных в живописи или в письме. Это согласие – дитя взаимности, взаимообмена, той коммуникативности, что есть не просто общительность, но и общность интересов.
Поэтому там, где, как кажется Гомбриху, такая ситуация не наблюдается, возможны всякого рода возражения и сомнения в правомерности и подлинности притязаний если не на истину, то хотя бы на достоверность знания или мнения. Как мы видели, Гомбрих отказывает в подлинности историзму, равно как и марксизму, именно из-за претензий того и другого на самую истину в ее окончательном виде, не оставляющем места ни сомнениям, ни просто любезному обмену мнениями – «пробами и ошибками», то есть поиску, сомнению и удовольствию от игры.
По менее понятным причинам и иконология попадает – почти что ненароком, но совершенно определенно – в тот же черный список «врагов открытого общества». И это тем более странно, если учитывать, сколь тесные связи были у Гомбриха со всем варбургианским движением, сколь многим он ему обязан. Хотя можно предположить, что Варбург для Гомбриха – это еще не вся иконология. Поэтому попробуем для полноты картины дополнить наши впечатления и ощущения от «Искусства и иллюзии», расширив их в сторону собственно Варбурга, затем – по направлению к Панофскому, и завершим все наши разговоры наблюдением за тем, как сам Гомбрих стал пусть и не очень крупным, но все-таки камнем преткновения для все той же иконологии в лице Т. Митчелла.
Пока же запомним древнеегипетских мальчиков с первых страниц «Искусства и иллюзии», которые в своей древнеегипетской художественной студии заняты копированием живой модели, стоящей в соответствующей канонической позе и внимательно и живо за ними наблюдающей. Мальчики эти – с шуточного рисунка Аллана, они же несколько раз появляются по тексту книги Гомбриха, а впоследствии они же становятся свидетелями обвинения в адрес Гомбриха в тексте Митчелла, о котором – в самом конце этого текста.
Мифология коммуникации – перспективы фальсификации (Митчелл)
Митчелл с совершенно специфическим – либерально-радикальным – пафосом описывает воздействие сугубо идеологической и почти что магической доктрины объективности и, соответственно, научности на примере Эрнста Гомбриха, у которого он обнаруживает – при всем его, Гомбриха, трезвом понимании иллюзорного характера практики художественного иллюзионизма – совершенно непреодолимое желание оставаться в сетях «сциентистского плена». И это при том, что именно этому ученому мы обязаны пониманием того, что наши чувства – это не ключ, открывающий нам дверь «таинственного замка» реальности, а всего лишь окно, сквозь которое предпочитает взирать на мир наша фантазия – целеобусловленная и культурно детерминированная. И все это Гомбрих старательно игнорирует, говоря о художественной перспективе…
Причина такого воистину загадочного поведения – именно в прямом действии почти буквальной магии вполне определенного образа – образа науки как отражения внешней реальности. Образ же науки, то есть модус обращения с истиной или, лучше сказать, со знанием, зависит от предварительного набора когнитивных схем, которым ученый остается верен и верность эту всячески осуществляет, чувствуя на самом деле власть образа над собой, над своей волей. Это тем более показательно в случае с Гомбрихом по той причине, что для него образ реальности и образ науки – весьма дифференцированы, сложны и критичны. Все дополнительно усложняется тем обстоятельством, что речь идет о реальности именно художественной, заведомо искусственной и искусственно сопряженной с некоей еще более недоступной реальностью – внешней, природной и выступающей в качестве объекта репрезентации. При том что наука об искусстве, призванная постигать эти сложные и искусственные отношения, повторяем, в свою очередь выступает как повод для репрезентации соответствующих образов науки как таковой.
Саму позицию Гомбриха можно интерпретировать как в некотором роде указующий жест-иероглиф, подразумевающий истинность как указуемость, наличие связи-общности и не более того. Но и не менее, ибо, напомним, это указание на принципиальную и непрестанную фальсифицируемость любой познавательной дискурсивности. Вопрос лишь в том, возможно ли отождествлять (уподоблять – вновь образ или метафора сходства!) дискурсивность познавательную и художественную? Не в ней ли кроется единственная общность – как раз жестикуляция-указательность?
Митчелл достаточно подробно описывает эту стратегию, и мы можем последовать за ним, чтобы – в свою очередь – убедиться, что на этом пути нас не поджидают новые власти и силы, по-новому (или скрыто по-старому) посягающие на нашу свободу.
Претензии к Гомбриху – уже в его базовых допущениях: это, с одной стороны, теория коммуникации, с другой – философия науки Поппера, а главное – отождествление визуально-художественной активности с активностью научной, причем с одинаковой схемой научного и изобразительного поиска по принципу проб и ошибок (то есть гипотез и их подтверждения/опровержения (фальсификации). И перспектива выступает именно как метод, помогающий приспосабливать заранее заданные визуальные схемы к данным («отображениям») зримого мира. Акты мышления согласуются с «фактами зрения». Возражение состоит в том, что нет никаких непосредственных данных опыта (сам Гомбрих говорит, что «невинный глаз слеп»), нет ни в каком виде «голой действительности», но есть мир, «с самого начала облаченный в одежды наших репрезентационных систем»[207]. С допустимой долей метафорики можно предположить, что «голая действительность» в своем «неприкрытом виде» как раз и претендует на положение нового идола, ожидающего поклонения-жертвоприношения в виде научной объективности. Но и наряды культурных практик – не новые ли платья или даже средства камуфляжа?
Митчелл непреклонен и чеканно ясен в своих возражениях Гомбриху:
…я защищаю тот релятивизм, который рассматривает познание как социальный продукт, как повод для диалога между разными версиями мира, в конце концов – различными языками, идеологиями и формами репрезентации; представление, будто имеется «одна» научная метода, настолько подвижная и всеохватная, что способна объять и подвергнуть оценке все различия, будучи в состоянии посреди них выступать в роли судии, – это и есть самая настоящая идеология, очень удобная для ученого и социальной системы, переоценивающих авторитет наук, но совершенно ложная как в теории, так и на практике[208].
Со ссылкой на Пола Фейерабенда Митчелл говорит о науке как не владеющей никакими нейтральными фактами, способными фальсифицировать гипотезы: она есть
неорганизованный и сущностно политический процесс, где авторитет фактов обоснован тем обстоятельством, что они суть конститутивные составляющие такой модели мира, которая создается именно для того, чтобы выглядеть естественной данностью.
Согласно Файерабенду, научный прогресс – это эффект риторической практики, в которой действует принцип как индукции, так и «контриндукции», то есть сознательного игнорирования некоторых данных или их отрицания – вплоть до принятия таких теорий, которые описывают вещи, никогда не происходившие (это и есть самые радикальные открытия). Эксперимент вовсе не есть пассивное наблюдение, но сознательное «введение новых правил опыта» благодаря непосредственно проявляемой воле, направленной на подтверждение того, что противоречит чувственному опыту как таковому.
Но, разоблачая волю к знанию как волю к власти, мы тем самым проявляем иную разновидность воли, направленной на власть разоблачения (в том числе и в смысле обнажения). И, в конце концов, это тоже можно рассматривать как волевой акт – решение Митчелла полагаться на анархическую философию науки Фейерабенда, а не на массу прочих, не менее привлекательных в своем критицизме позиций Т. Куна, И. Лакатоса, Н. Лумана или кого-либо еще.
«Контриндукция» – это буквально отвержение явных, зримых «фактов», и у нее есть эквивалент в практике порождения образов, когда художник имеет дело как с видимым, так и с невидимым. И даже самый отъявленный реализм – это не только воспроизведение видимых вещей и их свойств, но и столь же прямое сокрытие чего-то главного – собственной искусственности[209]. Вся система допущений касательно рациональности духа в деле познания-отображения природы – это почти как грамматика языка, позволяющая делать соответствующие высказывания. И как высказывания не могут отсылать к самим себе, а только – к внешним объектам сигнификации, точно так же и образ: он невольно воспроизводит собственную сокрытость. (Это мысль Витгенштейна, имею щая далеко идущие последствия: образ не только и не столько указывает-отсылает, сколько показывает-изображает – причем именно на уровне грамматики высказывания, в этом существо «иероглифов».)
Тем более что образ всегда удерживает свое первоначальное значение как чего-то сущностно важного и сокрытого, то есть внутреннего и невидимого, недоступного для внешнего наблюдения: и в этом случае перспективная иллюзия – это именно воспроизведение зрительных возможностей нашей силы воображения, то есть снятие покровов с подлинной природы рациональной души. Поэтому-то перспектива убедительна – она показывает душе то, чем она сама является, но о чем не догадывается, ибо непосредственно этого не воспринимает: зрение не в состоянии видеть, как оно зрит, только через указание-жест. И это просто невозможно опровергнуть, потому что этот «акт веры» не нуждается в доказательствах. Феноменологическая картина перспективности, то есть аспектности восприятия как такового, – отдельная тема, имеющая художественную перспективу как своего рода наглядную иллюстрацию, то есть опять же – как средство убеждения, правда, в неубедительности, недостоверности всякого опыта, не прошедшего редукцию, то есть не обращенного в свою противоположность, не повернутого, так сказать, своей невидимой стороной возможного несуществования…
Сама структура ренессансной картины и, главное, ее генезис свидетельствуют о сугубой культовой сакральности ситуации: картина – механизм приобщения к священному. Вопрос в том, что этим священным, квазисакральным может оказаться и само зрение – старинная идея, заметим от себя, критической литургики всего ХХ столетия (причем именно в ее католическом изводе!).
Поэтому можно сказать, что реалистическое, иллюзионистическое и натуралистическое отображение – это эпицентр современного мирского идолослужения, поддерживаемого соответствующей идеологией науки, господствующего в поэтике, психологии, философии и испытывающего, соответственно, натиск современного разоблачающе-критического иконоборчества художников, озабоченных поиском средств демонстрации глазу большего, чем он сам способен видеть[210].
И вот наконец-то юные древнеегипетские художники, переходящие со страниц «Нью-Йоркера» на страницы «Искусства и иллюзии», чтобы затем переместиться в «Иконологию» Митчелла и остановиться (на время?) в нашем «Гомбрихе». Отчего такая участь и каковы их перспективы?
В том-то и дело, что, задавшись вопросом о перспективах, мы поместили и их, и себя (что самое характерное) в одну-единственную перспективу с одной точкой схода, имя которой – линейное время, равномерное и непрерывное, в которое можно войти в любой момент – а при надобности и выйти.
Именно в этой древнеегипетской мастерской, напомним сюжет из Предисловия Гомбриха, автор «Искусства и иллюзии» предлагает встретиться историкам и художникам, чтобы поговорить об общих проблемах на общем языке психологии.
Гомбрих использует этот рисунок, чтобы проиллюстрировать свой главный и сквозной вопрос, адресованный всей истории искусства: как возможен стиль? Отчего искусство исторически меняется? Почему в разные времена люди видят и, главное, изображают разные вещи, при том что само искусство, его техническое оснащение и даже технические навыки остаются неизменными? Ведь юные художники Древнего Египта рисуют совершенно так же, как и их нынешние сверстники, измеряя, например, пропорции с помощью карандаша на вытянутой руке! Но их наставники – так мы предполагаем – ставят натурщицу согласно канонам, и получается, что и мы, и они, и вся история искусства смотрят на тот мир, который хотят видеть, и его-то и воспроизводят, подчиняясь «власти стиля», коренящегося не в глазу, а в мозгу!
Возражение Митчелла состоит в том, что будто Гомбрих не понял весь юмор Аллана, который смеется над самими исполнительскими приемами, а заодно и над нами, над нашей уверенностью, что мы способны «исторически реконструировать» то, что было несколько тысячелетий тому назад. Юмор в том, что рисунок предлагает объяснение, почему древние египтяне создавали изображение именно так: просто так и вели себя их модели – преследуя какие-то свои, быть может, и вовсе не художественные цели. С точки зрения Митчелла, этот шуточный рисунок принципиальным образом не может иллюстрировать ничего связанного с историей: мы не должны поддаваться такой уловке, думая, что мы не из нашего времени взираем на древнеегипетскую студию. В этом рисунке нет ничего от древнеегипетского времени, хотя бы потому, что мы заговорили о нем как о рисунке и иллюстрации, сделав из определенного исторического периода всего лишь тему для разговора (подобно тому, как Аллан сделал его поводом для шутки). Ирония здесь обращена на нашу иллюзорную способность пользоваться словами перед образами. В этом-то и состоит главная иллюзия: не в способности художников создавать подобия, а в нашей способности предаваться обману с помощью языка!
Но мы не можем отказать и Гомбриху в иронии и точно – в чувстве юмора. Ведь он предлагает встретиться и обсудить проблемы истории искусства в мастерской, существующей на рисунке и в нашем воображении, способном играть и получать от этого удовольствие. Митчелл же имеет в виду то обстоятельство, что забавно может выглядеть наша уверенность, будто с помощью слов можно образ превращать в предмет истории. Хотя и здесь мы не можем быть уверены, что не это имеет в виду Гомбрих, когда в конце своей книги предлагает нам избавиться от такого вот начинающего древнеегипетского художника, сидящего внутри нас. Историю, в том числе и историю искусства, рассказывают, а не изучают, ее показывают, а для этого сначала сочиняют.
А чтобы произвести подобные упражнения, сначала собираются и договариваются о правилах – чтобы затем от них отказаться и оказаться, быть может, тоже нарисованными, то есть подчиниться иным правилам…
Но будет ли это выглядеть столь же весело? Совсем иначе, напомним, эта «веселая наука» выглядит, когда Гомбрих начинает разговор о той личности, незримое, не физическое присутствие которой в жизни Гомбриха, как мы видели, обеспечило и устроило эту самую жизнь, если не сказать – сохранило.
Гомбрих и Варбург: опыт символизма и комментария
Сотворение символов – это требование равным образом как со стороны художественных тенденций, так и со стороны эстетических теорий.
Лионелло ВентуриКритические понятия как памятники и симптомы автономности
Речь идет, естественно, об Аби Варбурге, о котором на данный момент написано почти столько же, сколько, наверное, обо всей истории искусства[211]. Начало этому варбургианскому дискурсу положил если не сам Варбург, то уже точно – Гомбрих, сделав именно историка искусства предметом сугубо научных: историко-литературных, архивных, то есть источниковедческих изысканий. Тем самым он реализовал оборотную сторону венских вообще и шлоссеровских в частности аналитических заветов: литература об искусстве – это не только источник-документ изучаемой эпохи, но и средство эпохи изучающей. Без текстов историков искусства, которые суть критики, истории искусства просто не существовало бы…
И потому начнем наши наблюдения за Гомбрихомбиографом с заметок другого историка – как раз таки науки, которая, прежде всего, представлялась ему предметом критики.
…Удивительный в своей ненавязчивой глубине Лионелло Вентури под самый занавес «Истории художественной критики» (1948) посвящает целую главу, казалось бы, немного неожиданной с теоретической точки зрения теме: взаимосвязи символизма и критицизма.
Стоит привести довольно обширное место из Вентури – уж больно точно этот пассаж передает весь пафос не только его, но и нашего сочинения, а также всего искусствознания:
Лукиан различал для себя в своем видении искусства два феномена: с одной стороны, психологическое выражение изображаемого, с другой – художественный взгляд автора образа. Задача критики состоит в преодолении подобного дуализма и в уразумении того, каким способом в некотором произведении искусства психологическое перелагается в выразительные ценности живописи и каким образом оказывается выраженным способ чувствования художника, столь очевидно используемый в произведении искусства. Однако синтеза возможно достичь лишь тогда, когда тезис и антитезис будут познаны со всей ясностью. На этом основании становится понятным, что критик всегда, и всегда со всей тщательностью, был занят изучением равно феноменов, связанных со зрением как психологическим, так и художественным. И дабы постичь первые, ему не надобна никакая новая наука, у него всегда под рукой была психология[212].
В этом рассуждении нас привлекает не только очевидное указание на зависимость критики от психологии по причине связи с той же психологией самого предмета исследования (с точки зрения художника, мастера, артиста и т. д., самое существенное в искусстве – это его, художника, внутренний мир). Более занимательно и замечательно выглядит четкое осознание того факта, что художество – это более, чем психология: мир психического перелагается, трансформируется, видоизменяется в мир эстетического и художественного, то есть чувственно переживаемого и художественно воспроизводимого. Последнее и есть тот самый
физический символ некоторой действительности, которая, как всякая действительность, состоит из единства духа и тела.
Иными словами, мы имеем дело с символизмом, то есть с опосредованностью самого психического опыта, не явно, не очевидно и не совсем доступно данного нам через визуально-оптические символы, то есть наглядные условные знаки. И подлинная и ответственная критика осознает, что и она сама есть феномен отчасти психологический: как и зачем необходимо пользоваться условностью научного категориального аппарата? Вероятно, именно потому, что только так можно опосредовать и увязать воедино созерцание художественное и созерцание художественного.
Дабы избежать тавтологии, мы вносим в наше – критическое – рассмотрение искусства и творчества знак зазора, символ дистанции, несовпадения: наши понятия символизируют наши способы взаимодействия с вещами, но никак не сами вещи. За этим стоит характер нашего созерцательного опыта, но никак не характеристика вещей. Это свойства нашего познания, но никак не свойства предметов.
И на этом интенциональном поле и конвенциональном пути мы не только можем заблуждаться, но мы отчасти вправе создавать символы, не совсем адекватные вещам, но адекватные (точнее говоря, эквивалентные) нашим привычкам и возможностям или их недостаточности и даже отсутствию.
В первую очередь это понятия-символы всякого рода историзма, такого трудноискоренимого предрассудка, как идея исторического прогресса. Так что всегда стоит помнить, что наши понятия – это памятники нашим познавательным компромиссам (и их симптомы). И если возможно символизировать оценки наши и наших собственных познавательных сил перед лицом свойств вещей, то возможно символизировать и всякого рода оценку, критическую установку и т. д., что в любом случае будет выглядеть как определенная точка зрения, задающая столь же определенную перспективу с определенной точкой фокусировки. И за всей этой созерцательной структурой стоит единая визуальная система, четкая «оптика» условий и порядка всматривания.
Итак, имманентная и трансцендентная оптика творческого опыта в корреляции с оптикой опыта научной и критической рефлексии, точно так же имеющей разнонаправленные векторы интенций и установок, – вот что составляет фундамент всякого дискурса об искусстве как не просто достоверного, но и ответственного типа знания, модальности познавательных техник и разновидности поведенческих практик.
Вопрос состоит только в следующем: когда и при каких обстоятельствах возможно хотя бы согласование всех этих аспектов и тенденций?
Эти условия при некотором усилии можно вообразить. Не совсем ясно лишь то, насколько необходимо именно дисциплинарно-институциональное обособление искусствознания от психологии: очень странно видеть, как только что народившееся дитя сразу же пытается обособиться от своих родителей. Хотя, быть может, это тоже своя психология, когда зависимость выдается за свою противоположность – автономность, камуфлируя при этом инфантилизм?
Поэтому следует совершенно отдельно говорить о наиболее основополагающем и решающем аспекте науки об искусстве: о ее самой сокровенной и для кого-то до сих пор не совсем желательной родословной.
Мы имеем в виду ее появление на свет из утробы тогдашней – тоже довольно юной – экспериментальной психологии, поддерживаемой весьма почтенными силами в лице философии искусства и эстетики, при том что вышеназванные дисциплины на протяжении XIX столетия являли довольно мощный и продуктивный концептуальный радикализм. Это было вызвано, несомненно, «коперниканской революцией» Иммануила Канта, его критической философией с ее конструктивистским пафосом не просто пересмотра, «перезапуска» или даже «перезагрузки» философии, а именно ее перестройки, переделки и переориентации.
Именно в таком контексте стоит понимать и экспериментаторский пафос науки о душе в конце XIX столетия: это явление, эквивалентное характеру того же искусства в постимпрессионистическую пору. Проблема искусствознания заключается в том, что оно из-за какого-то иллюзорного комплекса мнимой неполноценности все время пытается выглядеть приличной, академической научной дисциплиной, не будучи таковой по своей природе и по своему происхождению, которого не следует стыдиться. Эта наука порождена самым откровенным научным авангардом, это явление критическое, ее интенции критичны, и она есть по сути критика – в первую очередь сама для себя. Осуществляет же эту критику критики сам ее предмет: на языке нашего героя, именно искусство во всех своих формах осуществляет фальсификацию всякой науки, претендующей на его понимание.
Основная идея данного раздела будет состоять в том, что критика и самокритика может и должна восприниматься, осознаваться и использоваться даже не как начало аналитики, а именно как ее оправдание. Как и в психологии, в искусствознании не может быть альтернативы между идеализмом и материализмом. Адекватность, осмысленность и ответственная достоверность опыта взаимодействия науки с искусством требует критицизма – и только критицизма.
Предметом критики могут быть не только результаты творчества и не только сам творческий процесс, но и условия – то есть фактически творческие способности человека, начала которых – зрение. Но зрение зрению рознь: всякий человек в нормальном состоянии пользуется зрением и зрение каждого – уже творческий процесс, конструирующий реальность и наделяющий мир формой.
Проблема состоит в том, что существуют и специализированные формы зрения, его разновидности и модальности. Можно на мир смотреть и можно видеть, можно глядеть и разглядывать, наблюдать и всматриваться, и не только в мир, но в вещи этого мира, в мир вещей, мир человеческих отношений и т. д. Различия коренятся не просто в разной степени внимания, но в разной степени участия в этом процессе, в разных формах вовлеченности – причем и разными уровнями, аспектами сознания, начиная с памяти и продолжая (но не заканчивая) всякого рода навыками, как благоприобретенными, так и невольными, бессознательными и автоматическими. И кстати говоря, воля к зрению совсем не обязательно должна быть желанием Эго… Равно как и внимание к одному миру не исключает все возможные и не возможные миры.
Уже опыт интроспективной психологии в лице, например, Гельмгольца свидетельствует о почти бесконечном масштабировании того же внимания. Если мы обобщим одни только условия зрительного восприятия понятием «установки», имея в виду систему (горизонт) ожиданий и возможности (перспектив) реализации или разочарования, то мы получим весьма многообещающую для аналитики картину, где благополучно (и не очень) смешиваются моменты иллюзии, самовнушения и почти что гипноза – и все это в применении к чувственному, зрительному восприятию.
Еще важнее следующее: среди всех возможностей и просто форм конституирования визуального опыта выделяется тот тип, который мы приписываем сугубо творческой ситуации, имея в виду художника – его видение и результаты этого видения. И то, что мы привычно именуем произведением искусства, – это весьма, так сказать, «оживленный» перекресток, на котором пересекаются, сталкиваются, сливаются и расходятся многообразные потоки самых разных опытов – не только эстетических и даже этических или эпистемологических, но и просто экзистенциальных.
Уже одна только фактическая неоднородность, явная гетерономия и откровенная взаимная чуждость подобных «потоков» заставляет со всей осторожностью и предусмотрительностью предпочитать слово «символ», говоря о результатах этих опытов.
Но отдельная степень условности, отдельный уровень иероглифики (если пользоваться метафорой того же Гельмгольца) обнаруживается, когда речь заходит не просто об образах, а об изображениях, где символизация достигает своего предела. Художник, если он на самом деле тот, кто именуется этим словом, выражает или обозначает именно опыт напряжения между собственным художественным видением и собственным творческим навыком. Мы привыкли, в подражание литературоведению, которое, в свою очередь, вдохновляется риторической традицией, этот художественно-языковой компромисс именовать стилистикой. Это именно компромисс, и в качестве такового он всегда предпочитает не решать проблемы, а их камуфлировать, в данном случае – с помощью незаметного перевода стилистики в нормативную эстетику (или историю искусства, что еще хуже). Понятно, что именно такова природа всякого классицизма, где классика, классичность – опять же не свойство искусства, а качество и направленность взгляда, обращенного к бытию искусства во времени.
Визуализация визуального и зрение незримого
На самом же деле и это не есть предел проблем, связанных со вторичной визуализацией визуального опыта. Результаты этой работы и собственно сами визуально-художественные структуры могут предназначаться для следующего витка разглядывания – уже на уровне зрителя-реципиента, который вновь (возможно, в иной ситуации) может по-простому взирать на художественные творения, а может претендовать на большее. Понятно, что сами творения тоже могут на него и взирать, и претендовать: такова основа всякой рецептивной эстетики, о которой у нас должен состояться отдельный разговор. Например, опыт следующего уровня символизма, в котором запечатлеваются способы, пути разрешения или усугубления всех напряженностей, компромиссов и конфликтов, что оказались развернутыми и, соответственно, обнаружены уже в душе зрителя, которая способна и на эмоции, и на оценки, и, конечно же, на сотворчество-интерпретацию.
Если мы попытаемся сохранять собственную, хотя бы познавательную независимость внутри этой художественно-эстетической «конфликтологии», то тогда нам пригодится именно критическая установка, которая, однако, будет не менее полезна, если мы заметим, что не способны уклониться от вовлеченности. Именно тогда критическая позиция приобретет не просто терапевтическую, а почти хирургическую функцию аутопсии – аналитики и диагностики, причем не столько произведения, сколько нас самих.
И уж, конечно, сверхзадача – это предложить себя, свой опыт (прежде всего интерпретационный) как критика в качестве еще одного, уже связующе-примиряющего, то есть истинного, живого символа, понятого, таким образом, по крайней мере двояко: 1) как условность, знаковость, опосредованность (прежде всего – через язык искусства) манифестации трансцендентного (и внешнего, и внутреннего); 2) как символизм того языка, на котором выражаются (высказываются), просто передаются результаты взаимодействия с искусством. Но символизм присутствует и на гораздо более глубоком уровне: 3) там, где происходит взаимодействие между материалом восприятия и его осознанием и обработкой (в том числе и посредством запоминания).
Рефлексия по этому поводу как раз и формирует программу (проект) создания такой теории и практики, а вместе – методологии, которая не просто учитывала бы, но опять-таки выражала (символизировала) зазор между зрением и сознанием, между зрением и исполнительской практикой, между зрением и словесной практикой, между зрением и истолкованием и т. д.
В этом контексте существует и зазор между идеалом и формой: 1) для искусства это означает разницу между задачами смысловыми и сугубо художественными (исполнительскими); 2) для эстетики и критики – внимание или к содержанию, или к формальным аспектам.
Это выражается, как мы уже говорили, в различии эстетики идеализма и эстетики формализма, то есть гегельянской и кантианской. Хотя напряжение всегда сохраняется и может уравновешиваться пониманием формы как некоторой эйдетической сущности (Гегель), некой силы и даже воли (Шопенгауэр), структурирующей и даже конструирующей опыт, в первую очередь эстетический, а затем и художественный. В такого рода концептуально напряженном поле, между прочим, зарождается и вся иконология, которая есть наиболее впечатляющий и влиятельный по сю пору опыт совмещения различных типов символизма.
Страх первичного единства – иконология и эволюция
…И мы обязаны именно Гомбриху как автору биографии Аби Варбурга[213] обнаружением некоего полузабытого автора XIX в., который тогда был не только властителем дум (в том числе и варбургских), но и самым настоящим символом своего времени. Мы хотим обратиться к теме все того же символизма, однако взятого в своем исключительно когнитивно-эпистемологическом изводе: вопрос экспрессии концептуальномыслительного опыта стоит порой не менее остро, чем вопрос экспрессии опыта эстетического.
Упомянутый автор – это Тито Виньоли со своей книгой «Миф и наука» (1879, нем. пер. – 1880), где была собрана сама квинтэссенция исторического эволюционизма, но с сознательной добавкой широко понятой психологии, а также мифологии. Все это вместе фактически и сформировало мировоззрение Варбурга, вобрав в себя и связав воедино все его прежние концептуальные впечатления. Вслед за Гомбрихом[214] проследим ключевые моменты этой системы взглядов, весьма впечатляющей, крайне определенной, тенденциозной по замыслу и, между прочим, известной – как и ее автор – почти исключительно в связи с именем Варбурга.
Вся книга – фактически комментарий к одной воображаемой ситуации, когда лошадь пугается листа бумаги, гонимого ветром, и начинает нести[215]. Причина тому – именно в том самом страхе перед воображаемым или реальным врагом, который сидит и в животном, и в человеке. Это «выражение фундаментального механизма духа», и смысл его в том, что окружающий мир воспринимается и переживается как наполненный теми или иными силами, причем живыми. Это можно назвать анимизмом, но суть его в том, что человек и окружение, пусть и опасное – единое и живое целое. Когда человек высвобождается из этого состояния «чистой восприимчивости» (термин Виньоли, передающий первую стадию развития человека от животного и далее), он попадает в пределы уже не собственно инстинктов (первейший из которых, повторяем, страх), а в область отчасти отрефлексированного состояния, где властвует метафора или перенос. Это область мифологии, где человек – «проецирующий субъект» (это все – до Фрейда) и уже эта «базовая тенденция» человеческого развития дает в качестве выхода то, что традиционно именуется фетишизмом (вспомним всю бескрайнюю перспективу психоаналитической «объект-теории»). Этот самый фетишизм отвечает за склонность и к персонификации, и к общему «опредмечиванию» реальности, когда даже логика не свободна от условных мыслительных образований вроде «сущности» или «представления», видя в них некоторые отдельные существа (это все – фетишизм).
И только осознанно и ответственно мыслящий человек постепенно освобождается от первичных законов персонификации, вступая на путь духовного спасения, на путь истины и свободы[216]. Но на этом пути человека поджидает такая опасность, как принцип «энтификации», как это именует Виньоли, подразумевая здесь то, что потом Гуссерль назовет «тетической функцией» сознания, предпочитающего приписывать собственным образованиям (ощущениям и представлениям) самостоятельное существование (вспомним и Гельмгольца). Лишь очень сильный ум (оснащенный, добавим мы, феноменологической редукцией) способен прорваться сквозь «оболочку мифологии» к чистым отношениям «математики и механики». И хотя каждый день приносит нам моменты «уничтожения мифа», он живуч хотя бы потому, что и сама наука от него не свободна, например, в характерном для нее дуализме материи и духа.
Тем более не свободно от мифа искусство. Оно является чуть ли не его воплощением, которое есть продукт объективизации, а значит – проекции, причем не только в нормальных состояниях духа, но и во всех отклонениях фантазийной активности галлюцинации, бреда, слабоумия и т. д. (Вспоминается, естественно, соотечественник Виньоли – Чезаре Ломброзо, у которого искусство вызывало примерно те же ассоциации.) Любой образ для цивилизованного человека то же, что и для примитивного: его восприятие всегда связано с представлением и соприкосновением с numen’ом. Да и эстетическое восприятия-переживание как таковое с его вчувствованием – это все та же проекция, когда, например, архитектура вкупе с музыкой (очень характерная, заметим, связка!) проходят эволюцию от
примитивного магического символизма к утонченному символизму проецирующего удовольствия, способного к вчувствованию[217].
Тем не менее впереди нас, как утверждает Виньоли, ждет победа рациональности над иррациональностью, питающейся в первую очередь чувством страха во всех его разновидностях.
Варбургу вся эта логика была крайне близка хотя бы благодаря роли в ней первичных фобий, к которым Варбург был склонен с детства (особенно его мучили известия об эпидемиях и страх заболеть, то есть патофобия). Отсюда отчасти и интерес к мотивам движения, ведь, согласно автору «Мифа и науки», для животного и примитивного человека всякое внешнее движение было не просто угрозой, а переживанием некой силы, действующей воли, воздействия. Это давало в результате такую фундаментальную «проекцию», как идея причинности (последний из великих законов, управляющих человеческим духом, – принцип «каузальной виртуальности», то есть воображаемой причинности). С точки зрения Гомбриха, понятие «причинополагание» явилось краеугольным в мышлении Варбурга (мы мысленно, виртуально вкладываем идею причины, что-либо объясняющей, в какой-либо предмет, прибегая ради этого к самым разным действиям, приемам, уловкам, то есть практикам). Именно этим специфическим процессом или набором действий мы нейтрализуем наши страхи от жизни как таковой, особенно если мы эту жизнь еще и проецируем на образы, которые действуют как защитный экран или барьер (но, заметим сразу, они же способны и конденсировать на себе все фрустрации, пусть и в ослабленном виде).
Стоит обратить внимание на психоаналитический концепт «вложения энергии» (катексиса), который для Фрейда, однако, лишь отчасти связан с проекцией и экстериоризацией и предназначен для описания внутрипсихических процессов, причем преимущественно бессознательных и в контексте только экономической модели психики. Достойно внимания и то обстоятельство, что для Фрейда исконным и исходным содержанием либидозной энергии было именно удовольствие, а вовсе не страх! Хотя можно сказать, что принцип экономии мышления и расчетливого расходования сил со стороны психики тоже предполагает потребность исконного равновесия или цельности, что принадлежит, видимо, самым первозданным основам человеческого естества (у того же Фрейда можно при желании найти признаки исходного дуализма, переходящего отчасти и на оппозицию принципа удовольствия/принципа реальности).
Несомненно, самое решающее, показательное и основополагающее для Варбурга в подобной мыслительной системе значение имела идея развития и эволюции религиозного чувства – от элементарной религиозности, связанной с произвольной жертвой как способом нейтрализации капризов богов (язычество), через регулярную жертву как средство примирения с единым Богом и его гневом (иудаизм) к христианству с его жертвой как церемонией (таинством), но в первую очередь – как молитвой. Правда, для Варбурга дело этим не ограничивалось: ему виделась высшая форма религиозности в виде «ежедневной работы в единстве с богослужением», когда «Бог пребывает внутри нас». Именно в христианстве как вере в божественную любовь достигает апогея процесс освобождения от страха, в том числе и благодаря освящению человеческой работы. Поэтому для Варбурга предельная форма религиозности – это научная деятельность, исключающая всякую жертву, ибо жизнь и труд воспринимаются равным образом в их святости.
Но, скажем сразу от себя, жизнь и наука потребовали от Варбурга иной жертвы, которую он тоже смог принести достойно и с пользой – потому что не только и не столько для себя (пусть эта жертва и была непроизвольной и неосознанной: тем более ценно и сознательно воспринято было исцеление – как ответный дар именно милующего Божества, которое, впрочем, во всем, а прежде всего в Жертве, проявляет инициативу).
Гомбрих, излагая эту религиозно-эволюционную схему, пользуется фрагментами записей 1888 г.[218], обращая внимание на два момента: на остроту «религиозного вопроса», рассмотренного под углом развития, что было принципиально для выходца из весьма строгой ортодоксально-иудейской среды, и на пафос преодоления страха, который для Варбурга ассоциировался с жертвоприношением как средством обретения свободы. Заметим, что в этой варбургской схеме не только иудаизм – лишь промежуточное звено в цепи религиозного развития, но и внутри христианства сакраментальная («церемониальная») форма веры – тоже лишь этап на пути к религиозности в духе кальвинизма (как не вспомнить Буркхарда, а также Юнга, за которым стоит и Бинсвангер, не говоря уже о Карле Барте?).
Символизм «темный» и «светлый» – наглядность глубинного
Однако заслуга Гомбриха – и в выяснении многих иных впечатлений, теоретического в первую очередь порядка, которыми не просто питалась научная активность Варбурга, но на которых она формировалась посредством довольно напряженного и не совсем однозначного пересечения тенденций довольно разного рода. То, что обсуждалось выше, – это основание или, скорее, фон, на который накладываются и Дарвин, и Вильгельм Теодор Фишер, и многие другие.
Про сочинение Дарвина «Выражение чувств у человека и животных» сам Варбург написал, что «эта книга его спасла», и подобный факт после Гомбриха обязательно фигурирует во всех характеристиках Варбурга, хотя речь могла идти просто о полезности этого текста для написания срочной работы в семинаре Шмарзова. Впрочем, у этой книги Дарвина была весьма принципиальная подоплека для будущей иконологии: эволюция человека, по Дарвину, означала процесс дифференциации и обособления деятельности относительно первоначальной непосредственной и связанной потребности или инстинкта. Для Варбурга существенно было то положение, что человеческая физиогномическая экспрессия (мимика лица) – это «символический остаток» биологически значимых актов. Именно это специфично для Варбурга – постоянное ощущение присутствия чего-то неприемлемо иного, почти враждебного и животного за теми явлениями, что, казалось бы, выглядели вполне цивилизованно и даже культурно значимо. (Например, человек хмурит брови, когда гневается, потому что его предки должны были защищать глаза во время атаки врага или на врага.)
По этой причине столь важна для Варбурга и теория символа Фишера-старшего, младогегельянца, в поздние годы постепенно обратившегося в мистический иррационализм, как это называет Гомбрих. По мнению последнего, характерную для Гегеля концепцию символа как чего-то «несоразмерно-несоответствующего» и присущего Древнему Востоку Фишер переносит на все явления истории и культуры. Он обращает внимание на то, что многозначность символа – это вовсе не проблема логики, так как не достаточно просто поставить символ в нужный контекст, чтобы придать ему смысловую отчетливость. Неопределенность символа имеет причину психологическую. И этот тезис – новаторство Фишера, что и привлекло внимание Варбурга. Дело в том, что возможно различать именно два типа психологической организации, когда «просветляющему духу» предшествует «только предугадывающая душа». Именно она ответственна за появление символов, ибо она «темна и несвободна», погружена в религию (причем в «натуральную религию») и для нее характерно отождествление образа и слова, то есть магическое отождествление смысла и явления, еще не доросшее до какой-либо рефлексии и до различения символа как знака, в котором удерживается и отслеживается несходство между означающим и означаемым. Фишер не пользуется, конечно, такой семиотической терминологией, но он как раз выделяет символы первичные, магические, так называемые «темные» и символы «светлые», знающие дистанцию между мышлением и объектом и предпочитающие метафоре сравнение и аллегорию, которая имеет дело не с образами как таковыми, а с эмблемами (мысль, между прочим, еще гегелевская).
И что нам (не только Варбургу) может быть сугубо интересно, это, несомненно, уяснение Фишером связи между символическими механизмами и явлением «вчувствования», которое он возводит к первичным и нерасчлененным потребностям переноса непосредственного ощущения чего-то неприемлемого на предмет, который мы можем принять. (Уже здесь становится ясным механизм образования сновидений как своего рода неосознанной «физиогномики» души, предпочитающей внешнюю экспрессию как уклонение и избавление от внутренних состояний, вызывающих если не страх, так как это самые первичные импульсы, то хотя бы дискомфорт.)
Поэтому историк культуры обязан отдавать себе отчет, на каком уровне развития находится та душа, что породила те или иные образы, будь то изображения, тексты, документы, обычаи. Главный урок для Варбурга, по точному замечанию Гомбриха, заключался в том, что иррациональное вовсе не обязано скрываться в каких-либо глубинах человеческого естества. Да, несомненно, история человеческого рода – это постепенное накопление прогрессивных качеств и способностей (общий догмат всякого эволюционизма), но вместе с тем это история накопления и наслоения остатков прежних состояний и способов обращения с природой и самим собой. Важно, повторяем, что подобная первичная экспрессия остается наглядной всегда, даже в виде рудиментов: они все равно удерживаются и как бы оседают плотным слоем на самой поверхности, все равно сохраняют свою наглядность и выразительность. И мы, привыкшие представлять себе исторические наслоения, так сказать, в археологическом ключе – в виде донных отложений или материковых слоев, – благодаря варбурговской интуиции имеем возможность представить себе именно визуальную архаику как, наоборот, поверхностные наслоения, как своего рода символические «записи», скрывающие нижние – и подлинные, уникальные слои.
Иконология – удаление археологической патины
Так что иконология – лишь отчасти археология, в ней присутствует и реставрационная модель: истолковать означает выявить и удалить наслоения архетипической «патины». Не столько раскопки, сколько расчистки, не столько более поздних культурных слоев, сколько вневременных и докультурных уровней, и не столько уровней, сколько следов и пятен.
Еще раз подчеркиваем: столь непривычная и не совсем естественная (для естественной установки) ситуация вызвана, во-первых, тем обстоятельством, что перед нами визуальные символы, которые, хотят они того или нет, всегда наглядны, всегда лежат на поверхности, всегда непосредственны, а во-вторых, тем моментом, что мы имеем дело с остатками, фрагментами прошлого, можно сказать, с руинами доисторического бытия, что опять же на поверхности выглядит, скажем прямо, скорее как некий мусор, как содержимое, так сказать, археологического «отвала». Руинами можно украшать готовые и благополучно прибранные ландшафты, но если ничего нет, кроме развалин, то их расчищают, от них избавляются, в том числе и в акте редукции…
Так что выходит, что этот иррациональный символизм надо уметь видеть и узнавать как непосредственно и почти навязчиво данный (как не вспомнить обсессивный синдром как практически базовую парадигму фрейдистского культурно-исторического критицизма?). И это есть задача «культурно-исторической психологии», так как за символами стоят именно прежние, забытые, но не преодоленные, а лишь вытесненные, а потому и навязчивые состояния души. И происходит вытеснение – вовсе не обязательно куда-то «вовнутрь» души, ведь бессознательное как структура сопрягается с топикой коллективного, суперэгонального, которое может быть и социальным, и политическим, и религиозным – то есть всячески объективизированным и идеологизированным, то есть ремифологизированным.
Иными словами, для Варбурга была решительно важна именно такая схема: иррациональные, почти животно-фобийные реакции примитивного человека, символизированные культурно-историческими симптомами, должны подвергаться прояснению и, главное, рационализации средствами очень конкретной методики – через понятийный и концептуальный аппарат ассоциативной психологии.
Заметим от себя, что срединное положение именно ассоциативных механизмов задает высшую форму ассоциации: и иррациональные реакции на внешние стимулы-раздражители, и рациональные реакции на символы – все это формы поведенческой активности. Это единое поле даже не просто реакций, а именно чувствительности человека, его исконной цельности не только внутри себя, но и в соотнесенности со средой. И это есть самое главное, ответственное и, быть может, роковое обстоятельство, которое заставляет и историка культуры, подобно художнику, связываться, ассоциировать и сливать себя с предметом своего внимания и вообще аффективного опыта.
И вновь мы отдаем дань тонкости и сдержанной иронической глубине Гомбриха, обращающего внимание на переписку Варбурга со своей будущей женой, а пока – художницей Мари Хертц, вынужденной читать рассуждения о том, что эволюционно первичная форма восприимчивости – это непосредственно зрительная деятельность, вторичная – художественная, а высшая – вероятно, строго научная. Ей, как художнику, а не невесте, приходилось письменно (в своем «очень живом ответе») сомневаться в своей готовности принять эту схему своего будущего супруга[219]. Характерна реакция Варбурга: он снисходит до того, чтобы признать (вопреки своему первоначальному мнению), что деятельность художников (и художниц!) располагается не позади, а «в одном ряду» с деятельностью историков, так что художников «несправедливо удалять от длящейся экзистенции». Более того – и вот она, суперэгональная проекция, любезная любому постфрейдисту, – художников можно «понимать как в определенном смысле членов нашего общества»[220].
Или все же исконны именно имманентные ассоциативные механизмы, логика реагирования, а не трансцендентная логика интегрирования, то есть потребности сместить нежелательное эмоциональное напряжение, а не возвратиться в желанное экзистенциональное положение?
Эта дилемма – сама суть противостояния вышеописанного младогегельянского подхода в лице Фишера-старшего и кантианства-гербартианства в лице Германна Зибека с его примечательной эстетической концепцией (книга «Психологические исследования теории прекрасного и искусства», 1875), где вчувствование рассматривается как разновидность ассоциативного механизма, но особого типа. Созерцая объекты эстетически, мы наделяем их особым значением, связанным с выражением, с присутствием экспрессии: формы благодаря нашему взору получают смысловую «добавку», которая в первую очередь облегчает нам восприятие (нам легче в вещах «узнавать» себя, находиться с ними в отношениях «лицом к лицу», взирать на них «физиогномически»). Но эта «добавка» – явное средство наделения предметов новым качеством, которое им как таковым не присуще и которым они обязаны именно созерцанию-вчувствованию, когда вещи становятся целостностями, состоящими из элементов, что и есть творчество (понятие гештальта, однако, Зибеку неведомо, с сожалением замечает Гомбрих).
Варбург, как показывает Гомбрих на основе фрагментов его рукописей, пытается эту теорию соединить с эволюционизмом в духе Виньоли и Дарвина[221]. Он выстраивает целую череду рассуждений о двигательном восприятии всего живого в двух стадиях эволюции: сначала в состоянии убегающего или в положении преследующего, то есть в любом случае враждебности; а затем в состоянии связанности со всем движущимся, когда уже действует не закон агрессии и страха, а закон силы (человек, по ироничному замечанию Варбурга, не только хищник, но и ленивец: лучше быть в буквальном и переносном смысле связанным, но спокойным, так сказать, пленником, но не покойником).
Существенны для Варбурга были и языковые ассоциации, призванные описывать подобные стадиальные состояния психики и подчиненные, по его мнению, закону «определения объема [понятия]». Специфическим образом Варбург переносил (опять же ассоциировал) этот логический принцип определения объема понятия на изобразительную продуктивность, видя в изобразительных актах воспроизведения предметов тот же род усилий, направленный на группировку или изоляцию вещей. Почти буквально контур – это визуально зафиксированное желание связать вещи воедино: образ вещи – как диаграмма постижения-схватывания вещи, что следует понимать буквально – как движение руки. Иначе говоря, с точки зрения Варбурга, мы не только переносим свои аффективные состояния на предметы, высвобождая тем самым психику от образов вещей, но и вкладываем в вещи свои мыслительные усилия, наоборот, связывая их и покоряя их психике с помощью образов мыслей, понятых также как род движений-усилий. Делается это, однако, не посредством рациональной логики мышления как такового, а с помощью иррациональной логики построения образов-изображений. И вся подобная идеограмматика – ради освобождения от страха…
Эта не совсем простая варбурговская мыслительно-концептуальная последовательность, тем не менее, определяла ход его мыслей в течение всей жизни (наряду с принципом «вкладывания причины»). Повторяем, что за подобным способом мышления стоит универсальный принцип ассоциативной психологии, доведенный, однако, Варбургом почти до алогичного конца. (Вспомним еще раз, что нарративно-дискурсивная практика его словообразования напоминала сюрреалистическое творчество: и образ художника, и слово ученого – это все, по сути, жесты, импульсивные двигательные реакции на угрозы-раздражения, с трудом и усилием достигающие уровня разума.)
Хотя самому Варбургу рисовалась картина куда более рациональная. Во всяком случае, в связи как раз с вчувствованием и вообще эстетическим созерцанием не может не быть упомянут Конрад Фидлер с его теорией автономности эстетического опыта именно как формы сотворения особой реальности чистой зримости, а не постижения или отражения реальности предзаданной, точнее говоря, череды реальностей – чувственной, умопостигаемой и практической. Варбург совершенно чужд самой идее того, что воображение – автономная и одновременно вполне приемлемая сила, которая представляется не угрозой ра зуму, а его поддержкой или даже смыслонаполняющим условием его функционирования.
Остановимся на этом моменте подробнее, сразу отметив, что характерная лексическая (словообразовательная) активность Варбурга проистекает именно из подобного недоверия к творческой стихии как таковой. Она проявляет себя в разнообразной активности воображения: эта фантазийная энергия его не только и не столько пугает, сколько вызывает желание восполнить ее недостатки (или ее недостаток, который в то же время преизбыток) напряженным пафосом собственной активности-креативности, контроль за которой, однако, – вопрос открытый, равно как и вопрос о ее свободе…
Сохранился экземпляр фидлеровского «Истока художественной деятельности» (1887) с пометками Варбурга, который, однако, не отреагировал положительно на основополагающую идею учителя и вдохновителя Генриха Вёльфлина о снятии различия между раздражителем и реакцией (поэтому те же идеи, жесты и сам язык – не только выражение, но само творчество-творение). Мышление Варбурга остается натуралистическим, и в нем не находится места «творческой силе воображения». Гомбрих выражается без обиняков:
…обращение к фантазии означало для Варбурга и его философии угрозу душевному равновесию и духовному здоровью[222].
И это вполне соответствовало «эволюционной психологии» (и не только ей!), видевшей в фантазии «враждебную силу», хотя, согласно учителю Варбурга Герберту Яничеку («Общество Ренессанса в Италии», 1879), именно она наделяет объект «жизнью и персональностью». Это та самая сила, что
отделяет Я от внутреннего мира гештальтов и ставит его супротив его, ибо естественный враг благоразумию – аффект, который способствует превращению власти отдельного представления в тираническое владычество над всем внутренним миром и уничтожению в конце концов разницы между собой и Я-представлениями как таковыми. ‹…› Так что чем более задействованы отношения к миру, страстно возбуждающие индивидуум, тем больше потребность в художнической осмотрительности, не позволяющей Я погрузиться в волны внутренних сил[223].
И это еще вовсе не Варбург! Стоит целиком привести принципиальнейшее замечание Гомбриха о том, что
при такого рода понимании сплавляются воедино овладение фантазией и устремленность к двойному идеалу научной рассудительности и морального самообладания[224].
Изучение искусства для Варбурга было неотделимо от овладения собой. Подобное – главная тема как его научных изысканий, так и его жизненного опыта, где «воздействующая на дух череда пробуждающих страх впечатлений вытесняет порядок и рассудительность». Формулировки Гомбриха в этой связи достойны почти непрерывного воспроизведения:
…человека обступают хаос и страх, а успокоение, искомое посредством художественного творчества, не менее нестабильно, чем разум, к которому взывают, прибегая к науке с ее каузальным объяснением. Достижение художника, фиксирующего и проясняющего отображение действительности, предполагает рассудительность, которая не менее редкий дар, чем свободный от эмоций анализ ученого. И что справедливо для художника, то касается и того, кто рассматривает изображения[225].
Следующий пассаж в силу его принципиальной фундаментальности мы позволим себе выделить в виде отдельной сентенции, хотя он непосредственно следует за вышеприведенными фразами:
…осмотрительный и рациональный дух способен толковать находящуюся в движении фигуру-гештальт благодаря тому, что он, исходя из собственного опыта, восполняет впечатление тем, что было прежде, и тем, что грядет вслед. И это есть память зрителя, и это суть записанные в его духе ассоциации, осуществляющие подобный акт рациональной реконструкции[226].
Последнее слово («реконструкция») – наиважнейшее: память и рассудительность (Besonnenheit) – средства в известной мере раскопок-расследований или реставраций-реконструкций[227]. При том что предшествующий опыт восприятия может быть не только покрыт песком забвения, но и залит волнами страха и страсти. Получается, что произведение искусства – это памятник-напоминание в том числе и аффекта, который то ли стóит, то ли нет освобождать от наслоений то ли рассудительности, то ли рассеянности…
И вот – решающие и ключевые формулировки Гомбриха:
…подобный рациональный акт, как казалось Варбургу, можно было истолковать как неотрефлексированную ассоциацию, посредством которой мы стремимся всякой орнаментальной форме придать «движение». Такого рода неотрефлексированную реакцию Варбург соединял с вчувствованием и, соответственно, с теми первобытными страхами, что проецируют темное чувство посягательства на жизнь на все формы, что могут быть восприняты как преследующие хищные сущности-существа[228].
Просто представим и почувствуем, какие просвещенный зритель-историк может испытывать мучительные переживания, находясь перед произведением искусства, догадавшись и почувствовав, что он страшно недалек от своего предка, загнанного, затравленного и загрызенного давно вымершим хищником. И насколько более болезненна может быть пугающая догадка, что этот хищник вовсе не вымер и не вытеснен, что этот хищник – он сам или внутри него…
Мы сознательно сгущаем подобную эмоционально-аффективную суггестию, чтобы только передать серьезность проблем, возникающих в душе, оказавшейся местом встречи, если не столкновения интеллектуализма и биологизма, которые нельзя считать лишь концептуальными установками – как это демонстрирует случай Варбурга, – и они представляют собой жизненные сценарии, модальности экзистенциального порядка, манифестирующего строгие и прямые, почти неумолимые импликации жизни и мышления, магии и истории.
И вот еще один пример перехода, казалось бы, сугубо формальных проблем в столь же сугубо моральные. Это теория орнамента, как ее излагает Готтфрид Земпер и как ее подхватывает, перетолковывает и переживает Варбург. Согласно Земперу («О формальной закономерности украшения и его значении как художественного символа», 1854), следует различать орнамент фиксированный и орнамент подвижный. Причем последний, происходящий из убранства одежд, получает свою динамику благодаря своему носителю, обнаруживая его неуловимую подвижность. Будучи, казалось бы, всего лишь украшением, но на самом деле удерживая и передавая соответствующее настроение, «подлинный пафос», «гравитацию гештальта» (у Варбурга из этого образа как раз и происходит формулировка о «законах эстетики как законах притяжения»[229]). Все это, зафиксированное в прошлом, воздействует на зрителя сегодня, направляя и закрепляя его внимание, а вслед за ним – и эмоции и мотивации.
Варбург на словесном уровне (Гомбрих удачно называет подобные опыты «схематической пермутацией всеобщих понятий») экспериментирует с этой идеей значимой «направленности» (Gerichtetkeit), совмещая ее с мыслью Виньоли об исконной и потенциальной опасности всякого движения, предполагая, что исток и содержание удовольствия – это именно «невинное» (harmlose) движение, например бесхитростного «завитка». Он, в отличие от настоящего произведения искусства, не имеет активной направленности на зрителя, не таит в себе агрессии или угрозы подчинения, он бесцелен, замкнут на себе и поэтому дарует радость чего-то «неопасно подвижного».
Органические (именно так у Варбурга) истоки орнаментации в искусстве должны привести от первичной ступени развития (попытка с помощью орнамента придать порядок явлениям внешнего мира) через «переходную ступень», какой является «художественная продукция», к третьей – к «основоположению и причинополаганию», то есть к «чему-то научному». Заметим, что для Варбурга как для истинного позитивиста не существует ступени, превышающей «науку», – уровня философского или эстетического созерцания и уж тем более – опыта встречи со Священным хотя бы (уже не мало!) в духе Р. Отто.
Орнаментальный «завиток» и развевающиеся одежды или волосы, подвижный атрибут и динамическая добавка – это все частности, детали, которые не просто значимы как скрытые мотивы, они симптоматичны, ибо свидетельствуют об особенностях эпохи. Но тут же – история, эволюция, органические истоки, то есть всеобщие понятия. Такое соседство уже чисто логических противоположностей беспокоило и просто мучило Варбурга, заставляя его постоянно подбирать подходящие формулировки, своего рода словесное облачение или просто лексическое украшение всем слишком подвижным и потому опасным явлениям и чересчур беспокойным темам.
Малое, непроизвольное и незаметное, дарующее удовольствие, защиту и свободу, оказывалось жертвой задач рационализации, символизации, историзации и, что самое существенное, психологизации не без демистификации[230]. Для чего использовалось, конечно же, зрение, но понятое, воспринятое и принятое в качестве средства, орудия борьбы – на уровне перехода от глаза как органа видения к органу чтения – со всей мистикой и магией звучащего слова, пробужденного или возбужденного оком[231].
Четыре тезиса – два комментария
Гомбрих предпринимает героическую попытку прокомментировать (фактически дешифровать – вот польза военного опыта!) то, что сам Варбург рассматривал как относительно удачную формулировку своих теоретических исканий. Это так называемые «Четыре тезиса», опубликованные в посмертном двухтомнике ученого. Попробуем и мы произвести некоторый концептуальный эксперимент, приведя сначала текст каждого из тезисов, затем – толкование Гомбриха, чтобы создать затем еще один комментарий уже предложенного комментария, но без намерения увидеть в этой последовательности какое-либо эволюционное развитие.
«I. Практика художественного манипулированияобращения (Handhabung) с динамизирующими придаточно-периферийными формами (Zusatzformen) развивается в самостоятельное “большое” искусство из первоначально действительно увиденного образа, [воспроизводящего] динамическое состояние».
«То, что Варбург именует динамизирующими придаточно-периферийными формами, представляет собой те самые движущиеся мотивы одежд и “подвижные аксессуары”, что изучались им у Боттичелли. Он говорит, что исток этих форм – в чувственных впечатлениях от действительных движений, которые наблюдались фактически. Тем самым тезис находится в созвучии с натурализмом и ассоциативной психологией, из которых Варбург и вышел».
Мы обращаем внимание на важность «состояния», которое, впрочем, предстает в виде образа (Bild), и на форму активного причастия (dynamisierend) как атрибута форм: вещи в окружающем пространстве (среде) находятся в своих состояниях, и если сначала чувства (зрение) извлекают их из него, то затем практика обращения-манипулирования (здесь важна именно роль рук!) вкупе с периферийным положением этих отдельных вещей, ставших деталями-атрибутами и тем самым сохранивших свою относительную самостоятельность, делает их не просто активными и динамичными, а именно динамизирующими формами. Они воздействуют и на само произведение, и на его смысл (он тоже приобретает подвижный, переходный характер), и на зрителя-толкователя, имеющего дело, таким образом, с системой активных атрибутов, способных в своей исконной транзитивности преодолевать границы не только своей первоначальной среды и конкретной эпохи (это – давно в прошлом), но и границы, рамки отдельно взятого произведения, а также личности автора или исследователя. (Сам Варбург добавил бы сюда и рамки традиционных научных дисциплин, соблюдать границы которых он отказывался всю свою сознательную жизнь.)
«II. Отстранение (букв. – “отвращение”, Abkehr, то есть тоже скрытое “вращательное” движение) художников от действительной среды, [присущей] объектам, снимает нагрузку с динамизирующего дополнения; последнее тем самым в первую очередь обнаруживает себя у так называемых символизирующих (аллегоризирующих) произведений искусства по причине того, что реальная среда с самого начала оказывается отстраненной (букв. – “вынесенной вовне”, Wegfall kommt), тем самым “соотнесенной”» [ «сравнимой» с чем-то внешним, лишенной уникальности, приравненной к чему-то иному].
«Иными словами: когда художник рисует фигуры, которые он никогда не видел, аллегории или божеств, он не стеснен чувственными впечатлениями, что исходят от неподвижной, реальной, пред ним пребывающей модели. Такие фигуры куда легче сплавляются с образами воспоминаний тех движений, что были увидены в прошлом. Последний пассаж ведет к варбурговским изысканиям касательно проблемы символа и метафоры, к которым относятся подобные идеальные фигуры. Если я сравниваю некоего человека, который действительно гневлив, с фигурой гнева, то я тем самым посредством этого сравнения вытесняю вовне все, что относится к этому человеку с точки зрения его [непосредственного] восприятия, исключая одно – то свойство, что аллегоризируется указанной фигурой. Так что Варбург имеет возможность уравнивать вытеснение“ выпадение” (Wegfall) и сравнение в таком вот замечании, которое по-настоящему непрозрачно, но не готовит, впрочем, никаких трудностей».
Мы в свою очередь обращаем внимание, что Варбург условием нарастания символизма и аллегоризма, проявляющегося в динамических атрибутах, ставит исходную утрату внимания или интереса со стороны художников к окружающей среде (а ведь среда – принципиальнейший концепт позитивизма) с ее определенными и независимыми предметами. Причина этого отворота-отвращения не совсем понятна (обращает на себя внимание исходная привязка художника к зрению, направленному вовне: будто воображение – производная внешнего созерцания). Среда, изгнанная и забытая, более не мешает тому, что было на периферии и таило всю свою динамику, оказаться на первом плане. Не совсем понятно, способствует ли символизм и аллегоризм этим процессам, или они и составляют его содержание. И это вытеснение подобно сравнению, которое, однако, тоже есть вытеснение вовне, соотнесение с внешним, не совпадающим с тем, что сравнивается, и, в отличие от метафоры, обладающим своим собственным и одновременным, синхронным существованием (метафора же вытесняет, заменяет то, на что она «переносится»). Не возникает ли в таком случае новая среда – не чувственная, а интеллектуальная? И не существенно ли то, что если речь идет о сакральных образах, то их присутствие в сравнении и есть свидетельство и условие, если не средство их присутствия в реальности? Последнее обстоятельство как раз и делает неизбежным встречу с ними всякого, кто принимает их так или иначе, даже и бессознательно или автоматически, – мысль, ставшая, как мы вскоре увидим, почти роковой для Варбурга, ее фактически носителя.
«III. Апперципирующий новое впечатление образ воспоминания, связанный со всеобщими динамическими состояниями, позднее посредством произведения искусства бессознательно проецируется в качестве идеализирующего очертания (Umriss)».
«То значение, в котором употребляется слово “апперципирующий”, указывает на гербартианскую психологию. Имплицируется, что вспоминаемый образ сливается с новым чувственным восприятием. Этот новый продукт – полученный из двух впечатлений, прошлого и настоящего – становится очертанием идеализированного произведения искусства. Другими словами: “идеализация” рассматривается в данном случае в той мере, насколько она значит отклонение от фактического восприятия, как продукт сцепления двух припоминаемых впечатлений».
По нашему мнению, в данном тезисе самое существенное – это прямое соотнесение динамики образа некоторого состояния, скрытой в воспоминании, и того обличья-контура, что получает произведение искусства, использующее данные восприятия, которое организовано или просто обеспечено именно такой апперцепцией, имеющей своим содержанием именно динамику и именно, повторяем, готовую образность. Идеализация фактически – это проступание наружу этих скрытых в прошлом и в памяти динамических состояний: они могут, так сказать, визуализироваться в виде контуров-очертаний, представляющих собой в некотором роде чертежи-диаграммы, буквально «графические проекты», наглядные эквиваленты процессов, совершающихся в психике, но в состоянии себя обнаружить в движении руки, намечающей контур (вспомним «завиток», которому есть, между прочим, продолжение в знаменитой «префигурации» Гантнера и в «macchia» Зедльмайра). Напомним и то, что акцент на динамике, на движении важен двояким образом: это и объяснение того, что апперцепция прямо выносится – буквально проецируется вовне и наглядно (ее трудно сдержать), но это и указание на возможность воздействовать на того, кто рассматривает произведение искусства. Скрытая мысль состоит в том, что проекция не ограничивается перцепцией произведения: контур, очертание, именно если он идеализирующий (вновь активное причастие), способен «оконтуривать», конфигурировать и зрителя. Идеальное – именно динамика силы и власть порядка и определенности, которая, однако, сама по себе не имеет предела. Кроме того, как и в предыдущем случае, очень важны все эти временные наречия, описывающие порядок следования, череду перемен, образующих то самое, что мы именуем историей. Но это же – и порядок построения произведения, где «контур» – это почти облик, а облик – это стиль. И в случае с Варбургом – это и манера, которую мы вправе понимать именно как манипулирование-обращение – с самыми разными вещами-объектами. И везде присутствует все то же движение – усилие и достижение эффекта, явленное наглядно, ибо непосредственно. И этот зримый символизм состояний и устремлений психики может быть считываем подобно всякой документации: памятник чувств, эмоций, аффектов и их эффектов – все это подлежит чтению, толкованию и применению.
«IV. Художественный маньеризм или идеализм – это всего лишь особый случай автоматического “рефлекса” художественной силы воображения»[232].
«“Маньеризм” и “идеализм” как те два художественных направления, в которых чувственные впечатления модифицируются художниками, взяты здесь вместе и истолкованы как особый случай “рефлекса” художественной фантазии – причем так, что интеллектуальные образы (geistige Bilder), что пробуждаются из забвения благодаря новому чувственному впечатлению, оказывают воздействие на новые образы и с ними сплавляются, как это уже было описано в предыдущем тезисе».
По большому счету, самое главное в этом тезисе – присутствие и использование слова, взятого в кавычки уже Варбургом: «рефлекс» условен, потому что многозначен, ибо он – и отражение вообще чего-либо, и непосредственная (рефлекторная) реакция, и художественно-эстетическое явление (цветовой рефлекс, присутствие или след одного цвета в другом, вообще – знак, признак присутствия, близости, подобия разнородных, казалось бы, явлений или фактов). Но еще существеннее – автоматический характер этой рефлексивности: она бессознательна и потому непреложна в своих эффектах и аффектах, в результатах своей активности, заключающейся всегда в уклонении и отклонении от данных непосредственного чувственного опыта, вместо которых настойчиво предлагаются образы, порожденные силой воображения, силой вмещения в образ «потока данных», если пользоваться более поздней (феноменологической) терминологией. Это универсальная сила во-ображения, всеобщая власть в-несения и помещения в образ всего и вся, способная в том числе располагаться и между известной парой «маньеризма» и «идеализма», понятых как соответствующие миросозерцательные установки, где важны именно полярности и напряжения между ними. Эта релятивность присутствует уже в отдельно взятой душе, но тайна заключается в том, что тот же самый смысл активно присутствует и в совсем ином масштабе – в размерности и безмерности истории, не просто наполняя ее, но исполняя и осуществляя ее, а потому – почти упраздняя, быть может, посредством все той же проекции, в которой угадывается неизбежный и неизменный трансфер… Но нет ли в «автоматизме» еще и соображений морального порядка: отсылка к натурализму и естественной позиции – это почти всегда или самооправдание, или самовнушение, что, мол, все зависит не от меня. Кроме того, никто не застрахован в связи с «автоматизмом» от ассоциаций сюрреалистической направленности (вспомним, какое впечатление производит варбурговское «письмо», которое, однако, в своей почти мучительной напряженности вряд ли похоже на «автоматическое», то есть непроизвольно-спонтанное).
…Подобные концептуальные перспективы и призвано выразить использование привычных историко-культурных понятий в непривычном контексте исторической психологии. Фактически, а также теоретически и практически это «основные понятия», знакомые нам «ренессанс и барокко», призванные описывать не столько «исторические факты», сколько внеисторические реляции, неизменные, исконные и изначальные связи и оппозиции, архаические единства и противоположности человеческого бытия, каковым бы оно ни представлялось в своей то ли органике, то ли «пневматике» (к сожалению, эти термины – вне поля зрения Варбурга, удивительнейшим и печальнейшим образом остававшегося вне пространства той же поздней античности со всем ее «хорошо темперированным» теургическим спиритуализмом). Это и мыслительные, и аффективные модальности, стили даже не столько экспрессии, сколько жизни как таковой.
Но что не отнять у Варбурга и что является его самой характерной чертой – это персональное воплощение подобной «экзистенциальной стилистики» и личное переживание в предельно острой форме существующего напряжения между «полярностями» рациональности и иррационализма, античного язычества и христианского Запада Нового времени. Ресурсы и границы этой аффективности проявились позднее, но они были не беспредельны с самого начала, тем более что всячески поддерживались и питались не только напрямую жизненными обстоятельствами, но и крайне напряженной интеллектуальной активностью. Она, однако, приносилась в жертву все тем же аффектам, то есть активности психической, питающейся, увы, энергиями самыми разными, в том числе и древними, архаическими и потому воистину «дикими»[233].
Без преувеличения можно сказать, что в лице Варбурга мы имеем дело с особым типом творчества, где интеллектуализм и вообще рационализм со всеми его результатами и достижениями, со всей созерцательной продуктивностью оказывались почти исключительно материалом для иного, жизненно непосредственного и отчасти более спонтанного опыта. Напряжение, масштабность и емкость этого опыта поглощали то, что только внешне выглядело как сугубо научная деятельность, будучи в действительности (то есть внутри действующей, воздействующей и действенной реальности) совокупностью проблем, требовавших морального решения.
А мораль невозможна без веры, которая вынуждала выходца из строгой иудейской среды выбрать между язычеством и христианством. Выбор веры оказался любовью, фактически – евангельским выбором. Бесконечно показательно, что первый ход в этой череде выборов, которая и составляет жизнь, делается в самом личном измерении: в октябре 1897 г. вопреки сомнениям и возражениям родителей Аби Варбург[234] после десяти лет знакомства вступает в брак с Мари Хертц, не еврейкой, но художницей, причем со столь говорящей фамилией и столь многообещающим именем…
Гомбрих с присущей ему тонкостью и точностью обсуждает эту тему в контексте взаимоотношений Варбурга с современным искусством и, в частности, с немецким импрессионизмом. Можно сказать, что и выбор спутницы жизни был выбором актуальности, иначе говоря – жизни как таковой, в ее буквальном и прямом протекании, к тому же еще и персонифицированном.
…Казалось бы, вот самый патетичный момент всей этой истории, но в том-то и дело, что был и иной эпизод, чья патетика во всей своей силе обнаружила себя позже и неожиданно. Это поездка в 1895 г. в Северную Америку (тоже, между прочим, по матримониальным обстоятельствам – на свадьбу одного из братьев), путешествие в южные штаты (с намерением добраться и до Японии), общение с индейцами пуэбло, приобщение к «змеиному ритуалу» – и все в рамках, казалось бы, невинных изысканий в рамках мифологии, этнологии и «психологии народов»[235]. И не столько масштабы и острота последствий, сколько глубина смысла этой роковой поездки и этого рискованного опыта «перехода границ» обнаружат себя лишь спустя некоторое время, в военной, то есть буквально пограничной и, значит, переходной ситуации[236]. Хотя после свадьбы Варбург с супругой отправляются туда, где они и познакомились: их ждала Флоренция…[237]
Но очень характерно и то, что Варбурга – персонажа книги Гомбриха-биографа после обсуждения и комментирования «Четырех тезисов» ждали еще несколько пассажей Гомбриха-историографа, которые есть фактически самокомментарий:
Читающий эти формулировки не будет слишком удивлен тому, что их составителю казалось, что он не вполне еще использовал средство, предназначенное для достижения цели, им же и поставленной. Эта цель – не более, но и не менее как «монистическая эстетика», интерпретация искусства в свете психологии. Но психология сама по себе не достаточна, она обязана, если она желает соответствовать научным претензиям, опираться на объяснение того, как организм отвечает на раздражение. Во все более и более свежих заметках Варбург пытается представить эти реакции как деятельность «ганглий» и «вибраций», двигающихся по определенному пути. Варбургу представлялась «физика мышления», теория «рефлекса», и он составлял заметки по поводу пассажа из «Возникновения новейшей эстетики» Г. фон Штайна (1886, с. 321), предполагавшего, будто вот-вот будут открыты в эстетике законы столь же значимые, что и законы всемирного тяготения[238].
После подобных замечаний Гомбрих просто констатирует тот факт, что, написав диссертацию, Варбург «не нашел ничего лучше», как отправиться в Берлин слушать лекции профессора Эббингауза о центральной нервной системе и посещать семинар, посвященный оптическим иллюзиям. Затем были годичная служба в армии (артиллерия), весьма удовлетворившая Варбурга и питавшая его воспоминания всю последующую жизнь, новое посещение Флоренции – и, вопреки всему этому, депрессия, чувство потерянной жизни, что закончилось – на время – обнаружением исследовательской темы, что помогла «удержаться над бездной отчаяния».
Эта тема – сущность праздника, практики устройства и проведения праздничных торжеств, знаменитых ренессансных trionfi[239]. И в этой сфере Варбурга вновь поджидали испытания: античность со своей в том числе и риторически-театральной традицией обеспечивала ренессансную культуру экспрессивным аппаратом, но, с другой стороны, она оказывалась передатчиком мощнейшего страстного потенциала, который, как очевидно было для Варбурга, представлял собой опасность для не просто европейских, но вообще человеческих ценностей. Античность для европейского Запада несла все возможные полярности и амбивалентности, напряжение и давление которых Варбург испытывал непосредственно на себе, в личном психическом опыте.
Гомбрих, Панофский, Митчелл: смысл значения в искусстве и иконологии
История гештальтностей – позволим себе так выразиться – наделяет нас знанием о тех модальностях, согласно которым в череде исторического развития чистая форма соединяется с предметным и выразительным смыслами; история типов наделяет нас знанием о тех модальностях, согласно которым в череде исторического развития предметный и выразительный смыслы связываются с определенным значимым смыслом; всеобщая духовная история, наконец, наделяет нас знанием о тех модальностях, в соответствии с которыми в череде исторического развития значимые смыслы (то есть, например, понятия языка или мелизмы музыки) исполняются определенными миросозерцательными содержаниями.
Эрвин ПанофскийИтак, как наш практический опыт уточнялся посредством усмотрения тех способов и приемов, какими выражались при меняющихся исторических условиях предметы и события посредством форм, и как наше знание литературных источников уточнялось посредством усмотрения тех способов и приемов, какими при меняющихся исторических условиях определенные темы и представления выражались при помощи предметов и событий (история типов), так же точно – и в еще большей степени – наша синтетическая интуиция уточняется посредством усмотрения способов и приемов, какими при меняющихся исторических условиях выражаются всеобщие и сущностные тенденции человеческого духа при помощи определенных тем и представлений.
Эрвин ПанофскийЖизнь как иконология
Случай (контингентность) соприкосновения Варбурга и Гомбриха выявляет крайне важное обстоятельство: иконология – это не только и даже не столько методология, не столько даже идеология, так или иначе присутствующая в художественных практиках.
Иконология – это, так сказать, биология, ею может оказаться сама жизнь личности (ее биос), если она, эта самая личность, так или иначе фиксируется на интеллектуальных и смысловых составляющих своего существования, преодолевая свою зоологичность (зоэ). Описание этой биологии, ее био-графия, выявляет, как мы убедились на примере Гомбриха, универсальные структуры смыслового порядка, где эта самая биография, то есть описание-письмо, в свою очередь преодолевает ее, этой жизни, био-логию. Преодолевает в смысле превосходит, но не отменяет: биология, органика, как мы видели, для Гомбриха – начало всякой человеческой жизнедеятельности, это первичные потребности, которые как раз в процессе своего удовлетворения себя исчерпывают и позволяют восходить на иные уровни.
Так парадоксально жизнь пресекается, если не перечеркивается этим самым письмом. И спасает, как бы защищает эту жизнь только подстановка вместо самой жизни ее подобия, имитации, если не симуляции в виде образов-символов – так сказать, защитного экрана, щита или стенда (и переносно, и буквально – вспомним варбурговский атлас «Мнемозина» с его как раз таки переносными щитами…)[240]. Иконология в этом смысле предполагает не только историзированную биографичность (способность к буквально живо-писанию) этих символов (что, впрочем, немаловажно), но и эстетизированную биологичность (жизненную осмысленность) их носителей, пользователей, покорных жертв и упорных в своей жертвенности покорителей…
И без этого откровенно экзистенциально-конструктивистского (в эпистемологическом смысле слова) аспекта невозможно понять все дальнейшие пути и маршруты все той же иконологии. Мы произвели некоторый мыслительно-нарративный скачок, взявшись сразу за гомбриховское повествование касательно интеллектуальной жизни Варбурга. Но этот «перенос» поможет нам поместить себя внутрь собственно проблемы иконологии, к которым причастны, как мы убедимся, не только отец этой традиции (Варбург) и не только тот, кто в известной мере положил ей конец (Гомбрих), но и собственно воплощение иконологии и ее реализация – Эрвин Панофский, вместивший в биологически-ассоциативное наследие Варбурга лучшие моменты позднего неокантианства с его склонностью к самой жизни (Риккерт), пусть и в символизированном обличье (Кассирер). В результате и получился тот самый конструктивизм, но сугубо герменевтический, где жизненное усилие художника продолжается и как раз таки реализуется в жизненном и синтетическом усилии интерпретатора, обращающегося, между прочим, к текстам не только напечатанным, но прежде всего написанным, нанесенным на поверхность бумаги, в своем чистом графизме формирующим биографию как все ту же иконографию. Интерпретатор как фактически графолог…[241]
Можно сказать, что это в некотором роде два синтетизма, наложенных друг на друга в результате именно смыслополагающих и аналитических активностей. У Эрвина Панофского сам фундамент этих усилий – и одновременно их результат – собственно и есть синтетическая интуиция как финал и продукт всех прочих процедур, ритуалов и церемоний научных «празднеств».
Семантика как археологическая архитектоника
И если мы берем такую наиболее всеобъемлющую художественно-пластическую модальность, каковой является, например, архитектура, то мы тут же убеждаемся, что ее (архитектуры) многоуровневость как прямое проявление ее фундаментальной выстроенности в обязательном порядке проявляется и в непреложной и ясно выраженной построенности, архитектоничности той теории, что берется эту самую реальность описывать и тем более уразумевать.
Но как архитектоника может скрываться за внешними оболочками постройки, так и выстроенная, то есть структурно устойчивая, семантика может скрываться под внешними оболочками привычного, обыденного или, наоборот, открыто аллегорического, риторического или просто непосредственно коммуникативного и потому «декоративного» смысла, по своему назначению внешнего по отношению к существу той, повторяем, реальности, что именуется архитектурой[242].
Мы не случайно уже во второй раз поименовали архитектуру реальностью: не вдаваясь в подробности той онтологии, что может скрываться за архитектонической телесностью, скажем, что возможна совсем иная точка зрения, предпочитающая ограничиваться той единственной реальностью, что засвидетельствована для сознания самым непосредственным образом – в качестве самого этого сознания. Так что смысл, так или иначе присутствующий в постройке (вообще в человеческой деятельности, в том числе эстетической и художественной), может уклоняться от своего уловления и благодаря, как ни странно, самому сознанию или хотя бы мышлению, отказывающему – по большей части бессознательно – в реальности и подлинности всему, что на него не похоже.
Поэтому получается, что всякая интерпретиру ющая активность сознания сталкивается с самим сознанием как первым, но не последним препятствием на пути к смыслу. И возведение здания смысла неизбежно связано с разборкой лесов и прочих временных сооружений, которым мы обязаны сознанию во всех его трансмутациях – индивидуальных, коллективных, исторических, обыденных, рефлексирующих, измененных, в конце концов. А если это сознание не только не замечает собственных трудностей, но и забывает о них, хоронит их и погребает себя в собственном беспамятстве и безрефлексивности? Тогда нужны не только разборки завалов, но и раскопки захоронений смысла, эксгумация гуманности, то есть – эксгуманизация…
Именно поэтому иконологические процедуры производят впечатление археологических практик: начало – сверху, с поверхности, которая, между прочим, визуально-эстетическая, следующее движение – вглубь, в своего рода корневую систему значимого смысла, под поверхность чувственного к связям предметного порядка (значение – отсылка к отсутствующим актуально вещам, по причине как раз наличия их образовсимволов). Это, так сказать, «дерн значения». Но, как оказывается, за слоем референции, если снять и его, открывается вовсе не почва и не монолит, а весьма разработанный, хотя и забытый фундамент некоего сооружения, от которого на поверхности ничего не осталось, кроме вышеописанных мифологических символов.
Так что возможен и иной образ: это не ушедшая по естественным причинам в землю постройка, а искусственно устроенная насыпь – курган, возвышающийся над поверхностью земли, но к таковой прямого отношения не имеющий. Это именно гробница – и не только смысла. Кроме того, это именно нечто возведенное, устроенное, добавленное, в том числе и ради привлечения внимания. Это уже своего рода памятник, выставляющий на всеобщее обозрение не то, что в нем сокрыто, – ни в коем случае – но сам факт сокрытости. Сокровенное – напоказ в своей недоступности.
Но прежде чем углубиться во все это, вспомним, как наглядно устроена и как показательным образом выстроена иконология, для чего обратимся к известной иконологической таблице Эрвина Панофского, которая, как известно, имеет несколько редакций, изводов, будучи, таким образом, вполне иконографичной даже внутри себя, восходя в своей «табулярности» ко все тем же варбурговским фигуративным, репрезентативно-репродуктивным стендам-оградам, защищающим разум от титанической воли и власти Мнемозины. Или это развалины Храма с его чередой дворов, маркирующих пределы Присутствия?
Таблица смысла как гробница значения
Воспроизведем и прокомментируем две таблицы: одну – раннюю из немецкоязычного текста[243], а другую – чуть более позднюю и взятую из английского эссе[244].
Вот так выглядит и вот чем наполнен первый вариант:
А вот – вторая таблица и, соответственно, можно сказать – иконология-II:
Сравнению этих таблиц-вариантов и вообще трансформации взглядов и убеждений Панофского посвящен легион текстов[245]. Не меньшее число – комментированию иконологического метода и его истолкованию. Укажем, например, на такую принципиальную корректуру, что задается Эриком Форссманом, для которого три типа значения следует излагать в следующем порядке: «1. Феноменальный смысл. Переживание и описание гештальта без углубленного обоснования предположительно наличного вербального значения. Великая близость с художественным творением, чистое настоящее такового. Выявление художественного качества, поле деятельности, в том числе и знатоков. 2. Значимый смысл. Объяснение всего поддающегося объяснению в пределах отдельного творения (соответственно, группы творений или жизненного творчества). Источниковедческие изыскания. Введение исторических моментов благодаря исследованию пред-жизни и после-жизни в качестве типа, то есть иконографического материала как материала, наделенного гештальтом. Выявление собственного стиля и определение его ранга. 3. Сущностный смысл. Понимание творения как бессознательного порождающего процесса. Воздействие стиля эпохи. Утверждение такового во всеобщей духовной истории, где только возможно – посредством основных понятий, которые могут быть получены или априорно, или эмпирически. Проявление эпохи, определение ее значения внутри универсальной истории искусства»[246].
Сама форма иконологической таблицы – это и оформление результатов исследования, это и инструкция по применению метода, но это и «маршрутный лист», картография, которой можно пользоваться не только вертикально по столбцам, но и буквально по слоям – горизонтально, переходя к следующему уровню или типу смысла только после произведенной корректуры. Еще лучше – в трехмерном варианте с учетом прозрачности – транспаренции и диафании – слоев.
Хотя в любом случае остается проблема перехода как такового: что заставляет искать следующий уровень смысла? Только ли сам герменевтический постулат исчерпывающего, то есть расширительного, анализа? Быть может, корректура и есть тот самый инструмент смыслового сдвига? Или даже – вариант редукции, выноса за скобки предыдущего смысла (хотя бы в рамках критического сомнения, предполагающего трансформационные моменты и в сознании интерпретатора, что значит и смену объекта). Но как объяснить конечность третьего уровня интерпретации: ведь указание на конечность (сущностность) самого объекта не помогает? Быть может, речь идет вовсе не о раскапывании, наоборот, закапывании, наслаивании покровов, быть может, интерпретация есть захоронение? Видимо, и то, и другое, и что-то третье вкупе с четвертым.
Так что задача преодоления таких слишком трудоемких и просто мучительных «раскопок», грозящих превратиться в самокопание или самозакапывание, может показаться обязательной. Другое дело, какова тактика: или поиск новой «вещественности» (напомним, что горизонт нам задает архитектура), нового образа вещи, обогащенной новой интенциональностью, или, наоборот, однозначное сужение пространства смысла осо знанным содержанием, которое должно быть однозначно и однозначно независимо от субъекта?
В последнем случае требуется своего рода нейтрализация или регламентация субъектной активности, сведение ее к регистрирующей и классифицирующей деятельности, свободной, между прочим, от всякого рода визуальной стороны дела, ведь именно там располагается самый мощный конституирующий потенциал того же воображения. Это можно осуществить или с помощью сведения семантики к тексту и литературе (путь традиционной иконографии), или с помощью редукции смыслополагающей работы к символизму самой деятельности как таковой, то есть к правилам и конвенциям коммуникации, хранения, передачи и усвоения информации, обработанной соответствующей кодировкой. Это может выглядеть как раз весьма благородно и безупречно: ведь интерсубъективная конвенция – это согласие, а следование правилам – этика поведения (неважно, что где-то там маячит призрак бихевиоризма).
Все это вполне в духе У. Куайна с его программными постулатами «предложений наблюдения» и «значения раздражения», которые можно и нужно понимать не только по-бихевиористски, «натуралистски», то есть как поведенческую реакцию на стимул, но и аксиологически – как всякое реагирование, как актуальную и просто активную ценностную установку со своим содержанием-наполнением[247].
Впрочем, можно увидеть у Гомбриха и отчетливую и осознанную, а значит, намеренную реакцию на саму иконологию как на стимул-раздражитель, порожденный определенной теорией (она – стимул всякого наблюдения, которое подтверждает или опровергает теорию, выступающую, таким образом, всякий раз как практика гадания-предсказания). Строго говоря, написание текста – это, несомненно, тоже разновидность поведения, тем более если это реакция несогласия и отрицания или просто приближения к сущностным основам существования – а именно в этом состоят притязания иконологии на ее предельном уровне, который можно толковать и как самый нижний, так сказать, криптологический, и как самый финальный, так сказать, эсхатологический. Кстати говоря, текст Гомбриха и его концепция призваны, как может показаться, отвлечь внимание от этого сущностного слоя: о нем даже не заходит речь. Тривиальность действует если не как дымовая завеса, то уж верно как театральный занавес, хотя за этим – постулат проверяемости как очевидности повседневного и окказионального опыта.
Это путь коммуникативной теории вообще и облегченного варианта семиотики пирсовско-моррисовского типа, то есть без магии дискурса, но не без индуктивистских заклинаний[248]. Или все же – отражение идей аналитической философии? Она, впрочем, соперничает в этом контексте с феноменологической теорией значения.
Исключительно в качестве самого общего и приблизительного эскиза можно предположить следующее: 1. «Седиментация значения» и его археология, то есть раскопки отложений-наслоений (может быть, не только впечатлений художника, но и зрителя и не только от искусства, но и от искусствознания). 2. Слои как не просто типы значений, а как типы понимания-интерпретации, которые могут быть не только последовательными процедурами, но и соперничающими сценариями, а могут – и просто синонимами. 3. Кто их задает или даже создает и почему важны альтернативы?
Семиология визуального как симвология тривиального
Остановимся на варианте именно семиотического редукционизма, крайне соблазнительного именно в связи с архитектурой (пространство-среда может требовать пластических жертв) и крайне привлекательного именно в своем возможном словесном оформлении.
И это тот путь, что выбирает Гомбрих, которого в связи с Эрвином Панофским можно сравнить с К. Поппером – по отношению к Л. Витгенштейну. Проблема в том, что в данном случае кочерга (или, скорее, лопата) заметна в руке Гомбриха. Оговоримся, что его несколько пугающий историзм – конечно, инструмент все той же остенсивной верификации (этот указующий жест выглядит и как жест угрожающий), но это и символ венского документализма с характерным источниковедческим пафосом и с крочеанским уклоном в сторону индивидуального экспрессионизма. (Так что жестикуляция здесь имеет и сугубо выразительное предназначение, не без оттенка непосредственности, непроизвольности, невольности, то есть – искренности, а значит, достоверности, хотя, добавим мы, не без навязчивости и насильственности, как многое в экспрессионизме.)
…Итак, перед нами – сборник 1972 г. «Символические образы. Исследования по искусству Ренессанса» и предисловие к нему, озаглавленное довольно назидательно: «Задачи и границы иконологии»[249].
Откровенно шокирующую тривиальность рекомендаций Гомбриха касательно того, чем должны заниматься иконография и иконология – почти без всякого обсуждения первого уровня (буквального или прямого смысла), следует понимать совершенно конкретно – исходя из его концепции значения как такового:
…образы со всей очевидностью занимают особое положение где-то между высказываниями языка, которые призваны передавать сообщение, и природными вещами, которым значение придать можем только мы[250].
Может показаться, что как раз иконологические слои и призваны воспроизводить эту смысловую переходность, многозначность, которая образует систему. Однако для Гомбриха
при ближайшем рассмотрении приближение к значению распадается на каждом уровне… и видимая самоочевидность изобразительного значения пропадает.
Заявление довольно болезненное, это даже больше, чем, например, обвинение Отто Пэхта, что иконология не понимает невербальный характер образного смысла:
В основе всего подлежит обсуждению вопрос о роли сознания в процессе создания художественного гештальта, и с этой точки зрения иконологическая ориентация истории искусства мне всегда казалась аномалией[251].
Впрочем, у Пэхта (тоже, между прочим, представителя венской школы) с Гомбрихом много общего благодаря довольно суженному пониманию собственно иконологии. Этому способствовал, кстати говоря, и сам Панофский, когда в поздних англоязычных текстах отождествил смысл со значением. Оставшийся, так сказать, по инерции последний уровень бывшего «сущностного смысла» оказывается бессмысленным в контексте теории конвенциональной природы значения (экзистенциального смысла в таком случае просто быть не может, так как для прагматизма нет онтологии и нет трансценденции, ибо значением обладает лишь сам акт составления текста и его использования – в говорении, написании или чтении).
Стоит сразу обратить внимание, что Гомбрих говорит именно об «изобразительном значении», то есть о значении того факта, что нечто (например, текст) изображается. Впрочем, в случае с текстом речь может идти, с точки зрения Гомбриха, только об иллюстрировании. Но природа слова – в его условности и абстрактности, тогда как визуальный образ – всегда конкретен. Поэтому текст стимулирует фантазию художника и одному тексту может соответствовать бесчисленное множество вариантов его наглядного представления (и, соответственно, с помощью изображения никак нельзя реконструировать текст, равно как и нет никакой возможности текстуально-словесно передать все детали изображения).
По этой причине, считает Гомбрих, для приведения хоть в какое-то соответствие изображения и текста следует прибегнуть к «помощи иного средства», что особенно важно с учетом столь распространенной привычки ссылаться на бессознательное. Обратим внимание, во-первых, на то, что Гомбрих предпочитает говорить о мнении, о постановке вопросов – как будто «значение» не имеет характера реальности, а является лишь производным от той или иной активности мысли. А во-вторых, сразу настораживает попытка прибегнуть к некоторой инстанции, или превосходящей, или результирующей и слово, и образ. Заметим сразу, что речь идет о выходе за пределы этих двух феноменов. Посмотрим, куда и с какой целью, а заодно – и с каким результатом…
В этой связи ключевое высказывание Гомбриха – о желательности (даже вопреки теориям бессознательного) именно выяснения «намерений», учета «роли в искусстве однозначности представления об интенции»[252]. Эту роль всячески хотят похоронить, считает Гомбрих. Только ли требование Гомбриха – иметь под рукой определенность? Оказывается, нет, если учитывать следующую фразу:
…я предлагаю задуматься о том, что ни институции правильного словоупотребления, ни критическое мышление не в состоянии более функционировать, если мы фактически отказываемся от представления о намеренном значении[253].
Конечно, ссылки Гомбриха на здравый смысл, возможность критического отношения (то есть свободы высказывания) и просто языковые институции выглядят не слишком убедительно, скорее – как риторический прием, предполагающий не совсем критическое применение общих мест. Но стоит нам представить, что намеренный смысл – это не просто некоторый автор, а, например, Откровение[254], как тут же проблема интендированного значения окажется весьма жизненной.
Но дело в том, что для Гомбриха нет проблемы механизмов воспроизведения заложенного смысла, равно как и для иконологии нет проблемы в признании этого самого подразумеваемого значения. Эти обе инстанции (заложенный смысл и интерпретатор), тем не менее, объединяются тем обстоятельством, что сам акт самого буквального чтения самого буквального текста уже обладает своим значением: выделение уровней смысла потребно как раз для различения значения вещи, значения самого акта восприятия вещи и значения того образа, что мы имеем в результате созерцания (такова позиция Г. Фреге). Мы уже не говорим о значении термина «интенция» и не обращаем внимания на оборот «представление об интенции», не просто вводящий новые оттенки смысла, но прямо умножающий сущности (если все-таки не видеть в Гомбрихе крипто-феноменолога, а в «представлении» – ноэму[255]).
По нашему мнению, специфика позиции Гомбриха в другом. Он несомненно в курсе всех теорий значения, но крайне показательна следующая его фраза (со ссылкой, правда, на Хирша[256]):
…произведение означает лишь то, что оно значит для нас[257].
Вспомним «дополнительное средство»: таковым для Гомбриха оказывается просто-напросто иная ситуация, в которую переводится и произведение искусства, и интерпретатор. Это ситуация научного здравомыслия – единственно значимый для всех и, значит, приемлемый тип значения. Значение что-то значит для нас, лишь если оно может приниматься без напряжения, то есть если оно обеспечивает легкий, ненапряженный выбор-предпочтение, или просто означает недвусмысленность, питающую чувство удовлетворения (психоанализ не дремлет!)
Стоит обратить внимание на то, что Гомбрих говорит не о значении произведения, а о значении иконологии: он неизменно пребывает со своими рассуждениями внутри вопроса – принимать или не принимать иконологию как род занятия, как практику, как занятие приличных людей? Хотя это и частный случай (иконологию можно было бы и не упоминать), но он показывает намерения самого Гомбриха и никого иного: смоделировать ситуацию, когда можно высказываться, не создавая никому трудности, в том числе и себе.
То есть для Гомбриха имеет существенное значение, насколько интерпретация, так сказать, откровенно прямодушна и буквальна. Для него просто в обязательном порядке имеет значение, доступно ли полученное в результате значение, определенно ли оно или требует дальнейших усилий, то есть представляет собой двусмыслицу, если не бессмыслицу. Это и есть для Гомбриха сущностное значение: значим сам акт нашего поиска и, главное, обретения приемлемого и комфортного значения.
Это, в общем-то, требование даже не эпистемологическое, а сугубо нравственное: я должен быть в согласии с тем, кого можно именовать или признавать автором текста, то есть с владельцем его значения.
Другое дело, что в случае с произведением искусства соблюсти этот благородный императив затруднительно по причине специфической актуальности художественного акта как творения, не говоря о еще более специфической актуальности чтения как столь же осмысленного и столь же актуального творения (образования смысла), не говоря уж о говорении, способном схоронить самого автора и само авторство…
Необходим акт историзации, то есть погребения творения и превращения его в документ-памятник, надгробие собственной эстетической жизненности, то есть включенности в структуру экзистенции интерпретатора, в ситуацию избавления от так называемого первичного автора, и, парадоксальным образом, признание дисконтинуальности, утраты связи и актуальности за свершившийся факт, который подтверждается каждый раз, когда мы пытаемся «восстановить» смысл, реконструировать значение. Получается, что оно для нас уже не существует, мы не понимаем, потому что нам нечего понимать – мы лишились предмета понимания и бессознательно, то есть бесконтрольно, заполняем нашими нынешними реконструкциями наши же прежние деконструкции…
Гомбрих на подобное не особо посягает, предпочитая ссылаться, вслед за Хиршем, на постулат решающей роли жанра, в котором написано произведение. Для изобразительного искусства этим жанром будут, конечно, не собственно жанры, а скорее типы или модальности изобразительности, что, собственно говоря, возвращает проблему к тому же Панофскому, для которого типология – самое ключевое понятие, а традиция – важнейший контекст и условие критической корректуры. В этом смысле Гомбрих мог прямо сослаться на Панофского, говоря, например, о «традиции и функциях изобразительного искусства»[258]. Строго говоря, Гомбрих выступает самым последовательным иконологом, самым целеустремленным и верным заветам Панофского, осуществляя процедуры четвертого столбца, не доводя их, впрочем, как мы намерены показать, до логического финала, то есть до обращения на самого себя, до обращения самого себя – на Другого.
Впрочем, Гомбрих не может или не хочет пользоваться всеми нюансами концепции Панофского, более того, он прямо говорит, что революционные труды Панофского указали, что заниматься надо не «определением текстов», как предпочитает иконография, а «реконструкцией программ» (задача иконологии)[259]. Это и есть та тривиальность, о которой мы упомянули в начале нашего разговора о Гомбрихе: разве программы не заключены в рамки текстов и разве тексты не заключают в себе возможные реакции пользователя?
Но такого рода пародия, карикатуризация и травестия осуществляется Гомбрихом не по злому умыслу и не по узости или тем более низости концептуальной базы, а по соображениям, так сказать, идейным – методическим и дидактическим: у него есть свой собственный замысел и намерение, в жертву которым приносится дифференцированно-трудоемкая аналитика, традиционно именуемая иконологией. Хотя постоянное упоминание Гомбрихом моды на иконологию свидетельствует, что для него проблемой была как раз тривиальность иконологии, что на тот момент превратилась в расхожую идеологию.
Истолкование как дидактический декорум
Так в чем же состоит эта самая глубинная «идея» Гомбриха? Ответ – в ссылке на ренессансную теорию decorum’а, которую поминает Гомбрих как путеводную звезду в сумраке иконологических блужданий, предпочитая не упоминать и иную теорию Ренессанса – о всякого рода иероглифике[260]. Кстати, общий тон Гомбриха напоминает интенции отца иконологии – Чезаре Рипы, составлявшего свой текст с целью просветить затемненный разум художников, не склонных к размышлениям или лишенных знаний. Для Гомбриха важно просветить самих иконологов, и потому его текст – это дважды иконология и одновременно сугубая риторика, где дидактика – фигура смысла (вкупе с оксюморонами и умолчаниями в сочетании с гиперболами и прочими метаболами).
Смысл декорума – в его принципиальной дополнительности и несвязанности напрямую с функцией художественной вещи. Это именно признак творчества, то есть свободы, хотя было бы ошибкой думать, что это свобода художественного воображения. Скорее это свобода выбора, которая предоставлена автору замысла и которую, между прочим, должен уважать и всякий потенциальный интерпретатор. Такова, во всяком случае, подоплека того, почему Гомбрих вспоминает эту теорию, делая это в середине своих рассуждений и возвращаясь к ней в финале своего текста, увенчивая ею свой труд.
Самое существенное в decorum’е – это предзаданные правила использования тем в соответствующих рамках. Фактически речь идет о контролируемом поведении в заданной ситуации, о подходящем стиле речи в определенных обстоятельствах и о приемлемой теме в конкретном контексте (как, например, у Ломаццо известные темы-сюжеты соотносятся с теми или иными местами того пространства, что подлежит украшению с помощью изображений и что определяет их буквальную уместность, то есть ситуативность и избирательность).
Гомбрих называет этот принцип отбора методом пересечения: как бы две смысловые карты накладываются друг на друга – но только отчасти – и общая зона становится значением итогового продукта. Этих карт может быть довольно много, они могут принадлежать и заказчику, и художнику, они могут вступать друг с другом в весьма замысловатую игру (особенно если это, например, карты таро и игра нацелена на предсказание, на определение конечной смысловой ситуации, в которую вовлечен объект предсказания-прорицания, то есть фактически интенционального акта, которым оказывается и любая принимаемая гипотеза). Главное же то, что остается пространство и для игры воображения, и для всяческих предпочтений художника, которые просто должны быть созвучны теме.
Остается непонятным, почему же интерпретатору не остается места для его игры? Ведь можно сказать, что художник вкупе с заказчиком способны выступать в качестве еще одной исходной инстанции заказа, определяющей уже «скрипт» для интерпретации, где «фрейм» – это не само художественное творение, а ситуация – актуальная и потому реальная – уже предназначенная интерпретатору. Это выглядит, с точки зрения Гомбриха, предосудительным для интерпретатора, если он играет в игру под названием «история искусства», где по ходу пьесы полагается разыгрывать строгость и убедительность знания, представляемого документальным, если не «протокольным» (результаты гадания-прорицания важно принять или отвергнуть).
Но вся эта парадигма описывает сугубо ментальную ситуацию, в строгом соответствии с которой может родиться исключительно вербальная, текстуально оформленная программа, которая, в свою очередь, иллюстрирует или просто описывает именно порядок и структуру мышления. Описывает – или предписывает. Даже если автор программы и ее исполнитель совпадают (например, Вазари), все равно это разные авторы, ибо разными феноменами оказываются текст и образ.
Говоря от себя, заметим, что при такой постановке проблемы (эквивалентность, изоморфность структур мышления и зрения – а речь идет именно об этом) единственным способом решения будет постулирование третьей инстанции – гештальтных (структурных) связей, не просто результирующих ситуацию (так предпочел бы думать Гомбрих, имея в виду возможность их элиминации), а имплицирующих эти отношения. Это предполагает и постулирование автономности, чистоты и беспредпосылочности этих структур-гештальтов, их априорный характер, что, повторяем, абсолютно неприемлемо для Гомбриха с его иронически-скептическим номинализмом, расцвеченным разнообразными оттенками прагматизма.
Декорирование уместного значения как декодирование значения исторического
Гомбрих предпочитает переводить разговор в русло «декоративной» и декорирующей уместности, соответствия жанру и модальности. Так само произведение выступает как своего рода программа для интерпретации. Но тогда же возникает вопрос, почему сомнения в реализуемости программы для художника невозможно перенести и на интерпретатора – вместе с разговорами о творческой свободе? Видимо, по мнению Гомбриха, историк лишен этой свободы, он покорен – только вот чему или кому? По каким правилам вынужден он играть и почему эти правила столь строги и неумолимы, хотя и предназначены для использования в контексте творческой свободы и мыслительной раскрепощенности? Как так получается, что художественное творение – плод независимости и свободы духа – оказывается инструментом подчинения и подавления?
Какой новый оттенок смысла возникает при переходе к истории? Почему она – скажем прямо – в руках Гомбриха становится узилищем или, во всяком случае, объектом слишком серьезного и буквального почитания? Кого мы так чтим и не дерзаем беспокоить своей актуальностью, жизненностью и живостью? Несомненно – мертвых, тех, кого нет с нами, кого мы потеряли и не знаем, как обрести вновь или по-новому…
Однако для Гомбриха «программа» имеет два очень существенных и сущностных момента, но с точки зрения не историзма, а историчности. Во-первых, программу можно рассматривать как повод или импульс к изготовлению произведения, поэтому она – именно предварительное условие и исходный пункт интерпретации, которая должна начинаться если не в том же месте, что и программа, то, во всяком случае, в связи с ней, хотя лучше – там, где программа заканчивается. Во-вторых, программа как вербальный текст, имеющий структуру и задающий порядок своего прочтения, задает и порядок прочтения творения. Точнее говоря, предполагает по аналогии, что если возможно правильное прочтение текста, состоящего из слов, значение которых следует просто знать, то нечто подобное касается и визуально-символического текста, хотя здесь все не так просто (хотя и в литературном тексте тоже все не просто).
Но символизм, как резонно замечает Гомбрих, не шифрограмма, и невозможно достать ни однозначный ключ, отверзающий потаенную истину, ни единственно верный код, взламывающий скрытый смысл…
Кроме того, если мы имеем дело с метафорами, то все еще более усложняется по причине внутренней амбивалентности такого рода структур, значение которых возникает не просто из контекста их употребления, а как раз из содержания самого акта употребления метафоры. Гомбрих хочет сказать, что символические словари обманчивы, хотя на самом деле они просто бессодержательны, их элементы – только кластеры системы, они не имеют значения, ибо значение – это акт означивания, то есть речь, ситуация пользования символами, заполнения символических решеток, пропускание символического значения сквозь сито тех или иных прагматик и праксисов.
А это, в свою очередь, зависит от отношения к символам, от понимания того, что они такое. И это уже теория символов, которая, согласно Гомбриху, может быть двоякой: или рационалистически-номиналистической, то есть аристотелевской, или мистической – неоплатонической. В первом случае это теория использования метафор в целях человеческой коммуникации, во втором – это мистическая теория (или практика?), опыт религиозной жизни, связанной с Откровением, у которого, как предполагается, свой язык, который не совсем доступен человеческому разумению, от чего и возникает ощущение таинственности, зашифрованности, неопределенности, многозначности и многомерности смысла, приобщения к некоторой глубине или высоте (одно другого не исключает). Это, соответственно, вызывает потребность в разгадывании, толковании и постепенном, восходящем разумении – как приобщении к тайне, которая (добавим мы) сама открывается навстречу (и обладает инициативой и приоритетом).
Гомбрих описывает этот опыт несколько отвлеченно, не скрывая снисходительного отношения, и скорее психологически, говоря о возникающем ощущении некоего впечатляющего и даже подавляющего воздействия, пробуждающего одновременно, особенно перед лицом очевидной учености и тем более художественности, желание соответствовать и отдаваться «соблазну»[261] подобной экзегезы, подражать ее технике, прилагая ее к произведениям искусства прошлого. Это выражение Гомбриха, кстати сказать, не совсем уместно в контексте разговора об Откровении, если только не понимать под «соблазном» его первичное, буквальное значение – «испытание». В данном, герменевтическом, случае – испытание нашей искусности в толковании, владения техникой дешифровки, что бы она ни значила…
Так, по причине нашей не полной, мягко говоря, компетентности в области трансцендентного, по мнению Гомбриха, и возникает представление о смысловых слоях и, главное, об их применимости к изобразительному искусству. Итак, Гомбрих, вполне справедливо, упоминая идею многослойной структуры смысла, касается сущностного признака иконологии, но делает это, по своему обыкновению, не просто приблизительно, не просто небрежно, а чересчур пренебрежительно, упуская по причине своей снисходительности кое-что принципиальное.
С самого начала Гомбрих заявляет, что ему не известен ни один текст, ни Средних веков, ни тем более ренессансный, где бы прямо обозначались намерения выстраивать изображение согласно четырехчастной экзегезе. Не упоминая соответствующее и крайне знаменитое письмо Данте, предполагая, что эта экзегетика касается только словесного текста, позволим себе некоторые возражения иного рода…
Во-первых, слои в иконологии – это не то же самое, что ступени экзегезы, хотя образ порядка толкования как порядка движения, несомненно, тот же. Основа тому – сама природа человеческого сознания, нуждающегося в последовательности, нарративности и дискурсивности, которые можно выстраивать как континуальность историчности, имеющей, соответственно, временную структуру, что подразумевает и пространственные импликации.
Во-вторых, Гомбрих еще не доказал, что единственное значение, с которым мы можем иметь дело, – значение интендированное и никакое иное. Хотя мысль, что надобно доказательство намерения применять четырехчастную схему, чтобы что-то интерпретировать согласно этой схеме, предполагает этот постулат как непреложную истину, более того – отдает каким-то уж слишком махровым априоризмом (это уже точно не одобрил бы друг Поппер). Это выглядит почти карикатурно и похоже скорее на издевку, хотя на самом деле Гомбрих предельно серьезен.
Он ссылается на Панофского и его идею так называемого облаченного символизма (мысль восходит к Варбургу с его «костюмным реализмом»), предполага ющего, что натуралистически изображенные вещи представляют собой своего рода оболочки, убедительное в своей реалистической достоверности облачение-одеяние для заключенного в них аллегорического смысла[262].
Гомбрих выражается вызывающе просто, говоря, что, конечно, изображения вещей содержат дополнительный смысл, он всего лишь отражается по ходу «рассказа», то есть изображения, обогащая основное содержание:
Такого рода символика способна действовать лишь в созвучии с тем, что я прежде обозначил преобладающим смыслом, намеренным смыслом или функцией образа. Если на картине не изображалось бы Благовещение, окна ничего бы такого не изображали и если бы колосья и виноград не помещались рядом с образом Мадонны, они никак бы не смогли превратиться в символ Евхаристии. И до и прежде символ работает как метафора, получающая свой дополнительный смысл лишь благодаря соприсутствующему контексту. Картина обладает не многими разными значениями, но всего лишь одним[263].
Вот такое рассуждение, которое по замыслу автора призвано похоронить всю иконологию со всеми ее авторами. Попробуем разобраться с этой то ли эпитафией, то ли с собственно уже надгробием…
Первое, что сразу бросается в глаза, – Гомбрих всетаки поминает много значений: это и традиционное символическое значение изображаемой вещи, и преобладающий смысл, это и несколько странное представление о превращении символа в метафору, и, наконец, значение самой картины. Но оно – лишь одно. Не получается ли, что это самое последнее значение не одно-единственное, а просто единое, интегрированное, финальное, все то же синтетическое, включающее все прочие как результат их взаимодействия? Вольно или невольно, Гомбрих упоминает и массу всевозможных процессов, связанных и с иллюстрированием экзегетических идей, и с «отражением» (?) значений предметов, фигурирующих в рассказе, и, самое главное, с функцией образа. Это все есть описание реальных механизмов, работающих внутри изображения как единого целого. И указание на изображение Благовещения как решающий смысловой момент – это совершенно в духе Панофского, предполагающего и типологию как обязательный предмет анализа, и собственно традицию тематизма как принципа корректуры (всякое изображение предмета – форма для символа). Проблема состоит в том, что типология («мотив» традиционной иконографии) предшествует не только интерпретации, но и созданию самого изображения: заказчик, исполнитель, автор программы – они все преднаходят тему, если и открывают ее, но в других идейных ресурсах, в иных культурных архивах, и ограничение интерпретации именно этими источниками и документами упраздняет сам смысл создания произведения как творческого, а не только репродуцирующего и иллюстрирующего акта[264].
Однозначное изображение как честное изображение
Что же не устраивает Гомбриха? Почему он объявляет несуществующими те самые вещи, которые только что сам же и упомянул? Объяснение может быть только одно: для Гомбриха множественность значений, их буквально множественное число означает разлад, неопределенность и двусмысленность. Кроме того, если понимать значение как атрибут или характеристику вещи (а не высказывания, что было бы вернее), то для живописного полотна, для картины, если она в единственном числе, таковое значение тоже может быть одно: уникальность творения – уникальность смысла…
Но проблема, как нам представляется, не совсем в этом: Гомбриху крайне важно показать правильный и, значит, единственно возможный способ обращения с художественной вещью, которая, как ему кажется, не может быть подсобным средством или поводом для аллегорически-экзегетических упражнений. Это видно из того, как именно он интерпретирует два толкования одной картины Леонардо из Лувра, где изображена Дева Мария с Младенцем на коленях св. Анны (1510). Одно из них принадлежит фра Пьетро да Новелларасу, указывающему, что фигура св. Анны может обозначать Церковь, не желающую скрывать Страсти (св. Анна изображается препятствующей Марии, которая в свою очередь пытается отстранить Младенца от ягненка, образа-намека будущей Жертвы). Второе толкование – поэтическое, это сонет, принадлежащий Джироламо Казио и представляющий собой воспроизведение воображаемого диалога между св. Анной и Марией – примерно на ту же тему («ты хочешь Его уберечь, но остерегись, ибо Жертву Небеса определили»).
Понятно, что первое толкование не устраивает Гомбриха по той причине, что он усматривает в нем «указующий на два значения перст»[265], тогда как в сонете всего лишь точно иллюстрируется идея пророческого дара св. Анны без всяких намеков на аллегорию.
Можно просто пожать плечами и лишний раз удивиться, насколько невзыскательным может быть искусствознание, пережившее свои лучшие годы где-то в 50–60-е годы, а сейчас в лице своего совсем даже не последнего представителя путающее св. Анну – мать Пресвятой Девы – и пророчицу Анну.
Важно заметить, что Гомбриха смущает именно указующий жест интерпретатора, хотя как раз это для того же Варбурга было прямым смыслом самой интерпретации – возможность именно осмысленной жестикуляции как точное воспроизведение способа обращения с материалом со стороны художника, вся деятельность которого – система смыслопорождающих жестов. Это и есть творческие акты, создающие не только формы, но и значения – причем именно в акте указания, особенно визуального (существует, строго говоря, лишь то, что можно увидеть, а увидеть можно лишь то, на что указано – хотя бы собственным взглядом, который именно брошен и в котором сияет мгновение ока).
Для Гомбриха же такого рода толкование слишком напоминает психоаналитические процедуры с их смешением причин и следствия, о которых Гомбрих считает возможным говорить в связи с творчеством:
…всякая человеческая деятельность, включающая и написание картин, представляет собой результат многочисленных, если не бесконечно многих взаимодействующих причин[266].
Оставим подобный детерминизм на теоретической совести Гомбриха, не делающего различий между физической вещью и эстетическим объектом, более того, использующего в своем смысле психоаналитическое понятие «сверхдетерминация». Он видит в ней всю совокупность причин и обстоятельств появления вещи, хотя на самом деле это невротический прием наделения чего-либо сверхзначением, защитная сверхоценка, предназначенная как раз для разоблачения.
Этот характерный для Гомбриха прием слегка саркастического перевода явления или проблемы из области реальности в область чисто ментальную чуть дальше дает такой сбой, который даже и оговоркой назвать затруднительно. Рассуждая о трудностях с выявлением подлинной интенциональности (на самом деле – замысла-устремления), Гомбрих утверждает, что намеренное значение – это даже не психологическая категория, ведь иначе компьютер не мог бы выдавать осмысленные фразы. Значение и символы, то есть знаковые системы, – это «категории исключительно общественных конвенций»[267]. Можем ли мы допустить, что Гомбрих настолько несведущ в кибернетике, что не подозревает о том, что компьютерные программы пишутся людьми, что есть акт психологический? Социальный символизм не исключает психику и психологию – просто это как иной уровень человеческого существования, реализующего себя уже медиально, то есть опосредованно-коммуникативно, инструментально-прагматически, где этика компенсируется не эстетикой, а техникой.
Но этого мало: обращаясь к толкованию Челлини собственного творения («солонка для Франциска I»), Гомбрих объясняет, что потребность в рационализации – естественное стремление человека и рассматривание художественного творения всегда сопровождается прибавочным значением, которое мы встраиваем в «выразительную структуру» произведения, тем самым «делая его живым».
Полутень неопределенного, «открытость» символа сущностно принадлежат каждому истинному произведению искусства[268].
Но историк призван смиряться перед доказуемым материалом и видеть невозможность различать, где элемент значимый, а где – нет. Поэтому столь важно всегда помнить, говорит Гомбрих, что искусство открыто навстречу интерпретаторским «затеям» post factum, так что в какой-то момент уже не понятно, где кончается «первоначальная интенция». Иначе говоря, подразумевается отбор материала по его содержательным характеристикам, что не может не выглядеть сомнительным и не может не вызывать обратную реакцию – методологически просто неизбежную.
Выглядят эти рассуждения на первый взгляд довольно приемлемо, если не обращать внимания на такое вопиющее заявление, что нечто – особенно элемент отношений, то есть структуры – может быть ничего не значащим. Тем более если речь идет о структуре, то это значит и подразумевает именно систему правил, собственно синтаксис. Это есть истинная и первоначальная интенция, которой, но вовсе не первоначальному значению, и должна соответствовать любая интерпретация. Мы должны именно соответствовать и воспроизводить отношения, наполняя их каждый раз значением. Ведь постулат самого Гомбриха о том, что именно мы придаем значение вещам, распространяется и на вещь художественную.
То есть для Гомбриха просто ничего не значат никакие значения за пределами того, что можно «извлечь» из произведения искусства. Вернее, приписать произведению искусства, извлекая значение из иных источников, более достоверных в силу своей документальности и именно – не художественности, то есть серьезности и буквальности. Обратим внимание, что мы имеем двойную дополнительность смысла: 1) смысла, дополняющего смысловое пустое множество самого произведения; 2) смысла самого акта дополнения – смысла, имеющего в виду пустое множество сознания историка. Совсем не сложно заметить, насколько мифологично и почти что магично выглядят эти мыслительные процедуры, только создающие видимость здравомыслия и иллюзию владения хотя бы собственным мыслительным и вообще психическим аппаратом, для которого почти всегда бессмысленность – стигма безумия.
Ритуалы понимания как магическая игра
Произведение, циркулирующее в научно-историческом дискурсе, таким образом, понимается как исторический источник-памятник, сознательно и целенаправленно отчуждаемый от любой актуальности как источника угроз для неизменности, постоянства и т. д. Но чтобы сохранить, как мы знаем, лучше всего – захоронить, погрести под риторическим курганом плоского здравомыслия. Так что замысел Гомбриха – показать неустранимость здравого смысла для науки, вынужденной всего лишь включаться в процесс «седементации» значения как неизбежной активности повседневного сознания.
Но важна не только эта законнически-заклинательная, регламентирующая и историзирующая «интенция» как таковая, а конкретный механизм ее осуществления. Для Гомбриха он тоже крайне конвенционален и сводится буквально к ссылке на правила жанра, на закон конвенции и норму договора, именуемого исторической наукой, что тоже не может не быть референцией. Получается, что вся концепция Гомбриха – это означающее-симптом, отсылка-индекс к мета-ситуации, где реальностью оказывается всего лишь акт говорения, регулируемый респектабельным этикетом, и где эйдосу и сакруму – не место не только потому, что это внутри науки неуместно, но и потому, что невместимо.
На самом деле позиция Гомбриха проясняется – отчасти, – когда он упоминает о ренессансной практике аллегорических построений (со ссылкой на Вазари). Из этих текстов, согласно Гомбриху, никак не следует одно: намеренное использование изображений (живописных или скульптурных) для передачи противоположных друг другу смыслов или столь же сознательное использование фигуры для разных событий (такова мысль самого Гомбриха). Можно любить сложноустроенную аллегорическую систему, тщательно ее моделировать текстуально, но когда речь идет о создании визуальных построений, никаких двусмысленностей быть не может: мы не можем в одном и том же месте видеть разные вещи. Таково непреложное мнение Гомбриха, выдающее в нем, как это ни покажется неожиданным, скрытого психоаналитика…
Двойной смысл должен присутствовать одновременно только в сознании, и потому двойной смысл – именно эквивалент двусмысленности, иллюзии, обмана, что тем более невыносимо, если учесть, что значение связано с актом «наделения образа смыслом». Именно это и есть значение изображения, и художник не имеет права, если он не невротик – подобно пациентке Фрейда, – делать одно, а думать и иметь в виду совсем противоположное, скрывая это посредством изображения, фантазируя и обманывая себя и окружающих, так сказать, камуфлируя Оно и конфабулируя Эго.
Хотя, говоря о наделении образа смыслом, Гомбрих фактически говорит только о дополнительном смысле, о смысле дополнения содержания образа посредством его (образа) использования в изображении.
И совсем все становится понятным, когда Гомбрих обращается к практике создания и использования иеро глифических эмблем-импрез – продукта ничем не связанной фантазии, свободно и не скованно себя ведущей – «как на каникулах», по выражению Гомбриха. Здесь, по его мнению, крайне важен момент уместности, понятый буквально: не везде можно себе позволять игру и потому не везде можно себе позволять толкование (строго говоря, всякое изображение – даже самое конвенциональное – содержит в себе подобную до-миметическую структуру, что может создавать и дополнительный слой смысла). С формальной точки зрения импреза, эмблема и вся прочая геральдика-идеограмматика замечательна своей близостью к письменному знаку, почти словам, с которыми можно поступать довольно свободно, комбинируя их и манипулируя ими, воспроизводя, собственно говоря, способ обращения, свойственный отчасти письменному тексту, отчасти орнаменту. Это как раз и обеспечивает игровую свободу, в том числе и в способе подачи материала, в наличии интриги, интереса, в потребности во внимании, а главное – в потребности воздействия, вовлечения, в том числе и посредством загадки, тайны.
Вся эта визуальная риторика – общее место ренессансной эстетики, а также неоплатонической мистики, осведомленной о тайном языке Божественного.
Как полагается для всякой игры, здесь также важны правила и следование им – но по ничем не стесненной собственной воле. И где есть тайна, там есть и ритуалы тайнописи, сокрытия и обнаружения тайного языка и ключа доступа.
Но для Гомбриха всего важнее не этот мир – вполне автономный – универсальной символики, а опять же правила жанра, то есть способа подачи изображения серьезного, где игра может показаться неуместной. Кстати говоря, признаки жанра – именно по месту изображения, так что фактически предполагается по умолчанию семантика пространства, определяющая ни много ни мало как ценностные характеристики изображения, что связано с тем, что пространство мыслится не просто как смысловое поле, но и как жизненная среда.
В любом случае концовка текста Гомбриха звучит совсем по-дидактически и одновременно двусмысленно, когда он указывает на «методическое правило», согласно которому «интерпретация должна продвигаться постепенно, шаг за шагом». Спрашивается, зачем было создавать столько воображаемых врагов и вдобавок именовать их иконологами, если есть намерение пользоваться именно иконологическим методом? Или Гомбрих не в курсе, что именно постулат постепенного и многоэтапного следования за смыслом, а не просто многозначность смысла есть иконология?
Эмблемы историзма как символы фальсификации
Невольно и симптоматично выглядит и прощальное увещевание Гомбриха:
…мы обязаны всякий раз требовать от иконологов после каждого их полета к небесам возвращаться на твердую почву и отчетливо нам объяснять, реконструированная ими столь усердно программа определяется ли первичными источниками или просто работами их коллег-иконологов[269].
При всей полушутливой снисходительности миролюбиво-мягкого тона мы вынуждены констатировать в данном случае целую гирлянду концептуальных и эпистемологических импрез-гротесков: 1. Проблема не только первичных, но и любых других источников в случае изобразительного искусства не сводится к обнаружению независимого источника информации об изучаемом объекте, так как художественная природа этого объекта, то есть произведения искусства, предполагает первичность его самого, в том числе и в качестве источника; 2. Никакая исходная программа не заменит конечной цели и тем более структуры произведения (даже если конечная цель – следование первоначальной программе); 3. Требование непременного первичного источника и игнорирование историографии (опыта коллег) – не научно и выдает, по крайней мере, логику обыденного сознания и повседневного, но никак не научного опыта (Гомбрих выражается в данном случае наигранно нарочито – как профан или как имитатор такового); 4. Наконец, упоминание твердой почвы выглядит почти зловеще в контексте опыта совсем иных коллег, хтонически чувствительных к зову земли, крови и расы.
Характерный магически-материнский эстетизм звучит и в более ранних текстах того же антиклассициста Й. Стжиговского, обвинявшего, между прочим, «американцев» с их небоскребами в безвкусице, в забвении того факта, что
есть еще природа и есть еще земля, избавляться от которой безнаказанно нельзя ‹…› в полной нечувствительности к гармонии[270].
Так что вопрос обращен отчасти и к самому Гомбриху: в каком случае уместны эти квазинаучные игры с символами историзма и эмблемами объективизма? Где та грань, что отделяет эпистемологическое требование фальсификации научного знания от индивидуальной потребности в иронии и популярности, то есть фактически в доступности (именно это так претило, напомним, Гомбриху-студенту в том же Стжиговском)?
Для Гомбриха значение – это то и только то, что осознанно имеется в виду применительно к тому или иному предмету. Наличие такого осознанного значения, выраженного в виде высказывания, – единственное условие продолжения разговора об этом значении: обсуждать можно только высказанное. Остальное – в области не обязательно невыразимого, но просто невыраженного, а потому не ставшего предметом и условием последующих высказываний. Итак, единственный смысл «значения» для Гомбриха – это содержание сознания, причастного в той или иной мере и форме к созданию художественного изображения.
Кроме того, скрыто у Гомбриха имеется в виду и тот постулат, что говорить можно только о таком значении, которое – при соблюдении вышеприведенного момента – дополнительно зафиксировано не просто письменно, но документально. Предполагается, что только такое значение достаточно конвенционально и институционально, чтобы быть единственным содержанием разговора о значении, выступать единственно прямым содержанием сообщения, адресованного от одного историка другому. Это как заполненный формуляр: не сама единица хранения внутри архива, а карточка каталога, элемент описи. Это и в самом деле нельзя ни поменять, ни заменить, не нарушив само предназначение этих кластерных образований…
Методически не принимается в расчет весь спектр иных измерений содержания, начиная со значения самого акта наделения образа содержанием, его материи. Этот момент выступает у Гомбриха совершенно по-гештальтистски фоновым содержанием по умолчанию, то есть тем самым «жанром», или модусом, или традицией, или контекстом, который задает правило чтения, совпадающее с правилами письма.
И тогда на этом фоне в других контекстах, не совпадающих с практиками научной коммуникации, можно вырисовывать иные фигуры, например снижая или смещая текстуальный жанр до уровня не художественной литературы, а просто документалистики. Или даже низводя до уровня карикатуры, которой Гомбрих так усердно и так психоаналитично занимался в сотрудничестве с Крисом[271].
Идолы идеализма и фетиши материализма
У Митчелла в его «Иконологии»[272] можно обнаружить неподражаемую в своей остроте и точности идею выведения из области эстетической в область сатирыкарикатуры или даже документа и самой истории как средства сохранения репрезентации. И совершает подобный акт всякая идеалистическая теория, понимающая искусство как репрезентацию «высшей природы», которую следует защищать от посягательств повседневной реальности.
И в «настоящей», не популярной и облегченной, иконологии на самом деле заложена скрытая феноменологическая угроза в адрес идеализма, ибо в ней есть тот реализм, который заставляет иконолога стать частью иконологии. Об этом мы уже упоминали вначале, и об этом же говорит Митчелл, подразумевая под иконологией именно практику говорения относительно образа – в ответ на его голос-логос[273].
И следует признать, что, хотя Гомбрих и сопротивляется (не называя, впрочем, имен) именно иконологии Панофского с его потенциальным втягиванием интерпретатора в ситуацию «сущностного смысла» и превращением из субъекта в объект интерпретации, тем не менее он следует сценарию того Панофского, который сам отчасти поддался соблазну доступности, в англоязычной версии своей иконологии заменив «смысл» на «значение». Гомбрих просто завершает начатое Панофским: рационалистическую фальсификацию Варбурга. Быть может, поэтому Митчелл сравнивает пару Панофский и Гомбрих с Ф. де Соссюром и Н. Хомским – в своем роде, конечно.
Впрочем, мы не должны забывать, что феноменологический реализм может проявляться и в эстетическом и теоретическом экспрессионизме, как замечает Митчелл, говоря, что как идеалистической, так и материалистической теориям репрезентации противостоит именно антирепрезентационный экспрессионизм, для которого образ не отсылает к некоторому другому предмету, а является оболочкой для сохранения чего-то такого, что по природе своей не может быть воспроизведено. Этим нематериальным может быть и Бог, и душа, и просто – что нам особенно интересно – «интенция автора». Подобное нельзя воспроизвести материально и наглядно, но можно репрезентировать текстуально, точнее говоря, воспроизвести ситуацию с ответом на тайный язык посредством «тайного кода», в который облекается, заключается непостижимое, нематериальное и т. д.
Это почти буквально воспроизводит ситуацию Гомбриха в том моменте, что для него сознательно не стоит проблема сверхценного отношения к интенции и к автору – они для него не суть священные сверхценности, хотя памятники он им возводит, заключая в ироничную тайнопись, в риторическую иероглифику историзма, сдобренного щепоткой евангелического иконоборства.
Так что возможен и обратный ход мыслей: Гомбрих просто использует мотив, тему, идеограмму «исторически интендированного значения», чтобы обернуть в него некий тайный фетиш, быть может, индивидуального происхождения и потому не подлежащий не то что репродукции, редукции и разоблачению, а просто рефлексии (согласно Митчеллу, антропологически фетишизм противостоит идолопоклонничеству, хотя в промежуточной области псевдосакральности обыденного существования одно питается другим). В любом случае это до боли напоминает ситуацию с костюмным реализмом или облаченным символизмом: жанровая оболочка риторического историзма и страх быть обманутым со стороны произведения, которое способно быть «невольным памятником» почти всему ценностному спектру человеческого существования (воле, памяти, творчеству)[274].
Укажем лишь на тайный, хотя и явный, смысл самого факта умолчания, то есть воздержания от простой констатации художественного целого, его сверхфизической, мета-материальной континуальности и, соответственно, потенциальной многомерности – в том числе и смысловой, за которой обнаруживает себя, например, целый мир эйдетической вариативности, когда перебирание возможных и невозможных смыслов – единственный путь к искомой, а не изначальной однозначности Простого.
И мы вновь вынуждены вспомнить архитектуру: это то самое пространство, где можно многое, главное, чтобы все было осмысленно, то есть соотносимо с иным, не исключая иное, не заменяя его собой, но соприсутствуя всего лишь как часть некоторого большего целого, данного синхронно. Можно сказать, что только на месте, то есть в пространстве, допустимо совладение со временем, в том числе в таком его обличье, как память, не загоняя ее ни в катакомбы, ни в крипты, ни в гробницы, ни в таблицы, ни в курганы, ни за кордоны, ни в прочие неуместные места.
Или хотя бы иметь место для символических инсценировок – познания и овладения истиной. Сколько на той или иной сцене может расположиться участников представления? Какие познавательные сценарии на ведущих ролях, кто статист, где располагается хор? И собственно говоря, какого жанра разыгрываемая пьеса, кто автор постановки и кого выбрали в критики-зрители? Драматические аналогии можно понимать буквально: это воистину драматично, если не трагично может выглядеть для той или иной традиции, так что комедийный жанр может показаться избавлением…
Криминалистика зрения и кулинария чтения
В конце своих заметок Гомбрих делает еще одну крайне важную и полезную оговорку – как всегда, полную остроумия и, как всегда, исходящую из повседневной жизни (то и другое, как мы знаем, имеет прямое отношение к бессознательному, а также – тоже, должно быть, бессознательно – к позднему Витгенштейну). Гомбрих сравнивает деятельность ученого с чтением, которое может быть и увлекательным, и не очень, чтением детективного романа и поваренной книги. Да, читать первый – дело более захватывающее, но только из второй мы можем выяснить, что десерт не подается перед супом. Конечно, иконология – очень затягивающее занятие, но некоторые обстоятельства требуют своего обязательного выяснения[275].
Но что заставило забыть о порядке подачи блюд? А точнее говоря, почему наука сравнивается с кулинарией или с трапезой? Похоже ли знание на питание? Оно всего лишь – пища для ума? В этом ли его польза?
И откуда образ детективной литературы? Несомненно, это общее место: поиск фактов и реконструкция событий – как сбор улик и восстановление места преступления, а использованию криминалистической метафоры применительно к искусству нас научили уже и Ломброзо (он еще до Фрейда связал творчество с помешательством), и Морелли (он подсказал Фрейду смысл детали). В этом смысле у Гомбриха – неплохая компания (к которой не трудно добавить бывшего врача, ставшего писателем, апологетом дедукции, а затем спиритом, – Конан Дойля, подарившего миру не только великого сыщика, но и очень странного ученого).
Открытие забытых или сокрытых фактов – это еще не наука, в нем есть знание, но нет познания. Пока мы не проясним смысл существования во времени, мы не сможем быть уверенными в науках гуманитарных, ведь забывчивость – еще не повод к поиску истины (сначала хорошо бы найти то, что потеряли, а не то, чем никогда не обладали). Поэтому так желательны некоторый заведомый порядок, правила, которым можно следовать и доверять, порой не задумываясь. Так делают, например, художники, следуя за тем или иным стилем, за которым может скрываться не только «форма», но и «норма», в том числе в форме «вкуса»[276], на физическом и феноменологическом уровне связанного, что бесконечно важно, с голосом и речью[277].
Но кто сказал, что Ренессанс не может следовать за Барокко? Только не книга, рассказывающая об основных понятиях истории искусства. Но кто сказал, что сладкое не может предшествовать горячему? Только книга, пусть и поваренная, но проверенная и потому достойная того, чтобы ей поверили и ей последовали ради приготовления пищи, питающей жизнь.
Дело в том, что сама жизнь зависит от иной Книги и иной Пищи – вкупе с иным Питием, которое мы хотя бы предвкушаем…
Гомбрих и Винд: ритуалы и мистерии в истории и жизни
И Венера покоряет своих интерпретаторов…
Эрнст ГомбрихМиф оживает в мистерии.
Эдгар ВиндОт патетики символа к экстатике программы
Итак, не только символы преследуют тех, кто обратил на них внимание, кто преодолел, казалось бы, а-патию повседневного и «естественного» существования, кто испытал весь патос обращения к трансцендентному и нуминозному. За всем этим стоит и патетика, и, главное, экстатика ритуала и мифа, требующего активного к себе отношения – втягивающего в свои игры и представления на той сцене, что именуется в лучшем случае историей. На этих подмостках и символ, и его интерпретатор – всего лишь актеры, а автор весьма сокрыт.
Попробуем предварительно взглянуть на один текст Эрнста Гомбриха, касающийся иконологии, с надеждой на возможную корректуру несколько недоуменного впечатления от Гомбриха, выступающего в роли критика-фальсификатора иконологии, ставшей идеологией.
Напомним, что таковым он предстает, по нашему мнению, в своем основополагающем тексте на эту тему. Мы имеем в виду его Предисловие к сборнику «Symbolic Images»[278]. Статья начинается с эпиграфа – знаменитой фразы Панофского:
Одна из общепризнанных опасностей, поджидающих иконологию, заключается в том, что она поведет себя не как этнология по отношению к этнографии, а как астрология – по отношению к астрографии.
Конечно, Панофский этим своим bon mot обозначает свои рационалистические притязания по отношению к мыслительному и жизненному наследию Варбурга, вовсе не чуждого буквальному восприятию всякого рода магизма. Но заметим, что тема предрекаемой от рождения судьбы звучит и в тексте Гомбриха, своим неумолимым отвержением (именно в этом позднем тексте) иконологии отчасти бессознательно сопротивляющегося всякой и тем более метафизической несвободе (пусть и предначертанной на метапсихическом уровне). Если он начал когда-то свое научное поприще всецело внутри иконологического проекта, воплощенного в Библиотеке Варбурга, то это не значит, что он не обладает правом обособления и отстранения, тем более что он ведет речь об уже переродившейся к концу 60-х годов иконологии, будучи и сам вовсе не безработным венским искусствоведом, еле спасшимся от нацизма, а директором этой самой библиотеки!..
В результате, как мы надеемся, станет понятно, что Гомбрих склонен защищать прежде всего человеческую личность, которая для него в первую очередь – чувствующая и переживающая, а уже потом – мыслящая и постигающая. И тогда в качестве фальсифицирующей силы будет выступать еще один иконолог, еще одна фигура из самого ближнего круга последователей Варбурга, первый ученик первейшего из учеников – Эдгар Винд[279].
Уже обсуждавшаяся здесь идея эпистемологического синтетизма впервые и, главное, программно (см. выше) воплощается Гомбрихом в статье 1945 г. о «Мифологиях Боттичелли…»[280].
Статья посвящена программе как единственно допустимому предмету исторической реконструкции и сама является программой. И, кстати, согласно Гомбриху, именно программа его эссе – предмет критики со стороны оппонентов[281]. Гомбрих безбоязненно приводит в своем «Предисловии как послесловии» к сборнику 1972 г. обширнейший список критиков своего текста, подчеркивая при этом, что он остается вполне удовлетворенным своим текстом, хотя и готов внести коррективы. Тем не менее этот откровенно почетный список стоит воспроизвести: в него входят и Андре Шастель, и Эрвин Панофский, и Эдгар Винд, и Вильгельм Хекшер, и Пьер Франкастель. Так что программно и переиздание – реинтерпретация и реинкарнация – статьи 40-х годов и идей тогдашнего Гомбриха: «программа», заложенная в произведении, – это и программа, и сценарий действий-реакций для пользователя-реципиента, и инструкция для исследователя-герменевта.
Но эта программа вместе с тем и инструмент, с одной стороны, решения философских проблем с помощью их визуализации («род философской диаграммы», помогающей в изучении божественной иероглифики), а с другой – пробуждения силы тех божеств, если не их самих, хотя бы «из почтения к их обличью и их влиянию». (Реальная мистериальность, казалось бы, банальной аллегорической персонификации, превращаемой в подлинную реинкарнацию древних сил, конечно, в контексте платонического способа мышления и поведения[282].)
Последнему аспекту символизма как средству теургии посвящено немало самых серьезных страниц и эссе «Icones symbolicae». Заметим сразу, что и здесь – в случае подобного неоплатонического реализма – Гомбрих видит сугубо методологические импликации (если это способ мышления, то почему бы ему не быть релевантным и в контексте историко-культурных исследований, тем более что любое исследование по истории идей не просто реконструирует, а буквально «ревайвализирует» эти идеи со всей их властью и силой). Все это – к вопросу о ценностных измерениях науки, никак не обходящейся если не без веры, то хотя бы не без уверенности…
Так что эссе содержит несколько программ. Первая программа заключается в одном немаловажном постулате: написание данного текста обусловлено сугубо методологическим замыслом. Суть этой методологии, вернее сказать, методологической стратегии заключается в обнаружении такого текста, который бы соответствовал изображению на жанровом уровне (вспомним уже упомянутого Хирша!). При том что под жанром понимается именно функция изображения, его модальность, которая способна выступать в качестве визуального эквивалента письму как таковому: как письмо – способ обращения со звуками и словами, так и изображение – это техника обращения со зрением и прочими человеческими практиками.
От физиогномического театра к дидактическому ритуалу
Отметим сразу, что момент и аспект письма как жеста, движения, экспрессивной и телесной динамики (варбургианская идея, не раз воспроизводимая Гомбрихом) имеет в живописи эквивалентом не только собственно процесс написания картины как наложения мазков (хотя это в высшей степени важно, так как воспроизводит темперамент). Этим эквивалентом оказывается уровень собственно изобразительный – та самая физиогномика, ради сугубой важности которой Гомбрих не гнушается упоминать и Людвига Клагеса, к идеям которого он, между прочим, обращался уже в своей докторской диссертации. Эта самая физиогномика, картина как эмоционально и интеллектуально интригующее зрелище, как истинный и буквальный spectaculum, постановка сродни театральной (тоже идея Варбурга). Вот что роднит, по мнению Гомбриха, живопись с литературой и что легитимирует или хотя бы оправдывает поиски текстов (но не источников), объясняющих содержание изображения не как простой иллюстрации или вдохновленной литературой поэзии, а именно как программ, то есть комплексов значений, имеющих характер ценностных моментов смысла (вокативно-риторическое значение «для», а не денотативно-нарративное «чего»).
И вот в этом случае жанр-функция, делающая текст эквивалентом изображения, а его, в свою очередь, аналогом текстуальности как таковой, оказывается типом текста вполне определенного сорта: это текст не философский, не поэтический, не богословский, а дидактический, имеющий прямое педагогическое предназначение. Дидактика же озабочена своей убедительностью и доходчивостью. Поэтому она есть и самая настоящая риторика. Имея такое, повторимся, предназначение, осознанный замысел как повод для составления текста, эта риторика и выступает как основание и условие программности. Это тот комплекс или система идей, что буквально программируют, говоря компьютерным языком, будущее изображение, вернее сказать, сам процесс, порядок и результат его составления.
Но речь идет не только о комплексе мыслей или идей: куда важнее – и в том числе для концепции Гомбриха, – что в этой программе (вспомним опять физиогномику[283]) обязательно должна быть заложена и эмоциональная, равно как и волевая, составляющая (эти тексты и эти образы воспитывают и воздействуют).
Вот каким признакам должна соответствовать текстуальная составляющая изображения. И в случае с Боттичелли такой текст, точнее сказать, такую программу (а также текст, легший в основание программы) можно отыскать.
Для этого достаточно обратиться к условиям и обстоятельствам создания картины. Они связаны не только с Боттичелли и его вероятным заказчиком Лоренцо ди Пьерфранческо (кузеном Лоренцо Великолепного) и не столько с наставником младшего Лоренцо – Марсилио Фичино, сколько с намерением последнего влиять на образ мыслей, чувств и намерений своего юного (15-летнего) ученика, которому не так-то просто было привить правильные мысли простыми отвлеченными наставлениями. Их следовало облечь в соответствующую форму, чтобы она была интересной и неудержимо привлекательной. Так появляются и рассуждения о Венере-нимфе – воплощении или персонификации добродетели, именуемой «гуманностью», и сама обнаженная и крайне интригующая фигура (вспомним иные рассуждения Гомбриха, указывающего на первичные, биологические и прямо эротические слои визуальной суггестии).
Именно это характерное выражение лица Венеры – амбивалентное и неуловимое, привлекательное в своей неопределенности – стало исходным моментом рассуждений Гомбриха. Может вызвать вопрос лишь частный характер этого мотива-детали – выражение лица. Но, если следовать постулатам экспрессивнотелесной эстетики, лицо включает в себя и являет собой всю экспрессивную пластику и динамику. На этом настаивает и Варбург, которому Гомбрих усердно отдает должное: мотив движения мотивирует, приводит в движение всю изобразительную структуру, причем и на формальном, и на семантическом уровне.
После этого найдены были и письма Фичино с соответствующим адресатом и соответствующими морально-астрологическими рассуждениями, и круг тех гуманистов, что участвовали в воспитании Лоренцо Малого, и, конечно же, тот текст, что стал основой, повторим и подчеркнем, именно дидактической программы, – Апулей и его описание Венеры.
Следует сразу сказать, что Апулей опять-таки не источник содержания гипотетической программы наставников юного Лоренцо ди Пьерфранческо и молодого Сандро Боттичелли, функция его текста сложнее и заключена в создании контекста – но не для программы, а для самого процесса инвенции и исполнения «текста», именуемого «Весной». Но это не только контекст, а нечто еще более существенное: это сам способ подачи, представления содержания. У этого текста – тот же модус.
Остановимся на этом моменте чуть подробнее: в нем, как нам кажется, ключ к самому Гомбриху и к его варианту иконологии… Описание Венеры у Апулея (напомним, что Фичино связывает именно это античное божество с небесной нимфой гуманности) построено как описание некоей сцены: перед глазами автора «Золотого осла» как будто рисовалась театральная постановка, впечатление от которой он и воспроизводит словесно. Перед глазами читателя возникает
диспозиция, облик и жесты фигур, которые не только способствуют визуализации, но вполне положительно отвечают за свою реконструкцию в живописи[284],
то есть представляют собой, повторим, именно экфрасис: текст литературный на самом деле вторичен – по отношению к античному изобразительному прообразу, и потому он напрямую может быть связан с изображением уже ренессансным.
К этому добавляется и средневековая традиция мифографии (описание Венеры у Альберика), которая давала ренессансным гуманистам мощный импульс для собственного творчества, предполагая потребность в поиске аутентичного и первичного текста, скрытого значения древних божеств, их подлинных имен и прочей эзотерической мудрости. И Апулей со своей «Платоникой» оказывался образцом и ориентиром, причем именно в ритуально-обрядовом ключе: античные божества были достойны поклонения – в античности, а их образы ныне – истолкования посредством «аллегорического прочтения»[285]. И как всякая аллегория такого рода, неоплатоническая и эзотерическая мифография пользовалась всем арсеналом экзегезы, понятой как дешифровка скрытого, завуалированного, не буквального смысла, прибегая к приему метафорического использования, то есть буквально – переноса образности, комбинации ее и сдвига в первую очередь в сферу морали. И в таком случае, например, «Геркулес на распутье» – это метафора нравственного выбора (три типа жизни), а выбор как суждение – это и «Суд Париса», для которого выбор Венеры – это выбор именно добродетели, явленной в красоте (момент созерцания здесь принципиален, и Парис предпочитает именно созерцательную жизнь, а не активную и тем более не жизнь по страстям и т. д.).
Гомбрих вполне допускает, что вся эта апулеевско-фичиновская нравственно-дидактическая и эзотерически-визуальная текстуальность была проиллюстрирована Боттичелли, но дело не только в этом. «Конечное следствие такой интерпретации», по словам Гомбриха[286], состоит в том, что
имелся юный созерцатель как таковой Лоренцо ди Пьерфранческо, на которого и была направлена картина и который в своем роде достраивал контекст; стоя перед картиной, он оказывался объектом воздействия (pleading) Венеры, с ним, как с Парисом, соотносился роковой выбор[287].
Это на самом деле «особая реальность поэзии и язычества», как выражается Гомбрих, напоминая одновременно, что ничего непривычного в самом эффекте «вовлечения наблюдателя в орбиту картины» нет. Это знакомая ренессансная sacra conversazione, к которой мы легко можем добавить позднесредневековый тип imago pietatis.
Здесь принципиальный момент в контексте варбургианских ориентиров Гомбриха: именно театр давал живость и, главное, актуальность впечатлений, так что «реализм» и завораживающая конкретность образов художников кватроченто – результат их именно театральной опытности-восприимчивости («насмотренности») и способности исполнить другим способом (мы бы сказали, в иных медиумах) разыгранную и рассмотренную постановку.
Все это в обязательном порядке именно игра, та самая перформативность, которая сродни всякому культу, ритуалу. Мы можем лишь усомниться в секулярном характере этой постановочной изобразительной практики (напомним, что еще Э. Маль возводил раннеготическую образность аж XII в. к практике сакральных действ: везде, где присутствует сценография, без театра не обойтись). Кажется несколько прямолинейным и связывание эффекта эмоциональной вовлеченности зрителя со сферой мирского опыта: на самом деле это именно то время, которое знало почти интимные формы благочестия. Да и внехристианское содержание этой образности, ее античный и языческий характер – не повод для отрицания сакрального, которое именно в мифологизированном убранстве достаточно благополучно ощущало себя и внутри христианского контекста.
Кроме того, именно в этом состоит заодно и эффект «миграции символов», и Венера в образе нимфы или, вернее сказать, нимфа, становящаяся у нас на глазах Венерой, – это просто крайний пример того типологизирующего эффекта, говоря о котором в своем эссе Гомбрих тоже не жалеет ни слов, ни мыслей.
Важнее всего не столько проследить факт превращения значения символа из одного в другое, сколько уяснить механизм, чем и занимается Гомбрих, обнаруживая в текстах Фичино специфический подход (approach) к самой практике толкования образов – как античных, так просто доставшихся по наследству. Они преимущественно мифологические, но также принадлежат и сугубо литературному жанру экфрасиса, а также – собственно риторическим текстам, предполагающим не только обязательную жестикуляцию, но и публику. А она, в свою очередь, что очень существенно, совмещает в себе и зрителя, и слушателя, и – отчасти – участника представления, спектакля, буквально зрелища, каковым является выступление оратора[288].
Принципиально то, что формы описания сюжета (то есть буквально «субъекта», действующего лица, «участника представления»), вообще способы, техники подачи литературного текста во всех этих случаях прямо воспроизводятся в изобразительной форме, которую можно назвать стилистикой, если иметь в виду характерологию формы, или визуальной поэтикой, если учитывать собственно творчество. Это и задает в первую очередь необходимое «взаимодействие образа и текста»[289].
Поэтому любые теории репрезентации должны учитывать практический аспект субъектности, то есть способы репрезентации участников этого представления во всех их ролях и модальностях, и прежде всего в аспекте ритуализации – игровой обрядности – этой изобразительности.
Иначе говоря, перед нами особая изобразительная ситуация: постановочно-перформативная, ритуально-театральная визуальность с четкими метафорически-экзегетическими функциями. Именно она, как точно замечает Гомбрих, задает и структуру значения, которое возникает внутри визуальной структуры (приписывается ей, соотносится с ней или выводится из нее). Но эта семантическая структура не может быть чем-то постоянным, устойчивым, неизменным именно по причине эффекта описанной визуальной структуры, когда образ функционирует в жесткой соотнесенности со зрителем, которому в самой картине соответствует Меркурий-Гермес. При этом зритель связан с образом, но выступает в качестве критика.
От граций и меркурия к субъекту и экзегету
Так что «экзегеза должна двигаться дальше»[290], причем не только в считывании скрытого смысла каждого персонажа или мотива (отдельная тема – «Три Грации»), но и в актуализации нереализованных смысловых ресурсов, обнаруживающих себя, например, в возможности идентификации всякого последующего зрителя с экзегетом-интерпретатором, которому – каждый раз заново и в новом контексте – предназначено толковать изображение.
В этом-то и состоит «программа» самого Гомбриха, для которого (как и для всего описываемого им мифографического мифотворчества) грации не случайно этимологически идентичны «благодати», то есть самому процессу нисхождения истины от Божества[291], что можно понимать и как собственно эманацию абсолютного начала, что позволяет толковать граций как три свойства идеальной красоты (согласно Варбургу).
Аналогии в методологии можно продолжить, имея в виду, что для Гомбриха интерпретация отдельно взятого творения – повод и стимул для истолкования уже самой научно-художественной дискурсивности. Недаром он обращает внимание, насколько для Фичино «просто было использовать тривиальный повод в качестве предтекста для развертывания эзотерической глубинности» в духе «орфических аркан». Так что, обращаясь вначале к Богу, он вскоре поддается воздействию и языческого божества, которое открывает ему тайны «небесного танца» в исполнении все тех же граций, которые подобны, конечно же, звездам, небесным телам. Их действия питают гений человека, а он, в свою очередь, вовсе не обязан быть последователем этих божеств, но способен разбираться в их присутствии и действии, понимая, например, что если первую грацию отождествляют с Юпитером, то это – не буквально, так как речь идет скорее о Меркурии как аспекте Юпитера, обеспечивающего поиск истины, заключенной в вещах, тогда как Солнце наделяет подобные человеческие инвенции ясностью и блеском.
Следует добавить также и проблему alter ego, возникающую, как известно, в случае, когда у двух разных людей оказываются идентичными небесные констелляции. Но в любом случае было бы принципиальной ошибкой все перечисленные астрологические образы, мотивы и субъекты прямо обнаруживать в картине Боттичелли, хотя соблазн весьма велик: почти все они налицо, хотя и заняты вещами, не вполне идентифицируемыми. Но этот перенос невозможен по той причине, что такого рода подход не соответствует отношению ко всем подобным темам самого Фичино:
…он вовсе не предполагает построения фиксированного значения, когда создает свой экзегетический фейерверк[292].
Для него важны именно «сдвиги и трансформации сигнификации согласно собственным намерениям (requirements)». Но одна из сигнификаций для нас принципиальна – эстетическая, когда именно грации обеспечивают привлекательность и красоту истины, и мы это чувствуем в той же музыке (комментарий Фичино на «Пир»).
Грации обеспечивают чувствительность к истине, и переход от этического значения к эстетическому становится возможным как раз потому, что наличествует единый и сквозной опыт восприимчивости, пусть и в разных сенсорных модальностях, вернее сказать, в разных режимах и условиях созерцания.
И оно – сродни чтению, которое сродни структуре самого языка. И если мы имеем дело с астрологическиоккультной неоплатонически-христианской экзегезой, то мы вынуждены признать (вслед за Гомбрихом), что речь идет об очень странном языке, в котором нет «фиксированного значения» и по этой причине нет своего словаря, а значение зависит от ситуации, и смысл употребляется согласно его «приемлемости»[293], то есть «слово» используется согласно его месту в позиции и в ситуации говорящего: интерпретация связана буквально с положением говорящего в соответствующем контексте.
Отсюда – существеннейшая переинтерпретация со стороны Фичино знаменитых четырех модусов экзегезы: они для него уже не уровни, ступени или степени измерения, аспекты единого смысла единого произведения, а варианты, просто типы значения, употребляемые согласно обстоятельствам, то есть месту, буквально ситуации. Более того: выбирать уместный в данных условиях тип значения – прерогатива интерпретатора, а его сознание и состояние этого сознания – решающий фактор. В примечании к этому месту у Фичино Гомбрих разворачивает свою собственную концепцию прямого и переносного значения, вернее, указывает на когнитивные трудности, подстерегающие тех, кто принимает восходящий к Аристотелю «эссенциализм» в понимании того, что есть значение (это традиция и Гуго Сен-Викторского, и Фомы Аквинского, и того же Поппера). Указание Гомбриха состоит в том, что присущий вещам реального мира множественный символизм (все вещи связаны друг с другом и друг друга подразумевают) по ходу интерпретации транскрибируется в «дискурсивный язык концептов», что заставляет лавировать между Сциллой фальсификации этого языка и Харибдой соблазна отдаться иррационализму символического способа мышления. Последний соблазн весьма тонок, так как речь идет о желании адаптироваться к бессознательному вместо его перевода на язык понятий[294]. Можно заметить, что опасности не столь страшны, чтобы поминать мифических чудовищ: скорее перед нами разные стратегии восприятия символизма и разные практики обращения с ним. Хотя понятно, что Гомбрих предпочитает рациональность как внятность и открытость смысла навстречу свободной коммуникации. Если говорить еще более строго, то можем допустить, что модальность значения соотносится с модальностью сенсорики вообще, которая, в свою очередь, – с модусами миропереживания (если не мироустроения).
Отсутствие устойчивого и конвенционального общеупотребительного языка – признак именно экзистенциального уровня интерпретации, где все открыто и свободно, где подвижность и произвольность смыслополагания – признак значимости, значительности и реальности экзегезы в качестве, быть может, воспроизведения-реконструкции или репродукции процесса смыслоисполнения: экзегеза как вторичная ноэза…
От аллегории толкования к удовольствию от апологии
Хотя, если следовать рассуждениям Гомбриха, специфика такого типа языка – в отсутствии фиксированных правил пользования, как это полагается в настоящем языке. Но если нет синтаксиса, то нет и подлинной семантики, нет и коммуникации (прагматики). Зато есть «правила примитивных ассоциаций»[295], восходящих к традиции средневековой экзегезы, которая, в свою очередь, – прямая наследница античной герменевтики.
Именно это затрудняет нам чтение таких текстов, составленных на таком языке, где есть узкая система значений, но нет, повторяем, столь же определенной системы пользования, нет «конвенционального посредника» между словарем (его тоже нет, кстати говоря) и ситуацией употребления. Поэтому так важен контекст, который может быть весьма разнообразным, и потому столь подвижны эти ассоциации, не связанные с прямым значением употребляемого термина. Этот контекст и задает значение того или иного высказывания в том или ином тексте. Гомбрих в этой связи весьма тонко замечает, что мифический, архаический и сакральный по сути своей символ выступает всего лишь как «резервуар» значения, а не в своей подлинно языковой функции – как средство коммуникации, ведь
фиксированная взаимосвязь между символом и референцией предполагает элемент рационального конвенционализма, который полностью отвергается таким способом мышления[296].
Для античного, средневекового и равным образом ренессансного аллегориста, носителя такого мышления, открывается лишь то значение, которое он желает открыть, и его усилия направлены на рационализацию события прочтения и истолкования символа уже post factum. Средство связи символа со своим устойчивым содержанием и соответствующими ассоциациями может быть вполне произвольным и окказиональным (звучание слов, цвет и проч.), то есть – игра как таковая, где смысл – в следовании игре с ее неожиданными пересечениями и констелляциями смысла. Это самое настоящее артистическое удовольствие, вызываемое и питаемое «неожиданными поворотами экзегетической изобретательности»[297]. Это можно оценивать как типичный архаический и, соответственно, «примитивный» синкретизм, но, ссылаясь на Хёйзингу[298], Гомбрих предпочитает видеть в этом типичное игровое поведение, когда
гуманистическая аллегория непрестанно мерцает между поиском орфических тайн, граничащих с примитивной магией, и софистическими причудами – на грани игры словами[299].
Гомбрих сравнивает эту деятельность с искусством музыкального исполнения, но мы можем заметить, что всякое чтение текста является его исполнением и читатель вправе быть не только декламатором, равно как зритель, у которого уже сам акт зрительного восприятия имеет активно структурирующий творческий механизм. Главное в подобной семантической ситуации – это момент совпадения техники толкования с «магической практикой» (типа астрологического предсказания), где «эффект, порождаемый знаком, можно постичь лишь путем симпатического взаимодействия с ним»[300]. Но ведь симпатия сродни и эмпатии, и вчувствованию, и самому пафосу как таковому. И «формулы» этого уже экзегетического пафоса – правила толкования в рамках уже иконологической экзегезы.
Но и этого мало. Гомбрих обращает внимание на самый общий подход к символу как таковому: он для тогдашней гуманистической мысли (в лице, например, Фичино) представлял собой «готовый материал для целей конструирования живописных пазлов», которые создавали своего рода «ауру» (вспомним Беньямина), предназначенную для посетителей Виллы Каредджо (на самом деле, как выяснилось уже позднее, не для нее…), готовых так или иначе использовать созерцаемые значения. Последние для них были, таким образом, начальным импульсом, стимулом для собственной смысловой игры.
Следующее наблюдение заслуживает особого обсуждения: эти символы не были предназначены для «перевода в концепции», они были самодостаточны именно как «ясно выраженные ключи», так что вся привлекательность такого рода игры заключалась именно в «определении качества подобной образности и в способе ее достижения»[301]. Поэтому характерная «текучесть» этого символизма, вернее сказать, присущего ему значения – именно то, что особо обсуждается Фичино. Для него древняя мифология может вовсе не удовлетворять современного (христианского) экзегета и за последним оставляется свобода компенсации значения, а также право и обязанность поиска или даже сотворения нового смысла – в рамках широко понятой «апологии» античности, ее перечитывания и перетолкования на новый и актуальный лад.
Блестящий пример такого осознанного подхода в случае с Фичино – это мотив сада Венеры, который можно истолковывать и как демоническое искушение, и как призыв к снисхождению, когда именно красота населяющих этот сад «символических созданий» – повод к их апологии, то есть буквально сдвиг значения с полюса негативного к полярности позитивного. Гомбрих чуть ли не приписывает самому Боттичелли (точнее сказать, он помещает в сознание художника) намерение совершить этот акт оправдания. А мы здесь вправе предположить, что и в голове Гомбриха была идея впустить в этот сад (чем типологически это не hortus conclusus?) не только мифические образы, но и более реальных (точнее сказать, по-иному реальных) персонажей. Ведь этот сад – типичный герменевтический топос, в котором можно пребывать и сугубо визуально, вернее, визуально-пространственно. Речь идет и о зрителе, который применительно к конкретной вилле и конкретному адресату этих изображений являет себя и как посетитель, и как обитатель, то есть имеющий права на всецелое отношение к изображению – в том числе и на его толкование. Понятно, что эта «экзегетическая роль» (напомним, что речь идет об игре) переносится и на всякого толкователя, и, позволим себе предположить, на всякое изображение, подвергаемое экзегезе.
Важна, скажем сразу, именно средовая топика, пространственно-ситуативная аура-подоплека, но не без всей типологической картины, о чем Гомбрих считает необходимым говорить подчеркнуто особым образом…
От языческого текста живописи к секулярному метатексту благочестия
Проблема типологии состоит в том, что мы вынуждены учитывать, что все обсуждаемые нами образы и их значения фактически принадлежат разным типам репрезентации: с одной стороны, литературные тексты, с другой – живописные изображения. Их эквивалентность и составляет типологическую проблему. Сразу заметим, что ее решение предположительно состоит в том, что мы можем найти общее основание для столь разнородных и гетерономных феноменов. И это основание – единый и универсальный способ представления и функционирования смысла, предполагающий в качестве своих аспектов равным образом и вербальные, и визуальные «тексты».
Этот метатекст для Гомбриха – идейная среда, а если выражаться точнее и в понятиях самого Гомбриха – это «исследование тех живописных понятий, в которых Боттичелли выражал идею»[302]. Итак, казалось бы, знакомый поворот мысли: это буквально переход на личности, выход на уровень мыслительных возможностей и ментальных состояний конкретного лица, то есть живого человека, о котором можно говорить «поживому», прямо рассуждая, например, обо всех мотивах светской и куртуазной культуры («сад и чертог любви», «фонтан юности», «Венера и ее дети», «осада замка любви», «цветущие луга и нежные девы»), которые «присутствуют в сознании Боттичелли»[303], знакомого, несомненно, с иконографической традицией украшения кассоне[304].
Но Гомбрих имеет в виду большее, и в этом его реальное концептуальное достижение и новаторство: он приписывает Боттичелли понимание всех этих мотивов не только «в немалом масштабе, но и на ином уровне». Этот уровень – иное употребление изобразительных мотивов: изображение Венеры нацелено на пробуждение того же воздействия на зрителя, что приписывается самой Венере, действующей на своих почитателей[305]. Зритель имеет возможность пережить, почувствовать (испытать) пафос и
порыв к религиозному энтузиазму, своего рода божественный furor, пробужденный именно красотой[306].
Неудивительно, говорит Гомбрих, что у Боттичелли возникло желание эту самую «небесную нимфу» визуализировать «по стандартам сакрального искусства».
Тут-то мы и подходим к типологии как таковой: ведь это, казалось бы, то ли божество, то ли демон, нимфа, вознесенная к небесам «божественной любовью», в соответствующем сознании оказывается «духовной сестрой»[307] не кого-нибудь, а самой Мадонны. Сходство между Венерой и Мадонной у Боттичелли признавалось многими, так что подобное может вызвать смущение у благочестивой души (и вызывало уже в то время: пример тому – знаменитый Жерсон). Но факт остается фактом: визуально-типологически – и потому со всей неизбежностью и семантически – античные грации сродни христианским блаженным душам, а сад Венеры – это прообраз самого Райского сада, чему соответствует просто стилистическое сходство соответствующих мотивов у Боттичелли и, например, Фра Анжелико.
Но было бы непростительной ошибкой видеть у Боттичелли «пастиш разнообразных типов сакрального искусства»[308]. Боттичелли творил свое произведение, двигаясь по направлению к подлинному «блаженному видению»[309]. Задумано его творение было в масштабе и на уровне подлинного священного искусства, откуда «происходят и то напряжение, и тот высокий пафос, что пронизывают эту работу»[310].
Казалось бы, здесь остается парадокс: античный мотив почти сознательно сакрализируется, вытесняя священное мирским. Отсюда и известный тезис о секулярности ренессансного искусства (вопрос, беспокоивший, как замечает Гомбрих, и Варбурга). На самом же деле использование античных изобразительных мотивов и придание им эстетического пафоса чего-то достойного подражания – это еще не секуляризм. И именно Боттичелли совершает важнейший переход в переживании античной изобразительной типологии: он насыщает подобные мотивы именно религиозным чувством. Более того, это чувство – именно благочестие, мотивы, им изображаемые, «становятся предметами поклонения»[311]. Такая сакрализация, добавим мы, фактически становится медиумом адаптации, рецепции, легитимизации языческого, которое в результате перестает быть таковым.
И если мы продолжаем развивать или толковать Гомбриха, самое существенное заключается в том, что подобная сакрализирующая деятельность предполагает художника-артиста не только в качестве зрителясозерцателя скрытого священного начала: если перед нами акт почитания (или даже поклонения), то, значит, художник – это и участник, а может, и совершитель такого рода акта благочестия, подобного почти буквального культа священной и блаженной красоты.
И далее: описав со всей тщательностью и верностью сам процесс сакрализации античного образного языка, Гомбрих намеревается преодолеть ложную, по его мнению, дилемму христианского и языческого. Он обнаруживает в реальной «трансмутации язычества посредством морального энтузиазма и экзегетических чар» не конечный вовсе эффект, а всего лишь симптом – причем «немалой значимости»[312].
Это вовсе не рождение секулярного искусства, которое вполне себе существовало и в Средние века, это
раскрытие навстречу секулярному искусству тех эмоциональных сфер, что до сих пор оставались в ведении религиозного культа[313].
Такого рода «трансляция» одной сферы в другую произведена была именно мыслью, то есть неоплатонической экзегезой, но результат оказался двусмысленным в том смысле, что сама-то мысль, выраженная в тексте, перестала быть определяющей инстанцией. Эмоции, весьма возвышенные и потому вполне приемлемые и почти самодостаточные («темы становятся эквивалентными религиозным персонажам»), да к тому же заключенные в визуальные образы, оказываются единственной реальностью изобразительного искусства, что ведет к весьма печальному обстоятельству:
…экзегетическое значение начинает бледнеть, образ возносится над текстом, Венера покоряет своих комментаторов[314].
Последняя метафора-дефиниция – весь Гомбрих в своем блестящем и безупречном остроумии: внешняя красота уже не нуждается в истолковании – настолько она выступает безусловной, несомненной, вызывающей доверие, да и просто – вызывающей.
Но не все столь наивны и легковерны, намекает Гомбрих. Историки начеку, не говоря об иконологах, помнящих о своем происхождении в качестве альтернативы как формальному искусствознанию, так и питающей его эстетике чистого зрения.
Иными словами, толкование предполагает локализацию толкователя внутри воспринимаемого им дискурса: как понимается символика, как переживается метафора, есть ли признаки воздействующего нарратива – от этого и от всего прочего зависит самоидентичность уже автора толкования. Он обязан осознавать, готов ли он отождествить себя с автором (или авторами) исходной семантики, продолжает ли он, наоборот, программу отчуждения, дистанцирования, ощущает ли он себя объектом воздействия или даже участником «представления» под названием «восприятие произведения». Он то ли вовлечен внутрь происходящего, то ли настигнут сюжетом изображения, вовне исходящего, но в любом случае предполагает и настаивает на исполнении толкователем той или иной роли – прописанной внутри дискурсивного сценария, или скрипта, говоря языком когнитологии (но тогда возникает и вопрос касательно фреймов, актуальных для каждой экзегетической ситуации).
В любом случае, как показывает и еще покажет текст Гомбриха, невозможно не то что дать окончательную экзегезу, но просто остановить ее, предложив однозначную референцию («на самом деле это значит то-то и то-то»). Символ – это всегда вызов и напряжение, а экзегеза – это всегда адресация и переадресация сообщения, что вводит в игру все новые и новые уровни и смысла, и реальности, и мира, всегда готовые принять новых обитателей, то есть новых толкователей. Тем более если исходная интенция – репрезентирующая (античная мифография на новый ренессансный лад) и вдобавок дидактическая, не признающая и не допускающая возможности быть неуслышанной и не достигшей эффекта воздействия.
От неоплатонического круга Фичино к иконологическому кружку Варбурга
Поэтому Гомбрих и вынужден продолжать изложение-рассказ о возможных смыслах сам – и мы имеем возможность проследить пределы его текстуального самоисчерпания, достигаемого перебором всех возможных вариантов историко-культурного толкования и концептуализирующего самокомментирования. Причем роль себе он выбирает знакомую и потому не вызывающую возражений: это идейный круг и творческая личность внутри него. Мы без труда убеждаемся, что речь идет не только о Боттичелли внутри флорентийской академии с ее неоплатонизмом в редакции Фичино, но и о самом Гомбрихе внутри иконологического кружка в редакции не Панофского, как это было на самом деле, а первоначальной версии Варбурга. Как мы убедимся, именно поэтому Гомбриху был столь любезен и интересен пафос Фичино, направленный на восстановление первичного смысла античной мифологии. С учетом всей тогдашней личной ситуации Гомбриха (мы сознательно и демонстративно совершаем над ним примерно те же операции и процедуры, что и он – над своим материалом) и воспользовавшись его собственным образом мы вправе сказать, что обсуждаемая нами программная во всех смыслах статья, посвященная Венере как покровительнице Граций и, стало быть, искусства, а значит, и науки или даже наук об искусстве, воистину есть программа всей предстоящей научной деятельности Гомбриха. А главная героиня его трудов не только покоряет своих комментаторов, но и покровительствует им, например подавая руку и наставляя их на правильный и праведный путь служения истине как согласию.
Нам остается только совершить еще один экзегетический акт, подражая в этом христианским и ренессансным неоплатоникам, переименовав античное божество или поименовав его в терминах христианской веры. Тем самым мы признаем, что, подобно тому, как родители Гомбриха обрели новую веру, обратившись в христианство, так и он сам сохранил ее, деликатно обращая вроде бы языческий и мифический материал в знание, достойное веры, которая, в свою очередь, достойна питать науку. Но мы опять забежали в наших рассуждениях и предвкушениях сильно вперед. Такого рода методологическая эсхатология, тем не менее, достойна подробного обоснования, чем мы и постараемся заняться.
Заметим, что Гомбрих не настаивает на буквальной реконструкции самой ситуации и обстоятельств создания картины, он только обращает внимание на единственно верифицируемый путь, то есть метод, такого рода штудий, где присутствует общая значимость двух типов текстов, предназначенных для конкретного лица и потому позволяющих себя реконструировать именно в качестве определенно выраженных намерений. Это те самые мотивации, которые всегда проявляются в том или ином действии, в данном случае – художественном. Наличие произведения искусства в этом случае – как раз свидетельство этих самых мотивов, установок и прочей, так сказать, предваряющей семантики. Произведение, таким образом, выступает в качестве документа, который следует уметь прочитывать под тем или иным углом, например «в свете неоплатонической образности».
Это и есть ценностное значение, сугубо отличное от значения-референции. Оно не отсылает к некоторой реальности вне текста, а созывает собраться вместе и читателя, и зрителя, и автора текста, и автора картины, и подопечного флорентийских неоплатоников, и заочного последователя гамбургского культуролога. Их всех объединяет одно общее значение, значимость и общеобязательность которого обусловлена его актуальностью, то есть его способностью действовать на всю полноту человеческого естества: и чувствующего, и думающего, и желающего. А также действующего, что как раз методологически принципиально – морально, то есть не просто оценивающе, но предписывающе – на уровне поведения.
Попросту говоря, перед нами попытка заменить или сместить внимание с экстенсионала на интенсионал изображения, и делается это посредством восстановления, так сказать, первичного остенсивного акта смыслополагания, когда предполагаемому пользователю-адресату не просто указывают на то, что он должен смотреть и на что реагировать. Ему буквально указывают на его место внутри визуально-пространственного контекста, вернее сказать, риторически-дидактической среды-поля, которая не только подчиняет его или хотя бы модифицирует его опыт, но и является средой его обитания (это пространство его виллы).
Даже если истолковывать подобное как игру, то мы, тем не менее, должны видеть, насколько серьезно Гомбрих берется интерпретировать всю эту ситуацию – не только во всеоружии тогдашней аналитической философии, но и руководствуясь именно желанием создать методологическую программу, годную не только для конкретного произведения (ведь эссе состоит из двух частей, и после изложения «программы» на примере Primavera следует часть «Академия Платона и искусство Боттичелли», где контекстуальность флорентийской неоплатонической академии обеспечивает и экзегезу (пусть и краткую) всех остальных вещей Боттичелли) и даже не для конкретного периода истории искусства, но для всей науки как таковой. Гомбрих на самом деле реконструирует или, правильнее сказать, моделирует ситуацию, где герменевтика не просто возможна или желательна, а неизбежна, так как всякий зритель перед картинами такой риторически-мифологической структуры оказывается втянутым, подчиненным и просто вписанным в ее отношения между элементами. Он сам – один из элементов!
Другой вопрос, насколько эта программа по душе самому Гомбриху и насколько он задумывается о средствах нейтрализации, предполагая совершить ее посредством перевода подобной семантики в область не просто семиотической игры (что уже неплохо), но прямой дидактики, обращенной уже к науке как таковой: он вводит инстанцию моральной оценки на уровне коммуникативных актов, из которых фактически и состоит любая наука.
Другими словами, важна включенность, вовлеченность, чувствительность и сочувствие – тот самый варбургианский пафос, который представляет собой и подразумевает под собой сострадание, причем и в самой конечной точке – на уровне интерпретатора, на уровне его состояний и возможностей, открытости и готовности нечто пережить и уловить, даже испытать в качестве болезненного опыта. Это случается всякий раз, когда речь идет о внутреннем изменении, открытости внешнему воздействию (или, вернее сказать, всему чужому, то есть новому, иному, неожиданному или нежелательному). Но это и есть интерпретация…
Хотя мы тут же задаемся вопросом: а что до всего этого заслуженному деятелю мирового (всемирного) искусствознания и директору Института Варбурга и Курто? Можно ли этого солидного автора заподозрить в безоглядном пафосе и в экзистенциальной зависимости? Строго говоря, каковы могут быть степени и ресурсы вовлеченности и как они зависят от актуального состояния интерпретатора, его субъективного статуса, его социальной роли и научной ангажированности? Есть ли нечто такое, что делает или неуязвимым для подобного (и, стало быть, «объективным»), или нечувствительным (и, получается, «научным»)?
Вопрос может показаться некорректным уже по той причине, что мы разбираем текст, написанный в совсем иных обстоятельствах. Тогда, пусть и на излете войны, все еще стоял вопрос о границах и пределах европейской цивилизации и мысль, будто возможно новое поколение с помощью наглядно-гениальных образов привести к высшей, богоподобной и непорочной человечности, еще казалась не утопичной. Во все эти воистину последние, то есть последовавшие, наступившие, времена бесконечно существенна была та мысль, что можно и в откровенно и вызывающе секулярном мире уповать на силу наглядного убеждения и на благую привлекательность земных форм, если они служат человечности и миролюбию, а самого человека возвышают.
Вернее, обстоятельства подвергаются известной модификации, когда текст предлагается в новой редакции и когда он предваряется новым началом, именуемым, впрочем, по-честному «предисловием как послесловием». Эта явная рамочная метаконструкция – еще один повод заподозрить иконологическую методу в тотальной герменевтике (границы разножанровой текстуальности практически упразднены уже в тот момент, когда Гомбрих добавляет новые примечания к старому тексту), а все искусствознание – в единственно возможном и верифицированном способе существования лишь в качестве обрамляющей инстанции по краям искусства как такового. Еще раз, однако, заметим, что наши подозрения отчасти дезавуируются благодаря осознанному и выдержанному от текста к тексту стилю Гомбриха, где со вкусом демонстрируемая самоирония камуфлирует последовательно, хотя и ненавязчиво реализуемую психоаналитическую терапию. Читатель принимает сформулированные диагнозы и прописанные пилюли практически с радостью и благодарностью…
Обращает на себя внимание одно замечание Гомбриха: не только религиозное искусство, но и искусство секулярное имеет право воплощать и воспроизводить искренние и подлинные эмоции, причем последнее делает это отчасти более убедительно и более непосредственно (на изобразительном уровне), избегая конвенциональности и символизма. Мы можем добавить, что, так сказать, не санкционированное извне чувство выглядит более достоверным просто в силу своей непосредственности.
От демифологизации ренессансного символизма к деритуализации иконологического платонизма
Это и демонстрирует текст Гомбриха, хотя некоторым его критикам показалось, что этого недостаточно. Мы имеем в виду Винда[315], про которого в первую очередь можно сказать, что это неоплатоническая реакция на аристотелевскую и семиотическую фальсификацию ренессансного неоплатонизма, произведенную – совершенно сознательно – Гомбрихом.
Винд указывает на реальность и актуальность именно мистериальной составляющей не только ренессансного неоплатонизма, но и всей религиозной традиции, восходящей к поздней античности (по крайней мере). По мнению Винда, стоит с большей серьезностью относиться к этому моменту, учитывая не просто роль ритуальных структур, но их определяющие функции в построении смысла: это не просто способы придания специфической значимости тем или иным мифологическим, магическим, идеологическим и прочим коннотациям или установкам, это механизмы реализации решающей связи подчинения, ибо эти обрядовые практики – культы, выстроенные на симпатических связях, то есть покорности и зависимости.
Этот аспект нуминозного якобы упускает Гомбрих, предпочитая интерпретацию в терминах секулярного гуманизма и этического либерализма, хотя наша мысль состоит в том, что он сознательно переводит разговор в данные контексты. Он имеет в виду не просто демифологизацию очевидно мистифицированного материала ренессансной мысли, но именно деритуализацию практик интерпретации, обнаруживая в самом неоплатоническом дискурсе личностные аспекты, удерживающие свободу персональности как раз благодаря эстетической дистанцированности, способности к творческой игре, к произволу ассоциаций и подвижности эмоциональной сферы, избегающей аффективной связанности и фрустрационной регрессии (исток историзма как поиска утраченной идентичности в структурах нарратива).
На самом деле может показаться, что Гомбрих чересчур налегает на этику, не замечая, что экзегетическая тактика того же Фичино направлена примерно на то же самое: он готов как угодно – буквально как в калейдоскопе (сравнение Гомбриха) – манипулировать символами и ассоциациями вокруг них (даже самыми банальными), отдаваясь этой комбинаторике ради сугубо морального эффекта, ради высокой и подлинно христианской дидактики. В этом он вовсе не далек от средневековой экзегезы, предпринимавшей подлинно титанические усилия, чтобы ввести, вовлечь в христианский контекст буквально все мироздание, от самых малых до самых великих уровней, уравнивая и увязывая все воедино благодаря сознательно исполняемой работе придания смысла.
Впрочем, мы не должны забывать и о внутренней подвижности смысла, характерной для всякой архаической образности, принципиально амбивалентной и предполагающей контаминации значения имманентно, одновременно стимулируя и последующие сугубо мифологизирующие усилия, связанные уже в античности с преодолением, если не с дезавуированием подлинно мифического, то есть непосредственно данного, по-другому говоря, теофанически нуминозного.
Антиплатонический пафос Гомбриха – вот его конкретная программа, реализуемая посредством семиотического номинализма, нейтрализующего опасность аффективного переживания архаически-языческой символики, то есть святая святых классического варбургианства! И именно в этом тексте он предпринимает первую попытку обоснования науки в качестве, так сказать, «открытого сообщества» в том смысле, что наука сродни всякой свободной коммуникативной активности, открытой к непреложной и постоянной изменчивости, обновлению и преодолению себя.
И потому столь важны для Гомбриха поиск и оценка tertium compartionis как буквально средства и посредника подобной коммуникации. Ему важна некоторая стабилизирующая, нормативно-регулирующая инстанция языкового типа, своего рода грамматика перехода или синтаксис транзитивности, который обеспечивает, в свою очередь, относительную стабильность двух (по крайней мере) инстанций: мира символов и мира образов, мифологии и визуальности, скажем так, мистагогии и репрезентации – то есть тех областей, где, как ему кажется, возможен и опасен субъективный или просто индивидуальный произвол, игра без правил. При том что всегда остается подозрение об истоках этой произвольности, немотивированности ассоциативной экзегезы, быть может питающейся всякого рода психологизмом и ассоциативизмом – теми вещами, что были для Гомбриха, воспитанного венским искусствознанием, малопонятны, малоприятны и мало приемлемы. И ведь именно этот анархизм символизма, с точки зрения Винда, как раз и представляет его сущностную черту как архаического феномена, то есть не знающего власти и начала – буквально анархического – хаоса примитивного существования…
Для Гомбриха подобные свойства символизма – не секрет, но он более склонен сомневаться в возможности эквивалентности свойств экзегезы и ее объекта. Хотя, добавим мы, как раз в случае с материалом, тем более текстом сакрального свойства, вопрос о границах субъекта и объекта толкования может оставаться открытым – в ситуации Откровения и с точки зрения его (Откровения) инициатора, и истока, и цели. И этот момент возвращает нас к проблеме ритуального измерения любых герменевтических усилий, практик и стратегий: толкователь может сам быть втянут или включен в процесс трансформации смысла. Или исключен: семантическая депривация, ситуация непонимания или отчуждения могут также переживаться как герменевтическая. У интерпретатора оказываются развязанными руки: он чувствует свободу, даже испытывая разочарование. Поэтому-то так часто и так настойчиво подчеркиваются секулярные черты ренессансной изобразительности. Кстати говоря, гипотеза ведь тоже предшествует своей верификации: она сродни интеллектуальному изобретению, которое только потом может найти свое применение (или не найти – в этом случае она приобретает особую ценность как нечто бесцельное и потому бесценное, как род чистой поэзии).
На самом деле возражения Винда выглядят скорее количественным, а быть может, и качественным уточнением, а не отрицанием позиции Гомбриха. Для последнего ритуал никуда не уходит, но занимает меньшее место и играет не столь решающую роль, исподволь перенося все игровые, театральные, зрелищные и вообще риторические моменты из области истории искусства как феноменальной реальности (искусство в своем темпоральном осуществлении) в область истории искусства как реальности научной (то же искусство, но в своей когнитивной реализации, например в виде научного дискурса). И здесь Гомбрих уделяет вполне должное внимание всякого рода ритуализму не без морального привкуса, причем весьма заметному, хотя и явленному в виде особых правил научного общения, которое, если мы не ошибаемся, сродни «идеальной коммуникации» Х. Патнэма. Здесь и там стоит вопрос не столько о правильности, правдоподобии и достоверности истины, сколько о приемлемости, символической взаимности при обмене знанием. Ведь иконология в своем герменевтическом аспекте – на своем третьем, собственно иконологическом уровне прочтения произведения – явно подразумевает реализм «внутреннего смысла», не без признаков трансцендентальности и экзистенциальности.
Итак, налицо метафоризм научной коммуникации, построенной на правилах взаимного уважения (в первую очередь!) и взаимной ответственности перед лицом не столько окончательного нахождения истины, сколько свободного выбора ее подобий, то есть научных гипотез, смысл которых, вернее сказать, предназначение которых – оставлять свободу другим, свободу критики и отвержения – ради новых гипотез и предположений. Действительно, налицо чисто метафорическая деятельность и явно символический процесс, оправдание и даже обоснование которого – именно в превосходстве ценностного аспекта над познавательным, аксиологии – над гносеологией. Ученый призван создавать, творить гипотезы – именно ради их оценки, приятия и отвержения. Совсем как художник, создающий метафоры ценности, дабы эти ценности явить и, как полагается, подвергнуть оценке. Если же, напомним, для Гомбриха истинное произведение искусства – предмет не столько познания, сколько переживания, а главное, оно есть именно некоторое достижение, некий результат, полученный теми или иными средствами (момент исполнительский, перформативный, а значит, и артистический превосходит, хотя и подразумевает момент информативный), то понятно, сколь важно для него это подобие между научной и художественной деятельностью. Основание, напомним, этой эквивалентности – общий метафорический характер этих двух видов деятельности, этих двух форм «поведенческой активности» человека, если пользоваться языком XIX в.
От художественной ценности к ценности манипуляции
Здесь стоит обратиться еще к одному тексту Гомбриха, прямо направленному на обсуждение вопросов и возможностей символизации, прежде всего визуальной, ценностей морального (в том числе или в первую очередь), религиозного, сакрального свойства. Речь идет о «Визуальных метафорах ценности в искусстве» из «Размышлений верхом на деревянном коне»[316]. Ценностный аспект возникает, когда совершается та или иная манипуляция с символами: то есть ценность – в пользовании по тем или иным соображениям (это и есть метафоры ценности)[317].
Гомбрих приписывает Юнгу то понимание символа, которое последний приписывает Фрейду, – то есть как фиксированное метафорическое значение, код которого содержится в той или иной культурной традиции[318]. Но на самом деле аналитическая психология обращает внимание именно на жизненный контекст образа, который только в своей трансцендентной функции способен стать символом.
Примечательно желание Гомбриха иметь дело с фиксированными кодами символизма, причем с кодами вещей и качеств (понятий, идей и т. д.), но не с самой психикой в ее динамике (он избегает аналитического подхода к психике, что есть родовая черта всех разновидностей «глубинной психологии», с большей точностью именуемой психологией «динамической»).
Важно для Гомбриха то, что повседневная жизнь и в том числе речевая практика дают пример переноса визуальных качеств в языковые (феномен синестезийного эффекта) и вообще пример тождества трансфера и метафоры (для психоанализа это, мягко говоря, не совсем так). Но это отождествление позволяет иметь дело с многочисленными взаимоэквивалентными сущностями, которые все обладают ценностным измерением или содержанием: биологические ценности (основа всех практик), экономические (универсальная матрица всех оценок как чего-то имеющего или не имеющего цену), социальные ценности (коммуникация), диагностические ценности. Отдельно – вопрос о независимости ценностей эстетических, которые не кажутся столь необходимыми, без них как-то можно обойтись при столь великом числе критериев[319].
Но оценке – в первую очередь моральной (хорошо/плохо) – подвергается практика, поэтому искусство как практика – уже моральная ценность![320] Поэтому и наша возможность и склонность, например, к историческому взгляду на столь достойное занятие – род интроспекции и самооценки: интересоваться искусством, тем более заниматься им – занятие достойное и благородное![321] Это применимо и к самому Гомбриху: занятие наукой об искусстве подразумевает достойное поведение. Это есть именно установка суждения и потому – всегда критика (чисто исторического знания не получается!)[322]. Очень показательно отношение самого Гомбриха к истории орнамента (на примере отношения к орнаменту – вся история искусства и все искусство как таковое). Любое искусство – оформление жизни. И вся эта система вкусовых ценностей как ценностей жизненных фигурирует в виде конкретных метафор (чистота, ясность, честность), если брать их языковое (текстуальное) оформление[323].
В свою очередь, метафора чистоты – это всегда независимость от человека, из чего возникает и образ машины (и всей гигиены, равно как и всех социальных коннотаций, которые как раз и дают самые чистые формы моральных измерений искусства, так как это вопрос поведения). К этому примыкают и всевозможные эмоциональные реакции (эмоция – всегда реакция на желательное/нежелательное), а значит, все установки[324].
Но в эмоциях и в поведении вообще очень существенна подвижность, переменчивость (сама природа человека), когда крайне важен именно переход-перенос с себя на окружение (метафора самоочищения). Хорошее поведение – «процесс цивилизации» (Н. Элиас). Так что возможна экспрессия не только чего-то положительного, но и как форма отрицания, сопротивления, пересмотра, где очень важен и сдвиг от «естественной экспрессии», связанной с естественными способностями человека (в первую очередь восприятие как таковое), к экспрессии внутренних состояний, которые могут быть и негативными в широком смысле слова[325].
Так возникает и проблема физиогномики как выражения внутреннего вовне, да и вообще письма, графики как выражения телесного жеста – эквивалента говорения (переход от heart к head). В терминах постфрейдистского психоанализа (Гомбрих – явный его сторонник[326]) речь идет об эго-контроле, где важны именно механизмы защиты сознания (не всякая экспрессия приемлема, так как психика может открываться и становиться незащищенной, подвергаться опасности, например, внешнего вторжения). Но здоровая психика осознает, что эго-контроль – это не просто компромиссы, но и неизбежные жертвы (все формы адаптации к внешнему и внутреннему, то есть ко всему, что переживается не своим, чужим и т. д.). Отсюда и идея (например, Китса), что только правда (честность как искренность) и есть подлинная красота, так как подразумевает экстатику, самозабвение, преодоление эго-центризма, что выражается именно в правильном, приемлемом выражении своего и чужого[327].
Но как эта правда проникает в человека, даже и через поэзию, если нет прямой связи между чувством и его выражением, если и здесь – метафоры и символы?[328] Всегда важно различать экспрессию как опосредованную практику применения символов (до романтизма), когда обозначаются те или иные эмоции, и собственно романтическую установку на прямое их выражение. Но это уже будут не символы, а симптомы, и мы вынуждены в этой связи опять вспоминать сознание, которое предпочитает эмоции контролировать. Не будет ли художественная практика использования символов внутри стилистической традиции одной из форм контроля?[329]
В любом случае мы должны различать правду экспрессии (искренность/притворство самовыражения) и правду коммуникации (сознательное/бессознательное воздействие на зрителя или взаимодействие с собственным творчеством или творением)[330].
Кроме того, ни символы, ни тем более симптомы нельзя рассматривать изолированно ни друг от друга, ни от контекста или ситуации: и это тоже эквивалент моральных ценностей, когда устанавливаются и поддерживаются на должном уровне связь и отношения, когда они имеют определенное качество (например, взаимности). Но при этом, согласно Гомбриху, существует «синестезия ценностей», которая касается именно символов и их использования (но не симптомов, которые здоровое эго должно защищать от внешнего воздействия – впрочем, эта мысль требует детализированного комментария). В этой связи вводится в разговор важная идея: морально-этической оценке можно подвергать только практику использования символов, но никак не симптоматику (ср. в связи с иконологией и последним ее уровнем, где именно все серьезно и «понастоящему», чего Гомбрих, напомним, не может себе позволить в контексте науки как формы обращения со знанием, но не с сознанием, не с живой душой)[331].
В связи с этим понятно отношение Гомбриха к современному искусству как возможной форме защиты от навязчивой экспрессии (художники вынуждены порой прятаться за неизобразительными символами, спасаясь от требований вкуса и публики). Это уже не физиогномика, а патографика, что можно понять и отчасти принять, так как изобразительное (и не только) искусство не должно быть ничем иным, кроме как символической экспрессией. Такова его природа, с точки зрения Гомбриха, и пересекать его границы – значит отрицать искусство, сливая его с чем-то иным, пусть и с жизнью, растворяя его в ней.
Конечные формулировки Гомбриха – пример лучшей моралистики в области науки и искусства: все символы и симптомы скрывают главную метафору, которой является человек в своей сокровенной цельности и ценности, в личностном единстве, тогда как коды и шифры культуры могут и призваны меняться. Главное – не посягать на всецелую личность[332]. Видимо, перед нами сама суть эпистемологической веры Гомбриха, склонного и способного различать и разводить в стороны вещи условные и безусловные…
И тем более парадоксально, что при всем своем крайне нетерпимом тоне по отношению к Гомбриху Винд говорит совершенно о том же, указывая, что Фичино был в первую очередь поэтом, слух которого настроен на восприятие скорее такой же поэзии, звучащей речи, чем, например, музыки, что мешает ему быть вдохновителем другого поэта – но уже живописца[333].
Поэтика иконологического дискурса заставляет одного поэта-искусствоведа возмущать и тем самым тоже вдохновлять – от обратного – другого поэта и тоже искусствоведа. Программа Гомбриха, вдохновленного Поппером (для него это такой же отчасти мифологизированный Платон, какой был у Фичино), заставляет Винда фальсифицировать Гомбриха, но делает он это в дидактическом тоне, не называя своего «Платона», каковым для него мог быть Ч. Пирс (ему посвящена докторская монография Винда, написанная под руководством Э. Кассирера).
От поэтической теологии к ноэтической иконологии
Итак, как существует (вернее, существовала – текст не сохранился или существовал лишь в замысле) «Поэтическая теология» Пико делла Мирандолы, так налицо и «поэтическая иконология», где поэты-историки ревниво прислушиваются друг к другу и декламируют свои творения, не замечая порой, что у них есть и общий источник вдохновения – например, живопись, предполагающая и «оптическую теологию», если выражаться по созвучию, то есть поэтически.
При том что мы совершенно не касаемся такой темы, которая является для той же эпохи, в которую появилась первая «Иконология», ее несомненным практическим эквивалентом. Мы имеем в виду так называемую естественную магию с ее ответвлением, именуемым «оптической магией», в которой исток и корни всей последующей судьбы визуальной культуры Нового времени[334].
Но если позволить себе полную и совсем прозаическую серьезность, то следует признать, что такого рода достоверность знанию придает даже не жанр текста, а тип текстуальности. Это есть рассказ-повествование, доверенное иному положению дел, ставшее достоверным и ценностным, ибо его оценили как важное и доверили как нужное, им поделились, его уступили, не отступаясь от него, придерживаясь как важного, необходимого, неизбежного и неустранимого, касающегося самых глубин существования адресата и понуждающего его отвечать, вступать в общение, обретать общность и взаимность, подлинность свершившегося, принимать контингентность даже не в вынужденной солидарности, а в свободной симпатии. Хотя и не без иронии, а порой и не без горечи.
В любом случае на примере Винда видно, как важно различать оттенки ритуалов: ведь Гомбрих – это скорее ритуалы инициации, тогда как его оппонент – несомненно, мистагог иного обряда, связанного больше с очищением…
Гомбрих, Хофманн: наука и Аккерман как репрезентация ответственности и условности
В Англии я научился слегка втягивать щупальца.
Эрнст ГомбрихИмпульсы, исходящие от венской школы искусствознания, – так или иначе – расширили пространство опыта, именуемого «искусством», благодаря многочисленным актам «перехода границ», и тем самым соприкоснулись с немалым числом событий в искусстве нашего столетия, что оправдывает историков искусства и художников как защитников границ и их нарушителей.
Вернер ХофманнИсключительно на основании нашего собственного восприятия объектов мы не в состоянии ничто из наших ответных реакций на них обозначать как «объективные». Однако в процессе производства утверждений по поводу наших ответных реакций мы выделяем в качестве «объективных» те из них, относительно которых мы верим, что они соотносятся с опытом других людей, обеспечивая понимание наших установок-обстоятельств и имея дело с релевантной информацией.
Джеймс АккерманИстория искусства: практика извлечения знания
Итак, пролистывая наш лексикон идей, бывших в ходу у Гомбриха и не только у него, мы дошли до вещей уже совсем универсальных и фундаментальных, фактически начальных, первичных и потому архаических. И потому-то совсем не случайно нас обступили не только ассоциации с обрядами инициации, но и исконные символы начала и рождения (не обязательно героя – хотя бы эпистемы).
Так что вернемся ближе к началу, дабы убедиться, что всякого рода «введения» и «предисловия» – это сама суть научной и не только деятельности Гомбриха, который вводил в поле зрения, в оборот и в обиход науки всякого рода идеи, теории, мнения и положения, находясь всегда на границе, на пороге, у врат и на страже. Но в том-то и проблема, что он вовсе не один исполнитель этой жреческой или хотя бы левитской роли: компанию в этой инсценировке ему составляют многие и многие. Мы выбираем только тех, кто действовал почти синхронно. Это – Вернер Хофманн и Джеймс Аккерман.
Вспомним тексты из «Атлантической книги по искусству». Еще раз обратим внимание, что в историческом контексте перед нами в некотором роде все тот же «атлантический альянс», но с задачами защиты скорее гуманитарных и концептуальных ценностей, вернее сказать – их возобновления. Как это ни прискорбно, но руины тем и хороши, что обнажают порой фундамент… Подобные фундаментальные ценности историко-художественной теории и описывает Гомбрих в этих, подчеркнем, немецкоязычных заметках[335].
Начинает он, естественно, с дефиниций. И весь последующий и неизменный Гомбрих уже виден в определении того, что есть искусствознание: это практика использования искусства не для удовольствия, например, и не для воспитания, не для каких-либо иных почтенных целей, а для дела вполне конкретного – получения от него (искусства) знания, прежде всего исторического и культурного.
Под искусствознанием начиная с конца XIX века понимают всякое обхождение с искусством прошлого и настоящего, нацеленное на познание[336].
То есть искусствознание – это не просто знание того, что есть искусство, а знание того обстоятельства, что из искусства можно извлекать знание. Это на самом деле довольно радикальная философия, вернее сказать, идеология науки, ставящая ее (науку) в очень четкие и весьма узкие рамки, выход за пределы которых – выход за пределы науки как таковой, что не лишает сам выход значимости и значительности, а значит, и возможности или даже необходимости при известных обстоятельствах.
И уж тем более не лишает значения и смысла само искусство, а в чем-то даже и прибавляет ему того и другого. (Вспомним, с какой иронией отзывается Гомбрих о намерениях венских историков искусства рубежа веков придать истории искусства характер науки: именно доля ненаучности, возможность и способность не быть наукой спасает этот род интеллектуальной деятельности от роковых ошибок, главная из которых – превратиться в альтернативу своему предмету[337].)
Поэтому такого рода «асимметричная» научность истории искусства заключается в использовании произведения искусства как источника – в первую очередь исторического, который, однако, не существует без сопровождения источников более традиционных, а именно литературных (это и есть главный методологический завет Юлиуса фон Шлоссера – но в исполнении Гомбриха как его самого верного или самого последовательного ученика). Хотя и здесь Гомбрих проявляет известную и важную тонкость и точность мысли: литература – тоже искусство, только словесное, и ему вменяется в обязанность поддерживать искусство изобразительное.
Кроме того, в этом обстоятельстве заключена просто методологическая необходимость: использование одного искусства в качестве инструмента понимания (если не объяснения) другого снимает проблему разнородности (так называемой гетерономности) предмета и средства познания (мы видим глазами, а объяснять пытаемся разумом, что не может не вызвать сомнений и попыток найти посредника в лице или психологии, из чего получается психологизм, или языка, из чего возникает структурализм[338]).
Впрочем, в своем следующем тексте из того же сборника (уже из названия которого – «Литература по искусству» – понятно, что это продолжение дела Шлоссера) Гомбрих уточняет, что литература, то есть тексты по искусству, имеющие признаки изящной словесности (вообще – находящиеся вне научно осознанной традиции), – это именно тексты ненаучные, к которым можно причислять не только старые источники, то есть тексты еще донаучные, но и тексты современные, но уже выходящие за пределы науки хотя бы по своей подчеркнутой субъективности. И отрицание этой субъективности – вовсе не добродетель: за ним стоит, как подчеркивает Гомбрих, позитивистский идеал внеценностного знания[339].
То, что остается науке, – это именно прямое и осознанное обращение с произведением искусства как всего лишь с источником исторического знания, то есть как с памятником. Связанность искусствознания с исторической наукой и зависимость от нее только и обеспечивает ему подобие научности, хотя следует различать выявление сугубо исторических сведений от сведений, касающихся смысла самого произведения. В любом случае так называемое знаточество (произведение искусства для него – источник именно исторических сведений) не должно претендовать на научность хотя бы по причине присутствия в этой практике многочисленных элементов интуитивизма («Я не буду, – замечает Гомбрих вслед за Фридлендером, – считать строго научным деянием узнавание мной по телефону знакомого голоса собеседника – а ведь в этом-то и заключается сама суть атрибуции: я узнаю в новом уже знакомое»).
История искусства – не объясняющая наука
Важно – и это действительно важная идея Гомбриха – не претендовать на объяснение с помощью несомненных истин и всего лишь гипотез, а осознавать, что это гипотезы и не более того (хотя и не менее)[340]. Даже все современные естественно-научные методы (рентген, облучение, химический анализ) всего лишь «затрудняют труд изготовителей подделок», но не приближают «историко-филологические изыскания» к идеалу точного знания, так как все несомненные достижения такого рода – это всего лишь накопление сведений, тогда как претензия именно научного знания – «объяснение и толкование»[341], иначе говоря – прирост знания, а не его реконструкция по причине забвения (вся проблематика историзма – уже здесь, хотя за этим, конечно же, стоят идеи Поппера).
Очень важный акцент, который делает Гомбрих, – указание, что для искусствознания вопрос «объяснения и толкования» довольно рано определился как проблема «стиля», за которым присутствует проблематика исторического развития, проблематика определения того, что и по какой причине в искусстве может претерпевать последовательное и целенаправленное (и потому значимое, что-то означающее) изменение. Вопрос о причинах, факторах развития существенен для искусства и крайне важен для искусствознания, так как от того, чтó мы примем (если примем) за причины исторического существования искусства, будет зависеть то, чтó мы будем иметь в качестве предмета нашего изучения и содержания нашего знания. Говоря просто, если – вслед за Гегелем – мы допустим самообнаружение абсолютного духа, являющего себя, например, в «духе времени», за основание истории искусства, то мы останемся без этого искусства (линия, венчаемая фигурой Шнаазе). Если же – вслед за немецкой эстетикой «чистого зрения», вслед за Фишером, Фидлером и фон Гильдебрандом – мы допускаем автономное, имманентное развитие искусства, то мы остаемся без истории (Гомбрих явно помнит уроки Шлоссера, хотя и останавливается – крайне подробно – на Ригле и Вельфлине).
Почти неразрешимая проблема состоит в том, что если художественность принять за критерий истинности в искусстве, то за бортом останется не только море массовой изобразительной продукции (изобразительность на уровне языковой деятельности), но и сама история, так как художественное – синоним уникального, неповторимого и индивидуального, не сводимого ни к чему за своими границами. В этом весь крочеанец Шлоссер, и в этом вся проблема Гомбриха, пытавшегося так или иначе разрешить этот когнитивный парадокс.
Делает он это трояким способом. С одной стороны, он указывает на мощную реакцию на формализм со стороны ученых, прямо ориентированных не на историю искусства, а на историю культуры (Гомбрих связывает здесь воедино – весьма смело – и Дворжака, и Стжиговского, и Варбурга). Точнее говоря, это есть история практик обращения с искусством, использования его как готового продукта, предназначенного для последующего функционирования в иных «средах» и иных контекстах, а не история его практик, не история творчества, что начиная с XVIII в. составляло основу понимания сущности искусства[342]. С другой стороны, Гомбрих замечает, что культурно-историческая традиция – это не просто порождение позитивизма, но прямое смещение интереса в сторону социальной и психологической «среды», определяющей позицию заказчика, а не художника (главное положение, по мнению Гомбриха, у Варбурга)[343]. Это опять-таки уже не может быть наукой об искусстве. С третьей же стороны (быть может, это самое существенное в идее Гомбриха касательно искусствознания), рождение и развитие иконологии – главный и, так сказать, институциональный симптом «самораспада» искусствознания как «самостоятельной дисциплины», владеющей «собственным методом».
Мысль подхватывается в схожем по жанру тексте В. Хофманна[344]. Он указывает, что иконология (для него она есть крайнее и окончательное развитие иконографического подхода) рассматривает произведение искусства как документ, источник информации, сближаясь тем самым, как это ни парадоксально, с формальным анализом – точно так же претендующим на внеценностное, то есть, по сути, безоценочное, отношение к искусству.
Иконология: самораспад истории искусства
Тем не менее главное, что иконология – порождение не университетского образования, а частной инициативы вне университетских стен и, значит, вне предметно-факультетской специализации, обеспечивающей и поддерживающей специфику и предмета, и метода, и, соответственно, знания. Тот же Лютцеллер выразил это вполне удачно, заметив об иконографии, что она «универсальна, но не университетна»[345]. Его же понимание иконологии – прямо противоположно Гомбриху и ориентировано на Панофского: это именно наука, твердо альтернативная иконографии и обращенная на познание символизма творческих актов, коренящихся в глубинах творческой личности, которая может персонифицироваться как в лице художника – автора произведения, так и в лице не менее творческой, хотя и иной личности.
Ею может и должен быть толкователь, интерпретирующий произведение, обращаясь к собственному опыту не как к источнику знания, а как к средству его обретения… Гомбрих, заметим это уже здесь, старается быть ближе к Варбургу: средство познания остается традиционным – историко-филологическим, меняется предмет – психология и социология мышления и поведения как художника, так и его заказчика. Историк искусства – тоже носитель психологии и субъект поведения, но его результаты – это его творения, его тексты, а не собственно произведения искусства, над которыми он не имеет прав собственности перед лицом, позволим себе так выразиться, авторской смертности (что есть святая святых историзма, его неприкасаемая и недосягаемая реликвия – источник блаженства и предмет поклонения).
И дело не столько в том, что смещается интерес с формы на семантику (форма вполне способна быть значащей и означающей – Гомбрих сознательно вспоминает английский формализм)[346], сколько в том, что произведение искусства перестает быть прямым источником знания, как это полагается для истории искусства: мы не можем задокументировать и, выражаясь языком венского неопозитивизма, запротоколировать наше знание ссылкой на произведение искусства.
Историк искусства должен задавать вопросы только произведениям искусства, ждать ответа только от них, полагаясь при этом на специфическую методологию искусствознания. Именно она определяет, какие вопросы можно задавать и какая предполагается мера ответственности для исследователя, готового не только использовать те или иные методы, не только подвергать проверке все случаи их применения, но и нести за них собственную ответственность, которая может и должна быть моральной.
Ведь речь для Гомбриха идет не об истине, а о правде – о сознательном выборе заведомой гипотезы-позиции и об осознании ответственности за выбор[347]. Другими словами, ответственность – как возможность и потребность, необходимость и обязанность ответствовать и соответствовать, отвечать и нести ответ – не молчать и не уходить от ответа (а в том числе и слышать ответ).
Что же тогда остается, если история искусства – сугубо логически – ограничена узкими рамками историзма? Остается практически все самое интересное, хотя и не самое научное: остается практика словесного сопровождения, обхождения и обоснования искусства, за которой стоят сугубо ценностные ориентиры и установки. Именно об этом – второй в сборнике текст Гомбриха, прямое продолжение первого.
Правда истории искусства: ответственность скромных вопросов
Итак, для Гомбриха важны два момента, внутри которых заключена вся история литературы по искусству. Один из них – обилие текстов, не претендующих на простое знание, им не ограничивающих себя, но четко подразумевающих оценку. Это посягательство на оценочное суждение, по мысли Гомбриха, и делает соответствующие тексты отнюдь не научными, хотя и не лишенными познавательной ценности. Прежние эпохи просто не знали нашего понимания «искусства» и видели в нем способность и готовность что-либо сделать. Вспомним заключение предыдущего текста, где говорится об обязательной готовности историка искусства отвечать за свои гипотезы. Только так мы поймем вторую главную мысль данного текста: дело не только в том, что существуют тексты оценочные, и не в том, что ученый историк искусства не должен выносить приговор уже потому, что он сам, так сказать, находится под непрестанным подозрением во вне-верификации. Дело в том, что можно заниматься искусством – вполне в духе того, кто его порождает; это все та же готовность пройти проверку и ответить достойно на процедуру верификации – через практику версификации: историк должен именно технически, по-художественному быть готовым дать отчет, что он думает по поводу искусства.
Историк должен быть готовым оставить всякую науку ради обретения подобия, сходства или даже идентичности своей деятельности изучаемому материалу. Что и демонстрируют поэты современности, упоминае мые Гомбрихом в конце этого обзора литературы по искусству: они – Валери, Аполлинер, Жид, Бретон – оказываются «ответчиками» за современных художников. Вопрос заключается в том, почему историк искусства не желает или не дерзает сближаться с художниками прошлого: так ли уж они далеки от него, так ли необходимо отчуждение от них ради воображаемой объективности? Так ли она полезна для целей познания, которое, быть может, повторимся, свершается именно через сближение, почти отождествление с материалом?
Недаром Гомбрих помещает упомянутых поэтов в контекст символизма, связывающего воедино все аспекты, все виды и все формы творчества. Почему творчество когнитивное, то есть наука, оказывается в стороне от этого единства и общности, почему эпистемология вынуждена чураться поэтологии, если у них может быть единое основание творчества, единая структура и механизм, заключенный именно в символизме, во вчувствовании, в метафоре и переносе?
В разбираемом тексте Гомбрих на эти вопросы не отвечает, хотя одно перечисление некоторых образцов современной «литературы по искусству», в том числе, например, Зедльмайра с его «Утратой середины» или Мальро и его «Воображаемого музея», обнаруживает саму возможность достойного и плодотворного преодоления границ историзма XIX в. – задача вполне актуальная и для начала XX в. (это все программа «молодого» венского искусствознания во главе с учениками Шлоссера)[348], и для начала столетия уже следующего, то есть нашего – нынешнего.
Впрочем, мы должны представлять себе и более конкретную и не столь масштабную тактику Гомбриха, вынужденного или даже скорее призванного всю эту методологию (здесь она излагается внутри своего родного языкового контекста) перенести в контекст иной научной и языковой традиции. И как нам представляется, он делает это исподволь, дидактически выдержанно – с помощью текста, в котором поэзия познания идет в качестве ненавязчивого фона. Еще один признак, быть может, «скрытого символизма» гештальт-психологии в сочетании с опытом прослушки: методология не обязана быть на переднем плане в качестве основной и значимой конфигурации, которую можно и нужно легко узнать. Но она не должна быть и бессмысленным и отвлекающим фоном-шумом, сквозь который еле слышны звуки членораздельной речи. Баланс – вот проблема и цель любого текста об искусстве, будь это рядовые исследования или высокая поэзия науки.
Так что шлоссеровское различение двух видов изобразительной активности – просто языковой и собственно творчества – легко и правильно переносится и на активность научную: она может быть и некоторой репродукцией положения дел, представляемого памятником-документом, а может быть подлинной интерпретацией, активностью смыслополагающей.
Фактически эти два небольших эссе из «Atlantisbuch…» – и резюме, и программа того, что ненавязчиво скрыто, но, как мы уже заметили, настойчиво присутствует в «Истории искусства», имеющей вполне развитую и осознанную тематическую структуру, которую Гомбрих впоследствии обсуждал достаточно подробно. Остановимся на этих ключевых проблемных полях «Истории искусства», представляя себе – вслед за ее автором, – что это название не только книги, но и соответствующей научной дисциплины. А плоды ее – особенно если ты сам автор обсуждаемого текста – могут быть предметом и интерпретации, и верификации, и фальсификации.
История искусства: практика детского рассказа
Замысел книги восходит к тексту, написанному еще на немецком языке и посвященному истории как таковой, но адресованному юному читателю, где Гомбрих столкнулся сразу с двумя проблемами, позволившими ему позднее утверждать, что «история искусства никогда не может быть предназначена для детей»[349]. Во-первых, он столкнулся с невозможностью рассказывать ребенку о прошлом, то есть о времени – причем времени прошедшем, – из-за отсутствия личного опыта воспоминания и вообще чего-либо за спиной (за плечами ребенка – чистота и пустота) и чего-либо такого в голове (прежде всего – нашей идеи развития, происхождения чего-то из чего-то)[350]. Во-вторых, с невозможностью отождествить себя со «школьным учителем», то есть с сознательным популяризатором и «примитивизатором» некоторых «взрослых», общечеловеческих истин. Достаточно чуждой была ему и идея «художественного посредничества», он никогда не был озабочен связями с публикой (от которой следует, по-видимому, отличать аудиторию). Гомбрих, как он сам признается, мало в своей жизни водил экскурсий, никогда не занимал должность музейного работника. Он, по его словам, «всегда был лишь библиотечной крысой» и никогда не ощущал себя «миссионером», просвещающим отсталых и не «прогрессивных» (но что ждать от человека, отказывающегося верить в прогресс и эволюцию?)[351]. Впрочем, когда задумывалась уже собственно английская «История искусства», перед Гомбрихом маячил некий образец – старая книга 1911 г. Юлиуса Ляйшинга «Пути искусства», ныне забытая, а когда-то бывшая настольной у юного Гомбриха[352]. Характерно, что книга самого Гомбриха писалась, вернее, диктовалась (ради темпа и ради невозможности возвращаться и исправлять) с постепенным освобождением от этого воображаемого образца: внимательный читатель, говорит Гомбрих, заметит, что две первые главы словно написаны для более юных читателей, чем последующие: «книга как будто росла вместе со мной»[353].
Очень показательная и буквально демонстративно обсуждаемая самим Гомбрихом проблема отбора материала – даже не иллюстративного (см. выше), а именно интерпретируемого. Работа писалась быстро, и в ней упоминались и, соответственно, обсуждались те памятники, что отвечали трем параметрам: преимущественно виденные самим автором, желательно крупнофигурные (чтобы было что увидеть и читателю, хотя бы в книге) и наиболее доступные – те, что быстрее всего оказывались под рукой (в первую очередь книги из дома, из немецкой Propyläen-Kunstgeschichte). Полушутливые рассуждения Гомбриха на эту тему, как всегда, полны многозначительности: можно представить себе культурный уровень частной жизни, если в домашней библиотеке наличествует практически вся история искусства; с другой стороны, нет объективных параметров «подлинной» и показательной истории искусства – можно рассказать о главном, имея под рукой второстепенное (что можно было успеть просмотреть, прежде чем придет стенографист для диктовки); с третьей – рассказ всегда предполагает такой отбор; с четвертой – произведения искусства суть производные истории, которая должна всегда рассказываться (желательно – устно) и по возможности иллюстрироваться (предпочтительно – внятно).
Самое главное и сущностное заключено в зазоре между образным потоком изобразительного творчества и дискретным словесным рассказом. Как раз в этот промежуток и помещается наука об искусстве, которая будет иметь право и именоваться наукой, и занимать это место лишь при условии осознания своего промежуточного и довольно компромиссного положения.
И первая книга Гомбриха, сделавшая его до конца жизни, безусловно, востребованным ученым, и именно ученым-рассказчиком (устным и письменным), заставляет думать именно на эти темы: свойства языка, речевого акта и тех миров, которые порождены этой уникальной, но не универсальной особенностью человеческой природы и зависят от нее, ведь
у каждого языка, так сказать, своя сеть, которой он улавливает действительность.
Важные наблюдения связаны у Гомбриха с проблемой перехода с понятийной системы одного языка на понятийную систему другого, когда, казалось бы, эквивалентные понятия «покрывают» реально разные смысловые поля, лишь отчасти пересекаясь содержательно.
И когда «История искусства» переводилась на немецкий, ее автор обнаруживал, что по-немецки он о той же вещи сказал бы совсем другое[354]. В связи с этим Гомбрих вспоминает совместный с женой опыт перевода книги о Джулио Романо на итальянский[355], когда ему пришлось признать, что «сейчас бы он такое не написал» (другой язык заставил по-другому взглянуть даже не на способ выражения мысли, а на нее саму).
И уже на склоне лет, по ходу написания уже своей последней книги, посвященной примитиву[356], Гомбрих обобщает собственные наблюдения за своими творениями, начиная с одного из первых и самого успешного, в котором, как может показаться, автор нашел себя и реализовал свой замысел…
Размышляя над «Историей искусства», последним пунктом Гомбрих касается проблемы прогресса в искусстве, вернее сказать – в истории искусства. Ведь для Гомбриха абсолютно не очевидно, что история – это развитие, тем более – развитие по восходящей и по направлению к накоплению положительных качеств. На этом моменте мы еще остановимся, но уже сейчас в связи с проблемой языка стоит обратить внимание, как техничность, то есть буквально художественность, связана с языком как в первую очередь средством выражения.
Можно предположить, что, подводя итоги своим достижениям как раз с точки зрения развития, он понуждает себя говорить о прогрессе, его возможности или невозможности применительно хотя бы к самому себе. Ведь существенно, что проблема техники в искусстве для Гомбриха – это именно техничное исполнение, где вопрос качества – первостепенный (это перформативность в самом прямом смысле слова, артистизм как способность реализации задуманного, достижение, понятое как положительный итог целеполагания, где цель – условие цельности, органичности и т. д.).
История искусства: ценностные критерии ненаучности
С этим безусловным аспектом качества связывается и проблема оценки, которая в данном случае не просто возможна, а необходима как форма принятия, рецепции произведения, реализующего таким способом свое предназначение и являющего свое значение. Но одновременно здесь возникают две проблемы: вопервых, оценка предполагает субъективность и отрицает объективность, а значит, научность; во-вторых, оценка предполагает предварительное точное описание именно впечатления от художественного качества, что затруднительно уже на уровне языка.
Этот момент заставляет Гомбриха признаваться в необходимости оценки и собственных способностей, в первую очередь языковых: не все прочувствованное и воспринятое можно передать словами и донести до читателя или слушателя с помощью речевого высказывания, сделав тем самым «объектом так называемого научного обращения»[357]. Поэтому следует воздерживаться в подобных случаях от претензий на научность, сталкиваясь с вещами заведомо и, безусловно, высокого художественного уровня, заставляющего скорее восхищаться или испытывать удивление, чем размышлять. (Планка должна быть соответствующей. Лично для Гомбриха такой планки достиг Веласкес, о котором ученый так и не написал ничего, потому что он «слишком хорош»[358].) Иными словами, испытывать удивление – более возвышенно и более сложно, чем, например, доказывать. Поэтому от историка искусства всегда требуется осознание своего родства с художественным критиком и вообще с писательским и даже поэтическим родом деятельности, ведь сам «язык стихотворствует и мыслит для нас» (Гомбрих ссылается в данном случае одновременно и на Гёте, и на Витгенштейна).
Можно сказать, что перед нами – последний вывод из методологии гомбриховского учителя фон Шлоссера, настаивавшего, что истинное искусство уникально и неописуемо с позиции и в терминах истории искусства. Возможны лишь монографии об отдельных творческих личностях и их творческих достижениях. И если для Гомбриха «произведение искусства – это все-таки исключительное достижение, воплощающее ценности»[359], то понятно, почему он за всю свою жизнь не написал ни одной монографии и не сделал ни одного доклада об отдельном произведении («…это не моя задача»)[360].
Другими словами, проблема языка – не просто проблема выражения, а – описания, то есть пропускание впечатления через среду языка, что предполагает фундаментальную рефлексию, на которую Гомбрих был способен как никто иной. Язык всегда имеет дело с универсалиями, в этом его сила, но в этом же и его пределы, смысл которых – в невозможности иметь дело с конкретными вещами. Правда, Гомбрих тут же переходит к обсуждению «конкретных впечатлений», которые, конечно же, отличаются от предмета: поток впечатлений неуловим уже на уровне мышления, если мы предположим, что оно подчиняется правилам логики. Психологизм во всех своих разновидностях такого мнения и придерживается, но возможен и иной порядок мысли: сознание – это вовсе не одно только мышление; фантазирование, образная деятельность – вот возможный материал для мышления, дискурсивность которого обусловлена выбранным средством – языком.
Гомбрих ссылается на последнюю фразу «Трактата…» Витгенштейна («Если невозможно сказать, должно молчать…»), но, быть может, стоит начать с первых постулатов. Это сделал в свое время Зедльмайр, поместив в середину своей аналитики «отображение» (Abbild), с которым имеет дело Витгенштейн (и наше мышление) и которое, в свою очередь, предполагает «наглядный характер» как способ обнаружения и усвоения при полном и обязательном исключении всего того, что может показаться материалом и предметом мышления, переживания и желания.
Вещи, в том числе художественные, открываются нам не в неразличимом потоке всех своих качеств и аспектов одновременно, а в последовательности своих характерологических свойств, обнаруживая не столько ту или иную свою сторону, сколько свое лицо, ибо явление – это всегда обнаружение силы (тем более явление произведения искусства – оно производит впечатление, будучи ради этого произведенным на свет). Отдельный, но немаловажный вопрос – насколько избирательно мы взираем на лицо: не чувствуем ли и мы некую силу и власть буквально перед лицом физиогномики, осознавая сходство и, значит, родство, близость и – право на те или иные черты (они же у всех одинаковые, хотя и выражают разное)?
Это и есть «атомарный факт» нашего сознания, данный непосредственно и изначально (правоверный сторонник Гуссерля, вероятно, с этим определением «оригинальных данных» не согласился бы). Отдельный вопрос, можно ли и язык сводить к словам, они ли – эквиваленты качеств вещей и на самом ли деле при желании точного описания нам понадобились бы «миллиарды слов»? Быть может, то, что мы именуем качествами вещей, – тоже средства, тоже медиальные формы? Но в любом случае Гомбрих в связи со всей этой проблемой описуемости выражается на редкость точно:
…в общем и целом можно сказать, что описание производит высказывание, причем самыми различными способами[361].
Понять это можно двояко: только описание может быть высказыванием (методически мы должны описание строить как высказывание, чтобы видеть во всяком высказывании описание и больше ничего), или только описание создает условие для последующего высказывания (методически мы сначала должны составить описание, чтобы на его основании строить аналитические предложения). Альтернативы асимметричны: только в последнем случае можно избежать тавтологических высказываний и продолжить цепочку в сторону высказываний о науке. Это и соответствует излюбленному образу Гомбриха: только оседлав нечто не совсем совершенное, то есть не окончательное, не исчерпывающее и потому стимулирующее дальнейший поиск, мы можем надеяться на некоторую истину. То, что мы используем как материал, должно быть подетски открыто или не полностью полноценно, готово к сомнению и опровержению (это не настоящий конь, и это не настоящее высказывание!).
История искусства: страх неназываемых вещей, техника сомнительных вопросов
Правда, тут мы сталкиваемся с продолжением, отчасти разрешающим наши сомнения на тему того, что, когда вы описываете величину или материал, высказывание должно быть предметным, а иначе следует просто говорить, что «это произвело на меня впечатление» и не более того. Другими словами, сам Гомбрих склонен придерживаться мнения, что научными могут быть исключительно назывные предложения, а все остальное – фикция и поэзия и это вовсе не плохо, просто не научно. Но почему бы все-таки не допустить, что описание – только одна из функций или разновидностей высказывания, что связано с интенциональными аспектами речевого акта?
Ответ, почему для Гомбриха это не так, состоит в следующем пассаже:
Большинство вещей мы не можем выразить словами. Подумайте о посещении врача. Язык за этим не поспевает, но я точно знаю, что я испытываю. Однако это то самое, что невозможно сформулировать с помощью языка, чего нет в области публичного, то есть то, что не обсуждаемо интерсубъективно.
Ответ по-своему исчерпывающий: можно сказать, что художественная деятельность (не надо путать с художественной вещью!) сродни посещению врача (не надо путать с его диагнозом и рекомендациями!), в ней есть нечто не просто субъективное, но почти интимное, неотчуждаемое, не общеупотребительное, не предназначенное для всех, иррациональное, неосознаваемое, связанное или со страхами, или с неопределенностью состояний, чему нет названия. Опять же открытый вопрос, который был по-разному решен, например, Фреге и Расселом, касательно имен собственных и их применимости в верифицируемых высказываниях. Применительно к художественным творениям (да и к человеческому индивидууму) отдельный вопрос, насколько имя – аналог личности…
О чем не может быть знания или что не следует знать чужаку. Так что перед нами – определение или просто высказывание на тему науки: научное знание должно принадлежать упомянутой области публичного и предполагать или допускать свое обсуждение.
Это сильно облегчает обсуждение и понимание научных позиций самого Гомбриха. Эти позиции весьма пограничны в том смысле, что связаны именно с правильными, по праву, законно обозначенными границами, пределами – прежде всего средств, которые вынужденно принадлежат языку, но также и содержания, которое в человеческом случае всегда принадлежит оценке, то есть сфере нравственного, если человек – это свобода и выбор, выражающиеся, правда, и в способности к самоограничению…
Здесь приоткрывается и иной аспект, так сказать, научной перформативности, отчетливо размечающий границы науки и поэзии: как художественное творение можно и должно оценивать с точки зрения его качества, так и научные, например, гипотезы – они, как мы выяснили, сродни если не художественным творениям (все-таки не руками они сделаны), то, во всяком случае, интеллектуальным. Они тоже могут быть не совсем удачными, вызывать разочарование, если не исполнили возлагавшиеся на них надежды. И тогда та или иная аналитическая парадигма равным образом может рассматриваться с точки зрения техничности: насколько результативным, эффективным, удачным или просто приемлемым оказалось ее применение.
И вот в качестве промежуточного резюме этой проблематики еще раз вернемся на родную для Гомбриха немецкоязычную почву, напомнив себе общую картину немецкой науки об искусстве – с ее совершенно иными постулатами, установками и, главное, с иными интонациями и способами тематизации искусствоведческого и, прежде всего, историко-художественного знания. Это уже упоминавшийся текст Хофманна[362], важный для нас как пример и образец «другого» искусствознания, не озабоченного ни респектабельностью, ни доходчивостью и потому почти неотразимого в своей ненавязчивости…
Вспомним, как важно было для Гомбриха осознать и довести до сведения своего читателя, что искусство может выступать в разных аспектах, лишь отчасти служа целям познания, выступая в роли документамонумента, источника знания.
Хофманновский текст спустя 10 лет начинается с совершенно иного определения искусствознания – не просто как практики извлечения знания из искусства, а как практики задавания вопросов, смысл которой парадоксально заключается в том, что искусство для искусствознания выступает как проблемная величина: это документ, который являет принципиальную непонятность и сомнительность искусства. Фактически вместо документа перед нами симптом.
Природа этой сомнительности и симптоматичной проблемности искусства для искусствознания заключается в том обстоятельстве, что искусство не только оказывается точкой схода совершенно разных подходов, но выступает в качестве «сырого материала» для науки об искусстве, при том что этот материал предлагается искусствознанию иными дисциплинами. Он вовсе не сырой и не непосредственный, а подготовленный и опосредованный соответствующими науками, например археологией, рассматривающей и обрабатывающей памятники как чистые артефакты, лишенные какой-либо художественно-эстетической ценности.
Это то самое Sachkunde, что в обязательном порядке предваряет собственно искусствоведческие подходы: Inhaltkunde и, главное, Wesenskunde, то есть описание содержательной стороны произведения как изображения чего-либо и его сущностное объяснение как феномена, открывающего способ (форму) собственного существования. Наука начинается именно с этих притязаний, которых лишено знаточество, тем самым лишенное и признаков научного знания. Мысль абсолютно родственная гомбриховской, но с прямо противоположным логическим выходом: наука – это техника вопрошания, а не умение искусно отвечать на вопросы. Для Гомбриха важна ответственность в смысле готовности отвечать, так сказать, за свои ответы, позиция Хофманна – апология сомнительности:
…вопрошание, адресованное искусству, предполагает, что искусство вызывает вопросы и что оно не может быть понято из себя самого[363].
Там – ответственность, здесь – вопросительность знания.
Только после того, как будут произведены локализация, атрибуция и определение материального состояния произведения, то есть после «исторического описания» художественного творения, и начинается работа искусствознания. Причем здесь работает именно искусствознание «идеальное» (понятие Зедльмайра)[364], вбирающее в себя все подходы, но отдающее себе отчет в том, что его предваряет «вещественная каталогизация». Последняя, впрочем, с самого начала сталкивается с проблемами, принадлежащими исключительно искусствоведческому «кругу вопросов»[365], и заканчивается вместе с искусством через осознание того, что оно со своим предметом «разделяет судьбу никогда не иметь конца»[366].
Не сокрыт ли в этой концовке феноменологический намек на «безостановочное “и так далее”», характеризующее «бесконечность горизонтного сознания», заключенного в естественной установке на мир как «горизонт всех горизонтов»?[367] Или перед нами намек на принцип non finito, введенный в оборот Йозефом Гантнером, как характеристика не только процесса творчества, но и процесса интерпретации этого самого творчества?
Горизонт естественной установки, напомним, это «игровое пространство», трансцендирующее и сознание, и предметность – в их интенциональной взаимосвязанности. Такова и участь искусствознания, если оно претендует на ученость внутри вышеуказанных границ. Хотя завершение заметки о «теории искусства» с упоминанием художников, активных и текстуально, и концептуально (Кандинский, Клее, Мондриан), предполагает пафос бесконечности усилий искусствознания как созвучия и соответствия непрерывному и неисчерпаемому творчеству…
История искусства – безустанная участь учености
Ученый-искусствовед осознает, что его наука обусловлена иными когнитивными практиками, выливающимися, например, в то обстоятельство, что «искусствознание» – это знание того, что есть «учение об искусстве». Это теория, которая, в свою очередь, учит в том числе и знанию о том же предмете, уразумению того, что знание того, что есть искусство, предваряет и обусловливает и незнание того, что есть искусство. С этого искусствознание и начинается, и может случиться, что здесь оно и закончится – в признании искусство-не-знания.
Иными словами, наука об искусстве задает вопросы не только практике искусства, но и его теории.
Напомним, что первый по-настоящему теоретический текст Гомбриха – еще довоенный – был написан в соавторстве с искусствоведом-психоаналитиком Эрнстом Крисом, бывшим учеником фон Шлоссера, который стал потом профессиональным психоаналитиком и задал тем самым один из путей выхода если не из искусствознания, то из истории искусства точно[368].
И это была именно программа использования внешнего знания для интенсификации искусствоведческой аналитики через преодоление тавтологической описательности. Важнейшая тенденция мысли Гомбриха присутствует уже здесь: искусство говорит о большем и об ином по сравнению с тем, что оно изображает, хотя один из соавторов, напомним, впоследствии критически отзывался о замысле этой книги.
Можно добавить в качестве комментария, что человек способен создавать, например, идеологические карикатуры, которые оказываются не просто могучими, реальными и воистину «черными» (или «красными») практиками современной магии, но и подлинной бессознательной диффамацией самих себя и сатирой на современное сознание (физиономия человечества искривлена и изуродована им самим безотносительно к внешним врагам – реальным и фантомным).
История искусства: карикатуры бессознательного
Здесь стоит привести критическое замечание Хофманна[369], ссылающегося на Арнольда Хаузера, что парадокс предложенного Крисом и Гомбрихом подхода состоит в том, что критерий анализа – область бессознательного, которое – по определению – бесформенно и потому ставит всякое изобразительное искусство в невыгодное положение. Оно вынуждено как бы оправдываться за свою наглядность, хотя именно это можно рассматривать и как несомненное и уникальное преимущество всякой образности, отвечающей условию непосредственной – наглядной – данности (так что гештальт-структурализм Зедльмайра и сочувствующего ему отчасти Хофманна – это прямая и феноменологически подтверждаемая альтернатива психоанализу). Хотя мы вслед за всяким психоаналитиком вправе возразить, что как раз бессознательное крайне структурировано и вполне владеет формами, сходными с языковыми. Пусть вместо слов там часто пользуются предметами, наполняя их тем или иным трансферным содержанием и манипулируя этими «объектами» согласно вполне четким, хотя и не осознаваемым до конца правилам, символизирующим, между прочим, эффект контроля, владения и т. д. Чем не ситуация искусствознания, вернее сказать, истории искусства?
В любом случае психоанализ не может не быть критичным ко всякой изобразительности: она для него всегда остается карикатурой полноценного образа психического функционирования, при том что и сам психоанализ не может не иметь дело с карикатурой нормальной психики: только нездоровое и неполноценное – детское и психотическое – остается для него документом. Фактически и методологически ненормальное оказывается нормой аналитики и оценки (а нормальное – просто не ценно, не значимо для анализа, потому что ему не предназначено). Не такова ли природа зедльмайровских «критических форм» и общей установки на «разломы» духа, конфликты и диссонансы – как на уровне отдельно взятого произведения (даже шедевра), так и исторических эпох? Но всегда остается вопрос: кто «назначает» те или иные предметы или даже феномены предметами внимания и прочее?
И как текст Гомбриха об искусствознании дополняется текстом, посвященным литературе по искусству (Kunstliteratur), так и подобный ему тематически текст Хофманна продолжается текстом о теории искусства (буквально о том, что есть «учение об искусстве» – Kunstlehere).
Художественная деятельность подвергается своему сущностному определению. Историческое рассмотрение художественного события, заложенного в конкретных творениях, не позволяет игнорировать масштабы, желания и требования, выработанные и постулированные художественными учениями, что были созданы теми или иными эпохами. Общая примета всех этих учений – стремление выработать общую направленность формальной или содержательной организации произведения и поместить художника перед лицом категориального «ты обязан». От искусствознания теория искусства отличается своими нормирующими и регулирующими претензиями, тогда как искусствознание ограничивается смысловым определением того, что уже наличествует[370].
В связи с этим можно предположить, что или результат, или альтернатива и о-писанию, и об-учению – опыт чтения и отчет о прочтении, хотя в своей основе литература и учение сходятся: учить и вырабатывать учение – дело литературы, все это – вопрос словесности, желательно, конечно, качественной…
Гомбрих выражается в связи с этим подчеркнуто наглядно, хотя и не буквально: он выписывает «Scientific American», читает его, не понимая очень много, но, тем не менее, старательно выбирая оттуда нечто, что может понадобиться для его собственных ученых нужд:
…наверно, я отличаюсь от многих моих коллег, в том числе и тем, что я убежден в необходимости выглядывать из окна и высматривать, нельзя ли что-нибудь подобрать из лежащих на дороге иных научных достижений[371].
Итак, чтение не относящегося к делу (история и естественные науки), но, тем не менее, подходящего для усвоения, удержания, уразумения и утилизации.
История искусства: история артефакта настоящего
Удивительным образом ответы на все вопросы, совместно поставленные Гомбрихом и Хофманном искусству и искусствознанию, а заодно нами – им, в качестве некоторого результирующего усилия дает еще один текст того же литературного жанра «обзора-введения» в науку. Это текст Джеймса Аккермана[372] «Искусство», вышедший в принстонской серии «Гуманитарные науки в Америке» примерно в то же самое время (1963)[373], что и текст Хофманна. Перед нами еще один тогда совсем молодой профессор, а ныне – сверхмаститый классик.
Текст Аккермана состоит из пяти частей («Природа истории искусства», «Историк как критик», «Стиль», «История искусства в Америке» и «Жанры и ученые»). Нас будет интересовать первая часть с некоторым заходом, к сожалению очень кратким, во вторую, хотя, безусловно, особого внимания заслуживает последний раздел, где под жанрами понимаются искусствоведческие методы, весьма справедливо и точно названные именно этим литературоведческим термином. Это всего лишь, хотя и не менее того, «способы пролить чернила», если употреблять выражение Остина, – в подражание собственно словесной активности…
И эта самая природа связана, конечно, с природой исторического знания, с одной стороны, и с природой искусства – с другой. В качестве источника знания произведение искусства – тот же документ-источник, отсылающий к определенному историческому событию, а именно к моменту создания этого самого произведения. Этот источник отчасти сродни прочим артефактам, как просто физическим, так и социальным, и может рассматриваться и, главное, оцениваться с точки зрения эффективности в исполнении своих социальных функций (любое событие – социально, так как связано с поведением и коммуникацией).
Но оно отличается коренным образом от прочих артефактов тем, что как раз «оцениваться оно может с точки зрения скорее того, что оно есть, чем того, что оно исполняет»[374]. Подобное свойство можно приписать и другим артефактам: они тоже, казалось бы, свидетельствуют не только о своей функции, но и о своих создателях, об их мыслях и чувствах, об их жизненных ситуациях и прочих контекстах. Пока произведение искусства помогает проникать куда-то еще, задача истории искусства – та же самая, что и у прочих исторических дисциплин: она просто часть исторической науки со своими источниками. Но тут-то и начинается нечто иное: то, что желает обнаружить или реконструировать историк искусства, – уже перед его взором.
В случае с историческим познанием
артефакт ведет к гипотетической реконструкции прошлого, в данном случае реконструкция прошлого ведет к пониманию и оцениванию артефакта[375].
Более того,
ценность и значение произведений искусства и не умаляется, и не меняется по причине культурных перемен или в течение времени; они обладают таким значением, что не зависит от их создателей и социального происхождения, отличаясь тем самым от иных видов человеческой продуктивности[376].
Так что можно прямо сказать, что специфическое значение и значимость произведений искусства «не доступны историческому методу; историк обязан стать критиком»[377]. Именно эта перемена способна соответствовать особому способу восприятия произведения искусства, который есть эстетический опыт, и отражать его.
Подобное «двойное существование произведения искусства и как документа прошлого, и как объекта в настоящем» заставляет вспомнить о двойственном опыте, характерном для музея. Там прошлое, все исторические эпохи одновременно присутствуют в настоящем, которое совершенно искусственно и не похоже на первоначальный исторический контекст, лишь потому, что настоящее это обеспечивается нашим знанием о прошлом. Именно с точки зрения нашего сознания в какой-то момент становится понятно, что разделение опыта исторического и опыта эстетического – искусственно. Если я знаю, что я смотрю на произведение искусства, я уже и смотрю на него как на произведение искусства и никак иначе.
Так появляется фундаментальное определение произведения искусства, имеющее столь же фундаментальные последствия и для определения науки об искусстве:
…произведение искусства прошлого отличается от политических действий или артефактов как своей способностью к коммуникации независимо от тех условий, в которых и для которых оно было изготовлено, так и своей готовностью возбуждать нас и эмоционально, и физически[378].
Как же достигается такой эффект и чем действует художественное произведение? Ответ связан с предварительным различением искусств пространственных и искусств, которые Аккерман хоть и не называет временными вслед за Лессингом, но которые таковыми являются, – музыки и литературы. Причем крайне важно, что эта их временность исторична в том смысле, что они сохраняются как раз вопреки времени, которое их убивает, сохраняя от них лишь память или, вернее сказать, сохраняя их в памяти.
Пространственные искусства – это физическая реальность. Они продолжают свое конкретное, не абстрактное существование тем же самым способом, которым обязаны своему создателю, они «не транслитерируются в иные медиумы»[379], они ни на минуту «не отделяются от того материала, из которого были созданы, и от того окружения, в которое были помещены или которое ‹…› контролировали»[380]. И потому, забегая вперед, скажем – не подвержены времени, кроме как на том же физическом уровне, сохраняя актуальными все свои специфические значения и возможности (в том числе и вышеупомянутые эффекты воздействия).
Всего этого лишены репродукции произведений искусства. Их невозможно сравнить с нотными записями в музыке и печатными оттисками, то есть с книгами, в которые превращаются литературные произведения. Все дело в утрате своего пространства, своего тела, своей материальности. И тут не помогут никакие усилия археологов, тем более путешествия за тысячи миль (вспомним, перед нами размышления американского ученого). «Движение (motion) не способствует мышлению (meditation)»[381]. Полевые находки и наблюдения следует собрать воедино, дабы исследовать, их необходимо сравнить, то есть опять же поместить в иное место.
Сравнение – мощное средство не просто познания, но именно видоизменения исходного материала, то есть произведения искусства, сущность, природа которого – в способности сохранять первоначальный живой и человеческий опыт своих создателей: никакая напечатанная поэма Чосера не способна записать и воспроизвести
ни тембра, ни темпа, ни ритма, ни интонации той речи, что звучала и что-то значила для тех, кто ее когда-то слышал[382].
В отличие от этой ситуации, в случае с рисунком, нанесенным на бумагу 450 лет тому назад, «линия, ее ход и оттенок», то есть прямые эквиваленты всех тех качеств, что были утрачены в поэме, воспринимаются нами буквально, как будто мы напрямую имеем дело с «рукой» мастера, ее нанесшей[383].
Напряжение или равновесие между видением художника и реальностью материала и техники способны восприниматься вживую[384].
В пространственных искусствах мы усваиваем не только овладевающее природой мастерство художника, но и саму природу,
которая, в свою очередь, носит в себе все возможные материалы – и способы, техники, взаимоотношения с ними. Но было бы не совсем корректно сравнивать и ставить в эквивалентное соответствие манипуляции писателя или поэта со словами как с «сырым материалом» литературного творчества (лишь в известной мере и метафорически можно говорить о «силе» или технике применительно к словесным искусствам) и манипуляции художника с материалом-веществом как таковым. Так как язык и слова языка – это символическая система, литераторы манипулируют именно с символами, и если сравнивать словесные и художнические практики, то художник похож на писателя именно тогда, когда он прямо имеет дело с визуальными символами. Для художника взаимодействие с физическим материалом – это не есть язык. Это одно из измерений его деятельности, которому нет аналогов в других искусствах. Но есть и измерение совершенно аналогичное и словесному, и музыкальному творчеству – это практика организации элементов-компонентов в когерентную структуру или композицию (именно на этом уровне можно сравнивать, например, Бернини и св. Терезу Авильскую).
История искусства: условное сопротивление критическому настоящему
Именно поэтому историк искусства сильнее озабочен проблемой стиля: предмет его внимания прямо детерминирован временем и местом своего появления, то есть максимально общими, универсальными факторами, которые и образуют стиль как таковой, обретающий, однако, конкретику – и это самое интересное – исключительно в соотнесении с практикой его индивидуального применения или отдельным художником, или в отдельно взятом произведении. Это и составляет процесс формирования и видоизменения конвенций, которые приближают визуальное творчество к словесно-языковому.
И тут-то и начинается самое существенное в рассуждениях Аккермана: как только мы заговорили о практике, о применении правил и результатах этого, мы сразу же оказались в зоне компетенции не столько историка, сколько критика. Хотя, как настойчиво подчеркивает Аккерман, по всем вышеизложенным причинам, то есть из-за специфической роли материального и физического в пластических (пространственных) искусствах и, с другой стороны, из-за преобладания конвенционально-символических отношений в литературе и музыке, так легко литературоведы исполняют роль критиков и так трудно это сделать историкам искусства. История искусства кажется, выглядит и представляется более «объективной», так как опять же кажется более материальной и, стало быть, независимой от сознания субъекта. И это если не заблуждение, то, во всяком случае, опять некоторая условность и искусственность, как и показывает Аккерман.
Более и важнее того: именно историк искусства сопротивляется именованию и определению себя в качестве критика – несмотря на очевидность оценочно-избирательных приемов, практик и установок в его деятельности (начать можно с того, что материал им зачастую и вполне законно используется с предварительным отбором и в качестве иллюстрации). И сопротивляется он по той причине, что считает, что прошлое не подлежит оценке и субъективизации, что оно независимо от нынешнего положения дел и в нем даже его очевидно критические процедуры и действия обретают статус чего-то объективного, нацеленного на объективное, так как якобы не связаны с настоящим. И потому историк просто отвергает всякое мнение как «субъективное», если оно вырастает из настоящего, не замечая, что, воспринимая прошлое как отделенное от настоящего, он просто-напросто переносит на него материальнофизические свойства своего предмета (пространственных искусств). При этом дело представляется так, будто произведение искусства не просто возникло в прошлом и не просто ему принадлежит, но и чуть ли не является его порождением. Хотя на самом деле он всего лишь предпочитает заниматься вещами условными и всеобщими, всем тем, что именуется стилем:
…применением материала и техник, формальными и символическими конвенциями, конституирующими стиль эпохи, культурной группы, тем, что проникает и в индивидуальный стиль[385].
Эти вещи гораздо легче поддаются фиксации и сохранению из-за своей абстрактности, в то время как описание и определение уникального художественного качества отдельно взятого творения избегается именно из-за той самой неопределенности и неуловимости (забегая вперед, заметим, что на самом деле – из-за необходимости и неизбежности творчески активного, актуального подхода: там у историка преобладает искусственность, здесь же – искусность). Одним словом, историк искусства предпочитает казаться больше археологом, чем знатоком, не замечая, что эти две позиции, в сущности, идентичны. Археолог воспринимает и переживает свои материально-предметные находки как самостоятельные и ни от чего не зависящие ценности, исходные и потому определяющие все остальное, в том числе и историю. Хотя на самом деле перед нами крайняя форма критицизма, выступающего не просто с позиции актуальности (это найдено именно сейчас, в настоящем, и потому это ценно), а чуть ли не с позиции вечности (это не просто истинный документ, а фактически монумент: памятник открытой, откопанной, вырванной из небытия, забвения и погребения истине; археологический материал выставляется на обозрение и превращается в памятный знак на собственных отверстых могилах).
Хотя Аккерман резонно и остроумно обозначает еще один – социологическо-исторический – аспект преобладания в американской науке настороженности касательно критики: отсутствие собственной истории искусства, необходимость совершать путешествия для непосредственного контакта с искусством, так сказать, на месте вкупе с традиционным господством классической археологии и филологии.
Многие не имеют опыта обращения с искусством как с формой переживания в настоящем и потому разделяют подозрительное отношение к оценочной критике[386].
Более того, один из вариантов такой академическипсихологической социологии науки – тенденция рассматривать искусство как аспект более широкого контекста культуры. Это явный камень в огород иконологии, действительно связанной с культурологией (практика «аккумуляции знания, а не поиска значения»), в том смысле, что выученное, полученное по ходу обучения знание (learning) может не совпадать со значимым, актуальным, то есть собственным значением (meaning) изучаемого материала. В связи с этим можно вспомнить куда более нелестную характеристику А. Варбурга со стороны Г. Лютцеллера: «…в целом, художественный гений оставался ему чужд…»[387]
В какой-то момент размышления Аккермана приобретают по-настоящему монументальную чеканность и эпическую масштабность, когда он говорит, что речь идет не просто об антифилософских настроениях историков, даже не подозревающих в себе бессознательные комплексы стихийных позитивистов-материалистов, а о желании сознательно «свести к минимуму фактор творчества в научно-исторической практике»[388]. Более того, речь идет о тех,
чья уверенность в возможности объективности приводит их к убеждению, будто история не создается, но открывается, так что всего лишь имеется потребность в методе, способе мышления, даже в воображении, но никак не в вере[389].
Именно давняя гуманистическая (и потому гуманитарная) традиция, питающая литературоведение, дает столь мощную критическую установку, что не только избавляет историков литературы и тем более самих литераторов-теоретиков (того же Т. С. Элиота) от ложных страхов по отношению к оценочной деятельности, но прямо позволяет надеяться «на признание проблем ценности без отрицания научности»[390].
Но пока подобные надежды применительно к истории искусства и вообще научного обращения с пространственными искусствами упираются в суеверную убежденность, что
история искусства – это мышление и может практиковаться лишь как активность документирующая, но никак не созидающая. ‹…› Я смотрю на критическую практику не как на дополнительную технику, что пригодна для усвоения историками, но как на исполненную вызова проблематику, что заставляет нас пересмотреть фундаментальные философские принципы, которыми мы оперируем[391].
Критика искусства: субъективная подлинность и объектность коммуникативных надежд
Так совершается переход к следующему разделу текста Аккермана, прямо посвященному «историку как критику», чье существование возможно не просто как один из вариантов научного верования (наряду с мифом о раздельном существовании объекта и субъекта), но как единственно возможная позиция по одной простой причине:
…мы не можем четко различать «объективные» и «субъективные» факторы визуальной перцепции, так что едва ли не каждое наше заключение относительно произведений искусства несет на себе печать нашей персональности, нашего опыта и нашей системы ценностей, пусть и в разной степени[392].
Следующие формулировки Аккермана следует привести с максимальной дотошностью, ибо они определенно и ясно передают положение дел не в одном искусствознании, а в науке как таковой.
Основная проблема – в невозможности представлять себе объективное знание, то есть знание о некотором объекте, как знание определенное, так как затруднительно представить себе некое сообщение, исходящее от определенного объекта: субъект, как известно, получает одновременно целый поток если не сообщений, то точно впечатлений. И сам субъект – это вовсе не какая-то «губка», тщательно впитывающая инвариантный сигнал, поступающий от некоторого источника: воспринимающий субъект – это
активно задействованный участник восприятия, который видит в воспринимаемом объекте, в том числе и в произведении искусства, то, что предписывают ему видеть – замечать и отбирать – его ожидания, связанные с предыдущим опытом, и что его воображение ему подсказывает добавить в этот опыт и что в нем изменить[393].
Так что мы оказываемся перед лицом одной явной и убедительной тавтологии: всякий опыт, который можно описать как реакцию на визуальный объект и приписать мне как субъекту, всегда будет внутри меня и потому субъективным: никакую мою реакцию невозможно считать объективной.
Но объективность присутствует в другом месте: если я что-либо утверждаю о моих реакциях и если я желаю, чтобы мои утверждения были восприняты другими, то я верю, что мой опыт соотносится с опытом других, предполагая и понимание с их стороны моих предварительных установок, и желание усвоить мою информацию – релевантную их установкам. Поэтому нет никакой интуитивно желаемой объективности, мы просто обучены нашим опытом представлять себе объективным то, как другие люди – в границах нашей культуры – «артикулируют собственные реакции». Так что термин «объективный» всего лишь (хотя и это немало) предполагает с нашей стороны допущение, что когда люди делают сходные допущения и делятся сходной информацией, то они делают некоторые утверждения или желают их услышать. И эти утверждения делаются относительно некоторых черт объекта, которые приписываются ему в качестве присущих ему характеристик. То есть фактически то самое, что мы именуем характером произведения искусства, его характерологической структурой, есть всего лишь характер нашего к произведению отношения, в нем отраженный или на него перенесенный. Это наша оценка произведения – и оценка наших возможностей. Поэтому так необходимы методу, в основе которого – «наглядный характер» (Зедльмайр), критические формы, вызывающие, в свою очередь, критические реакции, порой весьма неадекватные, то есть несимметричные, когда критика обращается в карикатуру, сменяется сам тип дискурса и вместо науки является сатира. Высокий жанр сменяется низким, что, впрочем, может быть весьма полезно[394].
Объективность и субъективность не разные состояния сознания, а его полярные положения, ибо восприятие – это единое целое, сопротивляющееся категориальному разложению. И те утверждения, что легко включаются в коммуникативный акт, принимаются как «объективные», а те, что сильнее зависят от индивидуального опыта и восприимчивости (или просто описывают то и другое) и потому требуют усилия для принятия себя, именуются «субъективными»[395].
Кроме того, утверждения – даже в рамках собственно критики (она ведь тоже стремится к «объективности»), – прибегающие к конвенциональным референциям, легче принимаются в качестве «объективных»; где же речь идет об индивидуальном опыте или используется оригинальный язык – там предпочитают говорить о «субъективности», хотя во всех случаях перед нами свойства и характеристики дискурса (в данном случае критического) как всего лишь средства выражения нашего отношения к вещам, а не описание их свойств. Другое дело, что мы все можем именовать отношением к вещам и всякая характеристика будет отношением к вещам (даже само желание что-то сказать о них или даже просто описать).
Критика искусства: структуры физические и символические
На одном полюсе всего диапазона критических утверждений, распределенных по принципу условий коммуникации, лежат утверждения касательно физических свойств произведений и соответствующих им техник (это воспринимается всеми). На другом – личный опыт переживания творения (это требует максимальной самоотдачи и напряжения со стороны читателя). И посередине – утверждения относительно формальных и символических структур изображения, где задача рецепции таких утверждений облегчается тем, что конвенции распределены среди групп художников или тех же критиков, а также сосредоточены на свойствах одного произведения.
Но в любом случае – будь то эмпирические утверждения (первый тип) или аналитические (второй) – перед нами характеристики и классификации самих дискурсов, а не «отдельных зон восприятия» и типов соответствующего опыта, который всегда остается единым, сложно устроенным целым, а не «аккумуляцией отдельно взятых перцептов». Более того, это все один и тот же дискурс, который принято именовать критикой.
Простота усвоения физических характеристик связана с тем, что все они – результаты измерения, то есть, по сути, манипуляции с вещами, в том числе и с художественными творениями. И это легко включить в коммуникативный акт, ибо практика измерений и оценки с точки зрения физических параметров – максимально конвенциональная и упорядоченная область опыта, дополнительно и сугубо отчужденная от субъекта и, стало быть, «объективизированная» с помощью технических приспособлений и процедур (приборов и правил их использования). В этой зоне
данные не столь самоочевидны, чтобы оказаться под воздействием бессознательных вторжений воли[396].
И потому зачастую физически материальные аспекты произведения кажутся избавленными от ведения критики: то, что можно измерить количественно, не нуждается в том, чтобы его оценивали, то есть мерили качественной мерой, связанной всегда с переживаниями и аффектами. Однако не все так просто: физические свойства материала, его потенциал иным способом становятся релевантными критике, оказываясь проблемой для художника, ставя перед ним задачи, которые соотносятся не только с его воображением, но и с его сугубо техническими навыками, заставляя его решать эти проблемы и, соответственно, заставляя говорить об эффективности, результативности его действий (мысль совершенно аналогичная Гомбриху, равно как и та идея, что единственный способ говорить об историческом развитии – это говорить, основываясь на логике изменений технических навыков[397]). Мы реагируем на действия художника и, значит, оцениваем его технические навыки, причем по преимуществу с точки зрения его результативности, тем самым не только совершая критический акт, но и выступая в роли пользователя, заинтересованного в удовлетворении собственных ожиданий.
Формальные или символические структуры – это более сложный случай для критики хотя бы потому, что их функционирование предполагает в обычных условиях отсутствие внимания к ним и к их конвенциональности как таковой. И лишь там, где видоизменяется или нарушается система правил, зритель начинает обращать внимание на разницу между физическими и символическими параметрами, осознавая, что произведение искусства говорит с ним на «своем» специфическом «языке», который условен и потому выдвигает условия и со своей стороны. Знание подобной «грамматики» стиля (того, что внутри этого языка «символические и формальные конвенции организованы в когерентные конструкции, подобные грамматическим»), то есть языковая компетенция со стороны зрителя, обязательно как предварительное условие «чтения» и понимания. Хотя это не есть еще само понимание уже потому, что здесь не требуется индивидуальная чувствительность и способность передавать ее словами: лингвистический анализ изображения предполагает обучение и навык пользования приобретенным знанием – например, в целях интерпретации (еще, заметим, один из путей критики варбургианской иконологии).
Но самый главный момент – и это требует уже индивидуального опыта и настроя со стороны зрителя – обнаруживает себя не тогда, когда мы применяем приобретенные знания относительно тех или иных правил и традиций (формальных или символических) и учимся узнавать их в конкретном произведении. Проблема в том, что и формальная традиция («жизнь форм»), и символическая («миграция символов») в истории живут самостоятельной и зачастую независимой друг от друга жизнью (вдобавок по-разному вписываясь в контексты иного порядка – культурные, социальные и религиозные, давая тем самым выход интерпретатору в иные сферы иных «языков»).
Бесконечно более важно то обстоятельство, что как материал и техника обнаруживают себя в своем конкретном использовании конкретным художником (и это будет прямым эквивалентом реализации грамматических правил в речевом акте), так формальные и символические конвенции оживают лишь в случае их прямой встречи в индивидуальном творческом акте отдельно взятого художника. И именно этот аспект индивидуального достижения (но уже на уровне формы и символа) вновь вводит в игру критический дискурс.
Критика искусства: сопряжение материального и идеального
Сущностно важным оказывается именно момент неповторимого сопряжения-комбинации не только символических фигур, вступающих друг с другом в конкретные отношения (как, например, в случае sacra conversazione), но и моментов времени и элементов пространства[398]. Тогда самым прямым образом оказываются востребованными и задействованными чувствительность, отзывчивость, готовность реагировать на визуальные образы и на собственные состояния – со стороны зрителя, обнаруживающего себя частью всего происходящего. Аккерман напоминает об опыте кубизма с его симультанностью разновременных точек зрения[399], обращаясь одновременно и к проблеме конвенциональности так называемого абстрактного искусства, указывая в первую очередь опять-таки на условность и неудачность самого понятия. Ведь абстрактен любой символизм, а уж тем более изобразительный – независимо от того, присутствуют ли в изображении символы предметов или чего-то еще. В любом случае присутствует опыт повседневного восприятия, к которому обращается согласно своим правилам предметное искусство и от которого отвращается искусство беспредметное – тоже по своим правилам. Разница лишь в том, что в последнем случае правила задает сам художник, в первом – исторический, религиозный и культурный контексты. Конвенциональность сохраняется со всей определенностью, если сохраняется коммуникация, желание быть воспринятым и понятым – даже в желании оставаться непонятым[400].
И это чувство индивидуальности и ценность индивидуального момента и опыта работает, даже если мы имеем дело с анонимным произведением. По состоянию формальных элементов и по их отношению к символическим составляющим мы воспринимаем и осознаем неповторимость и уникальность произведения, фактически ставя себя на место отсутствующего автора. Да и отсутствует он лишь в нашем сознании в качестве нашего знания, которое, повторяем, лишь часть большего единства, включающего в себя персональность, но не умаляющего ее, хотя и оценивающего.
Критика искусства: целое уникального существования
Это целое – сама жизнь. И потому совершенно справедливо Аккерман именует финальные стадии критического дискурса уже не аналитикой, а синтезом, ибо речь идет
не об определении черт или частей произведения, а о тотальной значимости (import) его для зрителя[401].
Такого рода включенность произведения в сознание зрителя, присутствие его внутри опыта зрителя на практическом уровне делает затруднительным осуществление в полной мере столь желанной «синтетической критики», так как требуется язык, максимально свободный от общеупотребительной конвенциональности. Это совершенно аналогично ситуации с художником-творцом, который вынужден вырабатывать свой собственный язык, чтобы выразить свой индивидуальный опыт, ведь
слова в своей нормальной функциональности подводят нас лишь к границе художественной креативности; проникнуть внутрь нее – сам по себе креативный акт[402].
А, так сказать, повседневная, нормальная критика реагирует не столько на уникальное, сколько именно на конвенциональное, тогда как на самом деле важно не столько описание эффектов, сколько обнаружение «причин, создающих впечатления от произведения»[403]. А есть и «вопрос о значении целого»: целое не может быть дано порционно, последовательно, поэтому оно «продукт художественной персональности в данный момент»[404]. Так что оценка частей или отдельных аспектов произведения сродни характеристике человека исключительно по его жестикуляции или по его физиогномике.
Поэтому для того,
чтобы обрести уникальность произведения искусства, критик должен располагать, во-первых, чувствительностью к произведению искусства и к его пониманию и, во-вторых, творческой способностью переводить свой визуальный опыт в вербальный дискурс[405].
Фактически критик описывает опыт встречи с произведением искусства, и здесь важен баланс участников подобной встречи: если критик слишком много говорит о своей доле, то исчезает произведение, если он проявляет индивидуальную сдержанность и позволяет произведению говорить самому, то исчезает сама надобность в нем, то есть в критике, ибо произведение может напрямую общаться с читателем, минуя критика и т. д. И если первый случай типичен для критика, то второй ближе историку, который всегда склонен к конвенциям, особенно к таким, которые кажутся ему независимыми от него самого и потому «объективными», а на самом деле являются просто оторванными от произведения искусства и как целого вообще, и как целого индивидуального.
Попытка избежать подобной механичности и атомарности в восприятии произведения искусства приводит к следующей проблеме: необходимо сразу решить вопрос не только индивидуальности, но и более фундаментальной установки. Что есть для меня произведение искусства: если это источник знания, отражение перцептивных или эмоциональных возможностей, то, может быть, это произведение не искусства, а чего-то еще? Ибо только признание эстетического опыта делает произведение искусства таковым в глазах воспринимающего.
Здесь сущностным является укорененность эстетического опыта в чувствительности, восприимчивости, которые уже сами по себе всегда присутствуют «позади информационного или интеллектуального оснащения» нашего опыта[406] и которые мы именуем опытом эмоциональным и духовным. Произведение искусства порождает реакции, укорененные в «нашей физической форме и функции»: ключ к тому, как мы отвечаем на симметрию, ритм и масштаб, «сокрыт в структуре тела и биении сердца». И в отличие от иных порождений нашего воображения (той же философии, науки или права) искусство – это медиум коммуникации на уровне человеческих чувств.
А так как и чувства, и телесная структура человека отличаются постоянством на протяжении всех времен и независимостью от культурных различий, то этот специфический регион искусства ни в коем случае не исключен из сферы критической коммуникации[407].
Так что если весь диапазон критицизма порождает реакции как «объективные» (только что упомянутые физически-телесные), так и «субъективные» (чувства и эмоции), то по этой причине невозможно уклониться от попыток артикулировать суждения качества или ценности как от чего-то особым образом эфемерного или ненадежного. Более того, такого рода суждения – «интегральный фактор нашей отзывчивости»[408], а те, кто отрицает саму возможность суждения о чем-либо, сильнее всего рискуют вынести неадекватное суждение. Тем более если они ссылаются, например, на «размытые стандарты вкусовых суждений»[409]. Вкус как раз, наоборот, основан на нормативах, заключенных в нас самих, и не связан с конкретным опытом восприятия конкретного произведения (вкус стремится быть «объективным» в наших попытках получить удовольствие или просто удовлетворение). Предмет обсуждения относительно наших суждений – не то, что нам нравится или не нравится, а возможность или невозможность обрести такой синтез, что превосходил бы конвенции[410]. Другими словами, вынесенный нами приговор или просто оценочное суждение удовлетворяют нас исключительно в том случае, если они способны предложить нечто иное по сравнению с устоявшимися нормами оценки…
Так что вопрос не в том, нужна или не нужна критика, субъективна она или может надеяться на объективность, а в том, какое место она занимает рядом с историей (можно сказать «историкой»). То и другое – компоненты в том «сплаве», что подвижен и зависим от конкретной познавательной ситуации. Главное, что соединение компонентов всегда надежнее и крепче, чем отдельно взятые металлы-ингредиенты[411].
Впрочем, добавим мы, нельзя отрицать, что состав сплава, выбранные компоненты могут определяться заранее и согласно интересам и мотивам познавательной, то есть смыслоисполняющей, активности-практики, допуская заранее некоторые результаты, так что критика искусства предполагает и критику искусствознания, включающего в себя и историю искусства…
История и критика искусства: жанры и техники приятия и применения данных
И весьма показательно, что под самый занавес своих крайне глубокомысленных наблюдений за наукой об искусстве Аккерман создает «картину» под названием «Жанры и ученые» (последний раздел его эссе). Речь идет об основных исследовательских практиках и традициях – формально-стилистическом, знаточеском и иконографическом методах. И говорится о них именно в терминах литературоведческих: перед нами практики письма, исторические или критические операции, производимые не столько даже над произведением искусства, сколько над нашими «аффектами», порожденными произведением искусства и ставшими, таким образом, его «эффектами». Содержание этих «эффектов» обусловлено каждый раз той информацией, которую мы желаем получить и которая нас интересует. В соответствии с этим мы выбираем конкретный подход и задаем столь же конкретные вопросы: когда (дата), где (происхождение), кто (авторство-атрибуция), как (материалы, средства, техники), зачем (функции).
Важно представлять, что полученная информация, именуемая нами «факты», есть не столько измерения самого феномена (искусство), сколько результат реализации всех подобных подходов или применения методов и что это всего лишь материал для исторических построений, конструирующих или рисующих образ или картину прошлого.
Не менее важно отдавать себе отчет в том, что «обнаружение» факта – это результат взаимодействия с той или иной конвенцией (формальной, символической или исполнительской), ведь именно конвенции позволяют находить общий язык, в том числе и с практиками прошлого. Мы имеем дело с тем, что, так сказать, приспособлено к этому, что поддается коммуникации, что готово отвечать на наши вопросы. «Исторические данные» не просто даны нам (хотя и это – немало), это то, что задается и отдается нам в руки, что нам доверяет или что нам доверено в качестве того, что поддается созерцанию, рассмотрению и всматриванию. Это сведения, которые могут стать свидетельствами, если мы пытаемся заглянуть за них или внутрь них, чтобы увидеть события и их участников, ситуации, в которых они находились, задачи, стоявшие перед ними (за-данные им – и нам), намерения и желания-мотивы, реализованные и нет, удовлетворенные и породившие разочарование…
Но самое главное – все это можно оформить в виде связного повествования, об этом можно рассказать и этим можно поделиться, выслушав или одобрение, или отторжение, породив критику и кризис, то есть суждение и Суд. Милость – в конце всех концов.
Гомбрих и Прециози: знание – зрение, чтение, сомнение (вместо заключения)
Я не верил никогда, что так называемое искусствознание в состоянии раскрыть тайну искусства. Как ответить на законный вопрос профана, почему это столь прекрасно, я не знаю.
Эрнст ГомбрихЭто совсем не одно и то же: учить историю из книжек или переживать ее самому.
Эрнст Гомбрих. Всеобщая история для маленьких читателей. Дополнительная главаИтак, в такт с текстами избранных персонажей мы прошли их путями (методами), заключая наше повествование жанром введения. Тактичная научная коммуникативность Гомбриха, тактика не менее научного сомнения Хофманна и такт научного преодоления историзма Аккермана – вот та когнитивная техника, что заставляет нас заключить ставшую нашей текстуальность новым введением.
Но чтобы не дать слишком поспешного повода для суда над автором всех этих строк, пролонгируем неизбежный приговор или даже диагноз упоминанием того самого сюжета, на который нас выводит именно Аккерман, но не без участия Гомбриха.
Последний, между прочим, получился у нас совсем амбивалентным и архетипическим героем-трикстером, выступающим вроде и в роли актера во всех подобных постановках (перформансах!), но и в роли автора всех этих сценариев-скриптов. Упомянутые и привлеченные нами для оживления пьесы дополнительные актерские силы – они же и очевидные фреймы (фактически боковые декорации или, вернее, хор!) во всей этой сценографии и во всех без исключения мизансценах. Что же или кто же – перспективный задник нашей постановки? О зрителях, если таковые существуют, мы не говорим, потому что в зрительном зале даже не принято перешептываться.
Итак, всмотримся в глубину сцены, чтобы обнаружить там присутствие еще одной ключевой фигуры. Это – Дональд Прециози[412], среди текстов которого есть нечто, весьма напоминающее нам тот opus magnum, над которым трудился Гомбрих[413]. Это всего лишь, казалось бы, антология текстов по истории искусства, которых немало (у него самого существует два варианта этой антологии). Они практически всегда сопровождаются предисловиями и комментариями, что может составлять целый жанр всякого рода «Введений…»[414]. Но в данном случае уже название – как своего рода заключительный аккорд той безостановочной перформативной активности, которую, как мы могли убедиться, с большим трудом можно назвать «историей искусства» и которая выступает скорее как самая настоящая сцена для соприкосновения самых натуральных и культуральных антологий, вообще любых «логий», предварения которых тоже требуют своих предварительных слов, не существующих и без слов заключительных.
Так что попробуем убедиться сами и убедить читателя в том, что сама онтология присутствия Гомбриха в горизонте истории искусства, и не только структурно, есть все та же антология. Мы, вероятно, нашли ту самую форму существования нас самих в контексте того, что превышает нас, но не исключает, а как раз включает, делает причастными к чему-то большему, но открытому, приемлющему, а потому и приемлемому. Вот только кто подлинный составитель и есть ли он?
Хотя у этого рода дискурсивности есть и многие другие имена, где одним «легионом» не обойдешься, ибо это, к счастью, не только текст, и не только письмо – даже не графология, и не физиогномика.
Итак, на десерт еще одна – и заключительная – дефиниция:
История искусства – это сеть взаимодействующих друг с другом институций и профессиональных практик, чья общая функция – фабрикация исторического прошлого, которое – при условии систематического его изучения – можно было бы разместить в настоящем с целью его использования. Со всеми своими родственными полями – художественной критикой, философской эстетикой, деятельностью художников, знаточеством, арт-рынком, музеологией, туризмом, системами потребительского дизайна, индустрией художественного наследия – дисциплина, именуемая историей искусства, воплощает амальгаму аналитических методов, теоретических перспектив, риторических или дискурсивных протоколов и эпистемологических технологий, причем – самого разного происхождения и разного возраста. ‹…› Выражаясь кратко, принципиальная цель всех изысканий в области истории искусства – сделать художественное произведение как можно более читабельным внутри и для настоящего. ‹…› С самых своих истоков и в согласии со всеми смежными профессиональными практиками история искусства трудится над тем, чтобы сделать прошлое синоптически зримым, обеспечить его возможностью функционировать в настоящем и для настоящего; но она занята и тем, чтобы настоящее могло выглядеть демонстрируемым продуктом специфического прошлого; чтобы прошлое, таким способом инсценированное, могло преподноситься как объект исторического удовольствия: быть так сконфигурировано, чтобы современный гражданин мог достичь этого чувства довольства. ‹…› Кроме того, преподносимое как объект исследования искусство истории искусства тут же становится мощным инструментом имагинации и дескрипции социальных, когнитивных и этических историй любых народов. В качестве ключевого предприятия в деле наделения визуального легитимностью история искусства стала, посредством собственной легитимизации, уникально действенным медиумом, нацеленным на фабрикацию, удержание и трансформацию идентичности и истории как индивидуумов, так и наций. Принципиальным продуктом истории искусства оказывается современность как таковая[415].
Как прежде нам пришлось поверить, что соединение психоанализа, гештальт-структурализма, семиотики и аналитической философии за 50 лет до этого текста сформировало, а вернее сказать, сделало общим местом тогдашнюю историю искусства (речь идет об «Искусстве и иллюзии»), так и сейчас нам необходимо сделать над собой еще одно усилие и принять на веру, что и это «Искусство истории искусства» – уже стандартная модель на тот момент, когда эти формулировки составлялись. И это то самое время, когда еще был жив и активен заглавный персонаж нашей инсценировки-постановки, за которым стоит, как мы надеемся, его собственное либретто с особо отведенным местом и незаметной ролью для самого драматурга. А может быть – и режиссера-постановщика, и автора декораций всего этого не только зрелища, но и – «чувствилища» и «читалища» (звучит почти как «чудовище» и «чистилище»).
Тем не менее все, что разыгрывается на этой сцене, что с нее доносится в зрительный зал, все, что зритель-читатель ожидает и ощущает в связи с этим, и все, в чем его склоняют поучаствовать, – все это еще именуется историей искусства, хотя пишут ее, как мы убедились, те, кто заслужил имена, превышающие имя историка.
Библиография
Избранная библиография Гомбриха
Книги
WELTGESCHICHTE VON DER URZEIT BIS ZUR GEGENWART (Wissenschaft für Kinder). Wien, 1936.
THE STORY OF ART. London, 1950.
ART AND ILLUSION. A Study in the Psychology of Pictorial Representation. London, 1960.
ABY WARBURG, AN INTELLECTUAL BIOGRAPHY. With a memoir on the history of the library by F (ritz) Saxl. London, 1970; 2nd ed. Oxford, 1986.
THE SENSE OF ORDER, A STUDY IN THE PSYCHOLOGY OF DECORATIVE ART. The Wrightsman Lectures. Oxford, 1979.
EINE KURZE WELTGESCHICHTE FÜR JUNGE LESER. Köln, 1985.
THE USES OF IMAGES: Studies in the Social Function of Art and Visual Communication. London, 1999.
THE PREFERENCE FOR THE PRIMITIVE. London, 2002.
Сборники статей
MEDITATIONS ON A HOBBY HORSE and other Essays on the Theory of Art. London, 1963.
Meditations on a Hobby Horse or the Roots of Artistic Form (1951) – Visual Metaphors of Value in Art (1954) – Psychoanalysis and the History of art (1954) – On Physiognomic Perception (1962) – Expression and Communication (1962) – Achievement in Medieval Art (translation of “Wertprobleme und mittelalterliche Kunst”, 1937) – André Malraux and the Crisis of Expressionism (1954) – The Social History of Art (review of A. Hauser, 1953) – Tradition and Expression in Western Still Life (review of C. Sterling, 1961) – Art and Scholarship (1957) – Imagery and Art in the Romantic Period (review of D. George, 1949) – The Cartoonist’s Armoury (1963) – The Vogue of Abstract Art (The Tyranny of Abstract Art, 1958) – Illusion and Visual Deadlock (How to Read a Painting, 1961).
NORM AND FORM. Studies in the Art of the Renaissance, I. London, 1966. 2nd. ed., 1971.
The Renaissance Conception of Artistic Progress and its Consequences (1958) – Apollonio di Giovanni: A Florentine Casone Workshop seen through the eyes of a Humanist Poet (1955) – Renaissance and Golden Age (1961) – The Early Medici as Patron of Art (1960) – Leonardo’s method for working out compositions (Conseils de Léonard sur les esquisses de tableaux, 1954) – Raphael’s Madonna della Sedia (1956) – Norm and Form (Norma e forma, 1963) – The Renaissance Theory of Art and the Rise of Landscape (Renaisssance Artistic Theory and the Development of Landscape Painting, 1953) – The style all’ Antica: Imitation and Assimilation (1963) – Reynolds’s Theory and Practice of Imi tation (1942).
SYMBOLIC IMAGES. Studies in the Art of the Renaissance, II. London, 1972.
Introduction: Aims and Limits of Iconology – Tobias and the Angel (1948) – Botticelli’s Mythologies, a study in the Neoplatonic Symbolism of his Circle (with a new preface and appendix, 1945) – An Interpretation of Mantegna’s “Parnassus” (1963) – Rapael’s Stanza della Segnatura and the nature of its symbolism – Hypnerotomachiana (expanded, 1951) – The Sala dei Venti in the Palazzo del Te (1950) – The Subject of Poussin’s Orion (1944) – Icones Symbolicae: Philosophies of symbolism and their bearing on art (revised and expanded from Icones Symbolicae, the visual Image in Neo-platonic thought, 1948).
THE HERITAGE OF APELLES, Studies in the Art of the Renaissance, III. Oxford, 1976.
Preface – Light and Highlights: The Heritage of Apelles; Light, Form and Texture in Fifteenth Century Painting North and South of the Alps (1964) (revised) – Leonardo da Vinci’s Method of Analysis and Permutation: The Form of Movement in Water and Air (1969) – The Grotesque Heads (1954) – Jerome Bosch’s “Garden of Earthly Delights”: The Earliest Description of the Triptych (1967) – As it was in the Days of Noe (1969, under the title “A Progress Report”) – Classical Rules and Rational Standards: From the Revival of Letters to the Reform of the Arts: Niccolò Niccoli and Filippo Brunelleschi (1967) – The Leaven of Criticism in Renaissance Art (1968) – The Pride of Apelles: Vives, Dürer and Brueghel (1973).
IDEALS AND IDOLS. Essays on Values in History and in Art. Oxford, 1979.
The Tradition of General Knowledge (1962) – In Search of Cultural History (1969) – The Logic of Vanity Fair (1974) – Myth and Reality in German Wartime Broadcasts (1970) – Research in the Humanities: Ideals and Idols (1973) – Art and Self-Transcendence (1970) – Art History and the Social Sciences (1975) – Canons and Values in the Visual Arts: A Correspondence with Quentin Bell (1976) – A Plea for Pluralism (1971) – The Museum: Past, Present and Future (1977) – Reason and Feeling in the Study of Art (Erasmus Prize Lecture) (1975).
THE IMAGE AND THE EYE. Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation. Oxford, 1982.
Visual Discovery through Art (1965) – Moment and Movement in Art (1964) – Ritualized Gesture and Expression in Art (1966) – Action and Expression in Western Art (1972) – The Mask and the Face: The Perception of Physiognomic Likeness in Life and in Art (1972) – The Visual Image (1972) – ‘The Sky is the Limit’: The Vault of the Heaven and Pictorial Vision (1974) – Mirror and Map: Theories of Pictorial Representation (1975) – Experiment and Experience in the Arts (1980) – Standards of Truth: The Arrested Image and the Moving Eye (1980) – Image and Code: Scope and Limites of Conventionalism in Pictorial Representation (1981).
TRIBUTES. Interpreters of our Cultural Tradition. Oxford, 1984.
Focus on the Arts and Humanities (1982) – The Diversity of the Arts, The Place of the Laocoon on the Life and Work of G.E. Lessing (1957) – The Father of Art History, A Reading of the Lectures on Aesthetics of G.W.F. Hegel (1977) – Nature and Art as Needs of the Mind, The Philanthropic Ideals of Lord Leverhulme (1981) – Verbal Wit as a Paradigm of Art, The Aesthetic Theories of Sigmund Freud (1981) – The Ambivalence of the Classical Tradition, The Cultural Psychology of Aby Warburg (1966) – The High Seriousness of Play, Reflections on Homo ludens by J. Huizinga (1973) – The History of Ideas, A Personal Tribute to George Boas (1981) – The Necessity of Tradition, An Interpretation of the Poetics of IA Richards (not previously published). The Evaluation of Esoteric Currents, A Commemoration of the Work of Frances A. Yates (1982) – The Study of Art and the Study of Man, Reminiscences of Collaboration with Ernst Kris (1967) – The Exploration of Culture Contacts, The Services to Scholarship of Otto Kurz (1981).
NEW LIGHT ON OLD MASTERS. Studies in the Art of the Renaissance, IV. Oxford and Chicago, 1986.
Preface – Giotto’s Portrait of Dante? (1979) – Leonardo on the Science of Painting: Towards a Commentary on the ‘Trattato della Pittura’ (1982) (revised). Leonardo and the Magicians: Polemics and Rivalry (1982), translated – Ideal and Type in Italian Renaissance Painting (1983) (translated) – Raphael: A Quincentennial Address (1983) (translated 1984) – The Ecclesiastical Significance of Raphael’s ‘Transfiguration’ (1981) – ‘That Rare Italian Master’: Giulio Romano, Court Architect, Painter and Impressario (1981) – Architecture and Rhetoric in Giulio Romano’s Palazzo del Te (1984) (revised) – Michelangelo’s Cartoon in the British Museum (Not previously published).
REFLECTIONS ON THE OXFORD HISTORY OF ART. Views and Reviews / R. Woodfield (ed.). Oxford, 1988.
Foreword – The art of the Greeks (1966) – Chinese landscape painting (1980) – Tribal styles (1972) – A medieaval motif (1981) – Expressions of despair (1978) – The impact of the Black Death (1953) – New revelations on fresco painting (1969) – Kenneth Clark’s Piero della Francesca (1952) – The repentance of Judas (1959) – Seeking a key to Leonardo (1965) – Leonardo in the History of Science (1968) – The marvel of Leonardo (1982) – Michelangelo’s last paintings (1977) – The rhetoric of attribution – A cautionary tale (1978) – The worship of ancient sculpture (1981) – Patrons and painters in Baroque Italy (1963) – Durch genre painting (1985) – Mapping and painting in the Netherlands in the seventeenth century (1983) – The mastery of Rubens (1978) – On Rembrandt (1970) – Adam’s house in Paradise (1973) – Painted anecdotes (1967) – The whirligig of taste (1976) – The anatomy of art collecting (1982) – The claims of excellence (1968) – The meaning of beauty (1950) – The beauty of old towns (1965) – Dilemmas of modern art criticism (1968) – A theory of modern art (1966) – Malraux on art and myth (1960) – Freud’s aesthetics (1966) – Appendix: Signs, language and behaviour (1949).
TOPICS OF OUR TIME. Twentieth Century Issues in Learning and in Art. London, 1991.
An autobiographical sketch (1987) – The Embattled Humanities (1985) – Relativism in the Humanities (1985, 1987) – Relativism in the History of Ideas (1989) – Relativism in the appreciation of Art (1989) – Approaches to the History of Art (1989) – The Conservation our Cities (1963) – Watching Artists at Work (1989) – Plato in Modern Dress (1987) – Kokoschka in his Time (1986) – Image and Word in Twentieth Century Art (1985) – The Art of Saul Steinberg (1983) – A Master of Poster Design, Abraham Games (1990) – The Photographer as Artist, Henri Cartier-Bresson (1978).
GASTSPIELE. Aufsätze eines Kunsthistorikers zur deutschen Sprache und Germanistik. Wien, 1992.
Vorwort. Erinnerungen an Ernst Schaumann (1885–1934) – ‘Sind eben alles Menschen gewesen’. Zum Kulturrelativismus in den Geisteswissenschaften (1986) – Gotthold Ephraim Lessing: Die Beitrag Johann Heinrich Meyers (191) – Goethe und die Kunstsammlung der Brüder Boisserée: Gewinn und Verlust in der Emanzipation von der byzantinischen Überlieferung (1987) – Das Symbol des Schleiers. Psychologische Betrachtungen zu Schillers Dichtung (1985) – Eine Grillparzeranekdote (1963) – Beim Schreiden: Das Spiel mit den Dominosteinen Überlegungen eines Kunsthistorikers (1983) – Spracherlebnisse Festrede aus Anlass der Entgegennahme des ersten österreichischen Wittgenstein-Preises, Wien (1988).
THE ESSENTIAL GOMBRICH. London, 1996.
SIR ERNST GOMBRICH: AN AUTOBIOGRAPHICAL SKETCH AND DISCUSSION. London, 1996.
An Autobiographical Sketch – Old Masters and Other Household Gods – The Visual Image: its Place in Communication – On Art and Artists – Psychology and the Riddle of Style – Truth and the Stereotype – Action and Expression in Western Art – Illusion and Art – The Use of Colour and its Effects: the How and the Why – The Necessity of Tradition: an Interpretation of the Poetics of I.A. Richards – Verbal Wit as a Paradigm of Art: the Aesthetic Theories of Sigmund Freud – Leonardo’s Method for Working out Compositions – The Force of Habit – The Psychology of Styles – The Primitive and its Value in Art – Magic, Myth and Metaphor: Reflections on Pictorial Satire – Approaches to the History of Art: Three Points for Discussion – The Social History of Art – In Search of Cultural History – Architecture and Rhetoric in Giulio Romano’s Palazzo del Tè – From the Revival of Letters to the Reform of the Arts: Niccolò Niccoli and Filippo Brunelleschi – The Use of Art for the Study of Symbols – Aims and Limits of Iconology – Raphael’s Stanza della Segnatura and the Nature of its Symbolism – The Subject of Poussin’s Orion – Dutch Genre Painting – Imagery and Art in the Romantic Period – The Wit of Saul Steinberg – Franz Schubert and the Vienna of his Time – Nature and Art as Needs of the Mind: the Philanthropic Ideals of Lord Leverhulme – Goethe: the Mediator of Classical Values.
Воспоминания
AN AUTOBIOGRAPHICAL SKETCH (1987) // TOPICS OF OUR TIME… WENN’S EUCH ERNST IST, WAS ZU SAGEN… // Kunsthistoriker in eigener Sache / M. Sitt (Hrsg.). Berlin, 1990. S. 63–102.
GOMBRICH AND DIDIER ERIBON CE QUE L’IMAGE NOUS DIT, Entretiens sur l’art et la science (Adam Biro). Paris, 1991. 187 p.
AN AUTOBIOGRAPHICAL SKETCH (1996) // AN AUTOBIOGRAPHICAL SKETCH AND DISCUSSION… DAL MIO TEMPO: CITTÀ, MAESTRI, INCONTRI. Woodfield R. (ed.). Turin: Einaudi, 1999. Vol. xxxiv, 154 p.
Vienna 1900: le arti figurative e il problema della cultura ebraica (1997); Riflessioni sulla catastrofe ebraica (1997); Ricordo di Ernst Schaumann (1992); Ricordo di Julius von Schlosser come maestro (1988); Il mio maestro Emanuel Loewy (1998); Storia dell’arte e psicologia a Vienna cinquant’anni fa (1984); Il Warburg Institute: Un ricordo personale (1990); lcona (1996); Lezione urbinate (1993); Discorso di ringraziamento (Vienna, 16 giugno 1993); Un ritratto (1989); Quando avete qualcosa di serio da dire … (1990).
Краткая библиография о Гомбрихе
Goodman N. Art and Illusion; a Study in the Psychology of Pictorial Representation by E.H. Gombrich [book review] // The Journal of Philosophy. 1960. Vol. 57. P. 595–599.
Ginzburg C. Da A. Warburg a E.H. Gombrich. Note sul un problema del metodo // Studii medievali. Ser. 3, VII. 1966. P. 1015–1065.
Berliner R. Die Rechtfertigung des Menschen // Münster. 1967. Bd. 20. S. 227–238.
Previtali G. E.H. Gombrich, conservatore viennese // Para gone. 1968. Vol. 19. P. 22–40.
Carrier D. Perspective as a Convention: On the Views of Nelson Goodman and Ernst Gombrich // Leonardo. 1980. Vol. 13. P. 283–287; Leonardo. 1981. Vol. 14. P. 86–87.
Carrier D. Gombrich on Art Historical Explanation // Leonardo. 1983. Vol. 16. H. 2. P. 91–96.
Blinder D. The Controversy over Conventionalism // The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1983. Vol. 41.
Kemp M. Seeing and Signs. E.H. Gombrich in Retrospect. Review of: E.H. Gombrich, The Image and the Eye. Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation // Art History. 1984. Vol. 7. P. 228–243.
Onians J. (ed.). Sight and Insight. Essays on Art and Culture in Honor of E.H. Gombrich at 85. London, 1984.
Bryson N. Vision and Painting. The Logic of the Gaze. London, 1985.
Lepsky K. Ernst H. Gombrich: Theorie und Methode. Wien; Köln: Böhlau, 1991.
Masheck J. Alberti’s Window: Art-Historiographic Notes on an Antimodernist Misprision // Art Journal. 1991. Vol. 50. P. 34–41.
Woodfield R. (ed.). Gombrich on Art and Psychology. Manchester, 1996.
Wendland U. Biographisches Handbuch deutschsprachiger Kunsthistoriker im Exil: Leben und Werk der unter dem Nationalsozialismus verfolgten und vertriebenen Wissenschaftler. München: Saur, 1999. Vol. 1. P. 221–233.
Trapp J.B. E.H. Gombrich: A Bibliography. London, 2000.
Feister P.H. Gombrich Sir Ernst Hans Joseph // Metzler Kunsthistoriker Lexikon. 2. Aufl. Stuttgart-Weimar, 2007. S. 132–135.
Snyder S. Language in Art: Gombrich’s History of Representation and the Breakdown of Visual Communication // Paper presented at XXVII International Congress for Aesthetics. Ankara, 2007. July 2.
Gombrich E.H.: A Centenary Colloquium. Warburg Institute. London, 2009. 19–20 June.
1. Peter Burke (Cambridge University). Ernst Gombrich’s search for cultural history; 2. Harry Mount (Oxford Brookes University). Gombrich and the fathers (and mothers) of art history; 3. Patrick Cavanagh (Université Paris Descartes & Harvard University). The heritage of Apelles: Gombrich’s contribution to the visual neurosciences; 4. Jeroen Stumpel (Utrecht University). Gombrich’s schema: power and poverty of a concept; 5. Paul Crossley (Courtauld Institute). Gombrich and the Middle Ages; 6. Paul Taylor (Warburg Institute) Gombrich and the idea of primitive art; 7. Robert Bagley (Princeton University). Gombrich among the Egyptians; 8. Elizabeth McGrath (Warburg Institute). Gombrich as iconographer; 9. Veronika Kopecky (Warburg Institute). Gombrich’s working method; 10. Roberto Casati (Centre National de la Recherche Scientifique). The shadow toolbox; 11. Jan Koenderink (Utrecht University). Gombrich’s “beholder’s share” and the geometry of pictorial space; 12. John Kulvicki (Dartmouth College). ‘Varieties of beholders’ shares; 13. Christopher Tyler (Smith Kettlewell Eye Institute). Gombrich’s “Vault of Perception”: do we “really” see straight lines as curved? 14. Martin Kemp (Oxford University). Gombrich and Leonardo: a natural affinity.
Kesner L. Gombrich and the problem of the Relativity of Vision // Human Affairs. 2009. Vol. 19. P. 266–273.
Wood C. S. E.H. Gombrich’s ‘Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation’, 1960 // The Burlington Magazine. 2009. December. P. 836–839.
Kopecky V. Letters to and from Ernst Gombrich regarding Art and Illusion, including some comments on his notion of “schema and correction” // Journal of Art Historiography. 2010. No. 3. December.
Mitrovic B. A Defence of Light. Ernst Gombrich, the Innocent Eye and Seeing in Perspective // Journal of Art Historiography. 2010. Vol. 3. P. 1–30.
Woodfield R. Ernst Gombrich: Iconology and the ‘linguistics of the image’ // Journal of Art Historiography. 2011. No. 5. December. P. 1–25.
Dedman R. The importance of being Ernst: a reassessment of E.H. Gombrich’s relationship with psychoanalysis // Journal of Art Historiography. 2012. No. 7. December.
Mitrovic B. Visuality After Gombrich: the Innocence of the Eye and Modern Research in the Philosophy and Psychology of Perception // Zeitschrift für Kunstgeschichte. 2013. Bd. 76. S. 71–90.
Mitrovic B. Nelson Goodman’s Arguments against Perspective: a Geometrical Analysis // Nexus Network Journal. 2013. Vol. 15.
Taylor P., Hope C., Burke P., Mount H. Meditations on a Heritage: Papers on the Work and Legacy of Sir Ernst Gombrich. Paul Holberton Publishing, 2014.
Сноски
1
О венском искусствознании см. самые последние публикации: Geistiges Leben im Österreich der Ersten Republik: Auswahl der bei den Symposien in Wien vom 11. bis 13. November 1980 und am 27. und 28. Oktober 1982 gehaltenen Referate. Oldenbourg Akademieverlag, 1986; Klassische Texte der Wiener Schule der Kunstgeschichte: Gesammelte Aufsätze. Bd. 1–4 / Artur Rosenauer (Hrsg.) Facultas, 1996–2004; Feichtinger J. Wissenschaft zwischen den Kulturen: Österreichische Hochschullehrer in der Emigration 1933–1945. Frankfurt a/M: Campus, 2001; Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte / Wiener Schule: Erinnerung und Perspektiven. Ernst Bacher und Artur Rosenauer (Hrsg.). Böhlau Verlag, 2005; Lachnit E. Die Wiener Schule der Kunstgeschichte und die Kunst ihrer Zeit. Wien: Böhlau, 2005; Kandel E., Wiese M. Das Zeitalter der Erkenntnis: Die Erforschung des Unbewussten in Kunst, Geist und Gehirn von der Wiener Moderne bis heute. München: Siedler, 2012.
(обратно)2
Gombrich E. An Autobiographical Sketch // Idem. Topics of our Time. Twentieth-centuries Issues in Learning and Art. London: Phaidon, 1991. Р. 12.
(обратно)3
История их обращения и вообще отношение в семье к иудаистской традиции излагается Гомбрихом довольно подробно в беседах с Дидье Эрибоном: Gombrich E.H. A Lifelong Interest. Conversations on Art and Science with Didier Eribon. Lnd, 1993. Р. 15, 25 ff. Всей этой проблематике в совокупности посвящена недавняя диссертация: Caroline A. Kita. Jacob Struggling with the Angel: Siegfried Lipiner, Gustav Mahler, and the Search for Aesthetic-Religious Redemption in Fin-de-siècle Vienna. Buffallo: Duke University, 2011.
(обратно)4
A Lifelong Interest… P. 25.
(обратно)5
Ibid. P. 28.
(обратно)6
Gombrich E. An Autobiographical Sketch // Idem. Topics of our Time. Twentieth-centuries Issues in Learning and Art. Phaidon, 1991. Р. 11.
(обратно)7
A Lifelong Interest… Р. 15–16.
(обратно)8
Ibid. Р. 25.
(обратно)9
An Autobiographical Sketch… P. 12.
(обратно)10
A Lifelong Interest… P. 30.
(обратно)11
An Autobiographical Sketch… P. 12–13.
(обратно)12
A Lifelong Interest… P. 30–31.
(обратно)13
Ibid. P. 28, 30.
(обратно)14
Это довольно примечательное учебное заведение, основанное в XVIII в. еще Марией-Терезией (откуда название). Вначале – строго аристократическое, а во времена Гомбриха – подчеркнуто демократическое («просто хорошее») и не утратившее своего гуманитарно-гуманистического пафоса (латынь и греческий преподавались на должном уровне).
(обратно)15
A Lifelong Interest… P. 32.
(обратно)16
Ibid. P. 33.
(обратно)17
Ibid.
(обратно)18
Ibid. P. 34.
(обратно)19
Ibid. P. 35.
(обратно)20
Waetzold W. Deutsche Kunsthistoriker vom Sandrart bis Justi.
Bd. 2. Leipzig: E. A. Seeman, 1921–1924.
(обратно)21
См. поздние воспоминания, изданные по-немецки: Gombrich E. Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… // Kunsthistoriker in eigener Sache / M. Sitt (Hrsg.). Berlin, 1990. S. 66.
(обратно)22
A Lifelong Interest… P. 35. См.: Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 65, где упоминается Нина Шпиглер, которой, по ее признанию, мешал у Тициана воспринимать сюжет… колорит!
(обратно)23
Gombrich E. The Preference for the Primitive: Episodes in the History of Western Taste and Art. London; N.Y.: Phaidon, 2002.
(обратно)24
An Autobiographical Sketch… Р. 14.
(обратно)25
С немецкого это слово переводится и как образование, и как формирование, и как просвещение. – Примеч. ред.
(обратно)26
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 66.
(обратно)27
A Lifelong Interest… Р. 26.
(обратно)28
A Lifelong Interest… Р. 27.
(обратно)29
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 66.
(обратно)30
A Lifelong Interest… P. 36.
(обратно)31
Ibid.
(обратно)32
Tietze H. // Burlington Magazine. 1954. Vol. 96. P. 289–290.
(обратно)33
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 70.
(обратно)34
См. также и его некролог: Schlosser J. von // Burlington Magazine. 1939. Vol. 74. P. 98–99. Кроме того: Einige Erinnerungen an Julius von Schlosser als Lehrer // Kritische Berichte. 1988. Nr. 4. S. 5–9.
(обратно)35
Gombrich E. Zum Werke Giulio Romanos // Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien. N.F. 1934. Bd. 8. S. 79–104.
(обратно)36
Ср. рецензию на самого Гомбриха с характерным названием: Giovanni P. E.H. Gombrich, conservatore Viennese // Paragone. 1968. Vol. 19. P. 22–40.
(обратно)37
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 67.
(обратно)38
См. его краткое и довольно грустное (в конце) позднее эссе: Gombrich E.H. Art History and Psychology in Vienna Fifty Years Ago // Art Journal. 1984. Vol. 44. P. 162–164.
(обратно)39
Das Atlantisbuch der Kunst. Eine Enzyklopedie der bildenden Künste. Zürich, 1952. S. 662. Ср. одобрительное упоминание диссертации и у Зедльмайра: Die “macchia” Breugels [1934] // Idem. Epochen und Werke. Gesammelte Schriften zur Kunstgeschichte. Bd. 1. München, 1959; 2. Aufl. 1985. S. 274–317.
(обратно)40
An Autobiographical Sketch… Р. 19.
(обратно)41
Можно упомянуть лишь одну позднюю заметку: Gombrich E.H. The Beauty of Old Towns // Architectural Association Journal. April. Reprinted in: Reflections on the History of Art, 1987. 42 Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 73, 95.
(обратно)42
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 73, 95.
(обратно)43
The Lifelong Interest… P. 34.
(обратно)44
Schlosser J. von. Die Kunstliteratur: ein Handbuch zur Quellenkunde der neueren Kunstgeschichte. Wien: A. Schroll & Co., Ges. m.b.H., 1924.
(обратно)45
An Autobiographical Sketch… Р. 14.
(обратно)46
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 68.
(обратно)47
Ibid.
(обратно)48
Gombrich E.H. Eine verkannte karolingische Pixis im Wiener Kunsthistorischen Museum // Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien. N.F., 1933. S. 1–14.
(обратно)49
An Autobiographical Sketch… Р. 15. Ср. его тогдашнее эссе на эту тему: Gombrich E.H. Wertprobleme und mittelalterliche Kunst, Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literature. 1937. Bd. 6. S. 109–116. Перепечатано: Achievement in Medieval Art // Meditations on a Hobby Horse. 1963. На тему «Гомбрих и Средние века» см. доклад Пола Кроссли: Crossley P. (Courtauld Institute). Gombrich and the Middle Ages // E.H. Gombrich: A Centenary Colloquium, The Warburg Institute. London, 2009. June 19–20.
(обратно)50
Stilfragen. Berlin: G. Siemens, 1893.
(обратно)51
An Autobiographical Sketch… Р. 16.
(обратно)52
Gombrich E.H. The Sense of Order. A Study in the Psychology of Decorative Art. Oxford, 1979. Риглю в одном важном историографическом обзоре Гомбриха принадлежат очень содержательные страницы – явное продолжение еще юношеского увлечения: Atlantisbuch… S. 656–661.
(обратно)53
Saxl F. Die Ausdruckgebärden der bildenden Kunst [1931] // Idem. Gebärde, Form, Ausdruck. Zürich, 2012. S. 95–107.
(обратно)54
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 83–84.
(обратно)55
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 70.
(обратно)56
Ibid.
(обратно)57
A Lifelong Interest… P. 38.
(обратно)58
Ibid. P. 37.
(обратно)59
An Autobiographical Sketch… Р. 14.
(обратно)60
См. его: Europas Machtkunst im Rahmen des Erdkreises. Wien, 1941.
(обратно)61
Ibid.
(обратно)62
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 67. Существуют воспоминания недавно скончавшейся ученицы преемника Шлоссера в должности заведующего кафедрой – Зедльмайра: Frodl-Kraft E. Eine Aporie und der Versuch ihrer Deutung: Joseph Strzygowski – Julius von Schlosser // Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. 1989. S. 7–52.
(обратно)63
An Autobiographical Sketch… Р. 14.
(обратно)64
Atlantisbuch… S. 663.
(обратно)65
An Autobiographical Sketch… Р. 14.
(обратно)66
A Lifelong Interest… P. 37, 38.
(обратно)67
См.: Зедльмайр Х. Утрата середины. М., 2009. C. 16, 19.
(обратно)68
См. его: Die Wiener Schule der Kunstgeschichte. Innsbruck:
Wagner, 1934.
(обратно)69
A Lifelong Interest… P. 39.
(обратно)70
Ibid.
(обратно)71
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 72–73.
(обратно)72
Ibid. S. 72.
(обратно)73
Ibid. S. 73.
(обратно)74
Первая его публикация – именно на эту тему: Gombrich E.H. Ein chinesisches Gedicht – und was ihm bei seiner Übertragung ins Deutsche alles passieren könnte // Literarische Monatshefte. 1930. Hf. 5. S. 12–13. См. также: Gombrich E.H. Tributes: Interpreters of Our Cultural Tradition. London: Phaidon Press; Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1984. P. 235–249, где говорится, что Курц, в отличие от Гомбриха, сохранил приязнь к этому языку на всю жизнь и даже мог делать на нем небольшие надписи (p. 238).
(обратно)75
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 70.
(обратно)76
A Lifelong Interest… Р. 38.
(обратно)77
Tributes… P. 238.
(обратно)78
Ibid. P. 38–39.
(обратно)79
Ibid. P. 45.
(обратно)80
Ibid.
(обратно)81
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 74. См.: Tributes… P. 239.
(обратно)82
Ibid. S. 95.
(обратно)83
Tributes… P. 223–224.
(обратно)84
Ibid. P. 232.
(обратно)85
Lepsky K. Ernst H. Gombrich: Theorie und Methode. Wien; Köln: Böhlau, 1991. S. 10–11.
(обратно)86
A Lifelong Interest… P. 16.
(обратно)87
Gombrich E.H., Kris E. The Principles of Caricature // British Journal of Medical Psychology. 1938. Vol. 17. P. 319–342. Крису посвящено позднее эссе Гомбриха: Gombrich E.H. Tributes… P. 221–233.
(обратно)88
См.: Kurz O., Kris E. Die Legende vom Künstler: ein geschichtlicher Versuch. Wien: Krystall-Verlag, 1934; engl.: Legend, Myth and Magic in the Image of the Artist: An Historical Experiment. Trans. Alistair Laing. Revised by Otto Kurz. New Haven, CT: Yale University Press, 1979.
(обратно)89
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 74.
(обратно)90
Tributes… P. 226–227.
(обратно)91
Kris E. A Psychotic Sculptor of the 18th Century // Idem. Psychoanalytic Explorations in Art [1952]. Madison (Connect.), 2000. P. 128–150.
(обратно)92
См. крайне важные замечания Ричарда Куна по поводу психоаналитических и искусствоведческих составляющих аналитики Криса: Kuhn R. Psychoanalitische Theorie der Kunst. Frankfurt a/M, 1986. S. 99–108.
(обратно)93
Tributes… P. 224–226.
(обратно)94
A Lifelong Interest… Р. 51–53. См. также уже цитировавшийся текст о Крисе в Tributes… (The Study of Art the Study of Man/ Reminiscences of Collaboration with Ernst Kris. P. 221–233).
(обратно)95
Идея учителя Криса и Гомбриха – фон Шлоссера. См.: Schlosser J. von. Geschichte der Portraetbildnerei in Wachs. Ein Versuch [1910]. Wien, 1993.
(обратно)96
A Lifelong Interest… P. 53.
(обратно)97
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 75.
(обратно)98
О Бинг и ее месте в жизни Варбурга см.: Michels K. (Hrsg.). Aby Warburg. Mit Bing in Rom, Neapel, Capri und Italien. Karen Michels auf den Spuren einer ungewöhnlichen Reise. Hamburg, 2010. О самой Бинг у Гомбриха см.: Gertrud Bing, 1892–1964 // Gertrud Bing in Memoriam. The Warburg Institute. London, 1965. S. 1–3 и Gertrud Bing zum Gedenken // Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen. 1965. Bd. 10. S. 7–12.
(обратно)99
См. его некролог: Otto Kurz // Burlington Magazine. 1976. Vol. 118. P. 29–30.
(обратно)100
Tributes… P. 249.
(обратно)101
См.: A Lifelong Interest… P. 43–44. (Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 84.)
(обратно)102
A Lifelong Interest… Р. 43.
(обратно)103
Ibid. Р. 41.
(обратно)104
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 86.
(обратно)105
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 86.
(обратно)106
Gombrich E.H. Die Weltgeschichte von der Urzeit bis zur Gegenwart. Wien/Leipzig, 1936. 1985 г. – второе немецкое издание (Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser: Von der Urzeit bis zur Gegenwart. 4. Aufl., 2013) с новой заключительной главой. В 2005 г. появился английский перевод.
(обратно)107
Ibid. P. 43. До этого Гомбрих некоторое время пытался зарабатывать публичными лекциями и частными уроками, что никаких чувств, кроме разочарования, у него не вызывало.
(обратно)108
См.: A Lifelong Interest… P. 43.
(обратно)109
Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser… S. 16.
(обратно)110
A Lifelong Interest… P. 57.
(обратно)111
Можно вспомнить, что в поздней монографии (The Sense of Order. A Study in the Psychology of Decorative Art. The Wrightsman Lectures. Oxford, 1979) имеется Эпилог с соответствующим названием: «Некоторые музыкальные аналогии».
(обратно)112
См.: Tributes… P. 226.
(обратно)113
Ibid. Р. 228–229.
(обратно)114
Ibid. Р. 231.
(обратно)115
Ibid. Р. 232.
(обратно)116
Ibid. P. 233.
(обратно)117
Ibid.
(обратно)118
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 76.
(обратно)119
A Lifelong Interest… Р. 48.
(обратно)120
Ibid. Р. 49.
(обратно)121
Ibid. Р. 55.
(обратно)122
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 77.
(обратно)123
См. на эту тему у позднего Гомбриха: Gombrich E.H. The Visual Arts in Vienna c. 1900; Reflections on the Jewish Catastrophe, Austrian Cultural Institute, Occasions, The Austrian Cultural Institute London. 1996. Vol. 1. November 17. P. 40 ff.
(обратно)124
Ibid. 33.
(обратно)125
Gombrich E.H. The Visual Arts… P. 37.
(обратно)126
Ibid. Р. 38.
(обратно)127
Ibid. Р. 44.
(обратно)128
Ibid. Р. 47.
(обратно)129
Ibid. Р. 45.
(обратно)130
В более широком контексте на эту тему см.: Der lange Schatten des Antisemitismus: Kritische Auseinandersetzungen mit der Geschichte der Universität Wien im 19. und 20. Jahrhundert (Zeitgeschichte Im Kontext). V&R Unipress, 2013. И в продолжении темы и в связи с главнейшим персонажем нашего повествования после самого Гомбриха см.: Schoell-Glass Ch. Aby Warburg und der Antisemitismus: Kulturwissenschaft als Geistespolitik. 1998.
(обратно)131
An Autobiographical Sketch… Р. 20.
(обратно)132
Tributes… Р. 242.
(обратно)133
A Lifelong Interest… Р. 56–57.
(обратно)134
A Lifelong Interest… Р. 50.
(обратно)135
Ibid. P. 54. Имеется в виду: Gombrich E.H. H. Aby Warburg: An Intellectual Biography. 1nd ed. London, 1968.
(обратно)136
См.: Ванеян С. С. Аби Варбург глазами Эрнста Гомбриха: опыт прочтения и комментария // Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории христианского мира. Вып. 5 (8).
(обратно)137
См.: A Lifelong Interest… P. 50–51.
(обратно)138
Институт искусства Курто (англ. Courtauld Institute of Art) – институт истории искусства в составе Лондонского университета, располагающий собственным художественным собранием. – Примеч. ред.
(обратно)139
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 77.
(обратно)140
См.: A Lifelong Interest.… Р. 57.
(обратно)141
Tributes… Р. 240.
(обратно)142
Tributes… Р. 231.
(обратно)143
An Autobiographical Sketch… Р. 20–21.
(обратно)144
Tributes… Р. 242. В продолжение этой темы и ее приложения к теме еврейского самосознания см.: Wimmer А. (ed.). Strangers at Home and Abroad: Recollections of Austrian Jews Who Escaped Hitler. Jefferson; North Carolina; London: McFarland & Company, 2000.
(обратно)145
Цит. по: Woodfield R., Gombrich E. Iconology and the “linguistics of the image” // Journal of Art Historiography. 2011. Nо. 5. December. Р. 2.
(обратно)146
Woodfield R., Gombrich E. Iconology and the “linguistics of the image”… Р. 59–60.
(обратно)147
Об У. Черчилле см. соответствующие места в «Искусстве и иллюзии», а также отдельно: Gombrich E.H. Winston Churchill as Painter and Critic // The Atlantic. 1963. Vol. 215. P. 90–93. См., например, характерные наблюдения на ту же тему: Gombrich E.H. Myth and reality in German war-time broadcasts. The Creighton lecture in history. London. P. 28. Reprinted in: Ideals and Idols, 1979.
(обратно)148
A Lifelong Interest… P. 61.
(обратно)149
Ibid.
(обратно)150
Lepsky… S. 56–57.
(обратно)151
Tributes… Р. 230.
(обратно)152
A Lifelong Interest… Р. 50.
(обратно)153
Ibid.
(обратно)154
Ibid. P. 58–59.
(обратно)155
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 80.
(обратно)156
Gombrich E.H. Ideals and Idols, Essays on Values in History and in Art. Oxford, 1979.
(обратно)157
Ibid. P. 112, 130.
(обратно)158
Gombrich E.H. Reynolds’s Theory and Practice of Imitation // Burlington Magazine. Vol. 80. P. 40–45. Reprinted in: Norm and Form, 1966.
(обратно)159
Gombrich E.H. The Subject of Poussin’s “Orion” // Burlington Magazine. Vol. 84. P. 37–41. Reprinted in: Symbolic Images, 1972.
(обратно)160
A Lifelong Interest… P. 54–55.
(обратно)161
Эрнст Кассирер (нем. Ernst Cassirer; 1874–1945) – немецкий философ и культуролог, представитель марбургской школы неокантианства. – Примеч. ред.
(обратно)162
Tributes… Р. 244.
(обратно)163
Ibid. P. 62.
(обратно)164
Ibid. P. 63.
(обратно)165
Ibid. P. 63–64.
(обратно)166
Ibid.
(обратно)167
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 79.
(обратно)168
Ibid. S. 77.
(обратно)169
Ibid. S. 96.
(обратно)170
Ibid. S. 97.
(обратно)171
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 97.
(обратно)172
Ср. довольно остроумные, хотя и краткие наблюдения В. Хофманна по поводу «критических форм» Зедльмайра и «символических форм» Панофского: Bildende Kunst. Bd. II / W. Hofmann von (Hrsg.). Frankfurt a/M, 1960.
(обратно)173
См.: Bildende Kunst… P. 65–66.
(обратно)174
См., например, авторскую версию, излагаемую в письме (от 7 июня 1955 г.) У. Х. Одену, который готовился к выступлению на ВВС (!) на тему «Властелина колец»: Толкин Дж. Р. Р. Письма. М., 2004. С. 244–245. Хотя нельзя не учитывать, что перед публикацией письма и отбирались, и редактировались, причем не самим автором…
(обратно)175
Из письма Кристоферу Толкину (18 декабря 1944 г.) // Там же. С. 122–123.
(обратно)176
Gombrich E.H. Botticelli’s mythologies. A Study in the Neoplatonic Symbolism of his Circle // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1947. No. 8. P. 7–60. Reprinted in: Symbolic Images, 1972. К этой работе примыкает эссе: Icones Symbolicae. The visual image in neo-Platonic thought // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. No. 11. P. 163–192. Reprinted (revised) in: Symbolic Images, 1972.
(обратно)177
Atlantisbuch… S. 5 (Предисловие издателя).
(обратно)178
Ibid. S. 67.
(обратно)179
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 85.
(обратно)180
Ibid. S. 68.
(обратно)181
Gombrich E.H. Art History and the Social Sciences. The Romanes Lecture for 1973. Oxford, 1975. Reprinted in: Ideals and Idols, 1979.
(обратно)182
См. в связи с этим текст самого Ханса Бельтинга: Belting H. Gedenkworte für Sir Ernst Gombrich // Orden pour le Merite. Reden und Gedenkworte. 2001/2002. Nr. 31. S. 115–123.
(обратно)183
Общее число наград и премий Гомбриха с трудом поддается учету. Среди самых выдающихся: Почетный крест Первого класса за научные достижения Президента Австрии (1975), Почетный орден Австрии за достижения в науке и искусстве (1984), Премия Эразма (1975), Премия Гегеля (1976). Только почетным профессором его числили 13 университетов!
(обратно)184
Это отмечает Metzler’s Kunsthistoriker Lexikon (S. 133).
(обратно)185
Gastspiele. Aufsätze eines Kunsthistorikers zur deutschen Sprache und Germanistik. Wien, 1992.
(обратно)186
Крайне обширен список рецензий Гомбриха, писавшего их всю свою жизнь (так, только в 1938 г. выходит 20 его рецензий, а последняя – в 1999 г.).
(обратно)187
Опять-таки поздние воспоминания на эту тему: Gombrich E.H. The Open Society and its Enemies: Remembering Its Publication Fifty Years Ago, Centre for the Philosophy of the Natural and Social Sciences. Discussion Paper Series. No. 11. Об истории издания книги см.: A Lifelong Interest… P. 121–123.
(обратно)188
Gombrich E.H. The Open Society… P. 122.
(обратно)189
Kunsthistoriker in eigener Sache… S. 96.
(обратно)190
См.: A Lifelong Interest… P. 29.
(обратно)191
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 86.
(обратно)192
Выражение из недавнего текста о Гомбрихе: Metzler’s Kunsthistoriker Lexikon. 2. Aufl. Stuttgart, 2007. S. 134. Здесь же – удачное описание его взглядов как «развивавшихся в форме перенимания или благосклонной критики чужих результатов» (Ibid.).
(обратно)193
Об этом и в связи с теорией символизма см.: Lepsky… S. 32.
(обратно)194
См. главнейшие сочинения этого, безусловно, равновеликого если не по влиянию, то по креативной мощи с Фрейдом ученого, врача и литератора в одном лице: Groddeck G. Das Buch vom Es. Psychoanalytische Briefe an eine Freundin [1923]. Frankfurt a/M, 1979. О нем см., в частности: Groddeck-Almanach / H. Siefert u.a. (Hrsg.). Frankfurt a/M, 1986. Кроме того, существует на ту же тему весьма авторитетное сочинение еще одного венского эмигранта, Макса Шура, личного врача Фрейда в последние годы его жизни: Schur M. Das Es und die Regulationsprinzipien des psychischen Geschehens. Frankfurt a/M, 1973.
(обратно)195
См.: Seyfarth L. Theoretiker der Illusion // Idem. Unsichtbare Sammlungen. Kunst nach der Postrmoderne. S. 172–182.
(обратно)196
О Гегеле у Гомбриха см.: Tributes… P. 51–70.
(обратно)197
См.: Elkins J. Ten Reasons Why E.H. Gombrich is not Connected to Art History // Relativism Versus Universalism & Ernst Hans Gombrich / J. Bakoš, H. Affairs (eds.). 2009. Issue 3. September. P. 304–310.
(обратно)198
Gombrich E. Kunst und Kritik. Stuttgart, 1993.
(обратно)199
Gombrich E. Reflections on the History of Art: Views and Reviews / R. Woodfield (ed.). Oxford, 1987.
(обратно)200
Gombrich E. Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation. London: Phaidon Press, 1960. Ссылки на издание 2002 г.
(обратно)201
Достаточно подробная история возникновения книги (начиная с 1947 г.) приводится (вместе с уникальными архивными материалами Института Варбурга и Курто) в недавней публикации: Kopecky V. Letters to and from Ernst Gombrich regarding Art and Illusion, including some comments on his notion of “schema and correction” // Journal of Art Historiography. 2010. No. 3. December.
(обратно)202
Art and Illusion… P. 19. – Пер. Е. А. Ванеян.
(обратно)203
Art and Illusion… P. 24–25.
(обратно)204
На тему «психоанализ и история искусства» см.: Gombrich E. Psycho-analysis and the history of art // International Journal of Psycho-analysis. Vol. 35. P. 401–411. Reprinted in: Meditations on a Hobby Horse, 1963.
(обратно)205
У самого Гомбриха на эту тему см.: Gombrich E.H. Renaissance artistic theory and the development of landscape painting // Gazette des Beaux-Arts. Vol. 41. P. 335–360. Reprinted in: Norm and Form, 1966.
(обратно)206
Промежуточно итоговый текст на эту тему (и в контексте полемики с Нельсоном Гудманом) см.: The “What” and the “How”: Perspective Representation and the phenomenal World // R. Rudner, I. Scheffler (eds). Logic and Art: Essays in Honor of Nelson Goodman. N.Y. Р. 129–149.
(обратно)207
Mitchell T.J.W. Bildtheorie. Frankfurt а/M: Suhrkamp, 2008. S. 65.
(обратно)208
Ibid.
(обратно)209
Mitchell T.J.W. Bildtheorie… S. 66.
(обратно)210
Ibid. S. 68.
(обратно)211
Не побоимся привести самый сдержанный и свежий вариант варбурговской библиографии: Ferretti S., Pierce R. Cassirer, Panofsky, and Warburg: Symbol, Art, and History. 1989; Roeck B. Der junge Aby Warburg. 1996; Secchi L. Il metodo iconologico di Erwin Panofsky e le sue origini nel modello interpretativo dell’Istituto Aby Warburg. 1996; Burke P. Photographs at the Frontier: Aby Warburg in America, 1895–1896. 1999; Woodfield R. Art History as Cultural History: Warburg’s Projects. 2001; Bertozzi M. Aby Warburg e le metamorfosi degli antichi Dèi. 2002; Cernia Slovin F. Obsessed by Art: Aby Warburg: His Life and His Legacy. 2006; Marazia Ch., Stimilli D. Die unendliche Heilung: Aby Warburgs Krankengeschichte. 2007; Michaud Ph.-A., Hawkes S., Didi-Huberman G. Aby Warburg and the Image in Motion. 2007; Russell M. A. Between Tradition and Modernity: Aby Warburg and the Public Purposes of Art in Hamburg, 1896–1918. 2007; Michels K. Aby Warburg: Im Bannkreis der Ideen. 2008; Forti N., Cieri Via Cl. Aby Warburg e la cultura italiana. Tra sopravvivenze e prospettive di ricerca. 2009; Kreft Chr. Adolph Goldschmidt und Aby M. Warburg: Freundschaft und kunstwissenschaftliches Engagement. 2010; Rösch P. Aby Warburg. Stuttgart, 2010; Treml M., Flach S., Schneider P. Warburgs Denkraum. Formen, Motive, Materialien. 2014; Didi-Huberman Ge., Bischoff M. Das Nachleben der Bilder: Kunstgeschichte und Phantomzeit nach Aby Warburg. 2010; Hurttig M.A., Ketelsen Th., Rehm U., Wedepohl Cl. Die entfesselte Antike. Aby Warburg und die Geburt der Pathosformel. 2012; Johnson Christopher D. Memory, Metaphor, and Aby Warburg‘s Atlas of Images. 2012; Levine E.J. Dreamland of Humanists: Warburg, Cassirer, Panofsky, and the Hamburg School. 2013; Lofts S.G. The Warburg Years (1919–1933): Essays on Language, Art, Myth, and Technology. 2013; Baert B. Nymph. Motif, Phantom, Affect: A Contribution to the Study of Aby Warburg (1866–1929). 2014; Hurttig M.A. Antiquity Unleashed: Aby Warburg, Durer and Mantegna. 2014. Полная библиография Варбурга: Wuttke D. Aby M. Warburg-Bibliographie 1866 bis 1995: Werk und Wirkung. 1998. Среди русскоязычных публикаций в первую очередь следует назвать: Торопыгина М.Ю. Иконология. Начало. М., 2014.
(обратно)212
Venturi L. Geschichte der Kunstkritik. München, 1972. S. 269–270.
(обратно)213
Gombrich Е. Aby Warburg. An Intellectual Biography. London, 1970. Мы пользовались немецким изд.: Hamburg: Philo & Philo Fine Arts, 2006.
(обратно)214
Gombrich Е. Aby Warburg… S. 94–99 (упоминания психоаналитических и феноменологических перспектив – на нашей совести, Гомбрих здесь более сдержан).
(обратно)215
Между прочим, мотив «невротической лошади» – сквозной для, так сказать, психотерапевтической иконологии. См., например: Watzlawick P. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wahn, Täuschung, Verstehen. Piper Taschenbuch; 14. Aufl. 2005. S. 59.
(обратно)216
О самом принципе персонификации у самого Гомбриха см.: Personification // R.R. Bolgar (ed.). Classical influences on European culture A.D. 500–1500. Cambridge, 1971. P. 247–257.
(обратно)217
Gombrich Е. Aby Warburg… S. 97.
(обратно)218
Gombrich Е. Aby Warburg… S. 98–99.
(обратно)219
Gombrich Е. Aby Warburg… S. 109.
(обратно)220
Ibid.
(обратно)221
На тему эволюционизма у Варбурга отдельно см.: Gombrich E. Aby Warburg e l’evoluzionismo ottocentesco // Belfagor.
Vol. 49 (6). P. 635–649.
(обратно)222
Gombrich Е. Aby Warburg… S. 106.
(обратно)223
Ibid. S. 107.
(обратно)224
Ibid.
(обратно)225
Ibid.
(обратно)226
Gombrich Е. Aby Warburg… S. 107.
(обратно)227
Ср.: Kofler P. Ekstatische Kunst-Besonnenes Wort. Aby Warburg und die Denkräume der Ekphrasis. Wien; München; Bozen: Studien-Verl, 2009.
(обратно)228
Ibid. S. 108.
(обратно)229
Gombrich Е. Aby Warburg… S. 112.
(обратно)230
Villhauer B. Aby Warburgs Theorie der Kultur: Detail und Sinnhorizont. Berlin: Akademie Verlag, 2002.
(обратно)231
На тему связи Варбурга и Беньямина в контексте именно иудейской магической практики чтения как трансформации пространства (в том числе) см.: Wolfram G. Der leuchtende Augenblick: Über Menschen und Orte des Lesens. Berlin: Hentrich & Hentrich, 2013.
(обратно)232
Гомбрих говорит, что все предшествующие интерпретации «должны пролить свет на этот последний и загадочнейший из “Четырех тезисов”» (Gombrich Е. Aby Warburg… S. 111).
(обратно)233
Raulff U. Wilde Energien: Vier Versuche zu Aby Warburg. Göttingen: Wallstein, 2011.
(обратно)234
Gombrich Е. Aby Warburg… S. 125–128.
(обратно)235
Poppel S. Aby Warburg – Die Mehrdeutigkeit des Schlangenrituals: Zwischen Magie und Logos. Eine Untersuchung über die Grenzen der Kunstgeschichte hinaus. München: Grin Verlag, 2013.
(обратно)236
См.: Cestelli Guidi B., Mann N. Grenzerweiterungen: Aby Warburg in Amerika 1895–1896. Hamburg: Dölling u. Galitz, 1999.
(обратно)237
Ср. на эту тему: Roeck B. Florenz 1900: Die Suche nach Arkadien. München: C.H.Beck, 2004.
(обратно)238
Gombrich Е. Aby Warburg… S. 112.
(обратно)239
Ibid. S. 113.
(обратно)240
См.: Flach S., Münz-Könen I., Streisand M. Der Bilderatlas im Wechsel der Künste und Medien. München: Fink, 2005.
(обратно)241
См. на эту тему: Hensel T. Wie aus der Kunstgeschichte eine Bildwissenschaft wurde: Aby Warburgs Graphien. Berlin: Akad.Verl., 2011.
(обратно)242
Cм.: Tausch H. (Hrsg.). Gehäuse der Mnemosyne (Formen der Erinnerung). Architektur als Schriftform der Errinnerung. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003.
(обратно)243
Panofsky E. Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst // Logos. 1932. Bd. 21. S. 103–119.
(обратно)244
Idem. Iconography and Iconology: An Introduction to the Study in the Visual Arts // Studies in Iconology. N.Y., 1939.
(обратно)245
См., в частности: Holly M.A. Panofsky and the Foundations of Art History. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1984.
(обратно)246
Forssman E. Ikonologie und allgemeine Kunstgeschichte // Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. 1966. Bd. 11. S. 132–169.
(обратно)247
См.: Куайн У.В.О. Преследуя истину [1990]. М., 2014. С. 12–19 (2. Предложения наблюдения).
(обратно)248
См. у Гомбриха раннюю рецензию на основной текст Ч. Морриса: Morris С. Signs, Language and Behaviour // Art Bulletin. Vol. 31. P. 68–75. Reprinted in: Reflections on the History of Art, 1987.
(обратно)249
Gombrich E. Aims and Limits of Iconology // Symbolic Images. Studies in the Art of the Renaissance. London, 1972. P. 1–22. Цит. по: Idem. Ziele und Grenze der Ikonologie // Ikonographie und Ikonologie. Theorien, Entwicklung, Probleme [Bildende Kunst als Zeichensystem / E. Kimmerling (Hrsg.)]. Köln. 1979. S. 377–433.
(обратно)250
Ziele und Grenze der Ikonologie… S. 381.
(обратно)251
См.: Pächt O. Methodisches zur Kunsthistorischen Praxis. Ausgewählte Schriften. München: Prestel, 1977. S. 249.
(обратно)252
Ziele und Grenze der Ikonologie… S. 384.
(обратно)253
Ibid. Следует все-таки признать за всем этим «интенционалистскую» теорию значения.
(обратно)254
См.: Ванхузер К.Дж. Искусство понимания текста. Литературоведческая этика и толкование Писания. Пер. с англ. Черкассы: Коллоквиум, 2007. Особенно глава 7 «Преображение читателя: толковательная добродетель, духовность и действенность коммуникации».
(обратно)255
Кюнг Г. Мир как ноэма и как референт // Аналитическая философия. Становление и развитие. М., 1998. С. 302–321.
(обратно)256
Имеется в виду: Hirsch E.D. Validity and Interpretation. New Haven: Yale University Press, 1967.
(обратно)257
Ziele und Grenze der Ikonologie… S. 385.
(обратно)258
Ziele und Grenze der Ikonologie… S. 386.
(обратно)259
Ibid. S. 388. Можно заметить, что дилеммы или проблемы выбора в этом нет: одно именно предполагает другое, как и следует из текстов того же Панофского.
(обратно)260
См.: Bialostocky J. Iconography // Dictionary of the History of Ideas. 1973. Bd. 2. P. 524–541.
(обратно)261
Ziele und Grenze der Ikonologie… S. 409.
(обратно)262
См. выше переиначивание-переложение этого места у Форс смана. Кроме того, сам мотив сокрытия-оборачивания имеет неожиданные эквиваленты в Евангелии (мина, завернутая в платок: Лк. 19:20).
(обратно)263
Ziele und Grenze der Ikonologie… S. 416.
(обратно)264
Ср.: Ebling K., Günzel S. (Hrsg.). Archivologie. Theorien des Archivs in Philisophie, Medien und Künsten. Berlin, 2009.
(обратно)265
Ziele und Grenze der Ikonologie… S. 417.
(обратно)266
Ibid. S. 418.
(обратно)267
Ziele und Grenze der Ikonologie… S. 418.
(обратно)268
Ibid. S. 419.
(обратно)269
Ziele und Grenze der Ikonologie… S. 424.
(обратно)270
Strzygowsky J. Die bildende Kunst der Gegenwart. Ein Büchlein für Jedermann. Leipzig: Quelle & Meyer, 1907. S. 12.
(обратно)271
Kris E., Gombrich E. The Principles of Caricature // British Journal of Medical Psychology. 1938. Vol. 17. P. 319–342. Caricature // King Penguin Books, 5, Harmondsworth, Mddx. 1940.
(обратно)272
См. сборник: Mitchell T. Bildtheorie… S. 9–14.
(обратно)273
Ibid. S. 10.
(обратно)274
См. замечательные в своем неподражаемом глубокомыслии размышления Ригля: Riegl A. Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und seine Entstehung [1903] // Gesammelte Aufsätze. 2. Aufl. Berlin, 1995. Особенно идею, что современность как ценность требует своей актуализации в памятнике, который, между прочим, в такой функции действует антиэстетически (Ibid. S. 181 ff).
(обратно)275
Ziele und Grenze der Ikonologie… S. 425.
(обратно)276
См. соответствующий сборник у Гомбриха: Gombrich E. Norm and Form. Studies in the Art of the Renaissance. London, 1966; 2nd. ed. London; N.Y.: Phaidon, 1971.
(обратно)277
Schütz I. (Hrsg.). Über Geschmack lässt sich doch streiten. Zutaten aus Küche, Kunst und Wissenschaft. Berlin: Kadmos, 2011.
(обратно)278
Gombrich E.H. Symbolic Images. Studies in the Art of the Renaissance. London: Phaidon, 1972. P. 1–25.
(обратно)279
См. в том числе ранние, прежде не публиковавшиеся тексты (кандидатская и докторская диссертации): Wind E. Ästhetischer und Kunstwissenschaftlicher Gegenstand. Ein Beitrag zur Methodologie der Kunstgeschichte [1922]. Hamburg: Philo Fine Arts, 2011; Wind E. Experiment und Metaphysik. Zue Auflösung der kosmologischen Antinomien [1934]. Frankfurt a/M.: Suhrkamp, 2001. Из последних публикаций о нем см.: Bredekamp H., Buschendorf B., Hartung F., Krois J. Edgar Wind – Kunsthistoriker und Philosoph. Oldenbourg: Akademieverlag, 1999; а также предисловия к вышеуказанным публикациям и особенно к след.: Wind E., Krois J.M. (Hrsg.). Heilige Furcht und andere Schriften zum Verhältnis von Kunst und Philosophie. Hamburg: Philo Fine Arts, 2009. S. 9–40 (здесь же – и послесловие. S. 395–418).
(обратно)280
Gombrich E. Botticelli’s mythologies. A study in the Neoplatonic Symbolism of his Circle // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1947. Vol. 8. P. 7–60. Reprinted in: Symbolic Images, 1972. К этой работе примыкает эссе: Icones Symbolicae. The visual image in neo-Platonic thought // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. 11. P. 163–192. Reprinted (revised) in: Symbolic Images, 1972.
(обратно)281
Gombrich E.H. Symbolic Images… P. 31.
(обратно)282
Gombrich E.H. Symbolic Images… P. 35.
(обратно)283
И, кстати говоря, основное эссе Гомбриха на эту тему: On Physiognomic Perception // Daedalus. Journal of the American Academy of arts and sciences (Special issue: The Visual Arts today). P. 228–241. Reprinted in: Meditations on a Hobby Horse, 1963. Ср.: The Mask and the Face: the perception of physiognomic likeness in life and in art // Gombrich E.H., Hochberg J., Black M. Art, perception and reality. P. 1–46. Reprinted in: The Image and the Eye, 1982.
(обратно)284
Gombrich E.H. Symbolic Images… P. 53.
(обратно)285
Ibid. P. 54.
(обратно)286
Ibid. P. 55.
(обратно)287
Ibid.
(обратно)288
См.: Gombrich E. Ritualized Gesture and expression in art, Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences. Vol. 251. No. 772. P. 393–401. Reprinted in: The Image and the Eye, 1982.
(обратно)289
Gombrich E.H. Symbolic Images… P. 55.
(обратно)290
Ibid. P. 56.
(обратно)291
Symbolic Images… P. 57.
(обратно)292
Ibid. P. 58.
(обратно)293
Ibid. P. 59.
(обратно)294
Symbolic Images… P. 212.
(обратно)295
Ibid. P. 59.
(обратно)296
Gombrich E.H. Symbolic Images… P. 59–60.
(обратно)297
Ibid. P. 60.
(обратно)298
О Homo ludens у Гомбриха см.: Huizinga’s “Homo ludens”, Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Vol. 88. P. 275–296. Reprinted in: W.R.H. Koops et al. Johan Huizinga, 1872–1972. The Hague, 1973; см. также: The Times Literary Supplement. 1974. 4 October и в: Tributes. 1984.
(обратно)299
Symbolic Images… P. 60.
(обратно)300
Ibid.
(обратно)301
Ibid. P. 61.
(обратно)302
Gombrich E.H. Symbolic Images… P. 62.
(обратно)303
Ibid.
(обратно)304
Кассоне (итал. cassone, происходит от итал. cassa – ящик, сундук) – сундук для приданого. В начале XV в. в Тоскане появилась мода украшать кассоне живописными панно с религиозными, мифологическими сценами или сценами из древней и современной истории. – Примеч. ред.
(обратно)305
Gombrich E.H. Symbolic Images… P. 62.
(обратно)306
Ibid.
(обратно)307
Ibid. P. 63.
(обратно)308
Ibid. P. 62.
(обратно)309
Ibid.
(обратно)310
Ibid.
(обратно)311
Ibid. P. 63.
(обратно)312
Gombrich E.H. Symbolic Images… P. 64.
(обратно)313
Ibid.
(обратно)314
Ibid.
(обратно)315
Wind E. Pagan Mysteries in the Renaissance. New Haven: Yale University Press, 1958. P. 100–110.
(обратно)316
Gombrich E. Visual Metaphors of value in art // L. Bryson et al. (eds). Symbols and Values: an initial study. 13th symposium of the conference on science, philosophy and religion. N.Y. P. 225–281. Reprinted in: Meditations on a Hobby Horse, 1963; Smith R.A. (ed.). Aesthetics and Criticism in Art Education. Chicago, 1966.
(обратно)317
Meditations on a Hobby Horse and other Essays on the Theory of Art. London, 1963. P. 13.
(обратно)318
Meditations on a Hobby Horse… P. 13.
(обратно)319
Ibid. P. 14.
(обратно)320
Ibid. P. 18.
(обратно)321
Ibid.
(обратно)322
Ibid.
(обратно)323
Ibid. P. 19.
(обратно)324
Ibid. P. 20.
(обратно)325
Meditations on a Hobby Horse… P. 21.
(обратно)326
На бескрайнюю тему «Гомбрих и психоанализ» из недавних публикаций см.: Dedman R. The importance of being Ernst: a reassessment of E. H. Gombrich’s relationship with psychoanalysis // Journal of Art Historiography. 2012. No. 7. December. P. 1–26.
(обратно)327
Meditations on a Hobby Horse… P. 22–23.
(обратно)328
Ibid. P. 24.
(обратно)329
Ibid. P. 25.
(обратно)330
Ibid.
(обратно)331
Ibid. P. 26.
(обратно)332
Meditations on a Hobby Horse… P. 28–29.
(обратно)333
Wind E. Pagan Mysteries… P. 110.
(обратно)334
Gronemeyer N. Optische Magie: Zur Geschichte der visuellen Medien in der Frühen Neuzeit. Transcript, 2004.
(обратно)335
Немецкоязычное продолжение см.: Kunstgeschichte und Kunsttheorie im 19. Jahrhundert (Probleme der Kunstwissenschaft, 1) // Art Bulletin. 1964. Vol. 46. P. 418–420. Заметки англоязычные на ту же тему см.: The Use of Art for the Study of Symbols, American Psychologist. Vol. 20. P. 34–50. Reprinted in: J. Hogg (ed.). Psychology and the Visual Arts. Harmondsworth, 1969.
(обратно)336
См.: Atlantisbuch… S. 653.
(обратно)337
Ср. на эту тему более поздний текст: Gombrich E. Kunstwissenschaft und Psychologie vor fünfzig Jahren, XXV Internationaler Kongress fuer Kunstgeschichte, Wien, 1983 September 4–10. Wien, 1984. Bd. I. S. 99–104.
(обратно)338
Напомним, что эта эпистемологическая коллизия – основа фундаментальнейшего труда Г. Лютцеллера: Lützeller H. Kunsterfahrung und Kunstwissenschaft: systematische und entwicklungsgeschichtliche Darstellung und Dokumentation des Umgangs mit der bildenden Kunst. Bd. 1–3. Freiburg: K. Alber, 1975.
(обратно)339
Atlantisbuch… S. 653, 665.
(обратно)340
Atlantisbuch… S. 655 (со ссылкой и на Якоба Буркхарда, третировавшего так называемое атрибутничество).
(обратно)341
Ibid. S. 656.
(обратно)342
Что понимать под искусством и что следует понимать под ним, учитывая разные эпохи, – фактически основная мысль «Истории искусства», о чем – ниже.
(обратно)343
Atlantisbuch… S. 663. Стоит заметить, что это довольно ранние тексты, но в них уже вполне сформировался взгляд Гомбриха на Варбурга, последовательно реализованный им в соответствующей книге.
(обратно)344
Hofmann W. Bildende Kunst. Bd. II. S. 195.
(обратно)345
См.: Lützeller H. Kunsterfahrung und Kunstwissenschaft: systematische und entwicklungsgeschichtliche Darstellung und Dokumentation des Umgangs mit der bildenden Kunst. Freiburg: K. Alber, 1975. Bd. 2. S. 944. И далее замечание, что иконография «огрубляет и искажает христианское содержание» по причине своего общего схематизма (S. 945).
(обратно)346
Atlantisbuch… S. 659.
(обратно)347
Ibid. S. 664.
(обратно)348
Текст-манифест этой тенденции – «Конец теории отображения» Отто Пэхта: Pächt O. Das Ende der Abbildtheorie // Pächt O. Methodisches zur kunsthistorischen Praxis. München: Prestel, 1986. Познание – не репродукция объекта познания, а слияние с ним и передача этого опыта переноса с помощью единственного приемлемого средства – поэзии.
(обратно)349
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 75.
(обратно)350
Ibid. S. 76.
(обратно)351
Ibid. S. 79.
(обратно)352
Ibid. S. 78.
(обратно)353
Ibid. S. 79.
(обратно)354
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 81.
(обратно)355
Cм. одно из последних изданий: Romano G. II Palazzo del Tè: Con testi di Vittore Branca e Gian Maria Erbesato. Mantua: Tre Lune. Contents: L’opera di Giulio Romano: 1. II Palazzo del Tè; 2. Una proposta d’interpretazione. 1934; Manierismo e classicismo in Giulio Romano. 1984.
(обратно)356
Gombrich E. The Preference of Primitives. London; N.Y.: Phaidon, 2002.
(обратно)357
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 81.
(обратно)358
Ibid.
(обратно)359
Ibid. S. 87.
(обратно)360
Ibid. S. 98.
(обратно)361
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 83.
(обратно)362
См. краткую биографию этого совершенно незаурядного классика (род. в 1928 г.): Das Irdische Paradies: Kunst im neunzehnten Jahrhundert. München: Prestel Verlag, 1960; Grundlagen der modernen Kunst. Stuttgart: Kröner, 1966; Gustav Klimt und die Wiener Jahrhundertwende. Salzburg: Verlag Galerie Welz, 1970; Anhaltspunkte: Studien zur Kunst und Kunsttheorie. Frankfurt a/M: Fischer Taschenbuch Verlag, 1989; Caricature from Leonardo to Picasso. London: John Calder, 1957; Goya: vom Himmel durch die Welt zur Holle. München: Beck, 2003; ̈ Goya: das Zeitalter der Revolutionen, 1789–1830. München: Prestel, 1980; and Schiff, Gert. Johann Heinrich Füssli, 1741–1825. München: Prestel, 1974; Wie Deutsch ist die deutsche Kunst?: eine Streitschrift. Leipzig: E. A. Seeman, 1999; Die geschichtliche Stellung von Daumiers graphischer Form // Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien. 1956. Bd. 52. S. 147 ff. В том же сборнике автобиографий историков искусства, где опубликованы воспоминания Гомбриха, есть и мемуары Хофманна: Hofmann W. Produktive Konflikte // Kunsthistoriker in eigener Sache… S. 113–132, c упоминанием разбираемых нами текстов (S. 123).
(обратно)363
Bildende Kunst. Bd. II / W. Hofmann (Hrsg.). Frankfurt a/M.: Fischer, 1960. S.184–185.
(обратно)364
А как быть с «обычной» наукой – в смысле Томаса Куна?
(обратно)365
Bildende Kunst II… S. 185.
(обратно)366
Ibid. S. 197.
(обратно)367
См. об этом, например: Helden K. Einführung // Edmund Hussеrl. Ausgewählte Texte I. Stuttgart, 2010. S. 33–34.
(обратно)368
Это их монография о карикатуре, изданная лишь отчасти и лишь по-английски: Gombrich E.H., Kris E. The Principles of Caricature // British Journal of Medical Psychology. 1938. Vol. 17. P. 319–342.
(обратно)369
См.: Bildende Kunst II… S. 194.
(обратно)370
Bildende Kunst II… S. 150.
(обратно)371
Wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen… S. 84.
(обратно)372
См. краткую библиографию работ этого выдающегося ученого (род. в 1919 г.): The Cortile del Belvedere. Biblioteca Apostolica Vaticana. Vatican City: Biblioteca aspostolica vaticana, 1954; Distance Points: Essays in Theory and Renaissance Art and Architecture. Cambridge, MA: MIT Press, 1991; Palladio. Baltimore and Harmondsworth: Penguin, 1966; Palladio's Villas. Locust Valley, N.Y., 1967; Science and Visual Art. Seventeenth Century Science and Arts / H. Rhys (ed.). Princeton: Princeton University Press, 1961; The Architecture of Michelangelo. 2 vols. London, 1961; The Villa: Form and Ideology of Country Houses. A. W. Mellon Lectures in the Fine Arts 1985. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990; and Slosburg-Ackerman, Jill. Origins, Imitation, and Conventions: Representation in the Visual Arts. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.
(обратно)373
Ackerman S.J., Carpenter R. Art and Archaeology. Englewood Cliffs, N.Y.: Prentice-Hall, 1963. P. 123–231.
(обратно)374
Ibid. P. 128–129.
(обратно)375
Ibid. P. 130.
(обратно)376
Ibid.
(обратно)377
Art and Archaeology… P. 131.
(обратно)378
Ibid. P. 134.
(обратно)379
Ibid.
(обратно)380
Ibid.
(обратно)381
Ibid. P. 136.
(обратно)382
Art and Archaeology… P. 137.
(обратно)383
Ibid.
(обратно)384
Ibid.
(обратно)385
Art and Archaeology… P. 140.
(обратно)386
Ibid. P. 141.
(обратно)387
Lützeler H. Kunsterfahrung und Kunstwissenschaft: systematische und entwicklungsgeschichtliche Darstellung und Dokumentation des Umgangs mit der bildenden Kunst. Bd. 1–3. Freiburg: K. Alber, 1975. Bd. 2. S. 948.
(обратно)388
Art and Archaeology… P. 142.
(обратно)389
Ibid.
(обратно)390
Ibid.
(обратно)391
Ibid. P. 143.
(обратно)392
Ibid. P. 145.
(обратно)393
Art and Archaeology… P. 145.
(обратно)394
См. об этом у Диттмана: Dittman L. Stil, Symbol, Struktur – Studien zu Kategorien der Kunstgeschichte. W. Fink, 1967.
(обратно)395
Ibid. P. 146.
(обратно)396
Art and Archaeology… P. 148.
(обратно)397
Ibid. P. 150.
(обратно)398
Ср. у Гомбриха: Moment and movement in art // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. 27. P. 293–306. Reprinted in: The Image and the Eye, 1982.
(обратно)399
Art and Archaeology… P. 154.
(обратно)400
Ibid. P. 154–155.
(обратно)401
Art and Archaeology… P. 158.
(обратно)402
Ibid. P. 159.
(обратно)403
Ibid.
(обратно)404
Ibid.
(обратно)405
Ibid. P. 159–160.
(обратно)406
Art and Archaeology… P. 161.
(обратно)407
Ibid.
(обратно)408
Ibid.
(обратно)409
Ibid. P. 162.
(обратно)410
Ibid.
(обратно)411
Ibid. P. 163.
(обратно)412
Вот что следует знать касательно трудов Прециози: Architecture, Language and Meaning, the Origins of the Built World and Its Semiotic Organization (Approaches to Semiotics, Series No. 49). Mouton de Gruyter. 1979; Semiotics of Built Environment: Introduction to Architectonic Analysis (Advances in semiotics). 1979; Minoan Architectural Design: Formation and Signification (Approaches to Semiotics [As]). 1983; Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science. 1991; Aegean Art and Architecture (Oxford History of Art). 2000; Brain of the Earth's Body: Art, Museums, and the Phantasms of Modernity. 2003; In the Aftermath of Art: Ethics, Aesthetics, Politics (Critical Voices in Art, Theory and Culture). 2005; Art Is Not What You Think It Is. 2012; Art, Religion, Amnesia: The Enchantments of Credulity. 2013.
(обратно)413
The Art of Art History: A Critical Anthology (Oxford History of Art). 1998; New Edition, 2009. Мы пользовались 1-м изданием.
(обратно)414
См., например: Waetzold W. Du und die Kunst: Eine Einführung in Kunstbetrachtung und Kunstgeschichte. Berlin, 1938; Lützeler H. Führer zur Kunst. Freiburg, 1941; Ackerman J.S., Carpenter R. Art and archeology. Englewood Cliffs, NJ, 1963; Kultermann U. Geschichte der Kunstgeschichte. Wien; Düsseldorf, 1966; Schrade H. Einführung in die Kunstgeschichte. Stuttgart, 1966; Bauer H. Kunsthistorik: eine kritische Einführung in das Studium der Kunstgeschichte. München, 1976; Warnke M. Künstler, Kunsthistoriker, Museen: Beiträge zu einer kritischen Kunstgeschichte. Luzern; Frankfurt a/M, 1979; Busse H.B. Kunst und Wissenschaft: Untersuchungen zur Ästhetik und Methodik der Kunstgeschichtswissenschaft. Mittenwald, 1981; Fruh C., Rosenberg R., Rosinski H.-P. Kunstgeschichte – aber wie? Zehn Themen und Beispiele. Berlin, 1989; Kultermann U. Kunst und Wirklichkeit: von Fiedler bis Derrida: zehn Annäherungen. München, 1991; Bürger P., Bonnet A.-M., Kopp-Schmidt G. Kunst ohne Geschichte? Ansichten zu Kunst und Kunstgeschichte heute. München, 1995; Halbertsma M., Zijlmans K. Gesichtspunkte: Kunstgeschichte heute. Berlin, 1995; Erben D. Die Welt der Kunst: ein Lesebuch von der Spätantike bis zur Postmoderne. München, 1996; Belting H., Gohr S. Die Frage nach dem Kunstwerk unter den heutigen Bildern. Stuttgart, 1996; Warnke M., Diers M. Nah und Fern zum Bilde: Beiträge zu Kunst und Kunsttheorie. Köln, 1997; Baumgartner M. Einführung in das Studium der Kunstgeschichte. Köln, 1998; Brandt R. Meisterwerke der Malerei: von Rogier van der Weyden bis Andy Warhol. Leipzig, 2001; Bertram G.W. Kunst: eine philosophische Einführung. Stuttgart, 2005; Allesch Ch.G. Einführung in die psychologische Ästhetik. Wien, 2006; Held J., Schneider N. Grundzüge der Kunstwissenschaft: Gegenstandsbereiche, Institutionen, Problemfelder. Köln, 2006; Belting H. Kunstgeschichte: eine Einführung. Berlin, 2008; Prochno R. Das Studium der Kunstgeschichte: eine praxisbetonte Einführung. Berlin, 2008; Bätschmann O. Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik: die Auslegung von Bildern. Darmstadt, 2009; Brassat W., Kohle H. Methoden-Reader Kunstgeschichte: Texte zur Methodik und Geschichte der Kunstwissenschaft. Köln, 2009; Sciolla G.C. Studiare l‘arte: metodo, analisi e interpretazione delle opere e degli artisti. Torino, 2010; D‘Alleva A. How to write art history. London, 2010; Schneider N. Geschichte der Kunsttheorie: von der Antike bis zum 18. Jahrhundert. Köln [u.a.], 2011; Beyer A., Cohn D. Die Kunst denken: zu Ästhetik und Kunstgeschichte. Berlin; München, 2012.
(обратно)415
The Art of Art History… Р. 13–18.
(обратно)

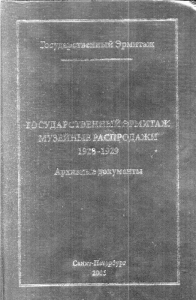
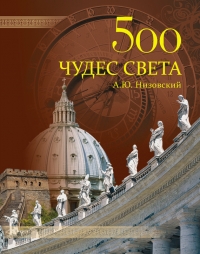


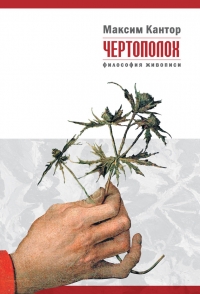


Комментарии к книге «Гомбрих, или Наука и иллюзия», Степан Сергеевич Ванеян
Всего 0 комментариев