Ганс-Петер Мартин, Харальд Шуманн ЗАПАДНЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: АТАКА НА ПРОЦВЕТАНИЕ И ДЕМОКРАТИЮ
Нашим детям — Бену, Мануэлю и Паулю
Предисловие к русскому изданию
Перед Вами, дорогой читатель, необычная книга. Ее живой язык, яркие сравнения, заинтересованный разговор авторов о животрепещущих проблемах установленного в мире экономического порядка не оставят Вас равнодушным. В изложении наиболее острых проблем современного мирового рынка авторы поднимаются до уровня глобальных обобщений. Авторы показывают современный мир как бы с невидимой стороны, раскрывая его жесткую экономическую реальность, не оставляющую розовых иллюзий относительно свободной конкуренции, свободы и равенства для всех. Это мир промышленно-финансовой элиты, которая сегодня управляет мировым экономическим порядком. И не случайно авторы называют его глобальной западней для всей современной постиндустриальной цивилизации.
В серии документов, подготовленных ООН, «Повестка для XXI века», получивших всеобщее признание на международных встречах высшего уровня, приводится мысль о том, что современный мир со всеми его социально-хозяйственными системами и укладами находится в глубоком общецивилизационном кризисе, чреватом эколого-экономической и социальной катастрофами.
Под эгидой ООН за последние десятилетия разработана разносторонняя концепция устойчивого развития общества и экономики, в которой решительный крен был сделан на гуманизацию социально-экономической жизни общества, обеспечение действенного контроля над эффективностью использования природно-ресурсного потенциала Земли в интересах всего населения планеты, соблюдение прав и свобод граждан, социальную защиту населения на путях более равномерного распределения доходов и капиталов и т.д. По своей сути, это концепция третьего пути социально-экономического развития, свободная от различного рода идеологизмов и политико-экономических штампов. Концепция, опирающаяся на социальное творчество и общественную консолидацию, на неукоснительное соблюдение демократических свобод и выполнение обязательств власти перед народом. Важнейшими из этих обязательств являются: недопущение снижения жизненного уровня народа и ухудшения экологической среды обитания человека в результате реформ или любых других преобразований, соблюдение всего свода установленных Законом социальных гарантий и нормативов. Несоблюдение социально гарантированного уровня заработной платы, пенсий и других социальных выплат населению, а тем более несвоевременная их выплата должны рассматриваться как величайший грех, как тяжкое уголовное преступление.
Притягательный образ третьего пути находит все большее число сторонников среди ученых, специалистов, общественных и политических деятелей разных стран мира. Но многие из них задумываются над экономической моделью этого третьего пути.
Вряд ли в качестве такой модели может быть принята та экономическая система, которая сложилась в процессе интеграции стран в крупнейшие экономические союзы и блоки. Жизнь обнаруживает глубокие противоречия между ними и всем остальным миром. Именно этим проблемам авторы и уделяют первостепенное внимание. Одна из них является центральной. Это проблема занятости.
С одной стороны, современное индустриально-информационное общество является обществом безграничных возможностей, обеспечивающим высочайшую производительность труда, создающим все необходимые условия для технического переоснащения производства на базе новейших технологий, развития современных быстродействующих систем коммуникаций и средств связи, накопления и распространения научной, технической и иной важной для жизнедеятельности людей информации. Все это сближает страны, создает все необходимые предпосылки для обеспечения устойчивого функционирования информационных сетей и интеграции в мировую рыночную систему.
С другой стороны, для эффективного функционирования этой системы, как обоснованно отмечают авторы, достаточно 20% наиболее квалифицированных работников, ученых и специалистов планеты. Сегодня они в подавляющей своей части уже интегрированы странами золотого миллиарда. А как быть с 80% населения остальных стран мира, куда, естественно, попадает и Россия? Ответа на этот вопрос архитекторы современной информационной модели общества не дают. По-видимому, речь, в лучшем случае, может идти лишь об оказании благотворительной помощи отсталым странам со стороны стран золотого миллиарда. А эта помощь, как показывает жизнь, ставится в прямую зависимость от лояльности ее получателей по отношению к установленному Западом миропорядку.
Вряд ли народы мира согласятся с отведенной им ролью. Политика социальной деградации, оттеснения большей части трудоспособного населения на периферию мировой цивилизации заведомо обречена на провал. Она будет выступать мощным очагом возникновения все новых социальных конфликтов, региональных столкновений и локальных войн, которые при достижении определенной критической массы могут превратиться в глобальное противостояние между странами и народами мира. На эту сторону дела, как мне представляется, следует обратить особое внимание.
Хорошо, например, известно, что для обеспечения внутренней самодостаточности в продовольствии при эффективном развитии сельскохозяйственного производства на современном уровне мировых агротехнологий достаточно иметь на селе 7–8 млн. человек. Но тогда, естественно, возникает вопрос — а куда девать остальные 25–30 млн. человек, прямо или косвенно связанных сегодня с сельским хозяйством? Та же проблема 20:80! А возьмите другую, не менее важную сферу — угольную промышленность. Вот уже в течение семи лет мы проводим активную ее реструктуризацию. На это выдавался не один транш Мирового банка. А проблема, между тем, решается крайне медленно. И вся ее суть опять упирается в необходимость обустройства огромного количества новых рабочих мест, освоения новых профессий, перебазирования огромной армии людей в другие регионы страны и т.д. и т.п. В последнее время эта проблема обострилась с новой, неожиданной для многих, стороны. Обнаружилось, что затянувшаяся «газовая пауза» не в состоянии решить многих проблем внутреннего энергообеспечения страны без дополнительного развития угольной промышленности. Вот как иногда поворачивается суть проблемы. Сначала говорим о необходимости форсированного закрытия большого количества угольных шахт и разрезов, что в определенной мере является оправданным. Но здесь, как всегда, из-за отсутствия народно-хозяйственного подхода мы перешагнули допустимую планку. И вот теперь, вроде бы, и уголь нужен, но ведь и использовать этот уголь на переоборудованных в свое время на газ электростанциях оказывается крайне дорогим и неэффективным делом. И проблема занятости опять встает перед нами с новой силой.
Нельзя не привести здесь и пример с нашей оборонной промышленностью. В середине 90-х годов тогдашний и.о. премьера России Егор Гайдар при посещении г. Комсомольска-на-Амуре высказал свое понимание решения проблемы оборонных отраслей. «Поскольку, — говорил он, — нам теперь не нужно столько оборонных предприятий, постольку мы должны пойти на резкое их сокращение». Это означает, что если сегодня в Комсомольске-на-Амуре 350 тыс. человек, то в этом городе, развитие которого все эти годы было связано с оборонной промышленностью, нужно оставить где-то порядка 35–40 тыс. жителей, т.е. сократить население на порядок. А сколько надо средств, чтобы занять высококвалифицированных работников оборонных предприятий города на других рабочих местах? Их еще надо заново создать, перебазировать в новые производства высвобождаемых работников, нормально их обустроить и т.д. Но ведь ничего подобного и.о. премьера не предложил. Скорее всего, он об этом и не думал.
Вот почему у нас глобальная проблема 20:80 получает столь трагическое развитие.
Огромной важности проблема, которую масштабно раскрывают Г.-П. Мартин и X. Шуманн — это проблема рынков финансовых спекуляций.
Еще в начале нынешнего столетия известным экономистом Парето было обращено внимание на то, что объемы финансовых соглашений намного опережают число реальных товарных сделок. Сегодня разрыв между финансовыми и товарными рынками настолько усилился, что первые теряют непосредственную связь со вторыми. Каждый из них как бы живет своей жизнью. Что из себя представляет современная мировая финансовая система? Это своеобразная перевернутая пирамида. Узкое ее основание — финансы, обслуживающие реальный сектор или поток товарных благ. На их долю сейчас приходится не более 10–12% от общего оборота мировых финансовых ресурсов. Весь остальной денежный капитал находится в свободном плавании, не имеет реального материального наполнения. Это рынок, где деньги делают деньги, то есть рынок игроков в рулетку.[1]Благодаря компьютерным технологиям, обеспечивающим с огромной скоростью передачу огромных массивов финансовой информации из одной точки земного шара в любую другую, локальные финансовые рынки оказались закольцованными в единую глобальную финансовую сеть. Она «наброшена» на все страны мира, что обеспечивает им, по существу, открытый доступ на крупнейшие финансовые рынки старого и нового света и возможность участия международных спекулянтов в миллиардных финансовых сделках в реальном масштабе времени. Финансовый рынок, львиная доля которого является рынком финансовых спекуляций, стал воистину вселенским. Он железным обручем стянул все страны вокруг крупнейших финансовых магнатов стран золотого миллиарда. Это позволяет им ставить те или иные страны на грань финансового краха. Для этого им стоит только осуществить через компьютерную систему переброску капиталов с одного регионального рынка на другой. И нередко получается так, что кризис возникает как раз в тех странах, экономика которых перед этим шла на подъем. Теряется органическая связь между реальной экономикой и ее финансами.
Мировая финансовая система превратилась, по существу, в глобальный спекулятивный конгломерат, функционирующий не в интересах развития национальных экономик, роста промышленного производства и уровня жизни людей, а в интересах укрепления позиций стран золотого миллиарда. Это раковая опухоль на живой ткани мировой экономики. Масштабы ее постоянно разрастаются. Метастазы пронизывают финансовые системы все большего числа стран. Опасность разрастания этой финансовой чумы XX века становится все более очевидной. Если ее не остановить, то, как предсказывают прогрессивные мыслители современности, она может разразиться в глобальный мировой кризис XXI века.
Огромной важности проблемы поднимают авторы и в части роли и места государства в современной рыночной экономике. И здесь выводы, к которым приходят авторы, малоутешительны. В ближайшем будущем нас ждет усиление разъедающего влияния глобальной преступности, коррупции в системе государственного управления, потеря национального суверенитета.
Теперь уже для многих становится очевидной провальная сущность идеи глобализации мировой экономической системы. Все большее число прогрессивных деятелей, как у нас в стране, так и за рубежом, выражает искреннюю обеспокоенность происходящими деструктивными процессами в мире. И все большее число последователей задумывается о третьем пути, о реализации модели устойчивого социально-экономического развития, свободного от нынешних парадоксов глобальной системы рынка.
Но главный вопрос, который еще требует своего разрешения, состоит в раскрытии содержательной сути третьего пути. Теперь уже настала пора показать, каковы основы экономической модели, которая способна вытащить человечество из той глобальной западни, в которую его вовлек кризис современного информационного общества.
Большая заслуга авторов в том, что они обозначили эти проблемы, и попытались вскрыть корневые причины их возникновения. Ну а выход из глобальной западни нам предстоит искать совместно.
Секретарь Отделения экономики РАН академик Д. Львов
Глава 1 Общество 20/80: правители мира на пути к иной цивилизации
Весь мир меняется, превращаясь в нечто новое, как это уже однажды было в прежней жизни.
Вернер Шваб, посмертно опубликованная пьеса «Хохшваб»Мечты всего мира воплотились в «Фермонт-отеле» в Сан-Франциско. Эта роскошная гостиница — не просто учреждение в ряду себе подобных: это — своего рода икона, средоточие легендарной joie de vivre[2]. Знающие люди уважительно называют ее просто «Фермонт»; если вы там живете, то, наверняка, чего-то в жизни добились.
Символ преуспевания, она стоит в уединенном великолепии на холме Ноб, возвышаясь над знаменитым «Сити», калифорнийской витриной сильных мира сего, являющей собой беззастенчивую смесь архитектуры конца столетия и послевоенного бума. Этот вид внезапно поражает постояльцев, когда они возносятся в застекленном лифте к ресторану «Краунс рум» в башне отеля. Панорама открывает перед ними часть прекрасного нового мира, жить в котором мечтают миллиарды: пространство от моста Золотые Ворота до Беркли-Хиллз на всем своем протяжении демонстрирует богатство американского среднего класса. Среди эвкалиптов в мягком солнечном свете искрятся плавательные бассейны соблазнительно просторных домов; на каждой подъездной аллее по нескольку автомобилей.
«Фермонт» — это своего рода огромный разделительный знак между современностью и будущим, между Америкой и бассейном Тихого океана. На склоне перед отелем живут в ужасающей тесноте более ста тысяч китайцев, а за ним вдали маняще простирается Силиконовая долина, родина компьютерной революции. Подрядчики, разбогатевшие на калифорнийском землетрясении 1906 года, американские генералы, принимавшие участие во второй мировой войне, основатели Организации Объединенных Наций, главы крупнейших корпораций и американские президенты двадцатого столетия — все они праздновали свои победы в роскошных апартаментах гостиницы, которая стала местом экранизации «Отеля» Артура Хейли и с тех пор пользуется колоссальной популярностью у туристов.
В конце сентября 1995 года в этом месте, неразрывно связанном с историей XX века, мировую элиту приветствует один из немногих людей, которые сами делали историю, — Михаил Горбачев. По окончании «холодной войны» богатые американцы в знак благодарности организовали фонд (президентом которого стал Горбачев) со штаб-квартирой на территории бывшей военной базы к югу от Золотых Ворот. И вот к нему примкнули 500 ведущих политиков, бизнесменов и ученых со всех континентов, составив, по выражению последнего президента Советского Союза и лауреата Нобелевской премии мира, новый «глобальный мозговой трест», призванный указать путь к «новой цивилизации» XXI века[3].
Такие опытные правители мира, как Джордж Буш, Джордж Шульц и Маргарет Тэтчер, встречают здесь новых хозяев Земли — людей вроде босса CNN Теда Тернера, корпорация которого слилась с Time Warner, чтобы сформировать крупнейшее в мире предприятие средств массовой информации, или Вашингтона Сай-Сипа, магната из Юго-Восточной Азии. Они собрались, чтобы провести три дня в интенсивных дискуссиях с теми, кто играет в глобальные игры с компьютерами и финансами, а также с верховными жрецами теоретической экономики из Стэнфорда, Гарварда и Оксфорда. Эмиссары свободной торговли из Сингапура и, естественно, Пекина тоже хотят, чтобы их голоса были услышаны, когда обсуждается будущее человечества. Курт Биденкопф, премьер-министр земли Саксония, принимает активное участие в обсуждении всех аспектов, так или иначе касающихся Германии.
Никто из присутствующих не явился сюда для того, чтобы бахвалиться и угрожать, никому не разрешается мешать участникам свободно излагать свою позицию, а несметные толпы журналистов были тщательно проверены на предмет политической благонадежности, что стоило организаторам немалых затрат[4]. Установлены строгие правила, призванные минимизировать риторический балласт: тем, кто хочет представить тему для обсуждения, дается не более пяти минут, и ни одно дополнение не может длиться более двух минут. За этим следят холеные пожилые дамы, поднимая огромные щиты с надписями «1 минута», «30 секунд», «Стоп», словно перед ними не миллиардеры и теоретики, а гонщики «Формулы-1».
Джон Гейдж, главный управляющий Sun Microsystems и восходящая звезда компьютерного бизнеса, открывает раунд дебатов на тему «Технология и занятость в глобальной экономике». Его компания разработала язык программирования Java, и ее акции бьют все рекорды на Уолл-стрит. «На нас может работать кто угодно и сколь угодно долго; нам не нужна виза для наших зарубежных сотрудников», — немногословно поясняет Гейдж. Правительства и их всевозможные постановления, заявляет он, для трудоспособного населения планеты больше ничего не значат. Он просто нанимает тех, кто ему нужен, и нынешнее его предпочтение — «хорошие мозги из Индии», которые будут работать на него до тех пор, пока они на это способны. Компания получает заявления о приеме на работу из всех уголков мира через компьютер, что говорит само за себя. «Мы нанимаем наших людей посредством компьютера, они работают на компьютерах, и компьютер же их увольняет».
Старушка со щитом сигналит, что осталось 30 секунд. «Все очень просто: мы получаем умнейших. С тех пор как мы начали тринадцать лет тому назад, мы с нашей эффективностью увеличили оборот с нуля до шести млрд долл.». Самодовольно улыбаясь, Гейдж поворачивается к человеку, сидящему рядом с ним за столом: «Вы, Дэвид, к таким темпам и не приближались». Те считанные секунды, что остаются до сигнала «Стоп», Гейдж явно смакует свой выпад.
Человек, к которому он обращался, Дэвид Паккард, сооснователь гиганта высоких технологий Hewlett-Packard. Стареющий миллиардер, добившийся всего самостоятельно, ничуть не смутился. Полностью собранный, он задает в ответ самый важный вопрос: «А сколько служащих вам на самом деле нужно, Джон?».
«Шесть, максимум восемь, — сухо отвечает Гейдж. — Без них мы действительно застрянем. Но при этом нам опять же все равно, в какой стране они живут». Ведущий дискуссию профессор Рустем Рой из Университета штата Пенсильвания пытается копнуть глубже: «А сколько человек работает на Sun Systems в настоящее время?». Гейдж: «Шестнадцать тысяч. Но все они, за редким исключением, являются резервом для рационализации».
Никто в зале даже не шепчется. Очевидно, перспектива невиданных прежде армий безработных ясна присутствующим без лишних слов. Ни один из высокооплачиваемых управляющих подразделений компаний не думает, что в будущем будет достаточно новых, регулярно оплачиваемых рабочих мест в каком бы то ни было секторе экономики до сих пор богатых стран, где развитие рынков обусловлено внедрением высоких технологий.
Прагматики в «Фермонте» оценивают будущее с помощью пары цифр и некоей концепции: 20:80 и титтитейнмент.
В следующем столетии для функционирования мировой экономики будет достаточно 20% населения. «Большей рабочей силы не потребуется», — полагает Вашингтон Сай-Сип. Пятой части всех ищущих работу хватит для производства товаров первой необходимости и предоставления всех дорогостоящих услуг, какие мировое сообщество сможет себе позволить. Эти 20% в какой бы то ни было стране будут активно участвовать в жизни общества, зарабатывать и потреблять, и к ним, пожалуй, можно добавить еще примерно один процент тех, кто, например, унаследует большие деньги.
А что же остальные? Останутся ли без работы 80% тех, кто хочет работать? «Конечно, — говорит американский писатель Джереми Рифкин, автор книги «Конец занятости», — У тех 80%, которые останутся не у дел, будут колоссальные проблемы». Главный управляющий Sun Гейдж снова берет слово и оживляет дискуссию, сославшись на своего коммерческого директора Скотта Макнили, считающего, что дилемма будущего состоит в том, что «либо ты ешь ленч, либо на ленч едят тебя».
Начиная с этого момента маститая группа, обсуждающая «будущее занятости», затрагивает в своих дебатах исключительно тех, кто не будет иметь ничего. По всеобщему твердому убеждению, их ряды пополнят десятки миллионов тех людей во всем мире, которые до сих пор, надо полагать, чувствовали себя ближе к повседневному блаженству района залива Сан-Франциско, чем к борьбе за выживание без надежды на постоянную, хорошо оплачиваемую работу. Выступающие в «Фермонте» делают набросок нового социального устройства, при котором в богатых странах уже не будет среднего класса, достойного упоминания, и никто из участников дискуссии этого не отрицает.
У всех на устах выражение Збигнева Бжезинского — «титтитейнмент». Этот убеленный сединами ветеран политических баталий польского происхождения, в течение четырех лет бывший у Джимми Картера советником по вопросам национальной безопасности, по-прежнему занимается вопросами геополитики. Придуманное им словечко — комбинация из слов «tits» (сиськи, титьки) и «entertainment» (развлечение) — призвано ассоциироваться не столько с сексом, сколько с молоком, текущим из груди кормящей матери. Возможно, сочетание развлечений, в какой-то мере скрашивающих безрадостное существование, и пропитания, достаточного для жизнедеятельности, будет поддерживать отчаявшееся население мира в относительно хорошем расположении духа.
Топ-менеджеры деловито обговаривают возможную дозировку и обсуждают, чем состоятельная пятая часть сможет занять избыточный остаток. Давление глобальной конкуренции таково, что они полагают неразумным ожидать социальных обязательств от тех, кто занят в индивидуальном бизнесе. О безработных придется заботиться кому-то другому. Если предполагается, что их существование должно быть осмысленным и целостным, то помощь должна исходить от широкого спектра добровольческих служб и оказываться на добрососедской основе через спортивные клубы и всякого рода ассоциации. «Скромная оплата могла бы реально увеличивать ценность такой деятельности и таким образом повышать самооценку миллионов граждан», — считает профессор Рой. Так или иначе, лидеры бизнеса рассчитывают, что в скором времени люди в индустриально развитых странах вновь будут подметать улицы практически задаром или довольствоваться грошовыми заработками в качестве помощников в домашнем хозяйстве. По мнению футуролога Джона Нэсбитта, индустриальная эпоха и ее массовое благоденствие в конце концов станут не более чем «эпизодической вспышкой на экране истории экономики».
Участники той памятной трехдневной конференции в «Фермонте» воображали себя провозвестниками новой цивилизации. Однако путь, обрисованный собравшимися там экспертами из высшего управленческого звена и научной среды, означает для человечества не что иное, как возврат к далекому прошлому. В 1980-1980-e годы европейцы опасались пришествия «общества двух третей», но вúдение того, в какой пропорции будут делиться благосостояние и положение в обществе, изменилось еще раз. Новая модель — это мир 20:80, общество одной пятой, в котором тем, кто окажется за бортом, придется довольствоваться титтитейнментом. Что же это — фантастическое преувеличение, трезвый прогноз или нечто среднее?
«Настоящий ураган»
Германия, 1996 год. Свыше шести миллионов ищут работу — больше, чем в любое другое время с момента образования Федеративной Республики, — и не могут найти постоянного рабочего места. На протяжении предыдущих пяти лет средний чистый доход западных немцев снижался. И это, как явствует из отчетов властей, деловых кругов и различных исследовательских учреждений, — только начало. По оценке ведущего специалиста по управленческому консалтингу Роланда Бергера, только в промышленности будет потеряно еще по крайней мере 1,5 миллиона рабочих мест, «вероятно, включая каждое второе рабочее место в среднем управленческом звене»[5]. Его коллега Герберт Генцлер, глава германского отделения консалтинговой фирмы McKinsey, заходит в своих прогнозах еще дальше: «промышленность повторит путь сельского хозяйства»; только несколько процентов работающих будет зарабатывать на жизнь производством товаров[6]. Об аналогичных тенденциях официально сообщается в Австрии, где в промышленности ежегодно исчезает 10 000 рабочих мест, и ожидается, что в 1997 году безработица достигнет 8%, почти вдвое превысив уровень 1994 года[7].
Объяснения этого упадка, чаще всего приводимые экономистами и политиками, неизменно упираются в одно и то же слово: глобализация. Постоянно говорят о том, что высокотехнологичные средства связи, низкие транспортные расходы и неограниченная торговля превращают весь мир в единый рынок. Это-де приводит к ожесточенной глобальной конкуренции, в том числе и на рынке труда, вследствие чего немецкие компании предпочитают создавать новые рабочие места только в «более дешевых» зарубежных странах. Правящие круги Федеративной Республики, от боссов корпораций до министра труда, видят только одно решение проблемы: «адаптация путем самоограничения». От граждан непрерывно требуют жертв, в то время как бюрократы из системы страхования на случай болезни, экономисты, эксперты и министры наперебой жалуются, что немцы (тем более австрийцы) работают слишком мало, зарабатывают слишком много, слишком часто болеют и имеют слишком много отпусков. Им вторят журналисты газет и телевидения, утверждающие, что «западное общество с его высоким уровнем запросов сталкивается с необходимостью самоотречения, типичного для азиатского общества», что государство всеобщего благоденствия «стало угрозой нашему будущему» или что «неизбежно усиление социального неравенства»[8]. Выходящая крупнейшим тиражом австрийская ежедневная газета «Нойе кроненцайтунг» присоединяется к хору бульварных газет со следующими заголовками: «Европейский материк живет не по средствам» или «Европу сотрясает новая волна урезания расходов»[9]. Даже президент Германии Роман Герцог обращается к нации с речами, в которых утверждает, что перемены «неотвратимы» и что «всем придется пойти на жертвы».
Герцог, однако, не совсем прав: вовсе не от каждого требуется идти на жертвы во времена кризисов. Снижение выплат по больничным, прекращение защиты от увольнения, кардинальное урезание всех видов социальных отчислений работодателей, уменьшение заработков при росте производительности — все это уже не только меры борьбы с кризисом. Реформаторы-адепты глобализации теперь уже в открытую нападают на неписаный социальный контракт[10] Федеративной Республики, удерживающий неравенство в определенных пределах путем перераспределения, направленного сверху вниз. Подразумевается, что модель европейского государства всеобщего благоденствия, слишком дорогостоящая в мировом контексте, изжила себя. Группы-мишени этой доктрины отлично понимают ее сущность: профсоюзы и ассоциации социальной защиты гневно протестуют по всей стране. Даже консервативный в других отношениях отраслевой профсоюз работников химической промышленности IG-Chemie угрожает широкомасштабными забастовками, а Дитер Шульте, председатель федерации профсоюзов DGB, грозит «обстановкой», при которой массовые забастовки во Франции декабря 1995 года покажутся «слабенькой прелюдией»[11].
И все же защитники государства всеобщего благоденствия в своей борьбе обречены на поражение. Конечно, многие аргументы их оппонентов ложны. Если разобраться, то станет ясно, что немецкие концерны едва ли создают новые рабочие места за границей; скорее, речь идет о скупке существующих предприятий с целью более широкого использования их рабочей силы и выхода на региональные рынки. И совсем уж неверно, что социальные расходы в Германии взмыли вверх: на самом деле в 1995 году они составили меньшую долю ВНП, чем двадцатью годами ранее. Подлинные мотивы сторонников глобализации прослеживаются в их постоянных ссылках на политику других индустриальных стран. Повсюду — что в Швеции, что в Австрии, что в Испании — действует, по существу, одна и та же программа сокращения затрат на общественные нужды, урезания реальной заработной платы и ликвидации системы социального обеспечения. И везде протест кончается покорностью.
Интернационализм, когда-то изобретенный вождями рабочего класса из стана социал-демократов как оружие против капиталистических поджигателей войны, давным-давно перешел на сторону врага. На мировом уровне более 40 000 транснациональных корпораций различных форм и размеров стравливают друг с другом собственных служащих равно как и национальные государства. Налог на прибыль в 40% в Германии? Это слишком много: Ирландия счастлива, имея 10, тогда как Малайзия и некоторые штаты ПИТА и вовсе обходятся без него вот уже пять или десять лет. Сорок пять марок в час за квалифицированный труд? Слишком дорого: британцы работают менее чем за половину этой суммы, а чехи за одну десятую. Только 33% субсидий в Италии под новые заводы? Слишком мало: в Восточной Германии государство охотно вкладывает 80%.
Глобальным борцовским броском новый Интернационал капитала переворачивает с ног на голову целые страны и социальные порядки. На одном фронте он сообразно с текущей обстановкой угрожает уйти совсем, добиваясь таким образом массированных снижений налогов, а также субсидий, достигающих млрд марок, или бесплатного предоставления инфраструктуры. Если это не срабатывает, зачастую может помочь налоговое планирование по широко известной отлаженной схеме: доходы показываются только в тех странах, где уровень налогообложения действительно низок. По всему миру владельцы капиталов и состояний вносят все меньший и меньший вклад в финансирование затрат на общественные нужды.
На другом фронте те, кто управляет глобальными потоками капиталов, снижают уровни заработков своих сотрудников, читай: налогоплательщиков. Заработки как доля национального богатства снижаются по всему миру; противостоять этому давлению в одиночку не способно ни одно государство. По мнению американского экономиста Рюдигера Дорнбуша, немецкая модель будет «основательно размыта» глобальной конкуренцией[12].
Цены акций и корпоративные доходы поднимаются двузначными скачками, тогда как заработная плата рабочих и служащих падает. В то же время параллельно с дефицитами национальных бюджетов растет уровень безработицы. Не нужно обладать специальными экономическими знаниями, чтобы понять, что происходит. Более чем через сто лет после смерти Карла Маркса капитализм вновь устремился в направлении, которое этот экономист, совершивший революционный переворот в общественном сознании, так точно описал для своего времени. «Общая тенденция капиталистического производства заключается в том, чтобы не повышать, а понижать средний уровень зарплаты, тем самым доводя в той или иной мере стоимость труда до ее минимального предела», — докладывал он в 1865 году генеральному совету Первого Интернационала в Лондоне, не помышляя о том, что примитивный капитализм однажды будет подчинен демократическому управлению[13]. Однако после реформ социал-демократического столетия начинается контрреформация исторического масштаба; движение в будущее — это движение в обратном направлении. А такие счастливчики, как Генрих фон Пьерер, босс Siemens, торжествующе провозглашают: «Ветер конкуренции перешел в шторм, настоящий же ураган у нас еще впереди»[14].
Вероятно, изречения Пьерера и других носителей стандартов нового глобализма и наводят кого-нибудь на мысль, что все это — естественный результат неотвратимого научно-технического прогресса. Но это нонсенс. Глобальная экономическая интеграция ни в коем случае не является естественным процессом: она сознательно продвигается целенаправленной политикой. Именно правительства и парламенты своими договорами и законодательными актами планомерно устраняли барьер за барьером на пути движения товаров и капиталов через границы. Своими действиями, начиная с разрешения на торговлю иностранной валютой на европейском внутреннем рынке и заканчивая постоянным расширением состава участников Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), правящие политики индустриального Запада систематически выстраивали ту самую ситуацию, с которой они теперь не в состоянии справиться.
Демократия в западне
Глобальная интеграция идет рука об руку с доктриной экономического спасения, которую целый сонм советников постоянно внедряет в политику. Ее основной, слегка упрощенный тезис гласит: рынок — это хорошо, а государственное вмешательство — это плохо. В 1980-е годы большинство неолиберальных правительств Запада, основываясь на идеях ведущего представителя этой школы — американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Мильтона Фридмена, сделало эту догму своим руководящим политическим принципом. Отсутствие ограничений вместо государственного контроля, либерализация торговли и движения капиталов, приватизация государственных предприятий — вот составляющие стратегического оружия из арсенала правительств, уверовавших в рынок, и международных экономических организаций, находящихся под их влиянием: Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации (ВТО). С этим оружием они вступили в войну за освобождение капитала, продолжающуюся и поныне. Предполагается, что закону спроса и предложения подчиняются как все отрасли человеческой деятельности, будь то воздушный транспорт или телекоммуникации, банковское дело или страхование, строительство или разработка программного обеспечения, так и сами людские ресурсы.
Крушение однопартийных диктатур Восточного блока придало этой системе верований дополнительный импульс и глобальный охват. Когда исчезла угроза диктатуры пролетариата, все силы были брошены на построение диктатуры всемирного рынка. Внезапно массовое участие рабочих в валовом национальном продукте стало выглядеть не более чем уступкой, призванной в условиях «холодной войны» выбить почву из-под ног коммунистической агитации.
И все же «турбокапитализм»[15], который в мировом масштабе ныне представляется непреодолимым, разрушает свой собственный фундамент, поскольку подрывает демократическую стабильность и способность государства функционировать. Изменения и перераспределение власти и богатства столь интенсивны, что разъедают старые общественные институты быстрее, чем может быть установлен новый порядок. Страны, до сих пор наслаждавшиеся процветанием, сейчас пожирают социальную составляющую своей структуры даже быстрее, чем они уничтожают окружающую среду. Неолиберальные экономисты и политики проповедуют по всему свету «Американскую модель», но это пугающе похоже на пропаганду старого режима ГДР, который до самого конца старался научиться секретам успеха у Советского Союза. Кроме того, социальный распад нигде не очевиден в большей степени, чем в цитадели капиталистической контрреволюции — самих Соединенных Штатах. Тамошняя преступность приняла характер эпидемии, и, например, в Калифорнии, называющей себя седьмой по величине экономической державой мира, затраты на тюрьмы не так давно превысили бюджетные расходы на образование[16]. Примерно 28 миллионов американцев — свыше 10% населения — забаррикадировались внутри охраняемых небоскребов и жилых массивов. В настоящее время граждане США тратят в два раза больше денег на частную охрану, чем их правительство тратит на полицию[17].
Европа и Япония, Китай и Индия тоже расщепляются на меньшинство выигравших и большинство проигравших. Для многих сотен миллионов прогресс глобализации вовсе не прогресс. И надо полагать, что лозунг «Сделаем глобализацию достижением, от которого выиграет каждый!», провозглашенный главами правительств ведущих индустриально развитых стран на совещании «большой семерки» в Лионе в конце июня 1996 года, звучит для них как издевательство.
Таким образом, протесты проигравших адресованы правительствам и политикам, которые все в меньшей и меньшей степени способны предложить какие-либо позитивные меры. Идет ли речь об обеспечении социальной справедливости или охране окружающей среды, ограничении всевластия средств массовой информации или борьбе с международной преступностью, отдельное государство-нация всегда оказывается бессильным, а попытки скоординировать международные усилия столь же регулярно проваливаются. Но если ни по одной из жгучих проблем будущего правительства не могут предпринять ничего, кроме как ссылаться на непреодолимые ограничения международной экономики, то политика в целом становится спектаклем бессилия, а демократическое государство утрачивает свою легитимность. Глобализация оказывается западней для самой демократии.
Только наивные теоретики и недальновидные политики думают, что можно из года в год, как в нынешней Европе, лишать миллионы людей работы и социальной защиты и не заплатить однажды за это политическую цену. Что-то обязательно произойдет. В государствах, построенных по демократическому принципу, в отличие от концернов с их потребительской стратегией нет «лишних людей». Проигравшие имеют право голоса, и они им воспользуются. И нет никаких оснований для самоуспокоения, ибо за социальным потрясением последует политическое. В ближайшем будущем у социал-демократов или социально мыслящих христиан уже не будет поводов для торжества. Напротив, становится очевидным, что все больше избирателей и впрямь воспринимают всерьез стереотипные формулы глобализаторов. Виноваты не мы, а иностранная конкуренция — гласит каждый второй выпуск новостей устами тех самых людей, что обязаны защищать интересы граждан. От этого (экономически ложного) аргумента лишь один маленький шаг до открытой враждебности ко всему иностранному. Вот уже долгое время миллионы граждан, принадлежащих к утратившему уверенность в завтрашнем дне среднему классу, ищут спасение в ксенофобии, сепаратизме и разрыве с мировым рынком. Отторгнутые отвечают отторжением.
В 1992 году в своей первой попытке стать президентом США национал-популист Росс Перо, сторонник авторитарной власти, получил 19% голосов. Аналогичных результатов добились французский пророк национального возрождения Жан-Мари Ле Пен и австрийский крайне правый популист Йорг Хайдер. Партии сепаратистов прибавляют в популярности в Квебеке, Шотландии и Ломбардии. Помимо традиционной ксенофобии их воззвания несут в себе презрение к центральному правительству и обособление от той части населения бедных районов страны, за чей хлеб и кров будто бы приходится платить другим. В то же время масса бродяг во всем мире ищет убежище от нищеты.
Двадцать к восьмидесяти — общество одной пятой, предусмотренное для следующего столетия элитой «Фермонта», полностью соответствует научному и технологическому мышлению корпораций и правительств, продвигающих глобальную интеграцию. Но всемирная гонка за достижение максимальной эффективности и минимальных зарплат широко открывает двери для иррациональности. На самом деле бунтуют вовсе не нищие; скорее, речь идет о страхе потерять свое положение, охватывающем в настоящее время средние слои общества и представляющем собой политическую бомбу замедленного действия, сила взрыва которой не поддается оценке. Демократии угрожает не бедность, а страх перед бедностью.
Как известно, экономическое разложение политики уже однажды привело к глобальной катастрофе. В 1930 году, через год после грандиозного биржевого краха, прокапиталистический лондонский еженедельник «Экономист» прокомментировал сложившуюся ситуацию следующим образом:
Величайшая проблема нашего поколения состоит в том, что наши достижения в экономической плоскости жизни опередили наш прогресс в политической плоскости до такой степени, что наши экономика и политика постоянно выпадают из сцепления друг с другом. В экономической плоскости мир нашими усилиями сформировался в единую всеобъемлющую производственную единицу. В политической же плоскости он остался разделенным. Напряжение между этими двумя прямо противоположными тенденциями породило серию конфликтов, столкновений и потрясений в общественной жизни человечества[18].
История не повторяется. Вместе с тем война по-прежнему является наиболее вероятной отдушиной в случае, если социальные конфликты становятся неудержимыми, возможно, в форме гражданских войн против этнических меньшинств или мятежных регионов. Глобализация не обязательно ведет к военным столкновениям, но такой вариант развития событий возможен, если высвобожденные силы транснациональной экономики не будут благополучно поставлены под контроль. Существующие политические ответы на экономическое переплетение планеты отвергают возможность обуздания этих процессов каким бы то ни было образом, но способы и средства, позволяющие вернуть штурвал в руки выборных правительств и подведомственных им учреждений, не дав народам вцепиться друг другу в глотку, все же есть. Некоторые из этих способов будут представлены и обсуждены в этой книге.
Первоочередной задачей политиков-демократов на пороге следующего столетия станет восстановление Государства и верховенства политики над экономикой. Если это не будет сделано, то драматическое слияние человечества воедино через технологию и торговлю вскоре обратится в свою противоположность и приведет к глобальному расколу. Нашим детям и внукам не останется тогда ничего, кроме памяти о золотых 1990-х, когда мир все еще казался упорядоченным, а смена курса все еще возможной.
Глава 2 Повсюду одно и то же. Глобализация и глобальная дезинтеграция
Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все враздробь, не поймешь ничего.
Лакей Фирс из «Вишневого сада» ЧеховаМир становится единым. И вначале была картина единой Земли.
Почти в трех часах лета от Пекина, в трех от Гонконга и в двух от Лхасы в Тибете расположен город Чэнду. Далекий административный центр провинции Сычуань в срединной части Китая известен в лучшем случае любителям острой китайской кухни; иностранные путешественники попадают туда лишь в результате вынужденной посадки. Однако Чэнду с его населением в 3,4 миллиона человек — один из наиболее быстро растущих мегаполисов мира.
Среди строительных площадок для новых блочных высотных зданий художники, чья основная специализация огромные портреты Мао, демонстрируют новый лик прогресса. Обернутые пленкой для защиты от едкой пыли многолюдных, но еще не заасфальтированных улиц, броские картины, наподобие гигантских телеэкранов, соблазняют прохожих. Розовое, как поросенок, бунгало, ядовито-зеленая трава, светло-голубой плавательный бассейн и счастливая китайская пара рядом с неестественно большим кабриолетом — вот типичный набор таких соблазнов[19].
На другом конце света, в глубине Амазонии, неподалеку от границы между Боливией и Бразилией, то же обещание доминирует на уличных щитах для объявлений и афиш. Строительная компания Mendes Junior из Сан-Паулу широко рекламирует во влажном тропическом лесу североамериканский тип ухоженных особняков, постройка которых наносит местной природе невосполнимый урон. А в заплесневелых хижинах на берегу пересохшей реки Пурус юные кабоклу — потомки от браков индейцев и негров-рабов — оживленно спорят о точных размерах бюста секс-дивы Памелы Андерсон, сыгравшей пловчиху-спасательницу в калифорнийском телесериале «Спасатели Малибу», как если бы она была девушкой с их улицы. Тем временем лесоторговцы используют кассеты с голливудскими фильмами как средство подкупа горстки индейцев, оставшихся в федеральном штате Рондония, с тем чтобы можно было проникнуть в их резервации и вырубить последние красные деревья[20].
Власть движущихся картинок дает о себе знать даже среди индейцев племени яномами, самобытность которых с таким жаром отстаивал рок-звезда Стинг, равно как и среди молодежи Бутана, который часто называют последней Шангри-Ла[21]. В этом буддистском королевстве у подножия Гималаев население заставляют постоянно носить холщовый халат ниже колен и возделывать поля средневековым инвентарем. Жители этой страны часто вызывают у западного человека неподдельный восторг, даром что многие из них носят поверх своих неказистых национальных одеяний кожаные куртки и торгуют кассетами с американскими фильмами, записанными индийскими видеопиратами[22].
Американская мыльная опера «Род Денверов» давно уже стала привычной даже на Дальнем Востоке России. Директор Хабаровского аэропорта искренне возмутился, когда однажды зарубежные гости принялись объяснять ему, что такое «Шпигель». Выдержки из этого журнала регулярно публикуются в еженедельном приложении к местной ежедневной газете[23]. А на Копакабане[24] один пляжный торговец в соответствии со своими убеждениями поднимает по уик-эндам германский флаг. Этот темнокожий отнюдь не является потомком германских националистов; просто он восхищается «справедливостью в Германии, где бедных нет даже среди обычных людей»[25].
Не приходится сомневаться, что, если бы человечеству пришлось сегодня голосовать и выбирать стиль жизни, оно бы знало, что делать. Более 500 действующих спутников вращаются вокруг земного шара, посылая сигналы современности. Миллиард телевизионных экранов с одинаковыми картинками внушает одни и те же устремления на берегах Амура, Янцзы, Амазонки, Ганга и Нила. Даже в местах, где нет электричества, таких как Нигер в Западной Африке, тарелки спутникового телевидения и солнечные батареи перебросили миллионы людей «из их деревенской жизни в планетарное измерение», как выразился Бертран Шнайдер, генеральный секретарь Римского клуба[26] [27].
Оборонительное сражение китайского режима против факсов, электронной почты и телевизионного вещания из капиталистического мира ведется не только ради удержания власти, но и для защиты иной концепции общества. Там, где к телевизионным картинкам из мира всеобщего потребления до сих пор относятся с неодобрением, как, например, в Северной Корее и ряде исламских стран, вместо них делают свое дело фотографии и подробные репортажи. Даже в Иране, где американский хэви-метал — наиболее популярная музыка среди подростков среднего класса[28], аятоллы больше не в состоянии полностью изолировать свою страну от остального мира.
Никогда прежде столь большое количество людей не слышало и не знало так много об остальном мире. Впервые в истории человечество объединено общим образом реальности.
Если бы почти 6 млрд жителей планеты могли бы на самом деле решить с помощью референдума, как они хотят жить, то подавляющее большинство проголосовало бы за тип существования среднего класса в пригороде Сан-Франциско. Знающее квалифицированное меньшинство дополнило бы свой выбор социальными стандартами ФРГ времен до падения Берлинской стены. Роскошное же сочетание карибской виллы со шведской системой социальной защиты удовлетворило бы всех без исключения.
Дисней-победитель
Почему же калифорнийский идеал жизни утвердился во всем мире? Почему на вершине оказался Дисней? Главной, но не единственной причиной этого стал размер американского рынка наряду с геополитическим положением Соединенных Штатов после второй мировой войны и их мощью в пропагандистских сражениях «холодной войны». Иными словами, Сталин хотел всемогущества, а Микки Маусу удалось стать вездесущим.
У медиа-магната Майкла Айзнера, президента и председателя совета директоров Walt Disney Corporation, имеется на этот счет своя точка зрения: «Американские развлечения предлагают огромное разнообразие индивидуального выбора и индивидуального выражения. Это то, чего люди хотят повсеместно». Без всякого стеснения этот голливудский делец добавляет: «Благодаря своей неограниченной творческой свободе американская индустрия развлечений отличается оригинальностью, которой нет больше нигде в мире»[29].
Наиболее непримиримым оппонентом Айзнера на данный момент является Бенджамин Р. Барбер, директор Центра Уолта Уитмена при Университете Рутжерса в штате Нью-Джерси, который предложил ставшую уже классической формулу «Джихад миру McDonald's». По его мнению, тезис Айзнера о разнообразии является
«откровенной ложью. Этот миф уводит нас в сторону от двух ключевых моментов: характера выбора и того обстоятельства, что независимость людских желаний во многом иллюзорна. Во многих американских городах, например, есть возможность выбора из десятков моделей автомобилей, но нет возможности выбрать средство общественного транспорта. И как может кто-либо принимать всерьез заявление о том, что рынок всего лишь дает людям то, чего они хотят, при одновременном существовании рекламной индустрии с бюджетом в 250 млрд долл.? Разве, к примеру, телевизионная станция MTV является чем-то бóльшим, чем всемирная круглосуточная реклама продукции музыкальной индустрии?».
Согласно Барберу, полная победа «Дисней-колонизации глобальной культуры» покоится на феномене столь же древнем, как и сама цивилизация: на соперничестве между трудным и легким, медленным и быстрым, сложным и простым. Первый член в каждом из этих противопоставлений связан с удивительными достижениями культуры, тогда как второй соответствует «нашей апатии, усталости и тяге к расслаблению. Disney, McDonald's и MTV рассчитаны именно на удовлетворение стремления к легкому, быстрому и простому»[30].
Независимо от того, кто прав в оценке победы Голливуда — Айзнер или Барбер, — последствия ее окружают нас повсюду. «Синди Кроуфорд и герои мультфильма «Покахонтас» глядят на вас на каждом углу, как когда-то статуи Ленина в бывшем Советском Союзе. Песнопения Мадонны и Майкла Джексона — это призыв муэдзина нового мирового порядка», — полагает калифорнийский футуролог Натан Гардела, описывая таким образом монотонную панораму современного мира[31].
В громадных империях средств массовой информации солнце никогда не заходит. Голливуд — это международный генератор важнейшего сырья для постматериализма. Time Warner хочет слиться с принадлежащими Теду Тэрнеру Broadcasting Corporation и CNN, образовав, тем самым, лидера мирового рынка в области масс-медиа, а возможное слияние Walt Disney с телеканалом ABC стало бы вторым по величине корпоративным приобретением в американской истории. Sony владеет кинокомпанией Columbia Pictures, Matsushita в 1995 году продала гиганта индустрии развлечений МСА мультинациональному гиганту Seagram, производящему спиртные напитки. Между Кореей и Персидским заливом властвует австралиец Руперт Мэрдок. Его расположенная в Гонконге спутниковая станция Star TV охватывает четыре часовых пояса и половину населения мира. Сногсшибательно красивые дикторши — китаянки, индианки, малайки и арабки — переходят с китайского на английский и обратно, покрывая пространство и время на шести разных каналах. В настоящее время Мэрдок усиленно старается охватить своим вещанием территорию Китайской Народной Республики главным образом путем участия в кабельном телевидении. До сих пор только 30 миллионов жителей КНР имеют возможность принимать его программы на законном основании и без помех. Пекинские власти пока осторожничают, но уже намекнули индустрии средств массовой информации на то, какая формула позволит австралийцу осуществить задуманное: «Никакого секса, никакого насилия, никаких новостей».
Гиганты СМИ, в числе которых Герман Бертельсманн, его упорный конкурент Лео Кирх и итальянец Сильвио Берлускони, хорошо подготовлены к тому, чтобы обеспечить тот титтитейнмент, над которым властители мира размышляют на совещаниях, подобных организованному Фондом Горбачева в Сан-Франциско. Насаждаемые ими образы благополучия управляют мечтами людей, а мечты определяют действия.
Великая жажда монотонного «визга»
Чем больше границ преодолевает кинорынок, тем ýже он становится. В среднем американская киноиндустрия тратит на художественный фильм 59 миллионов долл. — сумму, о которой европейским или индийским продюсерам пока остается только мечтать[32]. Кроме того, она постоянно устанавливает новые стандарты в области технологии и оборудования, достичь которых конкуренты могут лишь изредка. Вследствие этого продолжает усиливаться отток капиталов и квалифицированных кадров в направлении Голливуда и Нью-Йорка.
Обещанные каждой семье 500 телевизионных каналов принесут лишь видимость разнообразия. Несколько лидеров рынка будут слегка перекраивать и подновлять свою продукцию на нескольких станциях для различных групп-мишеней, а погоня за высокими рейтингами будет подстегивать процесс концентрации. Так, покупку права трансляции важнейших спортивных соревнований можно профинансировать только при огромных доходах от рекламы, а это могут себе позволить только крупные станции или международные дельцы. Единственными производителями, заинтересованными в рекламе и спонсировании, являются те, кто повсеместно присутствует на рынках зоны вещания, а это, прежде всего, транснациональные корпорации. В настоящее время всего лишь десять крупных фирм оплачивают почти четверть всей телерекламы в Германии[33]. Полутораминутный рекламный ролик, который можно транслировать на нескольких континентах, стоит столько же, сколько в среднем тратится на европейский художественный фильм[34].
Рекламные агентства со своей стороны используют для своих клиентов декорации одной и той же земли обетованной. Немецкие телезрители уже настолько полюбили Нью-Йорк и Дальний Запад, что во время финального матча чемпионата национальной футбольной лиги в мае 1996 года станция RTL почти в половине своих рекламных роликов использовала картинки из этого далекого, но, очевидно, знакомого мира[35]. В наши дни, когда на экране багряное солнце садится в море рядом с пивом Beck, это происходит не на Капри, а за мостом Золотые Ворота. А покрышки Continental уже не визжат на гоночной трассе Нюрбурга в Германии, а изящно лавируют между небоскребами Манхэттена.
Усилители с обратной связью все более повышают степень глобального единообразия. Согласно прогнозу нью-йоркского видеохудожника Керта Ройстона, логическим конечным продуктом в области культуры стал бы монотонный американский «визг» по всему миру[36]. В какой-то степени подтверждением этому является молодежный театральный авангард от Томска в Сибири до Вены и Лиссабона, вот уже несколько лет шумно имитирующий каждую деталь нью-йоркской сцены двадцатилетней давности с ее нарочитой яркостью красок, назойливым шумом, обилием нещадно орущих телевизионных мониторов — какая скука[37]. Понемногу распространяется мнение, что во времена, когда все кричат, гораздо более возбуждающей и эффективной альтернативой может быть просто тишина[38].
В рамки предсказанного Ройстоном «глобального визга» удачно вписалось и «трио теноров» — Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, — совершившее в 1996 году мировое турне. На переполненных стадионах от Мюнхена до Нью-Йорка огромные аудитории в большинстве своем едва ли слышали что-либо, кроме основных мелодий любимых ими классических произведений. Дабы посетители концертов именитой троицы ощутили себя причастными к уникальному событию, удручающее однообразие репертуарной сборной солянки каждый раз разбавлялось какой-нибудь изюминкой, отличавшей одно выступление от других. И надо сказать, что на всех четырех континентах, охваченных турне, зрителя разных национальностей, несмотря на разделяющие их культурные барьеры, часто в едином порыве вызывали исполнителей на бис. Для японцев три звездных тенора исполнили «Кава-но нагаре найоми», задушевный гимн вечно текущей реке. А рядом с Дунаем, который никак не назовешь голубым и ныне перегорожен дамбой как раз перед Венским стадионом, где выступили теноры, в ушах 100 000 немцев, чехов и венгров, в основном нуворишей, звенел застольный хит «Вена, Вена, лишь ты одна»[39].
При определении того, что должно понравиться различным нациям, трио чародеев бельканто вполне могло бы использовать опыт покорителя людских глоток номер один — Coca-Cola. В Китае этот гигант по производству безалкогольных напитков продает свою коричневую шипучку с одним вкусом, а в Японии — с другим: напиток подслащивается в соответствии с культурными предпочтениями и особенностями региона[40]. Во время Летних олимпийских игр 1996 года Coca-Cola в своих трансконтинентальных рекламных роликах использовала слегка расплывчатый слоган «для фэнов», но в знойной Атланте проницательные рекламодатели компании напрямую апеллировали к потеющим зрителям, написав на автобусах спортсменов: «Болельщики всегда хотят пить!»[41].
И в Европе спорт как продукт культуры быстро приспосабливают к сообществу болельщиков, которое в силу стойких предпочтений радо любой знакомой упаковке. Президент ФИФА Жоао Авеланж хочет, чтобы в футбольных матчах было больше рекламных пауз, как в американском футболе[42], в то время как германская Бундеслига стремится изменить имидж, ориентируясь на американскую Национальную баскетбольную ассоциацию. Привязанность к рекламному образу вытесняет чувство принадлежности к культуре, в которой ты вырос, поэтому мюнхенская «Бавария» продает в Гамбурге больше маек со своей символикой, чем две команды местной лиги, «ХСВ» и «Сан-Паули», в совокупности. Продажа болельщикам подобной продукции уже приносит ведущим клубам больше денег, нежели все статьи их доходов в начале 90-х годов, включая права на телетрансляцию матчей, вместе взятые. По мнению исследователя спорта Ганса И. Штолленверка, в силу того, что подогревающие интерес болельщиков разногласия между традиционно соперничающими командами разных городов естественным образом возникают все реже, «их приходится создавать искусственно даже между игроками, игроком и тренером, тренером и руководством клуба»[43]. Подобно своего рода глобальной лавине, сметающей все на своем пути, спрос млрд на поток товаров, рекламируемых в мировом масштабе, неумолимо подчиняет себе торговые улицы больших городов. «Превращение жажды в потребность в кока-коле», как однажды презрительно охарактеризовал этот процесс социолог Айвен Иллич, завершилось[44]. Во всех крупных городах доминируют знакомые торговые марки: Calvin Klein, Kodak, Louis Vuitton и иже с ними. Идеи и промышленные товары подвергаются глобализации наряду с музыкальными вкусами и ассортиментом фильмов немногих оставшихся кинотеатров. Они становятся все более однотипными, и темпы этой ассимиляции порой таковы, что угрожают разорением традиционным национальным поставщикам. Последней жертвой этой лавины стала Вена, в прошлом столица империи. Бесчисленные магазинчики, оригинальное оформление которых придавало центру города приятный и самобытный облик, были вынуждены закрыться после того, как Австрия в начале 1995 года вступила в Европейский Союз, главным образом из-за одновременной отмены строгого регулирования арендной платы. Сети международных магазинов занимают лучшие места; унылого вида закусочные, фирмы — изготовители вызывающе откровенного нижнего белья и аптеки, оборудованные по последнему слову техники, открывают свои стерильные отделения.
Эпоха городов
Живущие в странах с процветающей экономикой горожане из среднего класса с невообразимой легкостью перемещаются по уменьшающейся голубой планете, совершая как деловые, так и увеселительные поездки. Уже 90 миллионов человек имеют постоянный доступ к Интернету, и к ним каждую неделю присоединяется еще по полмиллиона[45]. Венский фотограф, родившийся в земле Форарльберг, знает теперь нью-йоркский Уэст-Сайд лучше, чем Инсбрук; лондонскому биржевому маклеру ближе его коллеги в Гонконге, чем управляющий отделением банка в Саутгемптоне. Оба мнят себя непредубежденными космополитами, вовсе не подозревая о том, что их глобальные «связи» зачастую весьма провинциальны и ограничиваются их собственным окружением. Журналисты, специалисты по компьютерам или актеры путешествуют чаще и интенсивнее, чем дипломаты или деятели внешней политики: утром они еще могут быть в маленьком венгерском городке, ублажая отчаявшихся клиентов или ведя переговоры с потенциальными, днем — на запланированной деловой встрече в Гамбурге, вечером — у новой, но уже почти утраченной подружки в Париже, на следующий день — где-то в штаб-квартире компании, а затем летят в США или на Дальний Восток. Каждый, кому по пробуждении требуется несколько секунд, чтобы вспомнить, на каком континенте он провел ночь, принадлежит к своего рода авангарду путешествующих по миру. «Смотрите, как бы вам по прилете обратно не встретиться на регистрации в аэропорту с самим собой!» — эту старую шутку, однажды адресованную Гансу-Дитриху Геншеру в бытность его министром иностранных дел, теперь повторяют столь непоседливым людям немногие оставшиеся у них друзья. Вместе с тем многие завидуют их подвижности, их высоким доходам и даже их «космополитическому» образу жизни.
Однако в то время как эти изнуренные слуги глобальных игроков сидят поздно вечером в барах известнейших отелей «Раффлз» в Сингапуре, «Савой» в Москве или «Копакабана пэлис» в Рио со слезами на глазах, их старые школьные друзья (с которыми они могут случайно столкнуться на улице во время происходящей у тех два раза в год туристической вылазки за границу) уже давно лежат в своих дешевых постелях и видят сладкие сны. В такие моменты эти потерянные для всех и самих себя невольники карьеры не находят себе места от парализующего ощущения пустоты и одиночества, наваливающегося на них после восьмого за год межконтинентального перелета. Знакомая обстановка, в которой они отдыхают, и впрямь глобальна, но при этом в конечном счете однообразна и невыносима. Где бы они ни оказались, они чувствуют себя узниками предсказуемо отвратительных и нестерпимо похожих друг на друга аэропортов, однотипных отелей и ресторанов, зверея от одного и того же набора каналов спутникового телевидения в снабженных кондиционерами, но вместе с тем затхлых гостиничных номерах. Души этих скитальцев не поспевают за их телами; если у них когда-либо и были силы, необходимые для того, чтобы заняться чем-то действительно новым и другим, то они уже давно их покинули. Поэтому, бывая повсюду, они неизменно оказываются в одном и том же месте; видя все, они видят только то, что им известно, и по ходу дела коллекционируют авиарейсы подобно тому, как домоседы собирают телефонные карты, почтовые марки или подставки под пивные кружки.
Но такая подвижность — показатель общей тенденции, когда весь мир летит со скоростью звука в беспокойное новое будущее. По всей вероятности, вскоре после наступления третьего тысячелетия в мире будет порядка тридцати космополитических конурбаций[46] с населением от 8 до 25 миллионов человек каждая, связанных между собой плотной паутиной электронных сетей, цифровыми спутниковыми телефонами, аэропортами с высокой пропускной способностью зонами беспошлинной торговли. Эти мегаполисы разбросаны по планете как случайные пятна света, расстояние между которыми измеряется тысячами километров, и все же обитатели каждого из них чувствуют себя ближе к жителям остальных, чем к соотечественникам, живущим на периферии, которой их собственная среда обитания в значительной степени обязана своим существованием.
Власть, как полагает итальянский футуролог Риккардо Петрелла, будет «принадлежать действующей в мировом масштабе лиге торговцев и муниципалитетов, чьей главной заботой станет обеспечение конкурентоспособности глобальных фирм»[47]. Уже каждый из главных азиатских центров изо всех сил старается вырваться вперед. Молодежь на всех континентах взрослеет с образом глобальных городов, радикально отличающимся от всего, что знали их родители. И уже не Париж, Лондон и Нью-Йорк блистают превосходными степенями, и не Москва или Чикаго. С марта 1996 года высочайшее здание в мире отбрасывает тень в столице Малайзии Куала-Лумпуре, а самое большое количество башенных кранов возвышается над крышами не Берлина, а Пекина и Шанхая. Между Пакистаном и Японией дюжина бурно развивающихся регионов пробивается на сцену глобальной конкуренции, соперничая за роли, распределенные за последние десятилетия между крупными городами Запада. Бангкок, например, пытается отвоевать статус автомобильной столицы у Детройта. Японские производители — Toyota, Honda, Mitsubishi и Isuzu — уже давно собирают свои автомобили в Таиланде, тогда как Chrysler и Ford превращают свои отделения в этой стране в корпоративные базы для Юго-Восточной Азии.
Тайбей видит себя преемником Силиконовой долины, и не зря: Тайвань уже является одним из крупнейших мировых производителей мониторов, компьютерных мышей и сканеров. Малайзия рассчитывает добиться процветания на ниве экспорта высоких технологий подобно тому, как Рур в свое время совершил прорыв в сфере черной металлургии. Бомбей в настоящее время снимает 800 художественных фильмов в год: в четыре раза больше, чем Голливуд, а плата за аренду офиса в этом городе побила предыдущий рекорд, установленный в Японии.
Основным конкурентом Токио и Нью-Йорка в борьбе за роль нервного центра новых супергородов Азии является Шанхай. «Мы хотим к 2010 году стать международным финансовым и деловым центром в западной части Тихого океана», — объясняет Ху Янгжао, главный экономист городской комиссии по планированию. В процессе величайшей городской перестройки со времен осуществленной в XIX веке в Париже бароном Гауссманном старый Шанхай будет почти полностью разрушен, а на его месте будет возведен новый город. Четверти миллиона семей уже пришлось покинуть центр города, позднее к ним присоединятся еще 600 000. Здесь открыли свои офисы сорок из 100 крупнейших мультинациональных корпораций. Siemens изъявила желание помочь городу в строительстве метрополитена; в этом году с конвейеров Volkswagen-Shanghai сойдет 220 000 легковых автомобилей, годовой объем выпуска которых планируется к 2000 году довести до 2 миллионов. Колония британской короны Гонконг, которая в 1997 году будет возвращена Китайской Народной Республике[48], пытается не отставать. «На нашей стороне география», — считает крупный банкир Клинт Маршалл. В новый аэропорт вкладывается двадцать млрд долл., а всего в двадцати километрах бурно развивающаяся китайская провинция Гуандун уже является поставщиком глобальных рынков[49].
Экономический подъем Китая, став уже привычным явлением, несет в себе и сюрпризы, как приятные, так и не очень. Существует предположение, что к 2000 году «социалистическая рыночная экономика» Дена Сяопина займет второе место в мире, опередив японскую и германскую. Несмотря на то что в 1960-е годы европейские паникеры не раз беспокоились по поводу надвигающейся «желтой опасности» и ничего не случилось, теперь китайцев в Европе действительно много. Рабочие из шанхайской металлургической корпорации Meishan работают в Неаполе едва ли не круглосуточно. Они разбирают 24 000-тонный сталелитейный комплекс на 100 гектарах закрывшегося завода, принадлежащего итальянской фирме Bag-noli. Летом 1997 года его части будут вновь собраны за 14 000 километров от Неаполя, в Нанкине, портовом городе на реке Янцзы. Thyssen Steel, в свою очередь, демонтирует доменную печь, которая не работает на полную мощность, и перевозит ее в Индию, а австрийская фирма Voest-Alpine уже целиком переправила устаревший сталелитейный завод LD-2 из Линца в Малайзию. В связи с этим жители Дальнего Востока приобретают качественные товары; они стали последними, кто извлекает выгоду из длившегося на протяжении нескольких десятилетий субсидирования европейской сталелитейной промышленности на суммы в миллиарды немецких марок[50].
В наши дни глобализация продвигается вперед с прежде невообразимой быстротой. Экономист Эдвард Луттвак описывает новую эпоху как «слияние болот, прудов, озер и морей экономик деревень и провинций, регионов и государств в единый глобальный экономический океан, накатывающий на небольшие участки суши гигантские волны конкуренции, пришедшие на смену вчерашним легкой ряби и спокойным приливам»[51].
Весь мир является единым рынком, на котором, по-видимому, процветает мирная коммерция. Разве это не исполнение вековой мечты человечества? И разве не должны мы, живущие в до сих пор изобильных индустриальных цитаделях, возрадоваться подъему столь многих развивающихся стран?
Нет.
Вопреки предсказанию канадца Маршалла Маклуэна, мир ни в коей мере не стал «глобальной деревней». Пока ученые мужи и политики склоняют эту метафору на все лады, становится ясно, насколько мало сближается реальный мир. Да, свыше млрд телезрителей в июне 1996 года почти одновременно смотрели матч по боксу между Акселем Шульцем и Майклом Мурером на Вестфальском стадионе в Дортмунде. Верно и то, что церемония открытия последних олимпийских игр этого столетия в Атланте, которую наблюдали 3,5 млрд зрителей, объединила мир в большей степени, чем любое другое событие за последнюю тысячу лет. Однако эти всемирные трансляции обмена ударами и спортивных состязаний не привели ни к какому действительному обмену, ни к какому действительному пониманию между людьми. Близость и одновременность посредством масс-медиа бесконечно далеки от какой бы то ни было культурной солидарности, не говоря уже об экономическом равенстве.
Олимпийское откровение
Еще даже до того, как анонимный (а потому типично правый) террор бросил яркий отсвет социальной напряженности в Соединенных Штатах на транслируемые по телевидению олимпийские игры в Атланте, их организаторы сделали абсолютно очевидной несостоятельность всякого упоминания о международной сплоченности. Для начала они бесстыдно низвели 85 000 гостей, явившихся на торжественную церемонию открытия за 636 долл. каждый, до уровня статистов в потоке возбуждающих образов. Люди были вынуждены купить разноцветные шарфы, факелы и щиты и по команде размахивать ими перед камерой. Вскоре гвоздем вечера стало слово «мечта», которым американские пропагандисты любят заклинать даже больше, чем своей концепцией свободы. Атланта — это «веха мечты», гласило безвкусно роскошное табло стадиона. «Власть мечты» — пела Селин Дион. На табло в течение нескольких минут светилась строка из стихотворения Эдгара Аллана По: «Мечтам себя вверяй таким, на кои смертные отважиться не в силах были прежде!». И наконец, по рядам, как эхо, пронеслись исторические слова Мартина Лютера Кинга: «У меня есть мечта!»[52].
О каких же мечтах идет речь? О том ли, что через тридцать лет после убийства этого черного защитника гражданских прав почти исключительно белокожие американцы из пригородов на прекрасном новом овальном стадионе в его родном городе ощущают самодовольный трепет, когда его дрожащий, плохо записанный голос воспроизводится на тщательно подготовленной кассете? И отваживался ли Мартин Лютер Кинг мечтать о том, что почти исключительно чернокожие бездомные Атланты будут в полном составе вывезены на автобусах подальше от центра города на время олимпийских игр для того, чтобы образы американской действительности, не дай Бог, не попали в объективы телекамер съемочных бригад со всего мира?
Во всяком случае, в этом крупном городе американского Юга, вычищенные трущобы и давящие громады небоскребов которого вызывают то же ощущение пира во время чумы, что и вознесшаяся к небесам столица Малайзии Куала-Лумпур, слова «черный» и «бедный» остались синонимами. Есть своего рода самозащитный цинизм в том, что искушенный в вопросах социологии телепродюсер Барбара Пайл, одна из ключевых фигур в транснациональной вещательной корпорации Теда Тэрнера, комментируя формирующие новые стандарты игры 1996 года, сказала: «Прежде между высотными зданиями CNN и Coca-Cola находилось несколько бедных черных кварталов с дешевым жильем. Их сравняли с землей, чтобы построить на их месте Парк олимпийских игр столетия так называемой «Глобальной олимпийской деревни AT&T», и в будущем служащие этих двух корпораций смогут спокойно прогуливаться между головными офисами друг друга»[53].
Единый мир распадается
Хотя в настоящее время преобладающее влияние на планете имеют высокотехнологичные и замкнутые на себя городские конгломераты вроде Атланты, они все больше приобретают характер изолированных островков. Мировой архипелаг богатства, возможно, и состоит из цветущих анклавов, но в том, что до сих пор было «развивающимися странами», куала-лумпуры— не более чем цитадели глобальной экономики. Тем временем мир большей частью мутирует в люмпен-планету, львиная доля богатства которой сосредоточена в мегаполисах с мегатрущобами, где миллиарды человек влачат жалкое существование. Каждую неделю число людей, живущих в городах, увеличивается примерно на миллион[54].
В то же время «наше конфузливое безразличие сменилось безразличием самодовольным, — предостерегал Франсуа Миттеран в марте 1995 года. — Заинтересованность в помощи развивающимся странам полностью улетучилась. Такое впечатление, что каждая страна присматривает только за своим задним двором»[55].
Всего лишь 358 миллиардеров владеют таким же богатством, как и 2,5 млрд человек, вместе взятые, почти половина населения Земли[56]. Затраты индустриальных стран на «третий мир» неуклонно снижаются: так, Германия в 1994 году истратила на них 0,34% своего бюджета, а в 1995 — уже 0,31%[57]. Тот факт, что частные инвестиции из богатых стран недавно превысили официальную помощь развивающимся странам, не вызывает сомнения, однако, действительно, от этого выиграли лишь несколько регионов. Ожидаемый доход инвесторов на вложенный капитал зачастую «из-за риска» достигает 30% годовых, что наглядно подтверждается на примере строительства водопроводов в Индии и Индонезии[58]. Вопреки неоднократным утверждениям правительств Севера о значительном сокращении суммарной задолженности развивающихся стран, она неизменно увеличивается и в одном только 1996 году выросла на 1,94 млрд долл., почти вдвое превысив прирост десятилетней давности[59].
«Все это кончилось, — сделал логичный вывод египетский писатель Мохаммед Сид Ахмед. — Диалог Север-Юг так же мертв, как и конфликт Восток-Запад. Идея развития мертва. Больше нет ни общего языка, ни даже словаря для обозначения проблем. Юг, Север, «третий мир», освобождение, прогресс — все эти термины уже не имеют никакого смысла»[60].
В Европе и Соединенных Штатах все чаще можно слышать утверждение, что помощь давно уже нужна нам самим. Даже в бурно развивающихся конурбациях миллионы избирателей считают, что они — не более чем обманутые новыми временами. Обеспокоенные люди находят все больше оснований для парализующих страхов за свои рабочие места и будущее своих детей. Не станет ли уровень жизни среднего класса на Западе, до сих пор воспринимаемый как нечто само собой разумеющееся, в исторической перспективе всего лишь одним большим KaDeWe, тем субсидируемым роскошным магазином в Западном Берлине, что произвел фурор на неизбалованном товарным изобилием коммунистическом Востоке, но который при всей пропагандистской шумихе отнюдь не являлся отражением жизненных стандартов Западной Европы?
По мере расширения в обществе экономической пропасти между бедными и богатыми первые все чаще видят политическое спасение в отделении и обособлении. В последние годы потребовалось найти место на карте для десятков новых государств, и вот уже 197 национальных команд прошли маршем по олимпийскому стадиону в Атланте. Когда итальянцы и даже швейцарцы борются за свою самобытность, само единство нации становится проблематичным. Спустя пятьдесят лет после образования Итальянской Республики до 50% населения регионов между Вентимильей и Триестом голосует за движение протеста «Лига Севера», лидер которого, Умберто Босси, призывает взрывать радио- и телевизионные станции государственной вещательной корпорации RAI. В сентябре 1996 года Босси даже провозгласил независимое государство Падания. Процветающие страны движутся к распаду и в других частях света. В Карибском бассейне, к примеру, доселе спокойные острова Сент-Китс и Невис, живущие главным образом за счет туризма, хотят покончить со своей федерацией[61].
Канаде и Бельгии подрезают крылья конфликты между их языковыми группами. В Соединенных Штатах, чьи волны иммигрантов давным-давно приняли один общенациональный язык, миллионы латиноамериканцев, в том числе во втором и в третьем поколениях, ныне отвергают английский. Повсюду набирает силу трайбализм[62], и во многих регионах он угрожает перерасти в воинствующий национализм или региональный шовинизм.
В отличие от войн XIX и начала XX столетий войны будущего в большинстве своем будут идти не между государствами, а в их пределах. В 1995 году лишь два из пятидесяти вооруженных конфликтов в мире укладывались в привычную схему: войны между Перу и Эквадором и между Ливаном и Израилем. Вместе с тем новые конфликты внутри национальных границ не привлекают должного внимания международной общественности. Так, например, следует отметить, что в Южной Африке в течение года, последовавшего за крахом апартеида, в результате актов насилия погибло 17 000 человек — больше, чем за тридцать лет вооруженной борьбы против расовой сегрегации[63].
По мере того как трагедия африканского континента достигает своего пика, международное сообщество всячески пытается замолчать эту проблему. Девять из двадцати одной подлежащей закрытию миссии США по оказанию помощи за рубежом находятся в этой части света, которую многие уже считают потерянной. «И все же Африка, возможно, не менее важна для будущей мировой политики, чем Балканы сто лет тому назад, до двух Балканских войн и первой мировой войны, — говорит американский специалист по «третьему миру» Роберт Д. Каплан. — Именно потому, что значительная часть Африки стоит на краю пропасти, мы можем прогнозировать, какими будут войны, границы и этническая политика через несколько десятилетий»[64].
Города региона от Сьерра-Леоне до Камеруна, прежде всего Фритаун, Абиджан и Лагос, считаются одними из самых опасных городов мира в ночное время; десять процентов населения столицы Берега Слоновой Кости[65] ВИЧ-инфицированы. По мнению Каплана, «нет другого такого места на земле, где политические карты так обманчивы, если не сказать лживы, как в Западной Африке». Вслед за Руандой, Бурунди и Заиром колыбелью расовой и гражданской войны становятся другие африканские страны.
Поскольку 95% прироста населения в мире приходится на беднейшие регионы, вопрос, видимо, не в том, будут ли новые войны, а в том, какими они будут и кто с кем будет сражаться. В 1994 году семнадцать из двадцати двух арабских стран сообщили об экономическом спаде, однако население многих из них в ближайшие два десятилетия, по всей вероятности, удвоится. В недалеком будущем оскудеют источники воды в отдельных частях Центральной Азии, а также в Саудовской Аравии, Египте и Эфиопии. В этой связи Каплан делает заключение: «Ислам будет привлекателен для угнетенных в силу своей воинственности. Эта религия, число приверженцев которой в мире растет наиболее быстрыми темпами, является единственной, готовой к борьбе»[66]. Вследствие этого сепаратисты и религиозные фанатики завоевывают все большую популярность от Марокко и Алжира до Индии и Индонезии.
Летом 1993 года профессор Гарвардского университета Сэмюел П. Хантингтон опубликовал в «Форин эфеаз» эссе под ставшим знаменитым заголовком «Столкновение цивилизаций?»[67]. Согласно тезису Хантингтона, привлекшему исключительное внимание, особенно на индустриальном Западе, будущее будет определяться не конфронтацией между социальными теориями и политическими системами, как во времена «холодной войны», а конфликтами между цивилизациями на религиозной и культурной почве. Хантингтон с готовностью разделяет унаследованные от предков страхи относительно возможного завоевания и разграбления Европы (гуннами, турками или русскими в зависимости от столетия). Но прав ли гарвардский стратег? Столкнется ли когда-нибудь демократический Запад с остальным миром, с союзом деспотов и теократов вроде Саддама или Хомейни, да еще и поставившим себе на службу орды хорошо обученных и низкооплачиваемых наемников — соотечественников Конфуция?
На этот счет, безусловно, имеются более чем обоснованные сомнения, особенно в контексте нового, лишенного пространства мира тесно связанных между собой городов, в котором пока что процветающие страны поразительными темпами подрывают собственную социальную структуру и тем самым провоцируют политическую напряженность на Западе. В то же время унифицированная глобальная культура связывает воедино национальные элиты. Но самое главное то, что стремительно прогрессирующая Азия ни в коей мере не является однородным образованием. Разобщение и распад угрожают и Поднебесной. «На самом деле Китай мчится прямо на стену, — считает Тимоти Уирт, первый госсекретарь по вопросам геополитики, работающий в тесном контакте с президентом Клинтоном. — Дезинтеграция Китая может вскоре стать проблемой, затмевающей все остальные»[68].
Китайские крестьяне уже по горло сыты своей жалкой деревенской жизнью. Каких-то двадцать лет тому назад они не могли ничего услышать по контролируемому государством радио о сравнительно благополучных городах. Даже если они узнавали о них иным образом и пытались туда добраться, их немедленно задерживали непроницаемые полицейские кордоны на автострадах. Сегодня, однако, они пополняют собой армию бродяг, растекающуюся по трущобам в поисках заработка на хлеб насущный вдали от неусыпного ока коммунистической партии и органов местного самоуправления. Эта людская масса насчитывает уже свыше ста миллионов горемык и представляет собой наглядное свидетельство колоссального бремени, лежащего на самой населенной стране мира[69].
Индия, которая еще до наступления нового тысячелетия станет второй страной в мире с более чем миллиардным населением, тоже испытывает все большее давление. В заголовках газет и журналов на смену Мехико и Сан-Паулу в качестве примеров города-кошмара приходят Бомбей и Нью-Дели. В каждом из этих мегаполисов уже проживает более 10 миллионов человек, и ожидается, что менее чем через двадцать лет эта цифра почти удвоится. Скоро еще одним пугалом для мировой прессы станет пока не столь часто упоминаемый в ней в таком контексте пакистанский город Карачи. Есть основания полагать, что к 2015 году его нынешнее население в 10 миллионов вырастет до 20[70].
Нередко первоначальным источником информации об очередном незапланированном, несанкционированном и бесконтрольном разрастании Нью-Дели для властей города служат фотографии, сделанные со спутника. Днем его улицы превращаются в своего рода дымовые туннели шириной в три и высотой в сотню метров. Весь город кашляет в тумане от ревущих «фут-фут», дешевых моторикш. Треть здешних детей страдает от аллергического бронхита, лечение которого обычными лекарствами приносит в лучшем случае кратковременное облегчение. Ежегодно в столице Индии в дорожно-транспортных происшествиях гибнет около 2200 человек — цифра, которая, будучи отнесенной к числу автомобилей, превышает показатель Соединенных Штатов в тринадцать раз. И хотя еще в 1970-е Нью-Дели славился как «город-сад», один из министров страны недавно назвал его «экологической черной дырой Азии», которая «совершенно непригодна для проживания»[71].
В Бомбее, который, по словам обозревателя Судхира Мульджи, превратился в «самую дорогую трущобу в мире» с тех пор, как экономика Индии стала открытой, такси по утрам пахнут, мягко говоря, неприятно, так как их водители не могут себе позволить отнимающую несколько часов поездку домой и ночуют в машине. Каждый день с улиц приходится вывозить по 2000 тонн мусора; теоретически нужны сотни тысяч туалетов, но муниципальные власти не в состоянии обеспечить даже две трети необходимой для этого воды[72].
Тем не менее миллионы людей, живущих в деревнях или маленьких городках, отнюдь не стремятся в мегаполисы безоглядно, подобно леммингам. Изучение Нью-Дели показало, что большинство переселенцев решается на переезд только тогда, когда уже живущие там друзья или родственники могут помочь им найти работу. При этом приезжие зачастую оказываются в гораздо более выгодном положении, чем огромная масса бедняков, родившихся в городе[73]. Это обстоятельство, очевидно, является источником напряженности, способной породить новые и на сей раз ничем не сдерживаемые потоки переселенцев.
В том, насколько хрупкое образование представляет собой даже жестко управляемый Китай, в полной мере убедился германский федеральный министр Клаус Тёпфер во время своего рабочего визита в Пекин. Он счел своим долгом напомнить премьер-министру Ли Пену, что права человека надо уважать даже в Поднебесной. «Предоставить такие права нашему народу, конечно, можно, — ответил могущественный китайский политик, — но готова ли Германия принимать у себя от десяти до пятнадцати миллионов китайцев в год и заботиться о них?»
Такой отповеди миссионер западной демократии никак не ожидал и не нашелся, что ответить. Тёпфер вспоминает, что он был обезоружен «невероятным цинизмом» коммуниста[74]. Но только ли цинизм выбил его из седла? Собственно говоря, тогда был поднят вопрос, на который человечество в целом и в особенности та его часть, что оказалась в выигрыше в Европе и Северной Америке, должны быть готовы дать ответ. Сколько свободы или, точнее, какого рода свобода еще возможна на голубой планете с ее населением, быстро приближающимся к 8 млрдм? Какие правила, какие формы общественного устройства позволят разрешить проблемы экологии, голода и экономической жизни?
Лидеры мировой политики изрядно обеспокоены. «Сегодня мы живем посреди всемирной революции, — с недавних пор настойчиво повторяет в своих выступлениях генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали. — Планета зажата в тисках двух мощнейших противодействующих сил: глобализации и дезинтеграции».
Бутрос-Гали с глубокой неуверенностью добавляет: «История показывает, что застигнутые революционными преобразованиями редко понимают их конечный смысл»[75].
Наш враг — это мы сами
Конечно, модель цивилизации, изобретенная в Европе, оказалась исключительно динамичной и успешной. Но это не то, что требуется для формирования будущего. «Существенного подъема жизненных стандартов» в «слаборазвитых регионах» посредством «резкого роста их индустриальной активности», предложенного президентом Гарри Трумэном беднякам мира в 1949 году[76], не произойдет.
Именно сейчас, когда миллиарды людей, манимых одними и теми же образами от Боготы до Якутска, стремятся к развитию западного типа, торговцы этим обещанием разрывают контракт. Будучи неспособны обуздать растущее социальное разделение, они не могут сдержать слово даже у себя в Соединенных Штатах и Европе. Кто еще в «третьем мире» помышляет о развитии с минимизацией ущерба для экологии и справедливом распределении богатства? Самодовольная догма развития все в большей степени являет собой оружие из арсенала «холодной войны», реликт, место которому только в музее.
Новый лозунг: «Спасайся, кто может!». Но кто еще в состоянии спасти себя сам? Победа капитализма ни в коей мере не привела к «концу истории», провозглашенному в 1989 году американским философом Фрэнсисом Фукуямой; скорее, это конец проекта, столь смело названного «современностью». Времена изменились: теперь повседневную жизнь большей части человечества формируют не прогресс и рост благосостояния, а дезинтеграция, уничтожение окружающей среды и культурная деградация.
Мировая элита обсуждала в Сан-Франциско перспективу общества 20:80 в пока еще процветающих странах, но в мировом масштабе это процентное соотношение давно уже является нормой.
Эти факты хорошо известны, но силы, высвобожденные глобализацией, скоро заставят взглянуть на них под совершенно новым углом зрения. Богатейшая пятая часть государств распоряжается 84,7% мирового ВНП, на их граждан приходится 84,2% мировой торговли и 85,5% сбережений на внутренних счетах. С 1960 года разрыв между богатейшими и беднейшими государствами более чем удвоился, что статистически подтверждает несостоятельность всяких обещаний справедливости в оказании помощи развивающимся странам[77].
В настоящее время, как известно, экологическим проблемам отводится более важное место, нежели вопросам занятости или общественного спокойствия, однако, судя по большинству публикаций, экологическое здоровье планеты нисколько не улучшилось. Всемирная модель эксплуатации ресурсов остается неизменной со времен конференции ООН по проблемам окружающей среды и развития, проведенной с большой помпой в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Процветающие 20% стран используют 85% мировой древесины, 75% обработанных металлов и 70% энергии[78]. Выводы банальны и жестоки: достичь такого уничтожающего природу благоденствия всему населению планеты не удастся никогда. Земля накладывает на человечество собственные ограничения.
Всемирное распространение электростанций и двигателей внутреннего сгорания уже коренным образом нарушило энергетический баланс нашей экосистемы. Декларации о намерениях, изложенные на саммите в Рио, звучат в наши дни как трубы герольдов далекого прошлого. Представители мирового сообщества, собравшиеся на окраине красивейшего мегаполиса на Земле, на словах декларировали свою приверженность «устойчивому развитию», то есть экономическому курсу, который не оставит грядущим поколениям окружающую среду и природные ресурсы в худшем состоянии. Было заявлено, что к концу тысячелетия выбросы углекислого газа будут сокращены до уровня 1990 года по крайней мере в индустриальных странах. Германия заявила о намерении снизить их к 2005 году на 25%.
Эти обещания на бумаге — не более чем макулатура, ибо ожидается, что в действительности к 2020 году мировое энергопотребление удвоится. На 45–90% увеличится выделение газов, участвующих в парниковом эффекте[79]. Вот уже много лет климатологи, входящие в Межправительственную комиссию по изменениям климата, обмениваются результатами своих исследований и предупреждают о «заметном воздействии человека на мировой климат»[80].
Предотвратить изменения климата уже невозможно; в лучшем случае их можно смягчить, и это потребует неисчислимых жертв. «Глобальное потепление наряду с такими явлениями, как бури или наводнения, для нас уже реальность», — поясняет Вальтер Якоби из Gerling-Konzern, крупнейшего страхователя германской промышленности. В 1980-е страховым компаниям во всем мире ежегодно приходилось компенсировать убытки в среднем от пятидесяти природных катастроф, каждая из которых причиняла ущерб на сумму как минимум в 20 миллионов долл.; в середине 1990-х среднегодовое число подобных катаклизмов равняется уже 125. В наши дни, по расчетам страхователей, один мощный шторм на Восточном побережье США или в Северной Европе может обойтись во много раз дороже — до 80 млрд долл.[81]. Соответственно возрастают страховые премии, вследствие чего в районах, находящихся под угрозой наводнения, домовладельцам все труднее договариваться о страховании на приемлемых условиях. Некоторые страны уже платят за климатический риск неисчислимую цену. Так, в Бангладеш все меньшая защищенность от ураганов отпугивает многих иностранных инвесторов[82].
Уже нельзя предотвратить и заметный подъем уровня Мирового океана. Таким образом, начавшаяся совсем недавно эпоха городов может внезапно завершиться еще до середины следующего столетия. Четыре из каждых десяти городов с более чем пятисоттысячным населением расположены вблизи побережий, включая три пятых конурбаций с населением свыше миллиона[83]. Под угрозой само существование Бомбея, Бангкока, Стамбула и Нью-Йорка, но лишь очень немногие города-монстры смогут позволить себе строительство дорогостоящих дамб голландского типа для защиты от затопления.
У Китая тоже есть основание опасаться штормовых приливов следующего столетия: Шанхай, Гонконг и десятки других городов с населением свыше миллиона человек находятся в прибрежной зоне. Однако наследники Мао извлекли уроки из большинства просчетов своей страны в текущем столетии и копируют (как с разрешения, так и без оного) достижения Запада. Сделав принципиальный выбор курса, самая населенная страна в мире присоединяется к долгому маршу в автомобильное общество. Прагматический расчет тут может быть только один: если чему-то и суждено накалиться, то пусть это будет мировой климат, а не страсти в китайском обществе, члены которого, став обладателями индивидуальных транспортных средств, успокоятся, подобно курильщикам опиума.
«Сегодня даже в Китае на велосипед смотрят как на признак отсталости», — заметил вашингтонский эксперт по транспорту Одил Тунали. В настоящее время по китайским дорогам ездят лишь 1,8 миллиона автомобилей — 5% от общего количества машин в Германии, но ожидается, что менее чем через пятнадцать лет их будет 20 миллионов[84]. В борьбе за китайский авторынок, напоминающей золотую лихорадку, участвуют известнейшие международные торговые марки, причем, согласно прогнозам, около трети всех новых машин будет поставлять шанхайский завод Volkswagen. Кроме него, в поразительном прорыве Китая на автомобильном фронте участвуют General Motors, Chrysler, Mercedes-Benz, Peugeot, Citroen, Mazda, Nissan и южнокорейский концерн Daewoo. В ногу со временем шагают Индия, Индонезия, Таиланд и все остальные.
«Скоро азиатский рынок, доведя объем продаж до 20 миллионов автомобилей в год, достигнет размера европейского и североамериканского рынков, вместе взятых», — предсказывает Такахиро Фудзимото, эксперт по автомобильной промышленности в Токийском университете[85]. Латинская Америка и Восточная Европа тоже сообщают о поразительных темпах роста: в 90-е годы производство автомобилей в Бразилии удвоилось, как и интенсивность дорожного движения на улицах Москвы. Граждане бывшего Восточного блока стремятся только к тому, чтобы достичь уровня своих западных соседей. Очарование собственного автомобиля, постепенно утрачивающее притягательность на Западе, еще не меркнет на новых рынках, где автомобиль — не просто транспортное средство, а главным образом символ движения вверх по социальной лестнице и свидетельство богатства, власти и местного представления о личной свободе. Ожидается, что к 2020 году свой вклад в глобальное загрязнение будут вносить миллиард автомобилей (вдвое больше сегодняшнего числа) с выбросом выхлопных газов, уже неподвластным никакому контролю.
Сегодня граждане Европейского Союза впустую расходуют в транспортных пробках количество топлива, в денежном выражении эквивалентное приблизительно 1,5% от их ВНП[86]; в Бангкоке эта цифра составляет 2,1%[87]. Поездки через парализованную столицу Таиланда, прежде известную как Венеция Востока, отнимают столько времени, что водители из предосторожности возят с собой портативные туалеты. Компании в Японии обычно отправляют к клиентам три грузовика по разным маршрутам, чтобы уложиться в сроки поставки, невзирая на часовые простои на автомагистралях.
Ну и что из того? Мечты все равно остаются мечтами, даже когда давно ясно, что это тупики. Коль скоро автомобиль — символ процветания, то остановить безудержную автомобилизацию, ведущую, если так рассуждать, ко всеобщему благоденствию, вряд ли возможно. Предпринятые во многих странах попытки уменьшить глобальное потепление климата путем более экономного использования энергии и наложения ограничений на пользование моторизованным транспортом ни к чему не привели. Приходится платить горькую цену за то, что в 80-е годы индустриальные страны так и не смогли договориться о рациональных ценах на транспорт и бензин и никогда всерьез не пытались ввести справедливый экологический налог. Теперь же развитие событий выходит из-под контроля, и прежде обособленные новые участники глобального рынка извлекают выгоду из до смешного низкой цены на нефть. Пока расходы на окружающую среду столь мизерны, что их можно не брать в расчет, китайские торговцы, например, могут тоннами отправлять игрушки на другой конец полушария и все же предлагать их по более низкой цене, чем фабрики с низкой зарплатой в Чешской Республике, не говоря уже о компаниях стран ЕС.
Между тем индустриализация в развивающихся странах продвигается на фоне удручающего экологического невежества. Китайские города выбрасывают громадное ядовитое облако, которое простирается над Тихим океаном на 1700 километров. Жители Шанхая почти каждый рабочий день просыпаются под темно-оранжевым покрывалом смога[88]. Вблизи Чэнду неотфильтрованный черно-белый дым тысяч печей для обжига извести и кирпичных заводов стелется на десятки километров, создавая даже худшую экологическую обстановку, чем в печально известной долине Катманду в Непале, где воздух поражает слизистые оболочки, как в смоговом аду мегаполисов[89]. Длительная поездка по Дальнему Востоку произвела на британского архитектора Джона Сирджента неизгладимое впечатление: «Я видел будущее большой части бассейна Тихого океана, и я напуган до смерти. Четверть населения планеты повышает свой жизненный уровень, попутно обрекая на гибель изрядную часть земного шара»[90].
Китай находится в хорошей компании, мы все знаем это, мы сами — ее часть. Несмотря на значительное усиление негативных последствий глобального потепления, большинство населения пока что процветающих стран считает, что их уровень жизни от этого не снизится. Но экологический фактор является еще одной причиной формирования общества 20:80. Мало кто сможет позволить себе производимые в небольших количествах и дорогие натуральные продукты. Те же, кто возьмет их под свой контроль, наверняка, будут иметь с этого немалый дополнительный доход.
К примеру, на элитарном горнолыжном курорте Лех-ам-Арльберг, что в земле Форарльберг, с недавних пор можно ощутить скрытую радость местного населения, когда метеорологи прогнозируют очередной неудачный год для зимнего туризма в Австрии[91]. Дело в том, что эта деревня, расположенная на высоте 1450 метров над уровнем моря, богатеет, когда ниже данной отметки нет снега. Таким образом, катание на лыжах в Альпах становится таким же спортом для избранных, как и поло в Великобритании. Да, многие владельцы отелей, сделавшие в свое время чрезмерные спекулятивные инвестиции, изнемогают под тяжестью долгового бремени, но 1380 жителей Леха, проявив изрядную дальновидность, заявили свои права на каждую пядь своей земли, куда другим землевладельцам дорога теперь заказана. Лехцы обеспечили своим детям и внукам «золотое дно». Если те когда-нибудь, году этак в 2060, просто покроют лыжни под Кригерхорном и Моненфлю с помощью дорогостоящего оборудования для получения искусственного снега, все они станут миллионерами и смогут жить на проценты со своего капитала и строить для себя новую жизнь безо всяких усилий.
Кому-то этот пример, вероятно, покажется отталкивающим, но извлечь из него вывод-другой, пожалуй, можно. Одной из причин не слишком интенсивной организации широкого политического фронта против глобального потепления является то обстоятельство, что многие миллионы людей рассчитывают извлечь выгоду из изменения климата. С другой стороны, неверно полагать, что все усилия напрасны и апокалипсис неизбежен. Такое заключение лишь побуждает других закрыть глаза на факты и служит оправданием их собственной бездеятельности. Сидеть и дожидаться конца света — не самый достойный выход.
Однако судный день, знаменующий конец всевозможных конфликтов, не настанет. Человечество должно выжить и будет жить еще долго. Вопрос лишь в том, как оно будет жить, то есть какой процент людей будет ближе к изобилию, чем к жестокой нужде, в том числе и в индустриальных странах. Разумеется, «экологическая судьба человечества будет решена в Азии», как уверенно подчеркивает глава Greenpeace International Тило Боде[92]. Тем не менее основная ответственность за переустройство в соответствии с требованиями экологии лежит на первоначальных создателях потребительского рая, поклоняющихся его образам как идолам.
Отказ от привычной модели экономического развития, требующий определенных жертв, вовсе не подразумевает «скорбное шествие к нищете»; на самом деле он «мог бы привести к новым формам социальной защиты», утверждает Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер, президент Вуппертальского института[93]. В качестве директора этой хорошо зарекомендовавшей себя лаборатории будущего он в 1995 году детально изложил свои идеи в соавторстве с североамериканскими экспертами по энергетике Эймори Б. Ловинсом и Л. Хантером Ловинсом. По крайней мере в Германии их книга неожиданно стала бестселлером[94].
При том, что в важнейших регионах Европы население полностью автомобилизировано и в каждой семье есть как минимум один телевизор, вдумчивые граждане все больше освобождаются от этих икон современности. И даже там население становится все более поляризованным. В наши дни, когда усилия, затрачиваемые на поиск парковки, перевешивают удовольствие от вождения, идеал общества равноправных автомобилистов уходит в прошлое. Массовые транспортные пробки тоже означают, что далеко не все равны. Прежде автомобиль и телевизор действительно подтверждали статус их владельца, но теперь стала роскошью возможность обойтись без автомобиля и быть независимым от телевизора. Всякий, кто может это себе позволить, предпочитает жить в тихом районе центра города вблизи парка, а не в пригороде, куда трудно добираться. Всякий, у кого насыщенная и интересная жизнь, с радостью обходиться без мерцающего мира телевизионной иллюзии и не желает ничего знать о титтитейнменте.
Подобное бегство от действительности неспособно заменить неизбежные в наши дни социальные перемены, которые уже давно предрекались аналитиками, начиная с Денниса Мидоуза («Пределы роста», 1972) и заканчивая вице-президентом США Элом Гором («Земля в равновесии», 1992). В начале лета 1989 года в повестке дня совещания глав «большой семерки» впервые появились такие вопросы, как проблемы окружающей среды и климатическая катастрофа, что, по-видимому, свидетельствует о коренном переломе в мышлении правителей. «Девяностые будут критическим десятилетием», — предсказал в своем сенсационном заявлении мозговой трест влиятельного вашингтонского Института мировых ресурсов[95]. «В следующем столетии будет уже слишком поздно, — вторит им биолог Томас Лавджой из Смитсоновского института в Вашингтоне. — Решающие сражения будут выиграны или проиграны в девяностых»[96]. Через несколько месяцев после падения Берлинской стены оптимисты полагали, что битва за спасение планеты могла бы заменить идеологическую войну между Востоком и Западом[97]. Поначалу это представление и впрямь было соблазнительным. В конце концов, «холодная война» велась с огромными затратами и великим фанатизмом, и вдруг эти ресурсы оказались невостребованными. Однако антикоммунизм был направлен против очевидного внешнего врага и находил поддержку в человеческих инстинктах, уходящих в прошлое на тысячелетия. «Но сегодняшняя угроза обезличена; наш враг — это мы сами», — говорит Бетран Шнайдер из Римского клуба[98].
Пшеница как мировая власть
Одним из известнейших специалистов, которые наряду с Римским клубом предупреждают человечество об экологической катастрофе, несомненно, является Лестер Браун. Основанный им в 1974 году Институт изучения мировых проблем стал наиболее часто цитируемым частным исследовательским институтом в мире, а его ежегодные отчеты «Положение в мире» переводятся на двадцать семь языков. Они являются обязательным чтением как для серьезных политиков, так и для студентов, посещающих курсы, которые в одних только Соединенных Штатах ежегодно организуются почти в тысяче колледжей и университетов[99].
Браун — весьма востребованный консультант; к его услугам прибегают самые известные люди в мире. Так что он был просто обязан присутствовать на встрече, устроенной фондом Горбачева в Сан-Франциско. Можно было видеть, как он в своих излюбленных спортивных туфлях на резиновой подошве быстро ходит пружинистым шагом по толстым коврам и космополитическим коридорам «Фермонт-отеля».
Специалист по мировым проблемам высматривает своих близких друзей — Теда Тэрнера и его жену Джейн Фонда. Это главным образом по настоянию Брауна CNN снимает замечательные документальные фильмы об экологии и вместо ставшего модным вышучивания конференций ООН последних лет дает развернутые сообщения по обсуждаемым на них вопросам. Через несколько минут босс CNN обратится к гостям с приветственной речью на церемонии открытия элитной конференции, где ожидается присутствие таких нобелевских лауреатов, как, например, Ригоберта Менчу. Чтобы гости не голодали, на буфетных стойках красуются десятки двухкилограммовых консервных банок с русской малосольной икрой. На расположенной по соседству кухне лучшие кулинары Америки — шеф-повар «Сквэа уан» Джойс Голдстайн, хозяин «Спэгоу» Вольфганг Пук и др. — готовят свои изысканные блюда к ужину.
Браун, очевидно, тоже интересуется едой, но совершенно другой. Этот знаменитый человек взволнован, как юный студент, который только что узнал тему своей дипломной работы: «Знаете ли вы, что Китай впервые в своей истории импортирует крупную партию пшеницы? Кто прокормит эту гигантскую страну в будущем? Это будет иметь огромные последствия для всех нас»[100].
«Несколько дней назад, — рассказывает Браун, — в Вашингтоне, Федеральный округ Колумбия, состоялось совещание экспертов по сельскому хозяйству, метеорологов и специалистов по анализу спутниковых фотографий. Когда они дошли до коридора в дальнем конце южного крыла министерства сельского хозяйства, вооруженный охранник закрыл за ними тяжелую стальную дверь и запер ее на замок и на засов. В конференц-зале, где затем собрались ученые, были отключены телефоны и компьютеры. Жалюзи исключали всякий визуальный контакт с внешним миром. Герметически закупоренная группа провела всю ночь за анализом и сравнением данных от различных отраслевых служб. Совещание в министерстве, сильно смахивавшее на работу секретной службы или фильм про мафию, было посвящено оружию, которое можно было бы привести в боевую готовность всего за несколько лет, а именно — мировым запасам зерна».
Словно тренируясь для поддержания формы, Совет США по наблюдению за мировым сельским хозяйством примерно в той же конспиративной манере делает выводы на основе прогнозов урожая в различных регионах планеты и данных 6 потреблении главных видов зерновых в ста с лишним странах. В настоящее время секретность нужна лишь для предотвращения утечек информации на том или ином этапе совещаний до их завершения. Дело в том, что любые заключения о положении с зерном в мире, попав к спекулянтам, могут немедленно принести им доходы с большим количеством нулей на связанных между собой компьютерами биржах и поставить под удар бесчисленных производителей сельхозпродукции и тех, кто ею торгует.
Скоро, опасается Браун, данные такого рода станут непосредственной причиной серьезных политических конфликтов, поскольку отдельным странам в борьбе за хлеб насущный придется использовать все мыслимые преимущества. В 1995 году запасы пшеницы, риса, кукурузы и других зерновых находились на самом низком уровне за два прошедших десятилетия. В 1996 году зернохранилища по всему миру содержали запасы только на сорок девять дней — наименьшее количество, когда-либо зарегистрированное. «Впервые в истории, — делает заключение этот эксперт в «Фермонте», — человечество должно быть готово к постоянному снижению доступного объема продовольствия на душу населения в течение неопределенного периода».
Достигнут ли в таком случае тот поворотный пункт, который Браун на протяжении многих лет пытался отвратить своими неустанными предупреждениями? Есть немало оснований полагать, что это так. Запасы кукурузы уже меньше, чем в 1975 году, и, вероятно, будут сокращаться и далее. Пророчества о мировой ситуации с продовольствием в духе Кассандры едва ли в моде со времен ошибочных теорий, выдвинутых в прошлом веке Мальтусом[101], но, с другой стороны, если нынешние тенденции должны быть повернуты вспять, то потребуется вторая «зеленая революция»[102] невиданного масштаба. Несмотря на повышение урожайности с помощью генной инженерии, дальнейшее совершенствование высокопродуктивного посевного материала и технологии внесения удобрений, никто и нигде не считает, что продуктивность посевных площадей можно увеличить до такой степени, чтобы сдержать рост цены на пшеницу. Даже если бы земельные угодья, законсервированные в последние годы в Европе и Северной Америке, возделывались и дальше, то и в этом случае, по мнению «Франк-фуртер альгемайне цайтунг», газеты, которую при всем желании не назовешь Кассандрой, до удовлетворения быстро растущего спроса было бы очень далеко[103].
В то же время продолжается хищническая эксплуатация высокопродуктивных почв. С 1960-х годов Япония, Южная Корея и Тайвань— первые азиатские страны, совершившие скачок к индустриализации, — пожертвовали в общей сложности 40 процентами посевных площадей зерновых культур, отведя их под строительство тысяч фабрик, жилых массивов и автострад. В Индонезии на одной только Яве ежегодно уничтожается 20 000 гектаров пахотных земель — площадь, способная прокормить 360 000 ее жителей. Тем временем население этой страны, приступившей к интенсивной индустриализации сравнительно недавно, увеличивается за тот же период на 3 миллиона человек. Китай и Индия также поддаются непреодолимому искушению уничтожать сельскохозяйственные угодья ради своей автомобильной промышленности и экономического бума в целом. Конечно, огромные территории на планете остаются неиспользованными, но это — не заменитель. Такие земли либо уже слишком эродированы, либо находятся в районах слишком засушливых, холодных или негостеприимных для того, чтобы их обработка себя окупала.
Несмотря на то что с мая 1995 по май 1996 года цена на пшеницу уже выросла почти на 60%, зерновые дилеры на биржах невозмутимо ждут дальнейших резких скачков. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) с центральным правлением в Риме подсчитала, что это уже дополнительно обходится бедным странам-импортерам в 3 млрд долл. в год[104].
«Когда пирогов не хватает на всех, говорит Лестер Браун, — меняется политическая динамика». В настоящее время во всем мире ежегодно экспортируется двести миллионов тонн зерна, причем половина из Соединенных Штатов. «Это означает — подытоживает Браун свое выступление в Сан-Франциско, — что и в области продовольствия США в предстоящие годы останутся мировым лидером, причем продовольствие, наверняка, будет использоваться как средство политического давления». Так, согласно последним оценкам, в 2000 году Китаю придется импортировать порядка 37 миллионов тонн пшеницы — больше того ее совокупного объема, который США в настоящее время поставляет за рубеж.
Но тогда глобализация, как однажды посетовал бывший министр культуры Франции Жак Лан, отнюдь не ограничится «американским культурным империализмом» в сфере развлечений. Соединенные Штаты как «сверхдержава массовой культуры» (Лан) будут не только решать, какими быть зрелищам, но и выдавать хлеб[105]. Не имел ли бывший советник по вопросам национальной безопасности США Бжезинский в виду и это, когда, выступая перед Лестером Брауном и остальными участниками встречи в Сан-Франциско, представлял миру свою концепцию титтитейнмента?
Тот факт, что человечество продолжает проедать свой капитал, администрацию США, по-видимому, нисколько не заботит: ни каких-либо контрмер, ни даже какой бы то ни было конструктивной инициативы с ее стороны до сих пор не последовало. Пока стремительно повышаются цены на пшеницу, засоление, эрозия, загрязнение воздуха и усиливающаяся летняя жара оказывают все более негативное воздействие на плодородность почвы во многих частях света; оскудевают не только новые земли, но и запасы воды и удобрений. Нам, европейцам, вот уже много десятилетий являющимся надежными союзниками Северной Америки по другую сторону океана, ничто из перечисленного пока не дает ни малейшего повода для апокалиптических стенаний. 9 декабря 1995 года в газетах появилась хорошая новость, однако, затерявшись среди других экономических сообщений, она не вызвала особой сенсации. «Франкфуртер альгемайне цайтунг», к примеру, сухо отрапортовала: «Европейская Комиссия обложила единым налогом экспорт пшеницы из Сообщества, с тем чтобы ограничить отток пшеницы из ЕС на мировой рынок»[106].
Злые остряки, возможно, отметят, что с назначением на должность члена Еврокомиссии, ответственного за сельское хозяйство, Франца Фишлера появился еще один австриец[107], озабоченный ситуацией с продовольствием на европейском континенте; лица, склонные к трезвому расчету, наверняка, рассудят, что на этот раз, с введением нового налога, деньги наконец-то потекут в легендарный общий котел ЕС, вместо того чтобы из него вытекать. Во всяком случае, одно последствие новой политики будет очевидно и для насмешников, и для бесстрастных аналитиков: если Европейский Союз больше не субсидирует экспорт своих продовольственных излишков, а облагает их налогом, удорожая их, то там, в остальном мире, положение дел станет намного хуже.
«Кто отдаст приказ стрелять?»
Сказка сказана, и теперь, когда ее знают все крестьяне Камчатки, Огненной Земли и Мадагаскара, вся бедная молодежь и молодая беднота где бы то ни было, возникает вопрос: неужели мечта никогда не станет реальностью? Никакой Калифорнии или Германии для всех? Это еще куда ни шло. Но никакой Калифорнии или Германии для всех за пределами ЕС, Японии и «Богом благословенной страны», Соединенных Штатов Америки? Действительно, никакой жизни из грез для тех, кто уже ничего не имеет?
Никогда!
Навязываемое единообразие уже приносит свои плоды. Везде, где населению нечего ожидать, кроме бедности, и где туристы и телевизионные картинки демонстрируют жизненные стандарты высокоразвитых индустриальных стран, жадная до жизни молодежь поворачивается спиной к своей родине и собирается в путь к земле обетованной. Еще сто лет назад Европа впервые экспортировала свое стремительно растущее население и свои армии бедняков на другие континенты. Одну только Великобританию покинуло восемнадцать миллионов человек, что в шесть раз превышало население Лондона, в то время крупнейшего города в мире[108]. В наши дни, когда беднеют и британцы, и жители других стран ЕС, видимо, настало время новой волны эмиграции. Но куда?
Люди, которым живется гораздо хуже, перебираются через Рио-Гранде в вожделенные Соединенные Штаты или через Средиземное море в Европу с ее кризисом рабочих мест. Уже в 70-е годы на путь эмиграции встали 20% рабочей силы Алжира наряду с 12 процентами марокканцев и 10 процентами тунисцев рабочего возраста[109]. В конце концов Евросоюз ужесточил правила приема эмигрантов и стал отказывать в выдаче виз и разрешений на работу. Но для крепости под названием Европа имеющийся ров с водой слишком мал, чтобы изолировать ее полностью. Гибралтарский пролив, отделяющий богатых от бедных, можно за довольно короткое время переплыть даже на обычной доске для серфинга с самодельным парусом. Главы правительств стран ЕС уже давно решили вооружить своих пограничников. «Придут миллионы, — ожидает Бертран Шнайдер из Римского клуба. — Кто отдаст приказ стрелять, чтобы от них отбиться?»[110].
Глава 3 Диктатура с ограниченной ответственностью. Игры с миллиардами
Мы хотели демократии, a пришли к рынку облигаций.
Надпись на стене одного из домов в ПольшеМишель Камдессю, несомненно, человек власти. Его речь лишена излишней цветистости, его высказывания безапелляционны. Сидя за массивным столом на тринадцатом этаже угрюмого железобетонного здания на Джи-стрит в северо-западной части столицы США, этот французский бюрократ управляет одним из наиболее противоречивых, но, по-видимому, необходимых учреждений в мире — Международным валютным фондом, сокращенно МВФ. Всякий раз, когда правительства пытаются получить помощь от банков и министерств финансов других стран вследствие того, что они не выплачивают долги и не могут преодолеть экономические кризисы без поддержки международного сообщества, они обращаются к Камдессю и 3000 служащим его всемирного финансового ведомства. Имея дело с шефом МВФ, занимающим свой пост вот уже десять лет, представители таких огромных стран, как Россия, Бразилия или Индия, являются всего лишь просителями. В результате переговоров, которые могут тянуться годами, им всегда приходится соглашаться на драконовские программы жесткой экономии и радикальное сокращение своих расходов на социальные нужды. Лишь тогда Камдессю подает документы о ссудах в миллиарды долл. под выгодные проценты на утверждение богатым странам-донорам, прежде всего Соединенным Штатам, Японии и Германии. И только после этого он добавляет свою подпись, санкционируя тем самым выдачу денег.
Однако вечером в холодный понедельник 30 января 1995 года эта испытанная процедура дала сбой. Примерно в 21 час Камдессю получил сообщение, заставившее его содрогнуться. Имея в своем распоряжении час-другой, он должен был принять на себя единоличную ответственность за предотвращение катастрофы, которую до этого считал крайне маловероятной. Напряженный до предела, он хватает бумаги и проходит через свой огромный, отделанный красным деревом кабинет в еще большее помещение. В этом конференц-зале, где обычно собираются двадцать четыре исполнительных директора для принятия решений по ссудам МВФ, Камдессю один сидит у телефона. «Я искал ответ на вопрос, который никогда прежде не возникал», — вспоминал он позднее[111]. Должен ли он нарушить правила МВФ и выдать самую большую ссуду за пятидесятилетнюю историю Фонда без условий, без договора и без согласия кредиторов? Камдессю протягивает руку к телефонной трубке, и полновластный директор крупнейшего кредитного учреждения в мире на несколько часов превращается в марионетку, за ниточки которой дергают те, кого он даже не знает.
Операция «Щит для песо»
Кризис начался, когда вашингтонские политики сделали перерыв на зимние каникулы. За четыре дня до Рождества мексиканское правительство объявило, что впервые за семь лет национальную валюту придется девальвировать и что песо будет стоить на 5 центов США (или на 15%) меньше, чем прежде. Во всем мире, особенно в крупных банках на Уоллстрит и связанных с ними взаимных фондах, среди управляющих частными инвестициями началась паника, поскольку в свое время они, считая, что Мексика, удовлетворив всем условиям МВФ и обеспечив внутри себя политическую и экономическую стабильность, приобрела репутацию страны, здоровой в финансовом отношении, вложили в ее государственные облигации, акции и облигации компаний аж свыше 50 млрд долл. Теперь же иностранные инвесторы, столкнувшись с резким снижением стоимости своих капиталовложений, стали в массовом порядке отзывать их из страны вслед за местными инсайдерами[112]. Всего за три дня песо потерял не 15, а 30% своей стоимости по отношению к доллару.
Для министра финансов США Роберта Рубина и руководителя аппарата сотрудников Белого дома Леона Панетты, как и для многих их коллег, рожденственские каникулы закончились, едва начавшись. Был сформирован Кризисный комитет из представителей всех правительственных органов, имеющих дело с внешней и экономической политикой, — от Федеральной резервной системы до Совета национальной безопасности. Над одним из важнейших проектов администрации Клинтона, а именно экономической стабилизацией страны, миллионы обнищавших граждан которой ежегодно пытались пробраться в Соединенные Штаты, нависла угроза краха. Поэтому Рубин и Панетта развернули спасательную операцию, которую «Вашингтон пост» вскоре окрестила «Щит для песо» (по очевидной аналогии с операцией «Щит в пустыне» во время войны в заливе)[113].
Три недели непрерывных переговоров с мексиканским правительством, казалось, привели к решению проблемы, по крайней мере временному. Президент Мексики Эрнесто Се-дильо пожертвовал своим министром финансов и пообещал в кратчайшие сроки исправить финансовую ситуацию в стране. Президент Клинтон объявил, что его администрация поддержит Мексику гарантиями займа в размере до 40 млрд долл. Никто не должен был опасаться, что Мексика не сможет расплатиться с иностранными кредиторами.
К немалому удивлению Кризисного комитета, заверения Клинтона оказалось недостаточно для того, чтобы разрядить атмосферу; на самом деле обстановка продолжала ухудшаться. Теперь инвесторы не просто подозревали, что из Мексики утекают доллары, они это знали. Более того, было неясно, действительно ли Клинтону удастся получить обещанные им деньги от нового и враждебного ему республиканского большинства в Конгрессе. И хотя Мексиканский центральный банк ежедневно покупал песо на полмлрд долл., обменный курс по-прежнему полз вниз. Для Мексики это представляло серьезную угрозу, поскольку она внезапно оказалась неспособна расплачиваться за импортируемые товары. Это было проблемой и для Соединенных Штатов, где тысячи рабочих мест зависели от того, как идут дела у южного соседа. Остальной же мир, судя по всему, пока не испытывал озабоченности в связи с обвалом песо.
12 января ситуация кардинально изменилась. В тот самый день, когда Клинтон и Седильо объявили о финансовом взаимодействии, началось ужасающее развитие событий, возможность которого едва ли кто-то допускал. На всех главных фондовых биржах мира от Сингапура до Лондона и Нью-Йорка по меньшей мере дюжина национальных валют одновременно оказалась под давлением. Польский злотый обесценивался с той же скоростью, что и таиландский бат и аргентинский песо. Инвесторы во всех прогрессирующих странах Юга и Центральной Европы с так называемыми «развивающимися рынками» вдруг принялись распродавать акции и облигации. А поскольку они тут же обменивали вырученные суммы на твердую валюту — доллары, марки, швейцарские франки и иены — обменные курсы валют, в которых были деноминированы ценные бумаги, стали падать вместе с ценой этих бумаг. Это происходило в странах, не имевших никаких взаимных экономических связей, таких как Венгрия и Индонезия. Впервые в истории центральных банков Юго-Восточной Азии их главы собрались на совещание. Подгоняемые развитием событий, за которые не несли никакой ответственности, они были вынуждены искусственно поддерживать курс своих валют, повышая ставки рефинансирования, чтобы успокоить инвесторов. Аргентина, Бразилия и Польша последовали за ними.
Начиная с 20 января, с конца четвертой недели кризиса, доллар тоже перешел в свободное падение. Даже весьма почитаемый в банковских кругах за свои стальные нервы Алан Гринспен, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы, предупредил Сенат, что «всемирное бегство капитала» в сторону качественных валют, таких как иена и марка, угрожает «всемирной тенденции движения к рыночной экономике и демократии». Вместе с членами администрации Клинтона он убедил Конгресс одобрить предложение президента и предоставить Мексике необходимые гарантии займа. И вновь обстановка на несколько дней успокоилась, и кризис доверия в быстро прогрессирующих странах Юга и Востока, казалось, близился к концу, пока не настал тот самый холодный последний понедельник января[114].
Незадолго до 8 вечера 30 января руководителю аппарата сотрудников Белого дома Панетте позвонили два человека: новый министр финансов Мексики Гильермо Ортис и лидер республиканского большинства в палате представителей Ньют Гингрич. Мексиканец сообщил, что его страна исчерпала свои долл.ые резервы и находится при последнем издыхании. Если бегство капитала не будет остановлено, сказал Ортис, он будет вынужден ограничить конвертируемость песо и одним ударом положить конец болезненной десятилетней интеграции Мексики в мировой рынок. Сообщение Гингрича было едва ли более оптимистичным. Он объяснил своему политическому оппоненту из Белого дома, что в обозримом будущем большинства в Конгрессе в пользу мексиканского займа не предвидится и что президенту придется взять всю ответственность на себя.
В итоге у Клинтона и его команды, рассказывал впоследствии Панетта, не осталось иного выбора, кроме как прибегнуть к своему «Плану Б». Кризисному комитету пришлось использовать 20 млрд долл., имевшихся в распоряжении президента на случай чрезвычайных обстоятельств, и запросить помощь из других финансовых источников. Первый призыв о помощи поступил в штаб-квартиру МВФ на близлежащей Джи-стрит. Начались часы тревоги для Мишеля Камдессю.
В результате беспрецедентных усилий, затраченных шефом МВФ на протяжении двух предыдущих недель, ему удалось выбить для Мексики из своих принимающих решения органов 7,7 млрд долл. — максимально допустимую сумму, оговоренную уставом Фонда. Но все понимали, что этого не хватит и для спасения Мексики от банкротства потребуется еще как минимум 10 млрд.
Однако следовало ли употребить доверенные ему деньги таким образом? Было совершенно ясно, чего хотят американцы и мексиканцы и на чем они настаивают; но было ли в интересах многих других вкладчиков, включая Германию, Францию, Великобританию и Японию, добавить к чрезвычайной серии кредитов еще 10 млрд долл.? Времени на предусмотренные правилами консультации не оставалось. В Бонне и Париже было 3 часа утра, а решение надо было принять в ту ночь. Наутро о провале плана Клинтона стало бы известно в Конгрессе.
И опять, вспоминает Камдессю, он подумал о предостерегающих «звонках из ведущих нью-йоркских банков и от управляющих инвестиционными фондами», имевших место в предшествующие дни[115]. Если бы рухнул мексиканский рынок, никаких отсрочек больше бы не было. Страх перед подобными кризисами в других развивающихся странах вызвал бы цепную реакцию, которая, возможно, закончилась бы всемирным крахом.
Камдессю поочередно дозвонился до девяти представителей правительств в исполнительном комитете МВФ, находившихся в то время в Вашингтоне. Всем им он задал один и тот же вопрос: «Должен ли, по вашему мнению, директор МВФ при чрезвычайных обстоятельствах действовать абсолютно независимо?». Все ответили утвердительно и выразили Камдессю свое доверие. Тогда он единолично принял решение, о котором Клинтон узнал незадолго до полуночи, по возвращении в Белый дом с приема. Француз, нарушив все правила Фонда и поставив на карту свой пост и репутацию агентства, проинформировал Клинтона, что МВФ готов предоставить еще 10 млрд, то есть всего 17,7 млрд долл.
На аналогичный риск вскоре пошел Эндрю Крокет, директор Банка международных расчетов (БМР) — всемирной ассоциации центральных банков. В штаб-квартире БМР в Базеле было уже утра, когда правление Федеральной резервной системы США сделало Крокету запрос о том, примет ли его банк участие в соглашении по поддержке. Крокет ответил, что да, примет, но что максимальный взнос, который когда-либо обсуждался в БМР, составляет 10 млрд долл. Для звонившего из Вашингтона этого было достаточно[116].
Тогда Рубин и Панетта хладнокровно приступили к выполнению «Плана Б». В 11.15 утра, поспав всего лишь четыре часа, президент их страны произвел сенсацию во время обращения в вашингтонском «Марриотт-отеле» к ежегодному собранию губернаторов штатов. Клинтон объявил, что с помощью МВФ, БМР и правительства Канады, но без предварительного одобрения Конгресса, организован заем на сумму более 50 млрд долл. в поддержку потрясенной кризисом страны к югу от Соединенных Штатов. Теперь, добавил он, Мексика выплатит все свои долги.
Затем менее чем за двадцать четыре часа полдюжины человек, действуя вне всякого парламентского контроля, воспользовались деньгами налогоплательщиков индустриального Запада, чтобы запустить крупнейшую программу кредитной помощи с 1951 года, уступающую по масштабам только плану Маршалла, с помощью которого США поддержали послевоенную реконструкцию в Западной Европе. Камдессю, не скупясь на превосходные степени, обосновывал этот дерзкий ход от имени всех, кто внес в него свой вклад. Мексиканское дело, объяснял французский гражданин мира, возглавляющий МВФ, «было первым крупным кризисом нашего нового мира глобальных рынков». Он просто был вынужден действовать, невзирая на цену. Иначе «разразилась бы настоящая всемирная катастрофа».
Тем не менее многочисленные критики интерпретировали многомиллиардную сделку совершенно иначе. Риммер де Вриз, экономист нью-йоркского инвестиционного банка J.P. Morgan, не принимавшего участия в мексиканском буме, открыто охарактеризовал последний как «вызволение спекулянтов из беды»[117]. Норберт Вальтер, главный экономист Deutsche Bank, заметил, что «непонятно, почему налогоплательщик должен еще и обеспечить инвесторам высокий доход (по мексиканским долгам)»[118]. Биллем Бюйтер, профессор экономики Кембриджского университета, заключил, что операция в целом является не чем иным, как «подарком богачам от налогоплательщиков»[119].
Это обвинение, конечно, не опровергает аргументов Камдессю, Рубина и их коллег. Ибо мексиканское дело было как операцией по предотвращению катастрофы (возможно, наиболее смелой в истории экономики), так и бесстыдным ограблением налоговой казны стран-доноров в пользу богатого меньшинства. Естественно, признал Камдессю, спекулянты нагрели руки на этом многомиллиардном кредите, «но мир в руках этих парней».
Мексиканский кризис с редкой отчетливостью высветил сущность нового мирового порядка в эпоху глобализации. Как никогда раньше, главные действующие лица продемонстрировали силу, с которой глобальная экономическая интеграция изменила структуру власти в мире. Правительство сверхдержавы США, когда-то всесильный МВФ и все европейские центральные банки казались ведомыми невидимой рукой, когда они склонились перед диктатом более могущественной силы, сдерживать разрушительную мощь которой они оказались более не в состоянии, а именно международного финансового рынка.
От Бреттон-Вудса к свободной спекуляции
На мировой сцене на фондовых биржах, в банках и страховых компаниях, в инвестиционных и пенсионных фондах появился новый политический класс. И от него уже не избавиться ни правительствам, ни корпорациям, ни тем более рядовым налогоплательщикам. Действующие в мировом масштабе торговцы валютой и ценными бумагами направляют непрерывно растущий поток свободного капитала и могут тем самым приносить счастье или горе целым странам, что они и делают, в значительной степени избегая государственного контроля.
Операция «Щит для песо» стала лишь особенно ярким примером действий такого рода. Все чаще и чаще политики и электораты по всему миру видят, как анонимные действующие лица денежных рынков берут на себя управление их экономикой, вследствие чего политике остается лишь роль беспомощного стороннего наблюдателя. В сентябре 1992 года, когда несколько сот управляющих банками и фондами последовали примеру финансового гуру Джорджа Сороса, поставив миллиарды на девальвацию фунта стерлингов и итальянской лиры, Английский и Итальянский банки не смогли предотвратить падение обменных курсов, хотя и потратили почти все имевшиеся у них резервы долларов и немецких марок на покупку своих национальных валют. В конечном итоге правительства обеих стран были вынуждены выйти из экономически выгодной для них Европейской валютной системы (ЕВС) с ее фиксированными курсами обмена.
В феврале 1994 года, когда Федеральная резервная система подняла ставку рефинансирования, в результате чего на фондовом рынке США начался резкий спад, правительству в Бонне вновь оставалось только наблюдать, как немецким компаниям внезапно пришлось платить более высокие проценты по их займам, несмотря на то что инфляция была низкой, а Bundesbank ранее установил низкую минимальную ставку ссудного процента, что фактически обеспечило коммерческим банкам доступ к довольно дешевым деньгам. Годом позже, весной 1995, правительства Германии и Японии проявили бессилие на глазах у своих электоратов, когда доллар упал до рекордно низких отметок в 1,35 марки и 73 иены, поставив на колени их экспортные производства.
С тех пор многочисленные главы правительств, загнанные в угол неуязвимыми дилерами, предаются беспомощным заклинаниям и бесплодной ругани. Так, в апреле 1995 года британский премьер-министр Джон Мейджор посетовал на абсолютную неприемлемость того, что происходит на финансовых рынках «со скоростью и размахом, угрожающими выйти из-под контроля правительств и международных организаций»[120]. Его бывший итальянский коллега Ламберто Дини, которому довелось побывать управляющим центральным банком, соглашается, что «нельзя позволять рынкам подрывать экономическую политику целой страны»[121]. А президенту Франции Жаку Шираку видится предосудительным весь финансовый сектор; не долго думая, он охарактеризовал его касту торговцев как «СПИД мировой экономики»[122].
В действительности же заговор, о котором так много говорят, вовсе таковым не является. Нет никакого картеля жадных до прибыли банкиров. Нигде не собираются интриганы в укромных задних комнатах, дабы ослабить валюту страны или подтолкнуть фондовый индекс. То, что происходит на финансовых рынках, подчиняется вполне понятной динамике, которую сделали возможной сами правительства наиболее развитых индустриальных стран. Еще с начала 1970-х они, встав под знамя доктрины спасения через полностью свободные рынки, систематически старались смести все барьеры, когда-то позволявшие регулировать потоки денег и товаров через границы, а следовательно, и управлять ими. Теперь же, подобно растерянному ученику чародея, они жалуются, что духи, которых они и их предшественники вызвали к жизни, им больше не подвластны.
Освобождение денег от государственного контроля началось в 1973 году с отмены фиксированных курсов обмена валют ведущих индустриальных стран. До той поры действовали правила Бреттон-Вудской системы, получившей название от деревни в горах штата Нью-Гемпшир, где в июле 1944 года представители стран — победительниц во второй мировой войне собрались и учредили международный финансовый порядок, обеспечивавший стабильность на протяжении почти тридцати лет. Цены валют стран-участниц привязывались к доллару, в то время как эмиссионный банк США со своей стороны гарантировал обмен долл. на золото. В то же время сделки с валютой контролировались официальными органами, так что в большинстве стран требовалось получать разрешения на обмен и перевод крупных сумм. В этой системе виделся ответ на хаотическое развитие событий 1920-х и 1930-х годов, которые привели к бессистемным национальным ответным мерам, протекционизму и в конечном счете к войне.
Однако быстро растущие промышленность и банки рассматривали такие бюрократические ограничения как механизм сдерживания. В 1970 году Соединенные Штаты, Федеративная Республика Германии, Канада и Швейцария отменили контроль над перемещениями капитала. Плотина была прорвана. «Спекулянты», то есть дилеры, оценивающие валюту в соответствии с различными возможностями капиталовложений, стали договариваться о курсах обмена между собой, и система фиксированных курсов развалилась.
Это означало, что все остальные страны, сохранившие контроль, попали под давление. Их крупные корпорации жаловались на прекращение доступа к иностранному капиталу с выгодными ставками процента. В 1979 году сняла последние ограничения Великобритания, годом позже за ней последовала Япония. Об остальных позаботились МВФ и Европейское Сообщество. Направляемые твердой верой в способность не скованной никакими ограничениями экономики повысить благосостояние, правители ЕС начали в 1988 году движение к единому рынку. В ходе этой «величайшей программы дерегулирования в истории экономики» (как ее назвал председатель Еврокомиссии Петер Шмидхубер) Франция и Италия тоже освободили циркуляцию денег и капитала в 1990 году, а Испания и Португалия продержались до 1992 года.
То, что страны «большой семерки» решили внедрить в собственных экономических зонах, они постепенно распространяли и на остальной мир. МВФ, в котором эти страны имеют решающее слово, был для этого идеальным инструментом. Где бы властелины МВФ ни предоставляли займы в последние десять лет, они повсюду ставили условие, чтобы соответствующая валюта стала конвертируемой, а страна — открытой для международных перемещений капитала.
Целеустремленная политика и законодательство правительств, в основном избранных демократическим путем, постепенно соорудили ту автономную систему «финансового рынка», которой политологи и экономисты начали приписывать некую высшую власть. Сейчас нет ни идеологии, ни поп-культуры, ни международной организации, ни даже экологических проблем, которые связывали бы страны мира более тесно, нежели электронная сеть глобальных денежных машин банков, страховых компаний и инвестиционных фондов.
Погоня за прибылью со скоростью света
Эта глобальная свобода позволила бизнесу мировой финансовой индустрии взлететь за последние десять лет до заоблачных высот. С 1985 года объем сделок с иностранной валютой и международными ценными бумагами вырос более чем в десять раз. Согласно данным Банка международных расчетов, в настоящее время в среднем за день меняет хозяина валюта на сумму примерно в 1,5 триллиона долл. Эта сумма — цифра с двенадцатью нулями — почти эквивалентна годовому объему производства экономики Германии или суммарным затратам всего мира на сырую нефть в четырехкратном размере[123]. Сделки с акциями, корпоративными займами, казначейскими облигациями и бесчисленными специальными контрактами (так называемыми деривативами) осуществляются в объемах того же порядка.
Каких-то десять лет назад был один рынок для немецких государственных облигаций во Франкфурте, один — для британских акций в Лондоне и — один для фьючерсов[124] в Чикаго; каждый действовал в рамках отдельного законодательства. Сегодня все эти рынки напрямую связаны друг с другом. Все текущие цены на любой фондовой бирже могут быть в любой момент запрошены в любой части света и могут спровоцировать покупку и продажу по ценам, которые, в свою очередь, немедленно передаются по всему земному шару в виде определенного числа битов и байтов. Поэтому возможна ситуация, когда падающие процентные ставки в США повышают цены акций на другом конце света, например в Малайзии. Если американские государственные облигации падают в цене, инвесторы вкладывают деньги в иностранные акции. Точно так же цена германских государственных облигаций может вырасти, если центральный банк Японии снизит цену на займы токийским финансовым домам: эти дешевые кредиты в иенах, превращенные в марки и инвестированные в немецкие ценные бумаги с более высокой процентной ставкой, гарантируют абсолютно безрисковую прибыль. Именно поэтому всякий, кто хочет занять деньги или мобилизовать капитал, будь то правительство, корпорация или строительный подрядчик, немедленно включается во всемирную конкуренцию со всеми остальными соискателями кредитов. Не перспективы немецкой экономики и не Bundesbank определяют ставку процента на рынке капиталов Германии. Все теперь зависит от суждений профессиональных умножителей денег, которые, как пишет «Экономист», двадцать четыре часа в сутки участвуют, подобно некоей «армии, вооруженной электроникой», в гонке в поисках лучших в мире финансовых возможностей.
В своей работе охотники за прибылью перемещаются со скоростью света в глобальной сети данных со многими ответвлениями, в этакой электронной Утопии, еще более замысловатой, чем сложные математические расчеты, лежащие в основе индивидуальных сделок. От долларов к иенам, от иен к швейцарским франкам и, наконец, опять к долларам: всего за несколько минут валютные дилеры могут перескакивать с одного рынка на другой, от одного торгового партнера в Нью-Йорке к другому в Лондоне или Гонконге, конечным результатом чего могут стать миллионные сделки в трех разных местах. Точно таким же образом управляющие фондами зачастую в течение нескольких часов перераспределяют миллиарды, принадлежащие их клиентам, между совершенно разными инвестициями и рынками. Достаточно телефонного звонка или нажатия клавиши, чтобы превратить, к примеру, облигации федерального правительства США в британские облигации, японские акции или турецкие государственные облигации, деноминированные в немецких марках. Помимо валюты объектами свободной торговли через границы уже являются свыше 70 000 различных ценных бумаг — фантастический рынок с бесконечными шансами и рисками.
Максимальной эффективности в работе с этим потоком информации достигают частные дилеры. Один из них — 29-летний Патрик Слаф, который вместе с более чем 400 коллегами безвылазно просиживает по десять часов в сутки в огромном торговом зале инвестиционного банка Barclays de Zoete Wedd, работая со швейцарскими франками (или, для краткости, просто «свиссами»).
Его рабочее место — скромный на вид терминал шириной три метра в тускло освещенном зале, посреди гула голосов и выкрикиваемых поручений. Три экрана и два динамика, установленных за небольшой рабочей поверхностью, непрерывно снабжают его новыми визуальными и акустическими данными. Вверху справа расположен четырехцветный экран агентства Reuters, лидера на рынке финансовой информации. Ежегодные доходы Reuters, прошедшей путь от обычного агентства новостей до главного организатора электронной торговой площадки, превышают миллиард марок. С помощью специальных кабелей, спутниковых каналов и собственного суперкомпьютера в лондонском квартале Доклендз Reuters соединяет Слафа с 20 000 финансовых домов и со всеми основными фондовыми биржами мира[125].
На экране одновременно высвечиваются три последних предложения на покупку и продажу «свиссов», максимальные и минимальные обменные курсы всех валют за последние несколько часов и самые свежие новости валютного мира. Одновременно Слаф может, набрав код, связаться с любым другим дилером и немедленно заключить сделку. Но ему нельзя полагаться только на это; он должен еще и следить за ценами, которые два его независимых брокера сообщают ему по громкоговорителю. Каждую пару минут он сам выставляет котировки по телефону либо с помощью клавиатуры. Если другой брокер-клиент хочет заключить с ним сделку, вскоре последует звонок.
Люди — охотники за ценами состязаются с электронными торговыми системами, производимыми Reuters и конкурирующей с ней EBS, принадлежащей одному международному консорциуму банков. Эти системы тоже ставят котировки и сразу же анонимно передают их на мониторы. При этом Слаф, работая в режиме реального времени или он-лайн, всегда может увидеть на расположенном слева от него экране EBS максимальную цену покупки и минимальную цену продажи франков в долларах или марках, сделанные внутри этой системы. Действительно важные цифры — постоянно меняющиеся третий и четвертый десятичные разряды — выделяются черным на желтом фоне. Если Слаф щелкает клавишей «покупаю», компьютер высвечивает имя предлагающего сделку и автоматически выполняет соединение.
В этот четверг января 1996 года «рынок очень нервозен», жалуется Слаф. Прежде чем приступить к работе, он изучил ежедневный обзор, подготовленный внутренней аналитической службой. Решающим событием будет совещание директоров Bundesbank во Франкфурте. Если они решат еще больше понизить процентную ставку, то доллар и франк, наверняка, снова поднимутся. Но вряд ли немцы смогут это себе позволить; гора их долгов слишком высока, и страх Bundesbank перед инфляцией — постоянный фактор в валютном бизнесе. Поэтому этот аналитик полагает, что процентная ставка останется неизменной. Исходя из этого, Слаф ставит на сильную марку.
Через полчаса он проверяет рынок, покупая «70 марок» за «575 свиссов» у швейцарского банка UBS. Пользуясь электронным пером, он вводит сделку на высокой скорости в местную систему точками на терминале: 70 миллионов марок за франки по курсу 0,81 575 франка за марку. Вскоре у него срывается громкое «Твою мать!»: цена успела упасть на одну сотую сантима, и на текущий момент он проиграл 7000 франков. Но «Буба» — так профессионалы называют Bundesbank — на его стороне. Германские процентные ставки остаются неизменными. Марка на подъеме, и через несколько секунд его проигрыш превращается в выигрыш вдвое большего размера. Действуя наверняка, Слаф немедленно продает и на минутку расслабляется.
Свою не самую спокойную на свете работу он определяет как «интеллектуальная азартная игра на высоком уровне с железными правилами». При этом, однако, он понимает, что является не более чем рядовым пехотинцем под огнем рынка. «Даже крупнейшие игроки» — например, нью-йоркский Citibank — «не в состоянии манипулировать рынком по своему усмотрению. Рынок для этого слишком огромен».
Вместе с тем валютный дилинг имеет то преимущество, что в расчет берется только настоящее время. Что до коллег Слафа на другом конце зала, то они, напротив, работают с деривативами. Они имеют дело с будущим, или, точнее говоря, с ценами акций, облигаций или валют, которые большинство участников рынка прогнозирует, к примеру, на три месяца, на год или на пять лет вперед. Их продукты называются свопами, фьючерсами и опционами. Ежемесячно происходит их обновление на рынке. Их всех объединяет то, что их цена является «производной», основанной на ценах, уплачиваемых сейчас или позднее за реальные ценные бумаги и валюту.
Например, для того чтобы ставить на немецкую экономику, вовсе не обязательно напрямую покупать немецкие акции. Клиент может подписать фьючерсный контракт на немецкий фондовый индекс — контракт, который в качестве премии обещает выплату разницы, если индекс поднимется выше согласованного уровня. На этот случай банк должен, в свою очередь, прикрыть себя с помощью контрконтракта или собственного пакета акций. Клиент при желании тоже может подстраховать себя опционами против колебаний обменного курса марки и покрывать выплаты краткосрочных процентов банку процентами по своим долгосрочным вкладам, и наоборот. Замечательная особенность таких сделок состоит в том, что они отчуждают риск падения курса или невыплаты долгов от покупки реальных ценных бумаг или валюты. Сам риск становится предметом торговли.
В прошлом эти фьючерсы, или сделки с учетом риска, служили лишь своего рода страховкой для реальной экономики. Экспортеры, например, могли пользоваться этим, чтобы защитить себя от колебаний в стоимости валюты своих торговых партнеров. Но с тех пор как мощность компьютеров стала практически неограниченной, торговля деривативами сделалась полностью автономной и, согласно эйфорическому определению бывшего президента BIZ Александра Ламфалусси, началась «эпоха финансовой революции»[126]. Все крупные финансовые центры уже давно имеют свои собственные биржи исключительно для фьючерсной торговли. Между 1989 и 1995 годами номинальная цена контрактов удваивалась каждые два года и достигла невообразимой величины — 41 триллиона долл. во всем мире[127].
Одна эта цифра сигнализирует о разительной перемене в природе финансовых сделок, лишь от 2 до 3% которых в настоящее время напрямую служат для страхования рисков торговли и промышленности. Все остальное — это пари, заключаемые между собой теми, кто колдует на рынке. Их формула: «Ставлю на то, что через год индекс Доу-Джонса будет на 250 пунктов выше, чем сейчас. В противном случае я уплачу». Тут, разумеется, есть большое преимущество перед азартными играми в казино, состоящее в том, что при заключении сделки на кон ставится немного. Обещанная сумма становится явной только тогда, когда нужно платить по контракту, и большинство игроков ограничивает свои потери с помощью компенсирующих контрактов. По этой причине действительная рыночная цена деривативов это только часть вовлеченных номинальных сумм; и все же они радикально преобразуют то, что происходит на рынках, так как даже небольшие перемещения капитала запускают все бóльшие движения цен, вследствие чего коллективные ожидания дилеров сами по себе приобретают физическую инерцию.
С торговлей деривативами «финансовый мир эмансипировался от реальной сферы», утверждает банкир Томас Фишер, который сам годами спекулировал на рынке в качестве коммерческого директора Deutsche Bank. Объективные экономические связи, например, между ставками рефинансирования и ценами облигаций становятся все менее значимыми. Большее внимание уделяется тому, «что будут делать другие. Имеет значение не то, выросла ли цена той или иной ценной бумаги, а то, почему это произошло» и как подобный рост можно предвидеть. К примеру, цены германских государственных облигаций определяют не столько дилеры по ценным бумагам с фиксированным доходом в германских банках, сколько ярко одетые маклеры на лондонской фьючерсной бирже Liffe, где совершается две трети сделок по фьючерсам на облигации. Из-за таких механизмов размах колебаний цен на ценные бумаги (на жаргоне — волатильность) заметно вырос.
Крупные банки извлекают из этого риска, впервые генерированного самой торговлей деривативами, гигантские прибыли. Один только Deutsche Bank делает на деривативах почти миллиард марок в год. Рост доли доходов от таких операций в его балансе наглядно иллюстрирует изменившуюся роль банков во всемирных финансах. Управлению сбережениями и выдаче ссуд уже не придается такое значение, как раньше. Многочисленные корпорации уже давно сами себе банкиры. Вряд ли можно найти лучший пример тому, чем Siemens, которая на финансовых сделках зарабатывает больше, чем на своей всемирно известной продукции. Между тем сотни крупных компаний сами заботятся о своих кредитах, выпуская международные займы. За исключением финансовых гигантов Нью-Йорка и Токио, действительно проводящих операции в глобальном масштабе, бóльшая часть финансовых домов до сих пор выполняет единственную функцию приводных ремней рынков. Их торговые отделы всего лишь поставляют наемников для электронных финансовых армий, тогда как командиры отдают приказы с совсем других высот. Они заседают в правлениях штаб-квартир инвестиционных трастов и пенсионных фондов. Имея за плечами десятилетие двузначного роста, они стали настоящими сборными пунктами мирового капитала. Одни только взаимные фонды Америки контролируют 8 триллионов долларов в сбережениях и пенсионных резервах, что делает их крупнейшим источником хаотичного и нескончаемого потока капитала[128].
Lego-модели Белого дома
В своей сфере деятельности Стив Трент принадлежит к элите[129]. Он и двое других директоров управляют так называемым «хедж-фондом» одной из тех особых фирм, которые регулярно обеспечивают своим инвесторам двузначный, а то и трехзначный процент благодаря особенно хитроумным, но и рискованным вложениям капитала. Роскошное «воронье гнездо» на углу Коннектикут-авеню и Эйч-стрит в Вашингтоне, откуда Трент и его коллеги взирают на мир, отделано красновато-коричневым каррарским мрамором и деревом ценных пород. В местонахождении фирмы видится своего рода символ новых времен. Не так давно вышеупомянутая архитектурная достопримечательность американской столицы являлась административным зданием Корпуса мира, долгие годы рассылавшего в разные социально неблагополучные регионы планеты американских добровольцев, и деятельность которого сродни немецкой Службе развития. Когда в 1980-х центры американских городов вновь стали стремительно перестраиваиться, дорогое здание было продано спекулянтам и переделано в офисный комплекс, который с тех пор собрал, надо полагать, не меньше архитектурных призов, чем олимпийская команда США получила в Атланте золотых медалей. На первом этаже расположился шикарный ресторан «Овальная комната», названный так с явным намеком на легендарный Овальный кабинет в Белом доме.
Работающие на том же этаже, что и финансовый менеджер Трент, сотрудники медиа-гиганта Time Warner наслаждаются весьма символичной панорамой. Из их окон с тонированными стеклами резиденция Билла Клинтона на Пенсильвания-авеню выглядит как скромный домик, сложенный из деталей детского конструктора фирмы Lego. С выгодной в пространственном отношении позиции финансового и медиа-магнатов даже гигантский по сравнению с Белым домом комплекс зданий министерства финансов уменьшается до размеров симпатичного кукольного домика. Снискать их уважение способен разве что чудовищно огромный мраморный обелиск памятника Вашингтону, сверхбогатому первому президенту США.
Находясь в своем мультимедийном кабинете, расслабленный и одновременно сосредоточенный Трент следит за событиями в мире, с тем чтобы направлять 2 млрд долл. своих клиентов в нужные каналы. Перед ним экран Reuters, a также «сквок-бокс» — громкоговоритель с черным микрофоном, торчащий, как настольная лампа, между телевизором и компьютером. Его могут слышать почти сто человек по всему земному шару, прежде всего его дилеры на биржах Токио, Лондона и Нью-Йорка. Он способен осторожно, но эффективно перемещать миллиарды за несколько секунд.
Во время заседаний Конгресса на другом конце Пенсильвания-авеню Трент всегда краем глаза следит за их трансляцией по ТВ. Рассказывая о своей работе, он в отличие от Патрика Слафа в Лондоне не говорит о прибылях, зарабатываемых за несколько минут спекулянтами-однодневками на фондовых биржах и валютных рынках. Его замечания похожи больше на отчеты о положении в мире, подготавливаемые по заданиям правительств их секретными службами и штатными аналитиками.
От пяти до десяти раз в год он выезжает на неделю или две в места расположения важнейших мировых рынков и быстро развивающиеся регионы. Там он делает запросы по всем мыслимым аспектам экономической жизни. Едва ли есть двери, которые перед ним не открываются; его собеседники — представители промышленности, властей и центральных банков — понимают неоценимое значение этого первопроходца транснационального потока капитала. Совещаясь с ними, Трент не интересуется цифрами и математически обоснованными прогнозами. «Получить новейшие данные из компьютера может каждый, — рассуждает он. — Важно знать настроения людей, скрытые конфликты». И добавляет: «История, всегда история. Знание истории той или иной страны облегчает прогнозирование развития событий во время острого кризиса».
Этот спекулянт хладнокровно и точно отыскивает погрешности в оценках своих слишком доверяющих компьютерам конкурентов и стратегические ошибки отдельных правительств. Одну такую брешь он нашел осенью 1994 года. Экономическая ситуация в мире все еще была на подъеме, перспективы Германии тоже выглядели неплохо, и рынки поначалу рассчитывали на рост процентных ставок. «Это было безумием, — радостно говорит теперь Трент. — Мы знали, что Германия не справляется с проблемой высоких затрат на рабочую силу, и знали также, что немецкие компании средних размеров будут менять каждый заработанный доллар на марки, чтобы покрыть местные издержки». Вследствие этого он поставил на поднимающуюся марку, быстрое ухудшение экономического положения и дальнейшее падение процентных ставок. Он был прав и провернул «одну из самых успешных спекулятивных операций за последние годы», когда его фонд заблаговременно и в большом количестве купил марки и деноминированные в марках облигации по низкой цене. Подобные контракты обычно приносят прибыль лишь три, шесть, а то и двенадцать месяцев спустя, но эти сделки принесли Тренту прирост стоимости в размере свыше 10% всего лишь за несколько месяцев.
Большие деньги делаются только теми, кто в духе хедж-фондов Трента не только инвестирует капитал своих клиентов, но и использует краткосрочные займы для увеличения размера инвестиций. Риск велик, но если все рассчитано верно, 10-процентный доход инвестора может быстро превратиться в 50-процентный. При этом управляющий фондом может за пару недель положить в карман еще один годовой доход. Если другие фонды и банки следуют той же инвестиционной стратегии, тем самым способствуя ими же спрогнозированному изменению цен, совокупная прибыль может в результате составить миллиарды долл. Есть основания полагать, что у Трента и его коллег этот трюк за последние годы срабатывал неоднократно. С 1986 по 1995 год стоимость портфеля акций их фонда взлетела не менее чем на 1223%, то есть в двенадцать с лишним раз.
То же самое произошло в 1992–93 годах, когда «спекулянты» (как их назвал министр финансов Германии Тео Вайгель) вывернули наизнанку европейскую валютную систему. Тогда бóльшая часть денег, поставленных на кон профессиональными умножителями, также была взята в долг. Им снова удалось извлечь прибыли, ни при каких обстоятельствах недостижимые в реальной экономике. Только на этот раз их соперниками были не другие рыночные игроки, а пятнадцать европейских правительств, и проблема более чем когда-либо прежде была не только в деньгах, а в борьбе за власть между рынком и государством.
Сто миллионов долларов в минуту
Устойчивая валюта — огромный плюс для любой экономики. Она позволяет осуществлять надежные расчеты в экспортном и импортном бизнесе и снижает затраты на защиту стоимости валюты от колебаний. Вот почему западноевропейские правительства еще в 1979 году заключили соглашение о тесной взаимной привязке тогдашних валют ЕЭС, чтобы тем самым восполнить утрату Бреттон-Вудсовской системы, по крайней мере в пределах Европейского Сообщества. Предполагалось, что это будет способствовать подъему менее развитых регионов и их постепенной конвергенции. Обменные курсы гарантировались эмиссионными банками, которые в любое время конвертировали лиры, песеты или фунты стерлингов в марки по фиксированному курсу. Кроме того, Европейская валютная система (ЕВС) на протяжении многих лет способствовала инвестициям в ценные бумаги. В странах с более слабыми экономиками, таких как Италия, Великобритания или Ирландия, процент на государственные и частные ссуды был выше, чем в Германии или США. Но поскольку конвертируемость в марки и доллары гарантировалась, риск, связанный с обменными курсами, был мал.
В результате объединения Германии эта система развалилась. Валютное объединение с Востоком на практике означало, что федеральное правительство купило не только ГДР, но и ее обанкротившуюся промышленность. Объем марок в обращении быстро вырос без соответствующего прироста объемов производства и количества товаров, рост инфляции стал реальной угрозой. Bundesbank ответил на это повышением процентных ставок, и всем остальным центральным банкам ЕС пришлось сделать то же самое, коль скоро они хотели сохранить существующие паритеты с немецкой маркой. Однако возникла макроэкономическая проблема, так как высокие ставки стали преградой для инвестиций. Bundesbank вдруг стал мишенью нападок для всей Европы, а крупные корпорации стали сокращать свои запасы лир, фунтов стерлингов и песет, потому что многие экономисты теперь считали курсы этих валют завышенными. Тем не менее власти ЕС не хотели отказываться от ЕВС. От этого в конечном счете зависела сама идея европейской интеграции, и они надеялись, что кризис, вызванный объединением Германии и высокими процентными ставками, вскоре закончится. Через два года так оно и вышло. Но для международного финансового рынка два года — это вечность. Стэнли Дракенмиллер, глава легендарного фонда «Кван-тум», принадлежащего американскому миллиардеру Джорджу Соросу, почувствовал, что кризис ЕВС дает ему шанс, который бывает только раз в жизни. Дракенмиллер — это воплощение «американской мечты»[130]. В 1970-х, завалив вступительный экзамен в университете, он не смог поступить даже на подготовительные курсы при банке. Вместе с тем, пользуясь славой отважного и необычайно рискового игрока, он сумел устроиться аналитиком по акциям в небольшой банк в Питтсбурге, затем стал управляющим активами династии Дрейфусов и, наконец, в 1989 году преемником Сороса на вершине «Квантума». С тех пор уроженец Венгрии Сорос — не более чем яркая фигура с мировым именем, призванная олицетворять собой компанию; его основным занятием стало меценатство и содействие экономическим преобразованиям в Восточной Европе. «Человеком, который двигает рынки», как однажды назвал Сороса американский экономический журнал «Бизнес уик», в действительности является Дракенмиллер.
В августе 1992 года Дракенмиллер был одним из первых, кто понял, насколько рискованно то положение, в котором оказались защитники ЕВС. Министры и управляющие центральных банков от Стокгольма до Рима чуть ли не ежедневно выступали с заверениями в том, что они будут придерживаться фиксированных обменных курсов. При этом, однако, просачивалась информация, что центральные банки стран со слабыми валютами уже начали акцептовать кредиты в немецких марках для пополнения своих резервов.
Для атакующих сил в битве с ЕВС информация о резервах немецких марок в эмиссионных банках была так же важна, как сведения о запасах пищи и воды в осажденном городе. Получив эти данные, Дракенмиллер был во всеоружии. Его стратегия была проста. Каждый день он занимал все бальшие и бальшие суммы в фунтах стерлингов в британских банках и тут же менял их на марки, которые эти финансовые учреждения сами запрашивали в Английском банке. Чем больше у него находилось подражателей, тем больше он мог быть уверенным в том, что Банк истощит свои резервы. Английский банк должен был стать единственным, кто скупает фунты по высокому обменному курсу, и вскоре сдаться, дав фунту девальвироваться. И тогда «Квантум» смог бы снова накупить резко подешевевших фунтов стерлингов и заплатить по своим первоначальным займам. Даже если фунт обесценился бы лишь на 10%, операция принесла бы не менее 25 пфеннигов на каждый фунт.
Британцы хранили веру в Bundesbank до второй недели сентября. Теоретически он мог бы защитить фунт от любых нападок, использовав свой неограниченный запас немецких марок. Однако для сдерживания нарастающей спекуляции Бубе пришлось бы выбросить на рынок многие миллиарды марок, и охранители этой валюты во Франкфурте полагали, что это подстегнет инфляцию. 15 сентября германско-британская солидарность наконец достигла своего предела. Тогдашний президент Bundesbank Гельмут Шлезингер на одной из пресс-конференций обронил замечание, что ЕВС требуются определенные «подгонки». Это выражение за считанные минуты облетело мир: оно означало «продавай фунты», как позднее прокомментировали ситуацию финансовые эксперты в докладе министерству финансов США.
В Лондоне у министра финансов Нормана Ламонта, повязанного договором и законом о свободе передвижений капитала, оставалось только одно оружие. Он мог поднять процентную ставку и сделать для атакующих сил покупку марок более дорогой. В одиннадцать утра на следующий день после предательства Шлезингера и еще раз в два часа пополудни он повысил ставку рефинансирования на 2%. Но доходы от девальвации, на которые можно было рассчитывать, с лихвой перекрывали повышение ставки. Единственным результатом оборонительных мер Ламонта было то, что спекулянты стали занимать и обменивать еще бальшие суммы. В четыре часа Английский банк наконец сдался, проиграв половину своих резервов. За считанные часы фунт потерял почти 9% своей стоимости, и нападающие положили в карманы сказочные барыши. Один лишь Дракенмиллер, согласно более позднему заявлению Сороса, сделал для «Квантума» миллиард долл.
В течение последующих нескольких дней эта драма повторилась с итальянской лирой и испанской песетой. Дабы избежать той же участи, Швеция и Ирландия прибегнули к крайней мере самозащиты, подняв процентные ставки на 500 и 300% соответственно. Но спекулянты справедливо расценили это как признак слабости. Им нужно было лишь выждать: они знали, что если эти страны не хотят увидеть, как их экономики испускают дух, то ни та, ни другая долго не продержится. Швеция держалась до ноября и вернулась к обычной ставке, девальвировав крону на 9%. Ирландия последовала за ней в феврале следующего года с 10-процентной девальвацией.
Борьба с ЕВС еще не была завершена. «Franc fort», сильный французский франк по-прежнему чувствовал себя хорошо и в отличие от других валют вовсе не считался переоцененным. В начале 1993 года вторая по величине экономика Европы находилась даже в лучшем положении, чем германская. Но охотники за прибылью уже испробовали в предыдущем году вкус крови, и декларации о намерении политиков Бонна и Парижа поддерживать существующий паритет франка и марки и сохранить ЕВС даже без Британии и Италии оказалось достаточно, чтобы породить новые волны спекуляции.
На протяжении месяцев центральный банк в Париже поддерживал франк, когда бы тот ни подвергался испытанию, и настойчиво призывал франкфуртских коллег ослабить давление на валютную систему путем снижения процентных ставок. Когда же в четверг 29 июля Буба на совещании своих директоров не внял этим призывам, волны превратились в бушующий поток. На следующий день в министерстве финансов в Париже было спешно созвано совещание по германо-французскому кризису, на котором управляющий Французского банка Жак Де Ларозье потребовал от своих партнеров во Франкфурте неограниченной поддержки. Еще не закончив обсуждение этого вопроса, делегации узнали о фактическом крушении ЕВС. Превосходящую мощь всемирного наступления на франк продемонстрировала единственная цифра. В течение некоторого времени после полудня, когда уровень спекуляции был максимальным, Парижский центральный банк терял 100 миллионов долл. в минуту. К моменту завершения торгов того дня коллеги Ларозье израсходовали 50 млрд долл. и имели задолженность в размере более чем половины этой суммы[131].
Гельмут Шлезингер и назначенный его преемником Ганс Титмейер вовсе не собирались жить с этим долгом и ожидаемым следующим раундом спекуляции, вследствие чего советовали французам признать себя побежденными. Им возражали, что проблема в конечном счете возникла из-за Германии. До позднего вечера воскресенья Ларозье и его правительство не прекращали давления на немцев, но тщетно. Около часа ночи, незадолго до открытия бирж в Восточной Азии, остальные члены ЕВС сообщили о своем решении позволить всем паритетам колебаться в диапазоне 15%.
Так завершились 14 лет пакта о западноевропейской стабильности, ознаменовавшиеся дюжиной проигранных битв в его защиту, которые по самым скромным подсчетам обошлись европейским центральным банкам и в итоге налогоплательщикам в несколько сот миллиардов марок. Поборники свободного мирового рынка не видят в этом ничего предосудительного, по крайней мере со стороны денежных дилеров и инвесторов. Их наиболее влиятельным апологетом в Германии является сам нынешний глава Bundesbank, доктор/почетный доктор Ганс Титмейер. С точки зрения верховного защитника марки, соперничество валют — это часть свободного мира рыночной экономики, в котором все страны конкурируют друг с другом. Подразумевается, что «свободное движение капитала» лишь способствует «неминуемым подгонкам в экономической политике», поэтому в случае с крахом ЕВС фиксированные обменные курсы просто стали «не заслуживающими доверия» на рынках[132]. Босс Бубы и многие другие «правоверные» нисколько не сомневаются, что вина за ту или иную ошибку всегда лежит на политиках. Проблема, сказал Титмейер на Всемирном экономическом форуме в Давосе в феврале 1996 года, состоит лишь в том, что «политики в большинстве своем все еще не понимают, до какой степени они уже находятся под контролем денежных рынков и даже управляются ими»[133].
Тут уж, как говорится, явный перебор, но вместе с тем и полное соответствие теории американского экономиста и лауреата нобелевской премии Мильтона Фридмена, которая в наши дни принята (и применяется политиками) почти во всем мире. Картина, в виде которой многочисленным адептам этого так называемого «монетаризма» представляется окружающий мир, сравнительно проста: оптимальное использование капитала возможно только в том случае, когда его можно свободно перемещать через границы государств. Их волшебное слово применительно к этому процессу — эффективность. Направляемые стремлением к максимальной прибыли, мировые сбережения должны всегда течь туда, где их можно использовать наилучшим образом, и это, естественно, те сферы применения, где они приносят самые высокие доходы. Таким образом, деньги из богатых капиталом стран поступают в регионы, предлагающие вкладчикам наилучшие инвестиционные перспективы. И наоборот, заемщики повсюду выбирают тех кредиторов, которые предлагают самую низкую ставку процента; им не нужно кланяться местным банковским картелям или переплачивать за тот факт, что в их собственной стране слишком мало сбережений. В конечном счете, так по крайней мере гласит теория, от этого выигрывают все нации, поскольку самые высокие темпы роста сочетаются с наилучшими инвестициями.
Монетаристы, таким образом, приписывают происходящему на финансовых рынках своего рода высшую рациональность. Действующие на них лица являются «всего лишь арбитрами, наказывающими за политические ошибки девальвацией и повышением процентных ставок», считает бывший коллега Титмейера по Bundesbank Герд Хойслер, заседающий ныне в совете директоров Dresdner Bank[134]. «Экономист» со своей стороны был вполне категоричен, доказывая, что финансовые рынки стали «судьей и присяжными» любой экономической политики и что нет ничего плохого в том, что национальные государства утратили свою власть, ибо правительства больше не способны злоупотреблять ею, устанавливая чрезмерные уровни налогообложения и поддерживая инфляцию высокими уровнями задолженности. Все это-де укрепило «здоровую дисциплину»[135].
Финансовый рынок без границ как универсальный источник благосостояния и страж экономической рациональности? Такое видение не только вводит в заблуждение, но и опасно, ибо заслоняет сопутствующий политический риск. Чем больше страны зависят от доброй воли инвесторов, тем больше правительства вынуждены потакать привилегированному меньшинству, располагающему значительными финансовыми активами. А интересы этого меньшинства всегда одни и те же: низкий уровень инфляции, устойчивая внешняя цена валюты и минимальное налогообложение доходов от инвестиций. Не вдаваясь в объяснения, верующие в рынок всегда отождествляют эти цели со всеобщим благоденствием. Но в контексте глобального финансового рынка такая позиция суть идеология чистой воды. Тесные финансово-экономические связи между странами вынуждают последние соревноваться в снижении налогов, сокращении общественных расходов и отходе от принципов социального равенства, что приводит лишь к глобальному перераспределению от тех, кто на дне, к тем, кто на вершине. Вознаграждаются все те, кто создает наилучшие условия для крупных капиталовложений, а над любым правительством, сопротивляющемся этому закону джунглей, нависает угроза санкций.
Офшорная анархия
Уже давно понятно, что пресловутый отказ от контроля за вывозом капитала вызвал к жизни динамику, которая, методично сводя к нулю суверенитет государств, имеет губительные анархические последствия. Страны лишаются права взимать налоги, правительства подвергаются шантажу, а полицейские подразделения бессильны перед преступными организациями, не имея возможности добраться до их денег.
Ничто не иллюстрирует эту антигосударственную тенденцию мировой финансовой системы нагляднее развития так называемых офшорных финансовых центров. Во всем мире от стран Карибского бассейна до Лихтенштейна и далее до Сингапура порядка сотни таких центров, где банки, страховые компании и инвестиционные фонды управляют деньгами своих клиентов и всячески стараются избежать государственного контроля в собственных странах. Концепция безопасных пристанищ капитала везде одинакова: они обещают низкое или нулевое налогообложение иностранных инвестиций и считают раскрытие личности владельца банковского счета наказуемым правонарушением, даже если этого требуют от них государственные органы.
Лидером рынка увода капитала от налогообложения являются Каймановы острова в Карибском море, относящиеся к так называемым «зависимым территориям» британской короны. На основной части Кайман, где на площади всего в 14 квадратных километров проживают 14 000 человек, зарегистрировано свыше 500 банков. Здесь представлены все учреждения, более или менее известные в финансовом мире, включая десять крупнейших финансовых домов Германии. Деньгами, попадающими на Кайманы, не гнушаются даже банки, принадлежащие государству, такие как Westdeutsche Landesbank или Hessische Landesbank[136]. Разумеется, их европейским клиентам, стремящимся уйти от налогообложения, не приходится полагаться только на Карибы; те же услуги предоставляются на Нормандских островах Джерси и Гернси равно как и в княжестве Лихтенштейн или в герцогстве Люксембург.
За последние годы одной из новых зон притяжения капитала (на практике для обозначения центров налоговой преступности используется эвфемизм «оазисы») стал Гибралтар. Уже свыше 100 000 богачей перевели для проформы свои активы на эту «скалу обезьян» в южной оконечности Испании. Такие люди, как Альберт Кох, владелец фирмы Marina Bay Consultants, осуществляющей анонимные операции через посредническую фирму — почтовый ящик, в состоянии удовлетворить все потенциальные нужды лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, вплоть до документов для фиктивной эмиграции. Немецкий Commerzbank тоже рекламирует налоговые авиаперелеты на юг, его лозунг: «Умные инвесторы направляются в Гибралтар». Двадцать сотрудников его отделения, расположенного в колонии британской короны на Мэйн-стрит, приветствуют тех, кто, скрываясь от налогов, хочет сделать срочный вклад как минимум в 100 000 марок. На инвестиционный счет, приносящий проценты, кладется самое меньшее полмиллиона. Заведующий отделением Бернд фон Эльффен торжествует: «Здесь банковская тайна пока еще не пустой звук»[137].
Ущерб от офшорной системы не поддается исчислению. Не существует более благодатной почвы для преступников, организованных в международном масштабе, и проследить пути их незаконно нажитых доходов стало в последнее время практически невозможно. Нельзя сказать наверняка, просачиваются ли и если да, то в какой мере, «грязные» деньги через офшорные зоны в сферу легальной циркуляции капитала. «На этот счет нет никакого фактического материала», — признает Михаэль Финдайзен, отвечающий в Инспекции банков Германии за координацию официальной борьбы с отмыванием денег[138]. По оценке швейцарской федеральной полиции, с 1990 года криминальные структуры только одной России перевели на Запад более 50 млрд. долларов[139]. Финансово-техническим плацдармом для различных российских мафий является офшорный центр на Кипре, где 300 российских банков содержат для проформы свои отделения и декларируют годовой оборот в 12 млрд долл.[140]. Кроме того, эти банки, по утверждению Финдайзена, имеют доступ к электронной платежной системе Германии. Вопреки заверениям министра внутренних дел Германии и ее банковского лобби двери для преступных денег распахнуты настежь. Это верно и для Австрии. Венские эксперты по безопасности подсчитали, что мафиозные кланы держат в банках этой альпийской республики 200 млрд шиллингов (порядка 19 млрд долл.).
Однако опасность отмывания денег транснациональными преступными организациями бледнеет по сравнению с гигантскими потерями казны того или иного государства в результате легально организованного бегства капитала. Богатые немцы припрятали более 200 млрд марок только в люксембургских отделениях и инвестиционных фондах германского финансового сектора. Министерство финансов теряет от этого свыше 10 млрд в год, примерно половину надбавки на «солидарность с Восточной Германией», выплата которой лежит на налогоплательщиках. Бальшую часть «сбежавших» денег управляющие фондами вкладывают снова в Германии, возможно, даже в государственные облигации. Таким образом, государство становится должником людей, которые обманывают его на налогах, и даже выплачивает проценты, что приносит кредиторам определенный дополнительный доход, свободный от налогообложения.
Люксембург — только один из каналов, через которые осуществляется обескровливание национального бюджета ФРГ. Сложив вместе все утечки из страны, мы легко получим суммарный налоговый дефицит в размере 50 млрд марок в год, что приблизительно соответствует ежегодному приросту государственного долга федерации. Для всех стран в совокупности эти потери складываются в непрерывную финансовую катастрофу. По статистике МВФ, всего под сенью различных офшорных карликовых государств «крутится» свыше 2 триллионов долл., недоступных странам, где эти деньги были сделаны. Одни только Кайманы за последние 10 лет объявили об иностранных инвестициях, превышающих тот же показатель всех финансовых учреждений Германии, вместе взятых. И ведь далеко не обо всех «сбежавших» деньгах становится известно. Год за годом международный платежный баланс обнаруживает дефицит в десятки млрд. Это означает, что отток денег все же регистрируется, но с точки зрения статистики никогда и никуда не прибывает, потому что многие банки в офшорных центрах даже не публикуют статистических данных. Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития[141] (ОЭСР) и МВФ подсчитали, что в 1987 году в этой черной дыре мировой экономики исчез очередной миллиард долларов[142].
Парадоксальным образом все это никак материально не связано с теми невзрачными политическими образованиями, которые предоставили свои флаги в распоряжение финансового мира и чей национальный суверенитет в лучшем случае взят взаймы. Вряд ли кто-нибудь действительно ездит на Карибы или в Лихтенштейн с чемоданами, полными денег. И вряд ли там имеется какая-либо инфраструктура для управления деньгами. Да она и не нужна. Достаточно почтового ящика и генерального представителя или доверенного лица, остальное делают компьютеры. Ибо бизнес на бегстве капитала физически делается в компьютерных сетях банков и корпораций, головные офисы которых находятся на немецкой, британской, японской и американской территориях. Но объединенный этими сетями финансовый сектор попросту объявляет значительную часть содержимого своих жестких дисков экстерриториальной.
Таким образом, налоговые и полицейские органы могли бы без труда заблокировать каналы утечки капитала, не оккупируя при этом никаких малых стран. Но это было бы несовместимо со свободным движением капитала. До сих пор финансовые корпорации успешно отражали любые нападки на их «секретность», просто заявляя, что это заставит их перевести бизнес куда-нибудь в другое место.
Германия наблюдала новый акт этого фарса в начале 1996 года. В связи с ростом бюджетного дефицита налоговые инспектора впервые провели ревизии в крупных банках. Юр-ген Сарацин, глава Dresdner Bank, и многие его коллеги немедленно заявили протест. Эта акция, сказал Сарацин, «не поднимет уровень налоговой дисциплины», но лишь повредит Германии как одному из финансовых центров. Позднее, словно демонстрируя свои возможности по части укрытия средств от налогообложения, Deutsche Bank представил годовой баланс, где указанная прибыль в размере 4,2 млрд марок являлась второй по величине за всю его историю, но вот налоговые платежи были на 377 миллионов марок меньше, чем в предыдущем году.
Фаустово соглашение
Так национальные государства и их правительства подвергаются шантажу. Под давлением организованной финансовой индустрии почти все в мире идут по пути, рекомендованному Сарацином из Dresdner Bank и его коллегами в 1996 году: снижение налогов на богатство и капитал, дерегуляция всех финансовых услуг и урезание расходов на государственные службы и социальную сферу. Ибо, по Сарацину, высокие налоги «деморализуют людей и лишь подталкивают их к сопротивлению», приводящему к уходу от налогообложения. Так от одного бюджета и налогового закона до следующего глобализация ведет к закреплению неравенства, какими бы различными ни были национальные культуры или общественные ценности.
Механика такого приобщения к господствующей идеологии выходит далеко за рамки государственных бюджетов. Присоединение озабоченных своим положением стран к международной финансовой системе напоминает то, что «Ньюсуик» назвал «Фаустовым соглашением»[143]. Сперва оно обеспечивает правительствам доступ к глобальным резервам капитала. При этом страны могут занимать под свои инвестиции намного больше, чем в случае, когда им приходится полагаться только на деньги отечественных вкладчиков и богатых индивидуумов. До сих пор перед этим соблазном не устояло ни одно честолюбивое правительство. Даже объединение Германии не могло бы быть профинансировано без денег, полученных от зарубежных покупателей ее государственных облигаций; в настоящее время более трети государственного долга Германии находится в руках иностранцев. Но вход в царство мировых финансов требует высокой и неизбежной оплаты в виде подчинения иерархии ссудных процентов и силам, о которых большинство избирателей едва ли имеет хоть какое-то представление.
Наиболее влиятельное из этих неприметных агентств, работающих на финансовых рынках, находится в Нью-Йорке по адресу Чёрч-стрит, 99, в массивном одиннадцатиэтажном здании из песчаника. Здесь, в тени башен-близнецов Центра международной торговли, 300 высокооплачиваемых аналитиков работают на крупнейшую в мире и наиболее востребованную инвестиционную службу Moody's. Висящий над парадным входом и покрытый листовым золотом рельеф площадью более чем в 12 квадратных метров объясняет философию и интересы компании: «Коммерческий кредит — это изобретение современного мира, и доступ к нему имеют только просвещенные и наилучшим образом управляемые страны. Кредит — это воздух, которым дышит свободная система в современной торговле. Он сделал в тысячу раз бóльший вклад в богатство наций, чем все рудники мира».
По ту сторону позолоченного кредо лежит царство власти и секретности, не имеющее себе равных. Нигде в мире тайны столь многих правительств и компаний не охраняются столь надежно. Ни одному визитеру извне, независимо от его ранга, не разрешается входить в помещения, где работает персонал. Гостей сначала проводят в устланную толстыми коврами приемную, а обсуждения проводятся только в элегантных конференц-залах на одиннадцатом этаже.
Винсент Трулья, вице-президент компании, основанной еще в начале века, начинает с объяснения того, чем Moody's не является и являться не хочет: «Нет, мы не выносим суждений о целых странах; наши оценки не нравоучительны и не затрагивают истинных ценностей той или иной страны. Нет, мы не говорим правительствам, что они должны делать; мы никогда не даем советов»[144]. В свете же истинной практики такие утверждения варьируют между преуменьшением и лицемерием, потому как Трулья отвечает в Moody's за рейтинг государств, выстраивая страны мира по ранжиру с точки зрения их кредитоспособности. Степенью «ААА», так называемым «рейтингом тройного А», наслаждаются только те государства, что входят в финансово-экономическую элиту: Соединенные Штаты, Япония и стабильные страны ЕС вроде Германии и Австрии. Богатой нефтью Норвегии приходится довольствоваться более ограниченной степенью «АА», потому что «долгосрочные риски» капиталовложений там, согласно определению Moody's, «несколько выше». Италия с ее высоким уровнем задолженности получает всего лишь «А», поскольку она «склонна к дальнейшему ослаблению». У Польши поводов для оптимизма еще меньше: ее «ВАА» отражает лишь ожидание «приемлемой финансовой надежности». Венгрия («ВА») сомнительна даже в этом отношении.
Значение рейтинга очевидно. Дилеры в банках и инвестиционных фондах автоматически переводят его в надбавки за риск при покупке государственных ценных бумаг. Moody's — это метафора рынка и его память одновременно. Moody's никогда ничего не забывает и прощает лишь десятилетия спустя. Аргентина, например, до сих пор не может избавиться от категории «страны В», так как в свое время ее финансовая политика была хаотичной, а инфляция трехзначной, и она не всегда вовремя платила по долгам. Сегодня у Аргентины самая устойчивая валюта в Южной Америке: последние пять лет ее центральный банк удерживает паритет с долларом на постоянном уровне, а уровень инфляции там не выше, чем в США.
Жесткая финансовая политика в отношении той или иной страны означает, что ее экономика претерпевает серьезный структурный кризис. Однако жертвы, приносимые населением на алтарь стабильности национальной валюты, финансовыми рынками не вознаграждаются. Правительство в Буэнос-Айресе и по сей день должно выплачивать по фиксированным займам в немецких марках ставку на 3,8% больше, чем Германия с ее «тройным А»[145].
Для Трульи и его команды все это не более чем последовательное применение экономических критериев. Дабы защититься от попыток подкупа, сотрудники Moody's всегда путешествуют по двое, например, для того, чтобы проверить правительственные финансы по приглашению министерства финансов. Вице-президент Moody's подчеркивает, что все аналитики обязаны раз в месяц отчитываться о собственных инвестициях и что ни один из них не вправе спекулировать в предвкушении своей оценки, которая будет обнародована позднее. Давить на сотрудников агентства бесполезно; тут бессильны даже правительства. «Мы признаем только интересы инвесторов, политикой мы не занимаемся».
Исход, однако, всегда политический. Рейтинги агентства могут обойтись той или иной стране в дополнительные ссудные проценты на миллиарды долл. и повлиять на ее электорат и самооценку. Когда в феврале 1995 года канадский доллар, что называется, дышал на ладан и рынки относились к нему как к «северному песо», премьер-министр Жан Креть-ен попытался сдержать отток капитала путем урезания расходов и представления проекта нового бюджета. Но еще до обсуждения его плана в канадском парламенте Moody's сочло сокращения недостаточными и объявило о возможном снижении рейтинга канадских облигаций до «АА». Лидер оппозиции явно испытывал удовольствие, обвиняя правительство в проведении нездоровой финансовой политики. Шансы Кре-тьена на выборах резко упали, и «Нью-Йорк таймс» цинично заметила: «Человек из Moody's правит миром»[146]. Такая же последовательность событий имела место в 199С году, когда агентство незадолго до парламентских выборов в Австралии провело «изучение» ее кредитного статуса. Крупнейшая сиднейская газета вышла со статьей под заголовком «Черные тучи над правительством». Лейбористская партия проиграла выборы.
Суд без закона
Логику рынка жестко применяют не только злонамеренные инвесторы из-за рубежа. Там, где рынок капиталов интернационализирован, в этакий суд присяжных, выносящий вердикт политике правительства, выдвигаются и отечественные толстосумы. В конце концов, они тоже могут вкладывать свои деньги где-нибудь в другом месте. Ни одной европейской стране этот урок не был преподан так бесцеремонно, как Швеции, которая когда-то славилась своей образцовой внутренней политикой, бывшей наглядным примером социально справедливого капитализма. Сегодня от этой политики мало что осталось. Начиная с конца 1980-х шведские компании и состоятельные частные инвесторы перемещали за границу все больше и больше рабочих мест и сбережений. Несмотря на сопутствующее уменьшение налоговых поступлений, правительство снижало уровень налогообложения высоких доходов. В результате стремительный рост бюджетного дефицита форсировал неизбежное урезание расходов во многих сферах социального обеспечения.
Но «рынкам» и такой темп показался недостаточным. Летом 1994 года промышленный магнат Петер Валленберг, главный владелец фирмы — изготовителя грузовиков Scania и ряда других предприятий, пригрозил перенести свой головной офис за границу, если правительство (руководимое тогда союзом консерваторов) не сократит бюджетный дефицит. Бьёрн Волльрат, хозяин Scandia, одной из крупнейших страховых компаний Скандинавии, пошел еще дальше, призвав к бойкоту шведских государственных облигаций, которые на тот момент продавались под средний европейский процент. На следующий день спрос на стокгольмские ценные бумаги с фиксированным процентом сошел на нет, обменный курс кроны резко упал, а вслед за ним поползли вниз и цены акций. Отныне правительство и все остальные заемщики шведских крон были вынуждены платить за кредит на 4% больше, чем те, кто брал в долг немецкие марки. По мере того как страна все больше залезала в долги, становились неизбежными значительные сокращения в бюджете. Сегодня Швеция ассигнует на своих бедняков меньше, чем Германия.
Пойдя на вынужденное сокращение расходов на нужды малообеспеченных слоев населения, эта некогда образцовая с точки зрения социальной политики страна снова наслаждается твердой валютой и относительно выгодной ставкой процента. Но угроза, разумеется, остается, что с достаточной определенностью было дано понять премьер-министру, социал-демократу Гёрану Перссону в январе 1996" года. В предвыборной борьбе он открыто предложил вернуться к уровню пособий по безработице и болезни в 80% от последней зарплаты тех, кто их получает. Два дня спустя Moody's опубликовало доклад, из которого следовало, что стабилизация шведского бюджета еще не завершена и что программы социального обеспечения «будут, вероятно, еще больше урезаны». Уже на следующий день индексы государственных облигаций и акций упали соответственно на 30 и 100 пунктов, и одновременно понизился курс кроны[147].
Аналогичный сценарий демонтажа государства социальной защиты прослеживается в Германии, которая до сих пор применяла прогрессивное налогообложение для удержания социального неравенства в определенных рамках. Правящая консервативно-либеральная коалиция уступала каждому серьезному требованию промышленников и банкиров по пересмотру налоговой системы. Она дважды за последнее время снижала налог на доходы крупных корпораций и уменьшила на 5% максимальный подоходный налог. Число налоговых льгот для предпринимателей росло очень быстро, тогда как дополнительная нагрузка в результате объединения Германии целиком и полностью легла на массовое налогообложение, особенно на подоходный налог и налог на добавленную стоимость. Результаты говорят сами за себя. Когда в 1983 году Гельмут Коль вступил в должность федерального канцлера, компании и предприниматели несли 13,1% налогового бремени. Тринадцать лет спустя эта цифра уменьшилась более чем вдвое до 5,7%[148]. В 1992 году группа высокопоставленных экспертов из Комиссии ЕС в Брюсселе отметила, что в Германии налогообложение корпораций ниже, чем в США, Японии и в среднем по Европе[149]. Таким образом, Федеративная Республика Германии, по крайней мере в фискальных вопросах, давно уже склоняет голову перед глобальным наступлением на государство всеобщего благоденствия, даже не дожидаясь наказания более высокими процентными ставками со стороны финансовых рынков.
Решениям тех, кто направляет потоки капитала, подчиняется даже правительство Соединенных Штатов. В 1992 году Билл Клинтон вошел в Белый дом, пообещав избирателям обширную программу реформ: планировалось превратить обедневшие бесплатные средние школы в эффективно функционирующую систему образования и застраховать каждого американца на случай болезни. Ни один из этих проектов, однако, не мог быть проведен в жизнь без дополнительных затрат со стороны государства. Сразу же после выборов федеральные облигации стали падать в цене, поскольку инвестиционные банки открыто выступили против реформ. После этого реформы постепенно выдохлись всего лишь за несколько месяцев работы администрации Клинтона, задолго до того, как он утратил большинство в Конгрессе. Джеймс Карвилл, давнишний советник Клинтона, обреченно вздохнул: «Раньше я думал, что если перевоплощение и существует, то я хочу вернуться в этот мир в качестве президента США или папы римского. Но теперь я предпочел бы стать рынком облигаций: в этом качестве можно запугать кого угодно»[150].
Таким образом, подчинение финансовым рынкам приводит к атаке на демократию. Да, все граждане по-прежнему имеют право голоса. Политики все еще должны стараться согласовывать интересы всех слоев общества для завоевания большинства где угодно, будь то Швеция, Соединенные Штаты или Германия. Но сразу же по завершении выборов решающим фактором становится то, что экономисты эвфемистически называют правом голоса денег. И это не вопрос морали. Даже профессиональные управляющие фондами, изыскивая пути извлечения максимально возможного дохода из вверенного им капитала, всего лишь выполняют инструкции, но в наши дни их верховная власть позволяет им оспаривать все, что было с большим трудом отвоевано на пути к социальному равенству за сто лет классовой борьбы и политических преобразований.
По иронии судьбы, именно потрясающие успехи социал-демократии в обуздании капитала сегодня все больше развязывают руки капитализму в мировом масштабе. Только постоянный рост заработков и организованная на государственном уровне социальная защита позволили за последние 50 лет сформироваться тем средним слоям, чьи сбережения ныне поддерживают функционирование финансовых рынков. Никогда прежде в истории не было так много людей с доходами, бóльшими, чем это необходимо для удовлетворения насущных потребностей. Это их сбережения обеспечивают банки, страховые компании и инвестиционные фонды сырьем для атак на профсоюзы и систему социального обеспечения. В одних только инвестиционных фондах, согласно исследовательскому отделу Deutsche Bank, содержится 7 триллионов марок. Еще 10 триллионов находятся в распоряжении тех, кто предлагает различные варианты вложения средств для обеспечения в старости, каковыми, например, в Германии являются страховые компании[151]. И тогда высокооплачиваемый гражданин, принадлежащий к среднему классу, очень часто оказывается одновременно жертвой и преступником, выигравшим и проигравшим. Пока сумма, на которую он застраховал свою жизнь, приносит все бóльшую прибыль, его чистый доход снижается из-за роста налогов. И в один прекрасный день, хоть завтра, может случиться так, что управляющие инвестиционным фондом, где он держит свои сбережения, назначат, будучи крупными акционерами фирмы, где он работает, новый совет директоров, который сократит его рабочее место в интересах вкладчиков фонда.
Подавляющее большинство шведов все же не желает, чтобы их общество было ориентировано исключительно на получение прибыли. Только этим можно объяснить упорное нежелание шведского правительства полностью ликвидировать существующую систему социального обеспечения. Так и премьер-министр Канады Кретьен никак не мог весной 1995 года превысить предложенный им лимит сокращения бюджета. Первоочередной задачей для него на тот момент было предотвращение распада страны, угроза которого исходила от референдума по вопросу отделения франкоязычной провинции Квебек. Урежь он отчисления властям провинций, это привело бы к увеличению числа канадцев на стороне сепаратистов и к риску причинить стране гораздо больший экономический ущерб. Аналогичным образом в 1992 году итальянское правительство противилось девальвации лиры вовсе не из-за бюрократической тупости, как впоследствии издевательски утверждали многие профессора и спекулянты. Тем самым оно пыталось защитить свыше миллиона семей, которые по совету банков покупали дома по закладным, стоимость которых была деноминирована в экю, искусственной валюте ЕС. Крах ЕВС означал, что их доходы в экю уменьшились на треть, или, другими словами, что их платежи по закладным выросли более чем на 30% без соответствующего прироста стоимости их собственности в лирах. При этом спекулянты лили воду на мельницу крайне правого «Союза свободы», создатель которого, неофашист Джанфранко Фини, изображал из себя выразителя интересов обманутых заемщиков[152].
Кроме того, финансовые рынки провоцируют такие межгосударственные конфликты, которые становится все труднее и труднее урегулировать политическими средствами. Рынок валюты и ценных бумаг, превращаемый правоверными экономистами во всемирный финансовый суд, выносит в высшей степени несправедливые решения. Он, по-видимому, больше не признает никаких законов и вместо правосудия творит экономический хаос.
Охотники за прибылью на различных торговых площадках всегда предпочитают большие страны малым совершенно независимо от того, как выглядят их экономика и государственные финансы в данный момент. Такие страны, как Ирландия, Дания, Чили или Таиланд, переплачивают по ставкам до 2% только из-за того, что они малы. С рыночной точки зрения определенный смысл в этом есть. Чем меньше рынок, тем больше риск, что во время кризиса на нем не будет покупателей. «Такая ситуация напоминает кинотеатр, где вспыхнул пожар, — объясняет Клаус-Петер Меритц, возглавлявший до 1995 года отдел иностранных валют в Deutsche Bank. — Все хотят выбраться наружу, а выходов мало». Именно за этот «exit risk» и начисляется надбавка. Но с экономической точки зрения это нонсенс, удорожающий инвестиции.
В то же время опасаться приговора рынков большие страны вынуждены в гораздо меньшей степени, нежели малые. Наиболее выгодное положение в этом смысле занимают Соединенные Штаты, которые пользуются сбережениями других, как ни одна другая страна мира. Вот уже более десяти лет статистика США отражает негативный платежный баланс. Это означает, что потребители, бизнесмены и правительство страны одалживают за границей намного больше денег, чем сами вкладывают на мировых рынках. С 1993 года этот минус составляет 10% ВНП, что делает США крупнейшим должником в мире. Несмотря на это, американским компаниям и строительным подрядчикам отнюдь не приходится выплачивать штрафные проценты. Один лишь размер внутреннего рынка США гарантирует сравнительную безопасность и привлекательность долларовых инвестиций. Кроме того, доллар по-прежнему является мировой резервной валютой. В долларах хранятся 60% резервов твердой валюты всех эмиссионных банков и почти половина всех частных сбережений[153]. Даже китайские крестьяне или русские рабочие переводят все свои накопления в доллары, хотя в реальном исчислении объем продукции американской экономики составляет менее одной пятой от общемирового. Поэтому всякое правительство в Вашингтоне знает, что, если устойчивость его валюты окажется под угрозой, полмира будет на его стороне.
Доллар как оружие
Долларизация мировой экономики делает значительную часть мира зависимой от положения дел в Америке. С 1990 года торговцы и экономисты отмечают, что изменение процентных ставок в мире в конечном счете определяется ситуацией в долларовой зоне. Так, весной 1994 года в Германии все признаки указывали на ослабление конъюнктуры. Согласно общепринятым экономическим воззрениям, произошедшее в результате ослабление спроса на кредит должно было привести к падению процентных ставок, что является необходимым условием роста инвестиций. Но экономика США по-прежнему была на подъеме, и на американском рынке процентные ставки вдруг резко пошли вверх. В Европе ставки тоже немедленно возросли более чем на 7%, что для экономики в целом было еще одной «плохой новостью». Через полтора года Германия снова погрузилась в спад, и повторилась та же история, тогда как фабрики США, по сообщениям, работали на полную мощность. Даже самая низкая за десять лет базовая ставка Bundesbank ничего не изменила. Несмотря на то что германские защитники национальной валюты ссужали банкам больше, чем когда-либо, и дали компаниям возможность получить в 1995 году на 7% больше кредитов, чем в 1994, дешевый капитал немедленно перетекал на иностранные рынки, где доходность была выше. Гельмут Гессе, член центрального совета Bundesbank, хладнокровно констатировал, что «способность эмиссионных банков понижать процентные ставки своими силами», к сожалению, «сошла на нет»[154].
Зависимость от долл.ой зоны дает финансам и финансовой политике Вашингтона преимущество, которое все чаще приводит к столкновению интересов США с интересами других стран. Обменные курсы — это показатель соотношения сил в скрытой войне за финансово-экономическое превосходство. Когда за первые четыре месяца 1995 года доллар обесценился по отношению к иене и марке аж на 20%, это ввергло в хаос мировую экономику и спровоцировало новый спад в Европе и Японии. Управляющие портфелями запаниковали и конвертировали свои инвестиции в марки и иены, вследствие чего падение не ограничилось долларом и все европейские валюты упали в цене по отношению к франку и марке. Внезапно зарубежные доходы немецких компаний стали намного ниже, чем они рассчитывали. Deimler, Airbus, Volkswagen и тысячи других фирм опубликовали цифры понесенных убытков и объявили, что в будущем они предпочтут инвестировать за рубежом. И вновь специализированные журналы, такие как «Бизнес уик», «Хандельсблатт» и «Экономист», стали писать о «бессилии центральных банков» перед лицом превратностей триллионного валютного рынка, дневной оборот которого почти вдвое превышает объединенные резервы всех центральных банков.
При беспристрастном рассмотрении стремительное падение обменных курсов выглядело неоправданным. Фактическая покупательная способность доллара соответствовала цене, скорее, 1,80, чем 1,36 марки, по которой он продавался. Более того, для краткосрочных займов на финансовом рынке процентная ставка доллара на один процент превышала ставки теперь высоко котировавшихся марки и иены. Экономисты всех мастей недоумевали. Марсель Штремме, валютный эксперт Германского института экономических исследований в Берлине, даже заявил, что обменному курсу доллара «нет никакого логического объяснения». Ведущий экономист МВФ Майкл Мусса заметил лишь, что «рынки безумствуют».
Нелогично? Иррационально? Инсайдеры этой валютной игры расценивают такую ситуацию совершенно по-другому. К примеру, Клаус-Петер Меритц, возглавлявший тогда торговлю валютой в Deutsche Bank, не долго думая увидел в падении доллара «сознательную политическую стратегию со стороны американцев», направленную на преодоление слабости экспорта путем удешевления собственной продукции на зарубежных рынках[155]. Другими словами, обменный курс доллара стал для США оружием в борьбе с Японией и Германией за долю на мировом рынке.
Звучит как теория заговора, но это вполне возможно. Огромное большинство глобальных игроков на денежном рынке — это американские учреждения со всемирной инфраструктурой. Они, очевидно, не пляшут под дудку своего правительства, но в высшей степени охотно следуют в фарватере Феда[156] и его президента Алана Гринспена. Помимо того, даже самые прожженные спекулянты не скрещивают мечи с этим крупнейшим в мире эмиссионным банком, потому что его долларовые резервы неограниченны. «Директору Феда достаточно позвонить тому или иному конгрессмену и сказать, что США не заинтересованы в стабилизации «зеленых», утверждает Меритц. Дилеры быстро сообразят что к чему и позаботятся об остальном. Косвенным образом данная стратегия поддерживается и двумя могущественнейшими людьми Америки. Так, во время всемирного кризиса доллара в апреле 1995 года президент Клинтон дал понять, что для того, чтобы остановить его падение, США, возможно, «не предпримут ровным счетом ничего»[157]. Незадолго до этого, на слушаниях в Конгрессе, Гринспен изложил перспективу снижения базисной ставки, которого так и не произошло[158]. В обоих случаях рынки получили явный сигнал, что центральный банк и правительство хотят, чтобы курс доллара упал. Профессор экономики Франкфуртского университета Вильгельм Ханкель тоже видит в падении доллара всего лишь «разумную валютную политику США». В мире слабых валют, пораженных инфляцией, доллару угрожает опасность переоценки, и вашингтонские стражи денег, своими высказываниями занижая курс доллара, «сплавляют проблему другим странам»[159]. Столь же очевидно отношение к данной проблеме экономических советников Гельмута Коля. Вопреки своей обычной осторожности в отношениях с Большим Братом по ту сторону Атлантики, канцлер лично выразил протест против обструкционистской валютной политики Вашингтона и открыто охарактеризовал ее как «совершенно неприемлемую» без особого, впрочем, успеха.
Экономическая статистика за 1995 год зафиксировала победу долларовых стратегов. Рост экономики Германии составил лишь половину ожидаемого показателя; ослабление доллара послужило поводом для массовых увольнений. Япония понесла более существенный урон. Ее чистая прибыль от торговли с Соединенными Штатами за какие-то двенадцать месяцев сократилась на три четверти, в стране началась дефляция, при этом число безработных удвоилось[160]. Гринспен и министр финансов Рубин отошли от жесткой линии только осенью 1995 года, когда они уже были уверены в достижении желаемого результата. В сентябре центральные банки трех стран снова начали поддерживать доллар согласованными покупками: обменный курс медленно двинулся вспять, и к лету 1996 года колебался у отметки в 1,48 марки.
Выходит, что валютные рынки отнюдь не безумны: они следуют мановениям дирижерской палочки Алана Гринспена. Растерянность же экспертов свидетельствует лишь о том, насколько их теории игнорируют тот факт, что даже в киберпространстве всемирных финансов действующими лицами являются те, кто или обладает властью, или обязан подчиняться таковой и сопутствующим ей интересам. Не все центральные банки одинаково бессильны перед Молохом рынка. Напротив, они подчиняются четкой иерархии в соответствии со своими размерами. На вершине — Федеральный резервный банк Нью-Йорка. За ним следуют Японский банк и Bundesbank, которые, в свою очередь, доминируют в зонах иены и немецкие марки.
Партизанская война в финансовых джунглях
До сих пор глобализация, во всяком случае, на финансовых рынках по большей части ограничивается американизацией остального мира. Для таких профессионалов в области торговли, как Меритц, в этом определенно есть резон: «Может быть, это та цена, которую нам приходится платить за американскую интервенцию для нас на Балканах». И все же ущерб, причиняемый этой зависимостью экономике, огромен и содержит в себе риск для самих Соединенных Штатов. Чем безжалостнее американский гигант насаждает свое превосходство, тем больше вероятность защитной реакции со стороны других. То, что может случиться, если правительство какой-либо страны чувствует себя обманутым, уже продемонстрировала Малайзия. Вот уже много лет руководимая премьер-министром Махатхиром Мухаммадом, она наряду с Сингапуром построила наиболее успешно развивающуюся экономику в Азии. Кроме того, Махатхир — любитель беспрестанных нападок на высокомерие, декаданс и империалистические планы Запада. В 1988 году он, похоже, собирался нанести удар по исконной вотчине своего противника — валютному рынку.
Началось все с того, что малайзийский центральный банк, Bank Negara, понес значительные потери. Политика высокой процентной ставки, проводившаяся администрацией Рейгана, на протяжении ряда лет, подстегивала обменный курс доллара. Затем американцы на секретной встрече в нью-йоркском отеле «Плаза» с представителями центральных банков Японии, Великобритании и Западной Германии согласились на совместную интервенцию, чтобы вновь понизить обменный курс. Последовало хаотическое падение чуть ли не на 30%. Взбешенный хозяин Negara, Тан Шри Дато Джафар ибн-Хус-сейн, когда-то работавший в аудиторской фирме Price Water-house, не преминул заметить, что накопленные Малайзией долл.ые резервы теперь стоят намного меньше и не по ее вине. Выступая в Нью-Дели, он с негодованием заявил, что соглашение, заключенное в «Плазе», «коренным образом изменило игровые ставки»[161].
Отныне он сам перестал уважать неписаный закон, согласно которому первоочередной задачей всякого центрального банка является обеспечение стабильности; на самом деле, заручившись поддержкой Махатхира, он обратил это правило в его противоположность, развязав финансовую партизанскую войну. Обладая всеми привилегиями центрального банка— неограниченным кредитом, оптимальным доступом к информации, властью наблюдательного органа, Negara успешно воспользовался ими для спекуляций против валют стран «большой семерки». Для Малайзии с ее огромными, почти неограниченными инвестициями это было не так уж сложно. Операция состояла в том, чтобы продавать валюту одновременно десяткам банков траншами по 100 миллионов и более, вызывая неожиданный для всех крах обменного курса. Когда тот опускался достаточно низко, компьютерные программы в торговых залах начинали автоматически фиксировать убытки дилеров, исполняя приказы стоп-лосс[162]. Прежде чем волна продаж спадала, Negara опять покупал и срывал солидный куш.
Особенно хорошо задокументирована атака на фунт стерлингов в 1990 году. Всего за несколько минут финансовые воины Махатхира выбросили на рынок миллиард фунтов, тем самым обесценив фунт на 4 цента США. Британские банки запротестовали и сформировали картель для защиты от будущих атак, однако Negara мог полагаться на то, что другие страны охотно его поддержат. Вовремя добытая информация о той или иной операции Negara ценилась на вес золота. «Попытайся они провернуть такое на любой организованной бирже мира, сели бы в тюрьму», — так прокомментировал эту манипуляцию рынком при попустительстве правительства один из главных чиновников Феда.
Однако на глобальном межбанковском рынке иностранной валюты государства с их механизмами правового принуждения бессильны. Вместо них деятельность Negara в итоге пресекли еще более дерзкие частные подражатели. Когда рухнула Европейская валютная система, Джафар допустил ошибку в анализе ситуации. Захваченный врасплох быстрым выходом британцев из ЕВС, Negara в течение 1992 и 1993 годов потерял почти 6 млрд долл. Джафар, на котором лежала ответственность за то, что лидеры оппозиции назвали «крупнейшим финансовым скандалом в истории Малайзии», лишился работы. Его преемник уже не шел на риски такого рода.
Спекулятивные операции банка Negara подтверждают, насколько взаимосвязанный мир денег уязвим для напряженности, которую сам же и создает. Благодаря взрывоподобному росту рынков страна, вроде Малайзии, сегодня, наверняка, была бы слишком мала, чтобы угрожать стабильности системы. Но «доллвый вулкан», по выражению Ханкеля, извергает все больше «зеленых», увеличивая тем самым количество американской валюты, циркулирующей вне Америки. Эмиссионные банки Азии уже контролируют едва ли не половину мировых резервов твердой валюты: один только Китай, как, впрочем, и крохотный Тайвань, накопил в резерве свыше 70 млрд долл., а уж Япония обогнала их более чем в два раза. В 1995 году «Экономист» предостерегающе заметил, что на фоне нарастающих разногласий между Соединенными Штатами и их азиатскими торговыми партнерами подобные цифры дают «великолепный материал для финансового триллера»[163].
Пока что представляется маловероятным, что антиамерикански настроенные государства Азии прибегнут к массированным продажам, чтобы подорвать доллар, а стало быть, и мировую финансовую систему. Эти страны по-прежнему зависят от рынка Соединенных Штатов, а в ряде случаев и от их военной защиты. Но вовсе необязательно, что так будет всегда. Динамика роста уже смещает баланс сил в направлении Азии.
На другом же конце света, в Европе, стремление избавиться от господства доллара все больше напоминает кое-как сварганенную мыльную оперу без хэппи-энда. Правительства двух крупнейших стран ЕС Германии и Франции сражаются за введение общеевропейской валюты. Но этим «великим почином», по выражению Гельмута Коля, они развязали борьбу за власть между рынком и государством, которая еще долго будет держать Европу в состоянии мучительной неизвестности.
Авантюра с евро: борьба за валютный союз
11 декабря 1991 года маленький голландский городок Маастрихт обеспечил себе место в истории. В ту среду вечером главы правительств двенадцати стран тогдашнего Европейского экономического сообщества поставили свои подписи под договором, который в предстоящие десятилетия решающим образом повлияет на ход истории Европы, — договором о формировании Европейского Союза и создании единой валюты для его государств-членов. Само по себе это реформирование мало что меняло в политических и административных механизмах западноевропейской конфедерации. Но вот соглашение о будущем валютном союзе (EMU) свидетельствует о воле к руководству, которая современным демократиям в целом не присуща. Начиная с 1999 года, гласит договор, ратифицированный с момента его заключения всеми парламентами, большинство стран — членов ЕС привяжет свои валюты друг к другу необратимыми паритетами. Двумя годами позже старые названия европейских валют должны быть упразднены и заменены единой действующей валютой Союза под названием «евро». Если все пойдет по плану, то на 1 января 2002 года все активы, доходы, платежи и налоги будут исчисляться в евро, стоимость которого будет соответствовать перерасчетным курсам, применяемым на рынке с 1999 года.
Последствия этого шага трудно переоценить. Для стран, принявших евро, многие серьезные недостатки нынешнего валютного разделения останутся позади. Перестанет существовать надбавка за малый размер рынков равно как и банковские расходы на валютные переводы. Самое же главное то, что вся торговля между странами освободится от дорогостоящего риска внезапных колебаний обменных курсов и можно будет напрямую сравнивать цены на всем пространстве единого рынка. В то же время, однако, страны Союза примут на себя огромный политический риск. У них уже не будет независимых эмиссионных банков, чей былой суверенитет отойдет в прошлое, став достоянием Европейского центрального банка. Это свяжет страны-члены ЕС друг с другом гораздо прочнее, чем прежде. Ни один член валютного союза не сможет воспользоваться аварийным тормозом девальвации, если его экспортная экономика перестанет поспевать за остальными. И ему уже не удастся избежать согласования своей финансовой, налоговой и социальной политики с другими государствами-членами. Если этот валютный план действительно сработает, то вопросом жизни и смерти станет создание подлинного политического союза, способного принимать быстрые и вместе с тем демократичные решения.
С тех пор как был подписан Маастрихтский договор, прошло уже пять лет, однако публичное обсуждение этого наиболее амбициозного политического проекта в истории Европы со всеми его далеко идущими последствиями и по сей день проводится на весьма скромном уровне. Одни считают, что EMU создаст условия, при которых «война никогда больше не будет исходить с немецкой земли» (Гельмут Коль), другие полагают, что из-за него «Европа вновь движется к расколу» (бывший министр иностранных дел Великобритании Дуглас Хэрд), а для третьих он служит козлом отпущения как «угроза рабочим местам в Германии» (эту точку зрения во время избирательной кампании в земле Баден-Вюртемберг в марте 1996 года высказал кандидат от социал-демократов Дитер Шпери).
18 января 1996 года во Франкфурте, посреди тумана из пропаганды и дезинформации, окружавшего дебаты по EMU, прозвучала ясная мысль. Европейский финансовый фонд, банковское лобби, организовал дискуссию с участием министра финансов Франции Жана Артюи, на которую были приглашены все высокопоставленные лица из финансовой сферы. Сначала Артюи представил ряд технических предложений и обсудил несколько задач в связи с обменными курсами и сценариев перехода. Затем, когда разговор стал менее формальным, он обрисовал истинную цель EMU. Если план удастся, сказал Артюи, то евро, быть может, дорастет до положения «основной резервной валюты мира», поддерживаемой крупнейшим в мире внутренним рынком с населением примерно в 400 миллионов. На этой основе Европа могла бы подтянуться до уровня Соединенных Штатов. EMU, заявил Артюи, призван не только управлять обменными курсами, но и быть «инструментом внешней политики» поважнее всякого рода импортных пошлин[164].
Присутствовавшие на встрече представители крупного капитала реагировали на слова министра с некоторым замешательством. Несмотря на долларовый кризис и крах ЕВС, германские финансисты и экономисты считают прогнозируемое Артюи государственное вмешательство в свободную игру рыночных сил не чем иным, как святотатством. И все же сутью борьбы за валютный союз является именно восстановление власти государства над финансовыми рынками. EMU, как говорят парижские политики, опасливо прикрывая рот ладонью, означает прекращение «тирании доллара».
Даже если этот день когда-нибудь настанет, европейцам придется заплатить высокую и мучительную цену, ибо рынок нельзя подчинить себе, предварительно не успокоив его. Ничего другого за так называемыми Маастрихтскими критериями, надиктованными представителями Bundesbank при составлении текста договора во время переговорного процесса, не кроется. Вступить в клуб EMU будет позволено только тем странам, государственный долг которых не превышает 60% их годового чистого национального продукта, а годовой дефицит — 3% ВНП. К тому же валюты стран-участниц должны иметь устойчивый курс обмена на марку не менее трех лет до даты вступления. Конкретные курсы выбраны волюнтаристски: они просто соответствуют уровням, которые в ходе переговоров прогнозировались на 1999 год. Но с точки зрения стражей германской валюты, это был единственный способ убедить дилеров в том, что после введения евро будет так же надежен, как и марка, и что по этой причине спекулятивные атаки не будут иметь смысла.
Насколько убедительной эта идея была в теории, настолько же быстро она начала обнаруживать изъяны на практике. Через четыре года после заключения договора она становится своего рода смирительной рубашкой, приносящей больше вреда, чем пользы. Сначала Франция в 1994 году была вынуждена скопировать валютную политику Германии: был учрежден независимый центральный банк, управляющий которого, Жан-Клод Трише, с тех пор с железной решимостью проводит политику «franc fort», «сильного франка». На протяжении четырех лет французским компаниям и частным заемщикам приходилось платить по ставке, на 3% большей, чем немецким, только для того, чтобы защищать валютный курс от непрерывных волн спекуляции, пока наконец летом 1996 года процентные ставки этих двух стран не сравнялись. В тот же период все государства ЕС начали процесс уменьшения своих бюджетных дефицитов. Если бы их доходы при этом росли, процесс был бы достаточно здоровым. Но после короткого периода относительного благоденствия страны ЕС с 1993 года переживают экономический спад, резко снизились налоговые поступления, и даже Германия в 1995 году не смогла удовлетворить критериям EMU.
Между тем курс на жесткую экономию вступает в противоречие с любой разумной экономической политикой. Когда мелкие фирмы и крупные корпорации увольняют миллионы работников для сокращения расходов, возникает настоятельная необходимость государственных капиталовложений и создания новых рабочих мест. Именно поэтому во Франции меры по обеспечению жесткой экономии, еще более усугубившие кризис, полностью дискредитировали проект EMU. Осенью 1995 года, впервые за несколько десятилетий, французские профсоюзы совместно организовали месячную забастовку против правительственной политики крайней экономии. Эта акция протеста отрезвила даже таких промышленных магнатов, как владелец Peugeot Жак Кальве, и экс-президента Валери Жискара д'Эстена, которого никак не заподозришь в еврофобии: они призвали внести изменения в Маастрихтский план. В Германии тоже нарастало противодействие. Присоединяясь к мнению большинства своих коллег, Гейнер Флассбек, директор одного из филиалов Германского института экономических исследований, предупредил, что радикальное сокращение расходов на социальные нужды может дестабилизировать обстановку во всей Европе точно так же, как аналогичные действия рейхсканцлера Генриха Брюнинга превратили кризис 1930 года в Веймарской республике в настоящую катастрофу[165].
Таким образом, летом 1996 года все говорило за то, чтобы отложить валютный союз до лучших времен — как минимум еще на пару лет. Однако пойти на это регенты ЕС, возглавляемые европровидцем Гельмутом Колем, уже не могли. Это было бы как раз тем, чего долгие годы с нетерпением ожидали все, кто борется с EMU, защищая собственные интересы, а именно касты дилеров лондонского Сити и Уолл-стрит. Например, Майкл Сноу, глава нью-йоркского отделения валютных операций гигантского швейцарского банка UBS, не скрывает своей враждебности по отношению к EMU: «Он лишил бы нас работы и шансов на получение прибыли, так что мы, естественно, против него». Начиная с лета 1995 года англоамериканские и швейцарские финансовые учреждения систематически пытаются вселить неуверенность в инвесторов, беззастенчиво предупреждая их в рекламных проспектах и беседах о возможном падении стоимости облигаций в немецких марках и всучивая множеству клиентов ценные бумаги в швейцарских франках, не приносящие почти никаких дивидендов. Увеличение ущерба предотвратили только крупные финансовые дома Германии и Франции. Они поддержали проект евро, так как единая валюта положила бы конец локальным рынкам, которые с давних пор являются излюбленным полем деятельности массы мелких банков в других странах ЕС.
В этой борьбе за власть враги евро, сидящие в торговых залах, ставят на влиятельных союзников. Так, например, в Лондоне правительство и Сити, район банков вокруг Ломбард-стрит, образуют единый фронт. Британские министры и чиновники, которые традиционно не делают того, что делают другие, но в то же время не хотят остаться в стороне, за кулисами «идут на все, чтобы провалить проект» (по словам высокопоставленного германского политика, специализирующегося на валютно-финансовых вопросах и пожелавшего остаться неизвестным). Еще большее влияние на настроение участников электронного рынка оказывает поддержка врагов евро главой Bundesbank Титмейером, видящим в единой валюте угрозу независимости центрального банка Германии, святого Грааля его монетаристской веры. В марте 1996 года на европейском симпозиуме в Бонне, организованном министерством иностранных дел, он заверил финансовый мир, что в EMU «нет абсолютно никакой экономической необходимости».
При валютной системе, которой постоянно угрожает опасность изменения в ту или иную сторону под давлением спекуляции, Европейский Союз не может двигаться ни взад, ни вперед. Любое изменение Маастрихтского плана, полагает Ганс Юрген Кобник, член центрального банковского совета Bundesbank, «повлекло бы безжалостное наказание со стороны рынков»[166]. «Крупные фонды, очевидно, уже выстроились у линии старта, готовые, как можно скорее, сделать выводы из того или иного изменения ситуации», — сообщила осведомленная «Франкфуртер альгемайне цайтунг» в январе 1996 года. Возможное развитие событий представляется Полу Хэммету, лондонскому эксперту по рынку капиталов при Banque Parisbas, «довольно простым». Если введение единой валюты будет отложено, «то начнет действовать План Б: покупайте немецкие марки». Так экономический императив, а именно отсрочка урезания затрат на общественные нужды, превращается электронными денежными машинами финансового мира в свою противоположность. Тогда можно будет ожидать курса 1,35 марки за доллар, говорит Хэммет. И опять-таки Германия, локомотив европейской экономики, будет наказана ревальвацией, которая обойдется ей еще примерно в миллион рабочих мест.
Потому-то Колю и его партнеру Шираку и не остается ничего другого, как держаться за свой проект евро. Весной 1998 года будет решено, кто присоединится к валютному союзу в 1999 году; все-де идет в соответствии с планом договора. Разумеется, подобные заверения, звучавшие из Бонна, Брюсселя и Парижа в первой половине 1996 года чуть ли не еженедельно, едва ли представляют собой что-то большее чем напускная бравада. По мере приближения решающей даты становится все более очевидным, что ни одна страна ЕС, кроме Люксембурга, не удовлетворит критериям вступления. Если же европ-ланировщики все-таки зафиксируют в 1999 году курсы валют, то повторения драмы ЕВС 1992 года, причем в большем масштабе, не избежать. «Рыночные игроки будут испытывать это решение на прочность», — предсказал один франкфуртский банкир. «Если достаточно большое число людей с достаточно большими деньгами начнут думать, что EMU не состоится, — писал лондонский «Экономист», — они почти наверняка окажутся правы. Их прогноз сбудется сам собой»[167].
Налоги помогают маневрировать: налог Тобина
Из всего вышесказанного нетрудно сделать вывод, что правительства стран ЕС, затеяв безответственную игру с огнем, сознательно рискуют потерпеть еще одно сокрушительное поражение от рук торговцев валютой и клиентов их инвестиционных фондов. Если их валютный проект провалится, в проигрыше окажется не только европейская экономика. Вера в программу европейской интеграции будет утрачена очень надолго, и старый континент лишится более всего необходимой его нациям в эпоху глобализации способности к совместным действиям. Очевидно, что это путешествие в евротупик свидетельствует о поразительном невежестве ответственных за него политиков равно как и их контролеров в парламентах; их бессилие перед лицом финансовых рынков — это их собственный выбор. А ведь они могли бы обуздать разрушительную силу электронной армии дилеров, даже не возвращаясь к ушедшей в прошлое Бреттон-Вудсовской системе.
Соответствующий план был разработан американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии Джеймсом Тоби-ном в 1970-е годы. Уже тогда дерегулированный поток капитала с его внезапными изменениями направления и хаотическими колебаниями курсов валют причинял вред материальной экономике. Тобин предложил «подсыпать песку в механизмы чересчур эффективных международных финансовых рынков» и взимать со всех сделок с иностранной валютой налог в 1 процент[168]. Эта цифра может показаться малой, но она имела бы решающее значение. Прежде всего, игра на разнице процентных ставок между странами и рынками имела бы смысл лишь в исключительных случаях. Тогда для того, например, чтобы поменять низкодоходное капиталовложение в немецких марках на более выгодные долларовые ценные бумаги, пришлось бы принимать в расчет выплату налоговым органам издержек в размере 2% за конверсию марок в доллары и обратно. При трехмесячных инвестициях, которые в настоящее время являются совершенно обычным делом, это окупилось бы только в том невероятном случае, если бы разница (в пересчете на год) между ставками процента в Германии и США равнялась 8 процентам. Если бы инвестор захотел оставить деньги на более долгий срок, это, конечно, принесло бы бальшую прибыль, но было бы сопряжено с более высоким риском того, что разница процента, а следовательно, и цена инвестиции за это время уменьшатся.
Преимущество плана Тобина для реальной экономики достаточно очевидно. Сразу же по его принятии центральные банки снова оказались бы в состоянии управлять процентной ставкой на своем национальном рынке способом, соответствующим экономической ситуации в стране. Например, в случае спада в Европе при одновременном буме в Соединенных Штатах европейцы могли бы давать деньги взаймы на целых 8% дешевле, чем Фед.
Конечно, «налог Тобина», названный так по имени изобретателя, не позволил бы правительствам устанавливать обменные курсы по своему усмотрению. Но это было бы и неразумно. Если экономики развиваются по-разному, их валютные паритеты также должны иметь возможность меняться. Тем не менее масштаб спекуляций уменьшился бы радикально, и изменение обменных курсов больше соответствовало бы реальным или, на профессиональном жаргоне, «фундаментальным» экономическим данным. В то же время центральные банки вновь смогли бы выполнять свою изначальную функцию — стабилизировать курсы валют. Их интервенционные покупки, освобожденные от налогообложения, снова имели бы вес, поскольку внутри системы перемещалось бы гораздо меньше ликвидного капитала.
Не последним аргументом в пользу налога Тобина на сделки с валютой являются дополнительные поступления в государственную казну. Эксперты подсчитали, что, даже если бы данный налог сократил оборот на две трети, прибыль от его введения в целом по миру составила бы от 150 до 720 млрд. долларов[169]. Облегчение почувствовали бы не только перенапряженные бюджеты; это был бы «налог на Уолл-стрит и, в виде исключения, не на Мэйн-стрит[170]», пишет профессор экономики Бременского университета Йорг Хуфшмид[171]. Имело бы место хотя бы частичное уменьшение сумм, укрываемых от налогообложения финансовой индустрией.
За долгие годы не было выдвинуто ни одного теоретического или политического довода против предложения Тобина, который стоило бы принимать всерьез. Действительно, оно «теоретически безупречно», считает Ганс-Гельмут Котц, главный экономист Girozentrale, центрального сберегательного учреждения Германии. Но в этой простой схеме есть один очевидный изъян: те, чьим интересам она угрожает, решительно настроены против нее и, как и в случае с обычными налогами, стравливают народы мира друг с другом. Котц: «Нью-Йорк и Лондон всегда будут этому препятствовать»[172]. Если бы остался хоть один крупный финансовый центр, свободный от этого налога, торговцы валютой слетелись бы туда как мухи на мед. И даже если бы все страны «большой семерки» ввели у себя налог Тобина, ничто не помешало бы финансовому сектору формально переместить свой бизнес в офшорные филиалы от Каймановых островов до Сингапура и тем самым свести на нет предполагаемый ограничительный эффект. Поэтому такой налог на валютные операции «запрограммирован на провал», радостно предсказывает один экономист из Deutsche Bank[173]. Один его американский коллега угрожающе расставил все точки над «и». Если государство начнет вмешиваться в торговлю, сказал он, «мы перенесем наши штаб-квартиры на корабли, плавающие посреди океана»[174].
До сих пор правительства повсюду пасовали перед этой логикой. Законопроект о введении налога Тобина был уже дважды провален в Конгрессе США. Министерство финансов Германии, измученное миллиардными дырами в бюджете, тоже безропотно глотает угрозы финансовых дилеров. Оправдывая отсутствие фискальной борьбы со спекулянтами, министр иностранных дел Юрген Штарк говорит, что предложение Тобина «сегодня уже неприменимо». Оно сработало бы только в том случае, «если бы его приняли все 190 государств мира»[175]. Та или иная разумная схема, призванная «ограничить экономически вредную неуравновешенность валютных рынков, будет похоронена не потому, что она технически невозможна, а только из-за того, что она противоречит интересам банковского сектора», подводит итог Хуфшмид.
Впрочем, даже такой налог на сделки не приведет к обузданию непокорной финансовой индустрии до тех пор, пока государства конкурируют друг с другом за рабочие места и капитал. Но это не означает, что отдельные страны и тем более Европейский Союз должны сидеть сложа руки. Сам Тобин в новом исследовании, опубликованном летом 1995 года, советует им действовать своими силами[176], для чего им пришлось бы сделать лишь еще один шаг — взимать дополнительный налог с займов в своей валюте, предоставляемых зарубежным учреждениям, включая иностранные отделения местных банков. Уклониться от этого налога было бы невозможно. Те, кто хочет спекулировать против франка, должны сперва купить франки. Даже если бы они заказали их в каком-нибудь банке Нью-Йорка или Сингапура, тому все равно пришлось бы рефинансировать себя из банков Франции, которые, в свою очередь, имели бы право облагать своих клиентов дополнительным налогом.
Данный налог подавил бы нежелательную спекуляцию, что называется, в зародыше там, где делаются займы для финансирования издержек. На практике свобода перемещения капитала была бы таким образом отменена посредством косвенного налогообложения. Однако торговлю и реальную экономику это бы не затронуло. Налог едва ли хоть как-то отразился бы на иностранных инвестициях в промышленные и торговые предприятия, но, наверняка, подействовал бы на спекулятивные сделки объемом в миллиарды долл., рассчитанные на минимальные маржи и способные приносить прибыль при изменениях обменных курсов на сотые доли процента.
Есть некая ирония в том, что Маастрихтский договор недвусмысленно предусматривает восстановление в случае необходимости контроля за перемещением капитала, а банкиры, апологеты свободного рынка, видят в такой стратегии злостную ересь. В своей борьбе за дело капитала они давно уже могут полагаться на большинство редакторов экономических разделов крупнейших газет и журналов. Так, «Франкфуртер альгемайне цайтунг», проявив недюжинную фантазию, однажды написала, что налог Тобина привел бы к «государству оруэлловского типа[177], осуществляющему всемирный надзор»[178].
И все же критиков неконтролируемого денежного рынка, в том числе среди представителей политической элиты, становится все больше. Вот уже много лет серьезные политики, среди которых министры финансов Канады, Японии и Франции и руководители центральных банков Юго-Восточной Азии и Нидерландов, предлагают способы обуздания денежных рынков. Наиболее резкое на сегодняшний день заявление сделал бывший президент Европейской Комиссии Жак Делор. После краха ЕВС летом 1993 года он, выступая на заседании Евро-парламента в Страсбурге, потребовал принять «меры по ограничению спекулятивных перемещений капитала». Европа, сказал он, должна «быть в состоянии себя защитить. Даже банкирам нельзя позволять делать все, что им вздумается. Почему бы нам не ввести кое-какие правила? Почему бы Сообществу не выступить с соответствующей инициативой?»[179]. Те, с чьими интересами предложение Делора шло вразрез, не замедлили выразить резкий протест. «Куда же мы идем, если человек, который ввел единый рынок, теперь призывает к контролю?» — негодующе осведомился Гильмар Коппер из Deutsche Bank. Он наряду с главами банков Dresdner и Commerz сетовал на «демонизацию спекуляции» и настаивал на том, что не нужно ничего, кроме правильной финансовой политики[180].
Выступить против этих сил давно уже не отваживалось ни одно правительство. Всех, кто ратовал за реформы, быстро поставили на место. Тем не менее дни глобальной финансовой анархии сочтены; рано или поздно не останется иного выбора, кроме как вновь установить жесткий государственный контроль над рынками капиталов. Ибо полностью совладать с хаотической динамикой финансового мира не под силу даже его действующим лицам. Риск, накапливающийся в среде их обитания — киберпространстве миллионов взаимосвязанных компьютеров, можно сравнить с риском, заложенным в атомной технологии.
Деривативы: крах ниоткуда
Никто не предполагал, что это надвигается; к этому не был готов ни один дилер или управляющий фондом. Весной 1994 года состояние экономики США не вызывало опасений. Компании вкладывали деньги, потребление росло, и американцы строили больше домов, чем когда-либо прежде. Для предотвращения «перегревов» конъюнктуры и рыночных страхов перед инфляцией Комитет по рынку Федерального резервного банка Нью-Йорка под председательством все того же Алана Гринспена на второй неделе февраля дал предупредительный сигнал, подняв довольно низкую процентную ставку для американских банков на четверть процента. Но то, что было задумано как легкий толчок, свидетельствующий об озабоченности центрального банка, было воспринято дилерами как удар по тормозам мировой экономики. Изо дня в день продолжалось беспрецедентное бегство от государственных облигаций. Длившееся в течение трех долгих месяцев падение цен на рынке сопровождалось резким ростом процентных ставок не на 0,25%, как планировал Фед, а в восемь раз выше. Кратко- и среднесрочные кредиты в долларах подорожали на 2%. Падающие цены и растущие процентные ставки вскоре ударили и по европейским странам, и «мини-крах» на рынке капиталов (пользуясь жаргоном дилеров) поверг в спад весь континент. Центральные банки привыкли «управлять валютной политикой как старым "фордом"», прокомментировал неожиданный кризис финансовый эксперт и специалист по нью-йоркским банкам Грегори Миллмен, но на этот раз рынок отреагировал как гоночная машина, «пассажиры которой вылетели наружу через ветровое стекло»[181].
Больше всех пострадали те, кто в свое время передал в обеспечение инвестиций с высокой степенью риска казначейские долгосрочные облигации США, поскольку те больше не обеспечивали достаточных гарантий. Кредиторы начали разрывать договора. Одним из тысяч новоявленных банкротов стал Ориндж-Каунти, богатейший калифорнийский округ к югу от Лос-Анджелеса, бывший до той поры одной из доходнейших публичных корпораций. Его прежде весьма обильная казна недосчиталась почти 3 млрд долл. Финансовая индустрия и ее клиенты теряли деньги по всему миру; падение стоимости долгосрочных инвестиций в мировом масштабе принесло им крупнейшие годовые потери со времен второй мировой войны. Чуть ли не в одно мгновение бесследно исчезло свыше 3 триллионов долларов[182]. Самое же поразительное было то, что никто не знал, почему это произошло.
Группа экономистов из нью-йоркской штаб-квартиры Феда на Либерти-стрит начала отслеживать пропавшие миллиарды. Беседы с различными дилерами привели их к удивительному заключению: ключом к разгадке паники на рынке облигаций является торговля закладными[183].
В Соединенных Штатах в отличие от Германии заемщики по закладной могут погашать свой заем в любое время, если рыночная процентная ставка становится ниже указанной в их ипотечном договоре. Эмитенты соответствующих долговых обязательств (аналогичных немецким ипотечным документам) страхуют себя от риска понижения рыночных ставок покупкой опционов на ценные бумаги с фиксированным доходом, то есть с возможностью их покупки в течение определенного времени. Если ставка процента падает и домовладельцы получают деньги по закладным, растущая цена этих опционов компенсирует им потерю дохода. В годы падающих процентных ставок бизнес такого рода разросся до громадных размеров. Ипотечные сертификаты стали просто краткосрочными инвестициями, и кредиторы соответственно страховали себя только краткосрочными опционами.
Стоило же Феду просигналить об изменении процентных ставок, и рынок потерял равновесие. Менеджеры гигантского американского рынка закладных внезапно начали массовую скупку долгосрочных государственных облигаций, подлежащих погашению через пять или более лет. Ни Фед, ни банки не были к этому готовы, поскольку в то время о связи между торговлей закладными и облигациями было известно очень мало. Теперь из этого сектора рынка исходил импульс к продаже, что быстро привело к снижению цен. На экранах компьютеров всех прочих игроков часами светился злосчастный сигнал «стоп-лосс»; теперь и они были вынуждены продавать. Почти из ничего возникла самоусиливающаяся положительная обратная связь в виде всемирной волны продаж. При этом прежде неприметная протока великой реки рынка капиталов вызвала самое настоящее половодье, а незначительная коррекция курса со стороны американского центрального банка привела чуть ли не к катастрофе.
Кризис рынка облигаций в 1994 году, как никогда прежде, высветил уязвимость финансовой индустрии перед событиями и цепными реакциями, которых нет ни в каких прогнозах. Эта ненадежность современных высокотехнологичных финансов решающим образом связана с торговлей деривативами. Новая свобода передвижения, дарованная капиталу в 80-е годы, лишь уничтожила границы между национальными рынками. Торговля деривативами в 90-х доводит этот процесс стирания границ до его кульминации. «Деривативы, — с явным облегчением сказал шеф Deutsche Bank Гильмар Коппер, — делают все рынки капиталов взаимозаменяемыми. Они превращают длинные кредитные линии в короткие, а короткие — в длинные. Они делают то, что раньше было для нас лишь мечтой»[184].
Или кошмарным сном. Теперь, как в системе сообщающихся сосудов, каждый элемент рынка так или иначе связан с остальными, но проследить истинные связи между ними с каждым днем становится все труднее. Вчерашний опыт может уже завтра оказаться ненужным. Дилеры уже даже не в состоянии рассчитать выгодность собственных сделок. Лишь для того чтобы быть в состоянии торговать своими «структурированными продуктами», финансовым жонглерам необходимы программы оценки стоимости и риска, которым они вынуждены слепо верить. В зависимости от качества эти программы приносят прибыли или убытки на миллиарды долл. Глава отдела деривативов одного немецкого частного банка сообщает, что сложных фьючерсов такого рода в его текущем портфеле несколько тысяч. Он с гордостью демонстрирует свою программу, способную в любой момент вывести на экран полную стоимость контрактов. В вычислительный процесс непрерывно поступают новые данные с десятков рынков. «Вот, — он проводит пальцем по сотне строк. — Я могу видеть, получаем ли мы фактически прибыль или нет. Каждый день, когда ставки процента остаются неизменными, мы теряем 49 000 марок. Падение же на одну сотую процента приносит нам 70 000».
Вместе с тем по-прежнему необходимо находить на рынке покупателя на все, что теоретически можно продать. И это не всегда удается. Чем сложнее становятся межрыночные связи и чем больше факторов, определяющих подъемы и спады, тем выше риск неожиданного хаотического изменения цен. Подобно тому, как опционы в руках ипотечных дельцов вызвали обвал на мировом рынке облигаций, завтра могут дать о себе знать другие взаимозависимости.
Непредсказуемость рынка деривативов уже привела к разорению множества «финансовых кудесников» и потере многими серьезными предприятиями сотен и тысяч миллионов долл. Список ее жертв охватывает среди прочих Франкфуртский металлургический комбинат (Frankfurter Metallgesellschaft), спасенный от банкротства только с помощью миллиардных субсидий, транснациональную корпорацию Procter & Gamble, крупный японский банк Daiwa и германские страховые компании Gothaer, Colonia и Hannoversche Rueckversicherungs AG. Наибольший ущерб такого рода на данный момент был причинен в феврале 1995 года англичанином Ником Лисоном, которому тогда было всего двадцать семь лет. Его провалившаяся спекуляция опционами на японский фондовый индекс Nikkei на Сингапурской фондовой бирже обошлась Barings Bank в 1,8 млрд марок и принудила это старейшее британское финансовое учреждение к банкротству. Это исключительное событие выставило на всеобщее обозрение обстоятельство, известное органам банковского надзора вот уже много лет: взрыв торговли деривативами не только увеличил риски в финансовом секторе, но и парализовал в нем системы безопасности, на построение которых потребовались десятилетия.
Мегакатастрофа в киберпространстве
В принципе к потерям отдельных дилеров и небольших банков надсмотрщики банковской системы могут относиться равнодушно. Другое дело, если несостоятельными становятся крупные банки и инвестиционные фирмы: тогда опасность угрожает системе в целом. Затруднительное положение одного такого учреждения может неожиданно сказаться на других и запустить эффект всемирного домино. «Далее риск выплеснется на фондовые биржи, оттуда — на обменные курсы, а значит, в реальный мир», — выразил обеспокоенность Хорст Келер, президент Немецкой ассоциации сберегательных банков, в начале 1994 года. Такое НПБ «вполне возможно»[185]. Торговля может внезапно прекратиться, вся система рухнуть, и тогда глобальный крах наподобие Черной пятницы 1929 года неизбежен.
Говоря о «наибольшем предполагаемом бедствии» (технический термин инженеров-атомщиков), Келер выбрал верное сравнение. Так называемые системные риски на денежных рынках вполне сопоставимы с теми, что принимаются в расчет на атомных электростанциях. Вероятность крупной аварии мала, но ущерб, который она может причинить, почти неограничен. Вот почему уже на протяжении многих лет органы надзора в банковском секторе ведущих индустриальных стран пытаются добиться принятия строгих правил. Начиная с 1992 года основное правило от Токио до Франкфурта таково, что каждый банк должен располагать собственным капиталом в размере как минимум 8% всех выданных кредитов. Если тот или иной крупный заем не возвращается, данный капитал должен быть использован для возмещения убытка. Однако торговля деривативами делает эту меру предосторожности абсурдной. Открытые торговые позиции, в которые открывают дилеры, обычно вообще не фигурируют в балансовых отчетах, а раз так, то финансовым домам остается самим решать, насколько высоко они оценивают риск.
Поскольку скандалы и чрезвычайные происшествия учащаются, многие надсмотрщики бьют тревогу. Например, незадолго до краха Barings Bank Артур Левитт, глава американской федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦББ), аллегорически предупредил, что уже «без пяти минут полночь»[186]. Вильгельм Нёллинг, который до 1992 года был президентом Гамбургского центрального земельного банка (Hamburger Landeszentralbank) и членом совета директоров Bundesbank, призвал принять в международном масштабе политические меры, «чтобы защитить финансовый мир от самого себя» и обеспечить надлежащую защиту от «мегакатастрофы в финансовой системе»[187]. Феликс Рохатин, нью-йоркский банкир и кандидат на должность вице-президента центрального банка США, признал, что «смертоносный потенциал, заложенный в сочетании новых финансовых инструментов и высокотехнологичных методов торговли, может способствовать началу разрушительной цепной реакции. Сегодня мировые финансовые рынки опаснее для стабильности, нежели атомное оружие»[188].
Аналогичное суждение высказал в апреле 1995 года Йохен Санио, вице-президент федерального управления по надзору за кредитными учреждениями Германии. История с Barings, по его мнению, это еще мелочь; настоящей головной болью стал бы крах одного из глобальных игроков. Банков калибра Goldman Sachs, Merrill Lynch или Citibank немного, но именно в их руках сосредоточена бóльшая часть торговли деривативами. Прогори один из них, и «вся сеть, чего доброго, внезапно подвергнется решающему испытанию». Поэтому необходимо создать всемирную сеть «регистрационных бюро», где фиксировались бы крупные сделки с деривативами, подобно тому как органы государственного надзора отслеживают крупные ссуды.
Только тогда можно было бы вовремя узнавать о том, что накопившиеся на рынке риски слишком высоки. Сам же Санио считает, что «давление на торговлю слишком велико»[189]. Даже финансовый гуру Джордж Сорос, один из величайших спекулянтов в динамичном финансовом бизнесе открытых границ, напоминает об осторожности. Финансовая система не подготовлена к крупным кризисам, заявил он в январе 1995 года, выступая перед трехтысячной аудиторией топ-менеджеров и ведущих политиков на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В чрезвычайных условиях угрожает крах[190].
Как ни странно, но, несмотря на все эти предупреждения, ничего (или почти ничего) не изменилось. Тема «регистрационных бюро» больше не является предметом обсуждения равно как и призыв к ужесточению законодательства. Вместо этого надзорные органы крупных финансовых центров, координируемые постоянной группой при Банке международных расчетов в Базеле, два года препирались с банковскими лоббистами из-за методов, по которым следует оценивать торговые риски. Это привело к принятию в декабре 1995 года ни к чему не обязывающих директив, позволяющих банкам оценивать риски самостоятельно. Их лишь вежливо просят по возможности, просто в порядке эксперимента, умножать результат на три и резервировать соответствующую сумму собственного капитала[191].
Данная рекомендация, которая, возможно, через три года будет узаконена, пока удерживает оппонентов от продолжения полемики, но и она, судя по всему, не сулит подлинной безопасности. Это косвенно признал Эдгар Майстер, возглавляющий в Bundesbank банковский совет по надзору. В январе 1996 года, всего лишь через шесть недель после того, как была принята базельская рекомендация, он прочел лекцию на заседании Европейского круглого стола по управлению с учетом риска в закрытом для посторонних конференц-центре в Таунус-Хиллз и указал собравшимся там экспертам по риску в финансовом секторе на десятки слабых мест в применяемых ими расчетных методиках. Многие модели, сказал он, содержат «упрощающие исключения», игнорируют «крайние отклонения курсов», неправомерно «экстраполируют прошлое на будущее» и «едва ли хоть как-то учитывают узкие места ликвидности, что видно в случаях с Metallgesellschaft и Barings»[192]. Другими словами, самоорганизованное управление с учетом риска отказывает именно тогда, когда оно совершенно необходимо при крупномасштабных и непредсказуемых движениях рынка. Это подтвердил Томас Фишер, который до лета 1995 года руководил торговлей деривативами в Deutsche Bank. «Когда никто уже не понимает, что происходит в данный момент, дело дрянь», — говорит этот опытный дилер. «Тогда все хотят продавать, и мало кто хочет знать» — в результате рынок становится неликвидным. «В таких ситуациях ни одна из моделей, используемых в вычислениях, уже не пригодна. Дилеры за три секунды достигают своего предела потерь, а дальше уже ничто не работает»[193].
Риск краха усиливается одним особенно щекотливым обстоятельством, которое обычно конфузливо замалчивается: высокотехнологичная архитектура электронного рынка вовсе не совершенна. При всем быстродействии на торговых столах и в операционных залах сделки заключаются вовсе не там. Обеспечение соответствия сделки действующему законодательству, перевод денежных сумм в счет платежа, переоформление уже заключенных сделок — все это делается в «периферийных офисах» сонмами помощников. Но их система в отличие от дилерской слишком медлительна для сектора, способного всего за несколько часов обанкротить весь мир.
Их главным инструментом является Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), сокращенно S.W.I.F.T. Эта организация управляет самой эффективной частной сетью телекоммуникаций в мире, к которой подключены более 5000 учреждений. С помощью нескольких десятков региональных узлов и двух суперкомпьютеров в засекреченных пунктах вблизи Амстердама и Вашингтона S.W.I.F.T. ежегодно обрабатывает свыше 500 миллионов платежных поручений по всему миру. Только здесь, пользуясь кодами на уровне военных стандартов, банки обмениваются между собой и клиентами соглашениями, имеющими юридическую силу. Лишь после двойного подтверждения S. W.I.F.T-сообщения имеет место реальная сделка в виде дебетов и кредитов между различными счетами, которые, как и в прошлом, проходят исключительно через сеть национальных расчетных учреждений, каковыми, например, в Германии являются центральные банки земель. Фактически кредиты в немецких марках никогда не покидают Федеративной Республики, а просто меняют владельцев на счетах зарегистрированных банков. Каждому, кто хочет произвести сделку в немецких марках, нужен банк (или отделение иностранного банка) в Германии. Однако из-за разницы в поясном времени даже на простую валютную операцию уходит два, а то и три дня. Поэтому во времена кризисов управляющие банков слишком поздно узнают, действительно ли они располагают вырученными суммами.
Еще сложнее процесс взаиморасчетов в международной торговле ценными бумагами. Это бизнес Euroclear, уникальной организации со штаб-квартирой в Брюсселе, на авеню Жакмен. За фасадом из стекла и гранита без какой-либо вывески скрывается один из наиболее чувствительных узлов мировой финансовой системы. Только десять из 950 служащих имеют доступ в хорошо охраняемый вычислительный центр, оборудованный генераторами и установленными на крыше огромными резервуарами, которые могут при необходимости автономно обеспечивать его электроэнергией и холодной водой. Кроме того, существует и функционирует точно такой же параллельный центр, местонахождение которого не разглашается. Он способен немедленно принять на себя все операции в случае поломки главного компьютера. Каждый день частная телекоммуникационная сеть, принадлежащая американской корпорации General Electric, передает поручения по 43 000 сделок компьютерам, которые принимают сообщения днем и обрабатывают их по ночам. При этом ни одна акция или облигация в Брюссель не поступает. То, чем управляет Euroclear, является системой систем, соединяющей воедино различные национальные организации по совершению сделок (в случае Германии — это Kassenverein с головным офисом в Дюссельдорфе, через которую проходит большинство немецких ценных бумаг). В одну сделку может быть легко вовлечено с десяток различных адресов: не только сами стороны, но и брокеры, национальные депозитарные центры и банки, на счетах которых должны регистрироваться соответствующие платежи. Таким образом, несмотря на оптимальное использование новейшей электроники и всемирной сети, вся процедура занимает до трех дней[194].
В чрезвычайных обстоятельствах из-за этой задержки может застопориться вся мировая финансовая система. Вполне возможна ситуация, когда дилеры вот уже долгое время торгуют в расчете на прибыль от предыдущей сделки, а на каком-нибудь другом участке потока данных стоимостью в миллиарды долл. уже произошел затор. Вот мнение Джеральда Корригана, главного международного советника инвестиционной компании Goldman Sachs и бывшего президента Федерального резервного банка Нью-Йорка: «Серьезная поломка в этой цепи способна остановить крупные составные части системы, вызвав устрашающий финансовый затор, при котором участники рынка решают, что безопаснее всего ничего не предпринимать: задержать платежи, потребовать дополнительное обеспечение у клиентов и больше не отдавать уже проданные ценные бумаги». Активы, которые могут быть заблокированы таким образом, стали слишком большими. Объем торговли и сопутствующие риски «растут гораздо быстрее, чем способность банковской системы с ними справляться»[195].
Подобные предостережения делают мегакатастрофу во вне-государственном киберпространстве международных финансов гораздо более вероятной, чем того хотелось бы многим действующим в нем лицам и их клиентам. Да, надзорные органы и эксперты по риску установили бесчисленное множество предохранительных устройств, вследствие чего большей части дилеров приходится держаться строго в установленных пределах. Почти всюду им можно работать только с теми партнерами, чья кредитоспособность уже проверена. Клиринговые центры вроде Euroclear держат наготове внутренние кредитные буферы и резервные фонды для преодоления всевозможных узких мест ликвидности. Но ни технология, ни внутренние проверки не могут дать экспертам по безопасности всемирной финансовой машины возможность предотвратить то, чего больше всего боятся управляющие другими высокотехнологичными системами, — человеческую ошибку. Отдельные случаи такого рода вряд ли имеют какое-либо значение; потери одного дилера оборачиваются прибылью для другого. Но в глобальной гонке за высокими прибылями ошибки заразительны. Когда известные дилеры из респектабельных банков и фондов рискуют по-крупному, быстро срабатывает стадный инстинкт. Жадность побеждает разум не в одном человеке, а в тысячах, и стратеги, хладнокровные и расчетливые в другой обстановке, могут сообща обойти любые правила безопасности.
Ничего другого и не крылось за «первым крупным кризисом нашего нового мира глобальных рынков», с которым в январе 1995 года боролись шеф МВФ Камдессю и правительство США. Когда мексиканское правительство сперва девальвировало песо и вскоре не смогло далее обслуживать свой долг, многие американские финансовые дельцы жаловались, что их ввели в заблуждение относительно истинной величины долл.ого дефицита Мексики и что правительство в Мехико слишком долго держало в секрете настоящие цифры; в противном случае они, мол, не закачали бы свои миллиарды в эту когда-то столь многообещающую развивающуюся страну. Подобные заявления, однако, в лучшем случае прикрывают коллективный самообман, иначе они просто лживы. На самом деле Moody's и другие рейтинговые агентства имели в своем распоряжении все данные и на протяжении всего 1994 года классифицировали инвестиции в мексиканские облигации как «очень рискованные». Но при этом даже управляющие крупнейших фондов не хотели верить сторожевым псам собственного сектора. «Просто прибыли были слишком сексуальны», — признался один из соблазнившихся дилеров. Даже по тезобонос (деноминированным в долларах государственным облигациям, защищенным от всякой девальвации) министерство финансов Мексики предлагало двузначный процент задолго до того, как разразился кризис, и тем самым привлекло в страну 14 млрд долл. американских инвесторов. Крупнейшим кредитором Мексики временно стал сам Fidelity Investment Group — самый большой взаимный фонд в мире, управляющий сбережениями миллионов американцев. Поэтому вполне естественно, что финансовый сектор США запаниковал, когда неплатежеспособность мексиканского правительства стала очевидной.
Частые прежде презрительные отзывы о государственном регулировании и инфляционных бюджетных дефицитах внезапно поутихли. Вместо этого представители всех рынков объясняли американским конгрессменам и директору МВФ, что эффект домино в мировом масштабе привел бы к развалу системы, и напоминали о тех миллиардах, которые Камдессю и министр финансов США Рубин в процессе своей неоднозначной авральной акции в итоге наскребли с налоговых поступлений.
Вместе с тем кризис песо обнаружил не только слабость правительств перед лицом не поддающейся контролю спекуляции, но и неспособность маркет-мейкеров справляться с их собственными слабостями. Анархистские, антигосударственные убеждения тех, кто направляет потоки капитала, неизменно превращаются в свою противоположность при необходимости преодоления катастроф, к которым эти убеждения приводят. Рынки действительно должны править, но как диктатура с ограниченной ответственностью. Во времена кризисов бремя их разрешения ложится на международное сообщество, но сколько еще мексик это сообщество в силах выдержать? Уже довольно давно на слуху сценарий еще одного краха. Для того чтобы поставить на ноги хиреющий финансовый сектор своей страны, Японский банк с начала 1995 года наводняет мир ссудами в иенах под почти нулевой процент, одаривая практичных инвесторов неслыханными барышами. Все это время фонды и банки по всему миру одалживали миллиарды дешевых иен, обменивали их на доллары и получали чистый доход в размере до 6%. На приобретение одних только американских правительственных облигаций из японских источников утекло 300 млрд долл. Но затем появились опасения, что это плохо кончится. Как же демонтировать этот денежный каток? Что будет, если японская экономика выздоровеет и центральный банк вновь повысит процентные ставки? Сейчас, в августе 1996 года, благодеяние в иенах все еще продолжается, процентные ставки в Японии остаются низкими. Но аналитики и управляющие центральных банков всего мира ломают голову над тем, не назревает ли на рынке облигаций второе после 1994 года землетрясение, только на сей раз с эпицентром не в Вашингтоне, а в Токио[196].
Еще одним поводом для беспокойства на рынках является ситуация в Бразилии. В июне 1996 года американский экономист Рюдигер Дорнбуш предупреждал, что там существует опасность чего-то, подобного мексиканскому кризису. Правительство этой страны тоже цепляется за нереалистичный курс своей валюты, реала, по отношению к доллару; завышенные процентные ставки притягивают на рынок слишком много иностранного спекулятивного капитала. Бразилия, съязвил Дорнбуш, «едет по встречной полосе, уповая на отсутствие встречного движения»[197].
Все это означает, что год от года растет вероятность того, что непослушная финансовая машина высвободит во всем мире волны кризиса, которые нельзя обуздать одной лишь верой в упорядочивающие силы рынка. Скоро может настать время, когда призывы о помощи к государству останутся без ответа.
Ибо Интернационал больших денег постоянно подрывает именно то, к чему он в отчаянии обращается во времена кризисов, а именно: способность национальных государств и их международных учреждений предпринимать эффективные действия. В этом отношении финансовый сектор не одинок. Тот же самый сук отпиливается второй группой самозваных правителей мира, действующих во имя глобализации, — командирами транснациональных корпораций во всех направлениях бизнеса. Когда в 1989 году произошел исторический перелом[198], они начали победный марш, который меняет мир быстрее и радикальнее всех когда-либо существовавших империй и политических движений. Но и эта победа имеет горький привкус. И радость триумфаторов продлится недолго.
Глава 4 Волчий закон. Кризис рабочих мест и новые транснационалы
Отмените налоги, поддержите свободную торговлю, и тогда наши рабочие во всех сферах производства будут низведены, как в Европе, до уровня крепостных и нищих.
Авраам Линкольн, шестнадцатый президент Соединенных Штатов Америки (1860–1865)В Дирборне, штат Мичиган, наиболее квалифицированные инженеры компании Ford Motors, второго по объему производства изготовителя автомобилей в мире, работают перед многочисленными экранами компьютеров. Они без труда демонстрируют симбиоз человека и машины. Разработчик шасси делает пометки электронным пером на чертежном поле своего рабочего стола. Быстрое касание здесь, линия там, и он видит на своем мониторе очертания новой модели «форда», которая, вероятно, вскоре будет привлекать внимание покупателей в выставочных залах по всему миру. Вдруг из неприметного громкоговорителя рядом с монитором раздается бесцветный анонимный голос: «Мне нравится, но что, если мы сделаем это вот так?». И эскиз автомобиля на экране меняется, словно по мановению некоей призрачной руки, становясь чуть закругленнее сверху и еще элегантнее по бокам.
Невидимый помощник сидит в Кёльне, в европейской штаб-квартире Ford. Одновременно или посменно сотрудники германского отделения работают со своими коллегами из Дирборна над одними и теми же проектами. Они соединяют воедино европейские, американские и японские идеи и визуальные образы. Повсюду установлены компьютеры Silicon Graphics: пять лабораторий на разных континентах образуют единое глобальное автомобильное конструкторское бюро, в котором все виртуальные испытания столкновением и аэродинамические расчеты для каждой модели должны проводиться совместно.
Проектирование с помощью видео- и компьютерной связи через океаны и часовые пояса часть самой радикальной реорганизации из всех, когда-либо проводившихся в корпорации Ford. С начала 1995 года региональные отделения больше не разрабатывают собственных моделей, и готовые проекты одного отделения больше не переделываются другим и не дорабатываются третьим. Вместо этого шеф Ford Алекс Троттмен приказал слить прежние региональные корпорации в две более крупные единицы, одна из которых должна была обслуживать рынок в Европе и Соединенных Штатах, а другая — в Азии и Латинской Америке. Внедрение новейшей компьютерной технологии, еще недавно казавшееся долгим и хлопотным занятием, теперь распахивает ворота перед всемирно интегрированной корпоративной машиной. При проектировании, закупках и сбыте Ford стремится избежать любого дублирования в работе путем перевода работы подразделений, включая наиболее отдаленные провинциальные филиалы, в режим он-лайн. Результатом являются «глобальные машины» — свидетельство того, что Ford опять устанавливает мировой стандарт наиболее эффективного производства автомобилей. Эти нововведения сокращают затраты на миллиарды долл. и, вероятно, делают ненужными несколько тысяч высококвалифицированных и высокооплачиваемых менеджеров, инженеров и продавцов. При создании последней продаваемой во всем мире модели, «мондео», конструкторам фирмы для завершения проекта потребовалось два месяца и двадцать международных рабочих совещаний. Что же касается новейшей модели, «тауруса», то понадобилось всего лишь пятнадцать рабочих дней и три контрольных заседания, прежде чем правление дало «зеленый свет» на запуск в производство, — скачок эффективности более чем на 100%[199].
«Революция на "Форде"» (определение «Экономист») произошла не под давлением финансового кризиса; в 1994 году, например, корпорация заработала прибыль в б млрд долл. Троттмен и его руководящие кадры просто используют возможности самой современной сетевой технологии, и все остальные последуют за ними, и не только в автомобилестроении.
Сектор за сектором, профессия за профессией, мир труда действительно революционизируется, и вряд ли кто-нибудь останется от этого в стороне. Политики и экономисты тщетно ищут замену рабочим местам «синих воротничков», ликвидируемым на верфях Vulkan, в авиационных ангарах Dasa или на сборочных линиях Volkswagen. Боязнь избыточности давно поселилась в офисах «белых воротничков» и распространяется на секторы экономики, прежде бывшие наиболее защищенными. Занятие на всю жизнь уступает место случайной работе, и люди, еще вчера полагавшие, что карьера им гарантирована, обнаруживают, что их квалификация превратилась вдруг в бесполезные знания.
Так, трудные времена ожидают почти миллион служащих банков и страховых компаний Германии. Коль скоро бизнес в мире финансов вступил в конкуренцию открытых границ, их персоналу предстоит будущее, полное невзгод, прежде выпадавших на долю только работников текстильной промышленности. Его первыми ласточками стали банкоматы и автоматизированные устройства, печатающие выписки со счетов. Сейчас американские и японские банки, страховые компании и инвестиционные фонды борются за вкладчиков и заемщиков на европейском и особенно германском рынках. Например, American Express с 1995 года предлагает жиросчета с более высоким процентом, чем сберегательные, без указания срока снятия денег. Клиенты могут круглосуточно делать любые распоряжения по телефону или через персональный компьютер, за несколько минут конвертировать сбережения в более доходные инвестиции и даже заказывать доставку наличных на дом. Fidelity Investments, крупнейший в мире фонд с головным офисом в Бостоне, штат Массачусетс, продает ценные бумаги по телефону по всему Европейскому Союзу из своего филиала в Люксембурге. Эта рыночная стратегия переворачивает традиционные структуры банковской индустрии с ног на голову. Густые сети филиалов, близость которых к клиентам ранее была преимуществом, стали чрезмерной роскошью и обузой с точки зрения конкурентоспособности. Все крупные финансовые учреждения Германии наряду с дочерними компаниями, такими как Bank 24 или Advance Bank, за которыми стоят Deutsche Bank и Vereinsbank, переходят на телекоммуникационный бизнес. За подготовительным периодом в ближайшие годы последует резкое сокращение числа отделений.
Из этого следует, что банковский персонал с высшим образованием, специальной подготовкой и соразмерно высокими окладами будет востребован все в меньших и меньших количествах. Традиционный образ дружелюбного, высокооплачиваемого банковского служащего, живущего рядом, уже по большей части отошел в прошлое. К примеру, в VB-Dialog, филиале баварского Vereinsbank, коллективный тарифный договор, согласованный с профсоюзами, больше не применяется. Вместо обычных 23–30 марок в час сотрудники получают всего 16, немногим больше дворников. Крупный мюнхенский банк экономит на выплачиваемых новым сотрудникам отпускных и деньгах к Рождеству и требует, чтобы персонал был готов работать в любое время дня и ночи, включая выходные, без добавочной платы. В аналогичной ситуации оказались высококвалифицированные эксперты, обслуживающие богатых и корпоративных клиентов, и те, кто жонглирует миллионами марок в электронном пространстве мирового финансового рынка. Уже пять крупнейших германских финансовых домов куплены инвестиционными банками Лондона, где и заключают большинство сделок с ведущими клиентами. Шансы немцев получить работу в Kleinwort Benson (Dresdner Bank) или Morgan Grenfell (Deutsche Bank), даже если они хотят перейти из германского в британское отделение своего банка, невелики. Тамошние работодатели предпочитают полагаться на британскую рабочую силу.
Американские финансовые профессионалы из Вашингтона и Нью-Йорка высмеивают то, что им в банковской системе Европы кажется устаревшим, неэффективным и, главное, нерентабельным. «Швейцарские банкиры, — поясняет один ведущий управляющий фондом на Уолл-стрит, — выросли в другом мире. Эти люди упустят свой шанс, если у нас инвесторы будут получать 30% годовых по сравнению с 2–3 процентами, предлагаемыми швейцарскими банками». Многие крупные американские спекулянты убеждены, что через несколько лет в их высокорискованные фонды потекут миллиарды от прежде осторожных немцев, швейцарцев и австрийцев. Один инсайдер описывает эту стратегию довольно выразительно: «Когда мы откроем высокодоходное отделение в Цюрихе на Банхофштрассе, швейцарские клиенты будут поначалу воротить нос и смотреть на нас с подозрением. Но когда их более смелый сосед прикатит на «порше», купленном после нескольких лет капиталовложений в наш филиал, положение быстро начнет меняться».
В результате наступят тяжелые времена. «Банки — это сталелитейная промышленность девяностых», — предрекает Уль-рих Картельери, член совета директоров Deutsche Bank[200]. Исследователи рынка из консалтинговой фирмы Coopers & Lybrand пришли к выводу, что это не преувеличение. В своем исследовании планов 50 ведущих банков мира они прогнозируют, что половина всех тех, кто в настоящее время занят в финансовом бизнесе, в течение следующих десяти лет лишится работы. Применительно к германскому финансовому сектору это означает потерю полумиллиона хорошо оплачиваемых рабочих мест[201].
Три индуса вместо одного швейцарца
То, что еще только начинается в банках и страховых компаниях, уже поглотило сектор, который, как считалось, был на подъеме, — индустрию программного обеспечения. Несмотря на то что свыше 30 000 молодых людей осенью 1996 года все еще изучали в немецких университетах компьютерные науки, представляется, что у большого числа подающих надежды экспертов по компьютерам будет мало шансов найти что-либо подходящее на рынке труда. Программисты калифорнийской Силиконовой долины уже узнали, как быстро могут обесцениться их знания. Десять лет назад главные плановики таких компаний, как Hewlett-Packard, Motorola и IBM, начали нанимать новых специалистов из Индии на пониженные ставки оплаты труда. Одно время они фрахтовали целые самолеты для доставки особо ценных временных работников. Они называли это «покупкой мозгов». Поначалу местные эксперты по программному обеспечению отназывались смириться с дешевой конкуренцией, и правительство их в этом поддерживало, выдавая визу только в исключительных случаях.
Но это мало помогло американским разработчикам программных продуктов. Многие фирмы, не мудрствуя лукаво, переместили свои основные мощности по обработке данных прямо в Индию. Ее правительство предоставило им за бесценок всю необходимую инфраструктуру — от просторных лабораторий с кондиционерами до спутниковой связи в десяти специально оборудованных зонах. За несколько лет «электронный город» Бангалор, административный центр с населением в несколько миллионов на плоскогорье Декан, добился всемирной славы. Siemens, Compaq, Texas Instruments, Toshiba, Microsoft и Lotus — словом, все глобальные игроки компьютерного сектора открыли там свои филиалы либо поручили проектные работы местным субподрядчикам. Всего в индустрии программного обеспечения этого субконтинента в настоящее время занято 120 000 выпускников университетов Мадраса, Нью-Дели и Бомбея, которые в 1995 году принесли своим компаниям свыше 1,2 млрд долл. прибыли, две трети которых были выручены от экспорта их услуг[202]. В то же время бум увеличил в четыре раза число автомобилей на улицах Бангалора, сделав тамошний воздух непригодным для дыхания, а массовая бедность, которую этот бум отнюдь не ликвидировал, тяготит. В результате город опять приходит в упадок: кузнецы программного обеспечения перебираются в другие места, с недавних пор отдавая предпочтение Пуне.
Через десять лет после начала безобидной на первый взгляд перевозки работников из Индии в Калифорнию ситуация в очагах возникновения компьютерной индустрии в Соединенных Штатах, Западной Европе и Японии уже совсем не та, что прежде. В Германии одни только три гиганта — IBM, Digital Equipment и Siemens-Nixdorf — по ряду причин, одной из которых является создание ими своих отделений в Бангалоре, сократили с 1991 года более 10 000 рабочих мест. Тем же самым специальным предложением на другом конце планеты воспользовались многие другие компании, которым приходится обрабатывать огромные массивы данных. Swissair, British Airways и Lufthansa передали большую часть своих заказов индийским субподрядчикам, a Deutsche Bank поручил своему отделению в Бангалоре разработку и сопровождение[203] компьютерных систем для использования в его зарубежных филиалах. Помимо того, индусы разработали логистику для контейнерных причалов в Бремерхафене и налоговые программы для гамбургской компании Intercope, создающей собственную телекоммуникационную сеть. Мотивы этой экспансии в Индию всегда одни и те же: тамошние работники получили хорошее образование в англоязычных университетах и при этом обходятся лишь в часть того, что получают их северные коллеги. Ганнес Крюммер, представитель Swissair, выдал хлесткую формулу электронного похода на Индию: «Мы можем нанять трех индусов по цене одного швейцарца». Известно, что перенос только части бухгалтерских операций Swissair привел к ликвидации в Цюрихе 120 рабочих мест и обеспечил экономию в 8 миллионов франков в год[204].
И это только начало. С 1990 года рынок подвергается давлению со стороны примерно миллиона высококвалифицированных компьютерщиков из России и Восточной Европы. Одна фирма в Минске уже выполняет через спутник трудоемкие работы по сопровождению для IBM Deutschland. Германская компания Software AG пользуется услугами программистов из Риги, a Debis, дочерняя фирма Daimler-Benz, заказывает программы в Санкт-Петербурге. «То, что предлагается там, даже лучше, чем в Индии», — говорит глава Debis Карл-Хайнц Ахингер. Рене Йоттен, эксперт Siemens по Индии, согласен с ним: издержки в Бангалоре уже слишком высоки, и «мы подумываем о том, чтобы вскоре перебраться куда-нибудь в другое место».
Тем временем у старательных и непритязательных программистов на Востоке и Юге появляется еще более дешевый конкурент, бороться с которым они не в силах, — их коллега-компьютер. Знатоки компьютерной индустрии, такие, как Карл Шмитц из Общества технологических консультаций и разработки систем, считают низкооплачиваемую работу на компьютере «преходящим явлением». Готовые модули программного обеспечения и новые языки программирования скоро сделают почти всю деятельность такого рода ненужной; машины будущего позволят одному программисту работать за сотню нынешних. Безжалостный прогноз для профессии, которая до недавних пор считалась одной из самых передовых[205]. Если Шмитц прав, то от сегодняшних 200 000 рабочих мест в германской индустрии программного обеспечения останется всего 2000. Пока еще у компьютерных экспертов есть основания надеяться, что спрос на них будет расти. Телефонные компании всего мира сосредоточивают усилия на создании высокопроизводительных сетей, информационные супермагистрали которых будут, в свою очередь, оптимизировать бизнес-процессы посредством мультимедийных приложений. Написание прикладных программ по-прежнему остается трудоемким занятием, и в 1995 году германские производители программных продуктов вновь увеличили штат своих сотрудников. Но надвигающийся Интернет-бум будет сопровождаться исчезновением множества других сервисных рабочих мест в киберпространст-ве. Архивариусы и библиотекари, сотрудники бюро путешествий, работники розничной торговли, персонал региональных газет и бюллетеней с объявлениями — все они станут ненужными. Когда у большинства семей будет персональный компьютер и модем, покупатели смогут в считанные минуты выбирать товары из всемирного ассортимента, даже не выходя из дома, большие секторы рынка труда просто перестанут существовать.
Миллионы, принесенные в жертву мировому рынку
Перемещение производства в более благоприятные зоны, упрощение его структуры, массовые увольнения — все это говорит о том, что высокопроизводительная и высокотехнологичная экономика оставляет обществу всеобщего благоденствия все меньше рабочих мест и делает его потребителей лишними людьми. Назревает экономическое и социальное потрясение неслыханных масштабов. Везде, где товары или услуги свободно продаются через границы, — в производстве автомобилей или компьютеров, химии или электронике, телекоммуникациях или почте, розничной торговле или финансах, — работников неотвратимо засасьшает трясина обесценивания труда и рационализации. Всего за три года, с 1991 по 1994, число рабочих мест в западногерманской промышленности сократилось более чем на миллион[206]. И это при том, что в Германии дела обстоят сравнительно неплохо. В других странах ОЭСР, организации 23 богатых индустриальных государств и 5 их более бедных соседей, число хорошо оплачиваемых рабочих мест сокращается еще быстрее[207]. Сейчас, в 1996 году, в странах ОЭСР безуспешно ищут работу уже свыше 40 миллионов человек. Во всех наиболее экономически развитых странах мира — от Соединенных Штатов до Австралии, от Великобритании до Японии — массовое процветание быстро исчезает. Ощущение, что времена изменились, возникает даже у тех, кто в силу своей профессии пишет об упадке, для кого плохие новости всегда «хорошие новости»: журналисты и документалисты, исследователи и главные редакторы также подвергаются сильному давлению мира титтитейнмента. Все меньшее число занятых в масс-медиа выдает все больше материалов все более быстрыми темпами. Молодые журналисты больше не могут и мечтать о постоянной работе с щедрой оплатой накладных расходов во флагманах печатных СМИ и общественного телевидения. То, что прежде было стандартной практикой в «Шпигеле» или «Штерне», на WDR[208] или Баварском радио, ныне является прерогативой сотрудников с большим стажем и немногих молодых звезд, тогда как тем, кто только начинает свою карьеру, приходится довольствоваться ненадежными контрактами с фиксированной ставкой или жалкой построчной оплатой. Даже книгоиздатели и солидные производители фильмов и видеопродукции прибегают к дешевому труду. Процветающие издательства нанимают новичков крайне неохотно: неизвестно, что еще случится в секторе, и так уже изрядно пострадавшем от роста цен на бумагу и ослабления читательского интереса.
Не за горами колоссальная избыточность и в тех секторах, которые еще недавно обещали своим сотрудникам работу до ухода на пенсию независимо от превратностей мировой экономики. Угроза массового снижения занятости существует не только в банковском и страховом деле, но и в телекоммуникациях, на авиалиниях и в сфере общественных услуг. Если в каждой отрасли равняться на эффективность мирового лидера и оценивать будущие потери рабочих мест в немецких или других европейских компаниях, исходя из этого критерия, то есть основания полагать, что по всей Европе скоро начнутся массовые увольнения. Германия и Европейский Союз представляют собой богатую добычу для голодных волков глобальной конкуренции.
Конца резкому сокращению рабочих мест не видно. Напротив, изучив обзоры, подготовленные Всемирным банком, ОЭСР и Глобальным институтом Маккинси (исследовательской группой лидера мирового рынка в сфере бизнес-консалтинга), а также многочисленные отчеты компаний и торгового сектора, авторы этой книги пришли к заключению, что в ближайшие годы еще 15 миллионам «белых» и «синих воротничков» стран Европейского Союза придется опасаться за свою работу на полную ставку. Это почти равняется числу безработных, зарегистрированных летом 1996 года.
В одной только Германии число уже находящихся под угрозой рабочих мест превышает 4 миллиона. Нынешний уровень безработицы, возможно, более чем удвоится, поднявшись в Германии от 9,7 до 21, а в Австрии от 7,3 до 18%. Вероятно также, что ситуация будет несколько иной: считается, что многие ликвидированные постоянные рабочие места будут заменены местами с неполным рабочим днем, временной работой по вызову и различными формами низкооплачиваемого найма. Тем не менее доходы в этом новом мире труда, в котором миллионы временных работников будут переводиться с одной краткосрочной работы на другую, станут заметно ниже, чем при нынешней тарифной системе. Общество 20:80 приближается.
Последствия этого ощущают даже те, кто еще не боится потерять работу. Неуверенность и страх перед будущим охватывают все большее число людей, социальная структура распадается. Однако те, кто несет за это ответственность, в большинстве своем ее за собой не признают. Правительства и советы директоров компаний притворяются беспомощными и заявляют о своей невиновности. Избирателям, рабочим и служащим говорят, что немыслимые до недавних пор массовые увольнения — результат неизбежных «структурных преобразований». Так, например, Мартин Бангеманн, отвечающий в Комиссии Европейского Союза за экономику, полагает, что при сохранении заработков на высоком уровне у массового производства в Западной Европе нет будущего: «Китай и Вьетнам уже наготове как конкуренты, чьи расходы по-зарплате низки настолько, что превзойти их в этом отношении вряд ли возможно»[209]. А газета менеджеров «Уолл-стрит джорнэл» отмечает, что «конкуренция в жестокой глобальной экономике создает глобальный рынок труда. Надежных рабочих мест больше нет»[210]. Те, кто выигрывает от экономики открытых границ, рады интерпретировать данный кризис как некий естественный процесс. «Конкуренция в глобальной деревне подобна приливу, избежать ее не может никто», — заявил в 1993 году тогдашний глава Daimler-Benz Эдвард Ройтер[211]. Спустя три года, ознаменовавшиеся ликвидацией в Германии миллиона рабочих мест, босс Siemens Генрих фон Пьерер повторяет это известие чуть ли не дословно: «Ветер конкуренции перешел в шторм, настоящий же ураган у нас еще впереди»[212]. Однако экономическая интеграция через границы не соответствует ни законам природы, ни технологическому прогрессу, не допускающему никакой альтернативы. Скорее, это результат политики правительств, сознательно проводившейся в индустриальных странах Запада на протяжении десятилетий и проводимой там и по сей день.
От Кейнса к Хайеку: борьба за свободу капитала
Путь к глобальной экономике начался еще тогда, когда Европе приходилось преодолевать последствия второй мировой войны. В 1948 году Соединенные Штаты и Западная Европа заключили Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), впервые установившее общий международный режим торговли между государствами-участниками. Пройдя в общей сложности через восемь раундов переговоров, зачастую длившихся по нескольку лет, члены ГАТТ постоянно снижали таможенные тарифы. Сегодня эти тарифы находятся на столь низком уровне, что вряд ли играют сколько-нибудь существенную роль в торговле между развитыми странами. С тех пор как в Женеве в начале 1994 года была основана Всемирная торговая организация (ВТО), преемница ГАТТ, правительства торгуются уже не из-за таможенных ограничений, а из-за таких барьеров на пути торговли, как, например, государственные монополии или технические стандарты.
Последствия увеличивающейся свободы торговли поразительны. В течение четырех десятилетий мировая торговля товарами и услугами росла быстрее, чем производство, и с 1985 года темп ее роста превышает тот же показатель для общего объема продукции в два раза. В 1995 году уже пятая часть зарегистрированных в мире товаров и услуг продавалась поверх границ[213].
Долгое время граждане индустриально развитых стран могли быть уверены, что экономическая интеграция способствует росту их благосостояния. Но в конце 1970-х эпохальный сдвиг в экономической политике Западной Европы и Соединенных Штатов начал усиленно продвигать мировую экономику в новое измерение. Со времен войны большинство индустриальных стран следовало принципам, разработанным британским экономистом Джоном Мэйнардом Кейнсом в ответ на экономическую катастрофу межвоенного периода. В своей теории Кейнс отвел государству роль главного финансового инвестора национальных экономик, из чего следовало, что бюджет можно использовать как средство интервенции, чтобы устранять любую тенденцию к недостаточному использованию ресурсов и дефляции. Предполагалось, что при экономическом спаде государственное инвестирование должно подстегивать спрос и тем самым предотвращать кризис роста, а при подъеме должно обеспечиваться погашение возникшего в предшествующий период государственного долга за счет увеличения налоговых поступлений и предотвращение инфляционного бума. Многие правительства, помимо того, поддерживали те отрасли промышленности, которые, согласно ожиданиям, должны были обеспечить быстрый рост и спрос на рабочую силу. Но имевшие место в 1973 и 1979 годах потрясения в связи с резким изменением цен на нефть изрядно пошатнули эту доктрину. Во многих случаях правительства больше не могли удерживать дефицит и инфляцию под контролем. Поддерживать фиксированные курсы валют было невозможно.
— — — — — — —
Массовая ликвидация: угроза потери рабочих мест в основных сферах обслуживания
Банки
Излишки сотрудников в стране и за рубежом в немецких и австрийских финансовых корпорациях, вычисленные по сравнению с производительностью крупного американского банка Citicorp в 1995 году (прибыль компании в расчете на 1 сотрудника = 68 769 долл. США).
Citicorp 85 300
Deutsche Bank 43 043 — 31 076
Dresdner Bank 20 217 — 26 673
Commerzbank 14 675 — 14 940
Bayr. Vereinsbank 14 213 — 7975 Bayr. Hypobank 13 238 — 5744
Bank Austria 7000 — 1953
CA-Bankverein 6310 — 1175
Если бы Deutsche Bank был столь же эффективен, как Citicorp, то в 1995 году для получения той же прибыли ему потребовалось бы на 31 076 служащих меньше фактического числа таковых.
Телекоммуникации
Излишки сотрудников в европейских телекоммуникационных компаниях, вычисленные по сравнению с производительностью американской телефонной компании Pacific Telesis в 1994 году (296 телефонных номеров на одного сотрудника).
Pacific Telesis/США 51 600
Deutsche Telecom 132 264 — 92 736
British Telecom 91 512 — 45 988
Telia/Швеция 20 150 — 12 443
PTT Austria 12 433 — 5607
Евросоюз (1995) 597 498 — 322 102
Авиакомпании
Излишки сотрудников в европейских авиакомпаниях, вычисленные по сравнению с производительностью американской компании United Airlines в 1995 году (2,2 миллиона пассажиро-километров на одного сотрудника).
United Airlines 81 160
Lufthansa 35 744 — 21 842
British Airways 42 432 — 10 628
Air France 22 386 — 14 937
SAS 8366— 10 344
Swissair 9017 — 7209
Austrian Airlines 2221 — 1641
AEA[214] 186 209 — 125 124
Страховые компании
Излишки сотрудников в европейских страховых компаниях, вычисленные по сравнению с производительностью французской компании Assekuranz в 1994 году (прямые совокупные страховые сборы в расчете на одного сотрудника = 902 504 долларам США).
Франция[215] 122 000
Германия 146 267 — 104 294
Великобритания 130 046 — 90 985
Швейцария 27 792 — 8718
Австрия 11 721 — 20 719
Швеция 12 724 — 6276
Евросоюз 566 361 — 345 210
— — — — — — — —
После побед консерваторов на выборах в Великобритании и США в 1979 и 1980 годах соответственно политики стали руководствоваться совершенно другой экономической догмой — так называемым неолиберализмом, или монетаризмом, среди сторонников которого можно выделить советника Рейгана Мильтона Фридмена и наставника Тэтчер Фридриха-Августа фон Хайека. Согласно этим теоретикам, государство должно быть не более чем «ночным сторожем», который следит за порядком, и чем больше у частного бизнеса свободы в вопросах инвестиций и найма, тем выше темпы роста и всеобщее благосостояние. Отталкиваясь от этих принципов, преимущественно «неолиберальные» правительства Запада в 80-е годы начали своего рода борьбу за дело капитала. Они устранили механизмы контроля во многих областях и резко снизили возможность государственного вмешательства, прибегнув к торговым санкциям и иным средствам давления, чтобы заставить несговорчивые страны-партнеры следовать тем же курсом.
Стратегическим инструментом экономической политики Европы и Америки и краеугольным камнем их государственной идеологии стали дерегулирование, либерализация и приватизация. Правящие в Лондоне и Вашингтоне радикально настроенные приверженцы свободного рынка возвели закон спроса и предложения в наилучший из всех возможных принципов порядка. Дальнейшее освобождение торговли стало самоцелью, не подвергаемой сомнению. Распространение этого процесса на международный валютный обмен и перемещение капиталов стало наиболее радикальной атакой на экономические основы западных демократий, не встретившей сколько-нибудь достойного сопротивления.
Вскоре стало ясно, кому отныне придется взять на себя риски рынка. В Западной Европе и Соединенных Штатах компании всех типов и размеров столкнулись с конкуренцией со стороны стран с низким уровнем зарплаты, особенно в трудоемких секторах, где значительная часть рабочей силы не имела никакой или относительно низкую квалификацию. Производство мебели, текстиля, обуви, часов или игрушек могло в будущем оставаться рентабельным только при условии существенной автоматизации или перевода за границу. Одновременно когорта лидеров мирового рынка пополнилась новым индустриальным государством — Японией, агрессивно дешевая продукция которой тоже стала оказывать изрядное давление на их промышленность. Поначалу старый Запад отвечал на это защитными таможенными тарифами или навязывал торговым партнерам надуманные произвольные ограничения на импорт их продукции. Но сторонники свободной торговли всегда оказывались сильнее политически и идеологически. Они жаловались, что такой протекционизм стоит на пути технологического прогресса, и было решено, что бóльшая часть защитных мер должна быть ограничена по времени.
«Прочь от трудоемкого массового производства, вперед к высокотехнологичному производству и обществу бытового обслуживания» — ожидалось, что данный рецепт залечит раны, нанесенные международной конкуренцией и автоматизацией. Этим надеждам не суждено было сбыться. Несмотря на устойчивый рост, все больше людей во всех странах ОЭСР, кроме Японии, уже не могли найти высокооплачиваемую работу.
Процветание за счет свободной торговли: невыполненное обещание
Если бы ситуация развивалась в соответствии с преобладающими экономическими воззрениями, то рынок труда никогда бы не эволюционировал так, как это произошло. Апологеты торговли с открытыми границами по-прежнему утверждают, что все участвующие в ней страны остаются в выигрыше. При этом как профессора, так и политики обычно ссылаются на теорию «преимущества сравнительной себестоимости», разработанную в начале прошлого века британским экономистом Давидом Рикардо. С ее помощью он хотел объяснить, почему международная торговля выгодна и для тех стран, которые менее производительны, чем их партнеры. В качестве примера он выбрал обмен вином и сукном между Португалией и Англией. Тот факт, что и тот, и другой товар производился в обеих странах, означал, что англичане вынуждены затрачивать больше труда (то есть менее производительны) и что их товары, возможно, являются в действительности слишком дорогими для экспорта. Тем не менее для Португалии было бы выгодно продавать вино Англии и на вырученные деньги приобретать английское сукно, тогда как Англия выгадывала от экспорта сукна в Португалию и импорта португальского вина. Причиной этого было соотношение цен на эти продукты внутри каждой страны: из примера Рикардо явствовало, что один час, затраченный на сукноделие в Англии, приносит прибыль, равнозначную тому, что дают 1,2 часа виноделия в Португалии. В случае Португалии, однако, это соотношение составляло 1:0,8, вследствие чего вино здесь стоило дешевле, чем сукно в Англии. Из этого следовало, что у обеих сторон есть преимущество относительной или сравнительной себестоимости. Для Португалии было выгодно вкладывать больше людского труда в виноделие и вообще не производить сукно, а для Англии — осуществлять обратную специализацию. Торговля позволила бы обеим странам потреблять больше вина и больше сукна без дополнительных трудозатрат.
Теория Рикардо столь же проста, сколь и гениальна. Она объясняет, почему страны всегда успешно торговали друг с другом даже теми товарами, которые сами были в состоянии производить. Проблема лишь в том, что у нее мало общего с современным миром. Ибо блестящая теория международной торговли Рикардо основывается на том давно утратившем силу допущении, что капитал и частное предпринимательство статичны и не покидают пределов стран, где они возникли. Для Рикардо это было абсолютно закономерно: «Опыт показывает, что естественное нежелание каждого человека покидать родную страну и обрывать свои связи, вверяя себя чужому правительству и новым законам, останавливает эмиграцию капитала»[216].
Сто пятьдесят лет спустя основной постулат Рикардо полностью устарел. Сегодня нет ничего более подвижного, чем капитал: международные инвестиции управляют торговыми потоками, миллиарды, движущиеся со скоростью света, определяют обменные курсы равно как и международную покупательную способность той или иной страны и ее валюты. Относительные различия в себестоимости больше не являются двигателем предпринимательства. Нынешние бизнесмены ставят во главу угла достижение абсолютного преимущества на всех рынках и перед всеми странами. Всякий раз, когда транснациональные компании размещают производство там, где рабочая сила самая дешевая, а проблемы затрат на социальные нужды или охрану окружающей среды не являются первостепенными, они снижают абсолютный уровень своих расходов. Это, в свою очередь, уменьшает не только цену продукции, но и цену труда.
Данное отличие — вовсе не второстепенная деталь в научном споре между соперничающими экономическими школами. Погоня за абсолютным преимуществом коренным образом изменила механизмы мировой экономики. Чем легче становится производству и капиталу пересекать границы, тем более могущественными и неуправляемыми делаются те зачастую гигантские организации, которые сегодня запугивают и лишают власти и правительства, и тех, кто их избирает, — транснациональные корпорации (ТНК). Торговая организация ООН, UNCTAD, подсчитала, что в мире около 40 000 компаний со штаб-квартирами более чем в трех странах. Сотня самых крупных из них, согласно отчетам, имеет годовой оборот примерно в 1,4 триллиона долл. В настоящее время ТНК осуществляют две трети мировой торговли, причем почти половину этого объема — через собственные торговые сети[217]. Они находятся в самом сердце глобализации и непрерывно двигают ее вперед. Современные методы организации и низкие транспортные расходы позволяют им унифицировать производство на всех континентах. Хорошо организованные корпорации, такие, например, как Asea Brown Boveri (ABB) с ее 1000 отделений в сорока странах, могут, если потребуется, перевести производство какого-либо изделия или узла из одной страны в другую за несколько дней. В международной торговле государства-нации больше не выставляют товары на продажу с последующим распределением прибылей внутри страны. Теперь рабочие всего мира конкурируют между собой из-за работы, которую они должны выполнять в условиях глобально организованного производства.
Этот процесс подрывает правила функционирования прежде национальных экономик. Во-первых, он ускорил темп внедрения технических новшеств и рационализации до абсурда: производительность растет быстрее общего объема продукции, в результате чего происходит так называемый «рост при потере рабочих мест». Во-вторых, полностью изменилось соотношение сил между капиталом и трудом. Интернационализм, некогда оружие пропаганды рабочего движения против воинствующих правительств и капиталистов, перешел на сторону противника и служит его интересам. Организациям трудящихся, в большинстве своем национальным, противостоит корпоративный Интернационал, который в ответ на любые претензии прибегает к своему излюбленному и безотказно действующему средству — переводу производства за границу. Обещание процветания за счет свободной торговли еще, может быть, и выполняется для вкладчиков капитала и управляющих компаний. Что же касается их рабочих и служащих, не говоря уже о растущей армии безработных, то о них этого не скажешь. То, в чем раньше видели прогресс, оборачивается его противоположностью.
Эта тенденция стала очевидной по крайней мере уже к началу 1990-х. Но тогда же правительства, вместо того чтобы затормозить, нажали на акселератор. Государства Западной Европы организовали свой единый рынок и от Лиссабона до Копенгагена устранили в рамках кампании «Европа'92» почти все барьеры на пути капиталов, товаров и услуг. В ответ PITTA, Канада и Мексика создали Североамериканскую зону свободной торговли — NAFTA. Включение в нее государства со стомиллионным населением к югу от Рио-Гранде стало первым случаем интеграции развивающейся страны в торговый блок такого рода. Одновременно в рамках ГАТТ были сняты последние таможенные ограничения, и в декабре 1993 года предприятия были отданы на откуп международной торговле.
Предполагалось, что все это будет настоящим рогом изобилия для стран-участниц. Например, так называемый Доклад Чеккини — исследование, объемом более чем в тысячу страниц, положившее начало проекту единого рынка Комиссии ЕС в Брюсселе в 1988 году, обещал 6 миллионов новых рабочих мест, снижение бюджетных дефицитов на 2% и 4–5% дополнительного роста[218]. Аналогичные заявления сопровождали учреждение NAFTA и ВТО. На самом же деле все произошло как раз наоборот: единый рынок стал, по словам «Цайт», «кнутом конкуренции», подстегивающим беспрецедентную рационализацию всей европейской промышленности. Число безработных возросло равно как и бюджетные дефициты, а рост замедлился.
В Австрии, которая не присоединялась к рыночной федерации до 1995 года, рабочие и служащие только сейчас начинают пожинать плоды этого объединения. Когда немецкий гигант розничной торговли Rewe в июле 1996 года поглотил австрийскую торговую сеть Billa, почти половина продовольственного рынка страны оказалась под контролем одной корпорации, действующей по всей Европе. С тех пор по меньшей мере треть от примерно 30 000 занятых в сельском хозяйстве и пищевой промышленности этой альпийской республики боится потерять работу. Их продукция едва ли конкурентоспособна на рынке ЕС. Покупатели Rewe платят австрийским производителям только по низким европейским ценам; в противном случае, а это обычная практика, они просто приобретают более качественную продукцию на более выгодных условиях у своих постоянных поставщиков в других странах ЕС.
Североамериканцев точно таким же опытом обогащает зона NAFTA, обещанных благодеяний которой пока не видно. Однако правительства стран, входящих во ВТО, намерены продвигать транснациональную интеграцию и дальше. На очереди в 1996 году еще три соглашения, направленные на освобождение торговли: намечается присоединение Китая ко Всемирному торговому соглашению, предполагается положить конец национальным телекоммуникационным монополиям, и страны ВТО планируют привести в соответствие на минимальном уровне свои официальные правила поступления корпоративных инвестиций из-за рубежа, так что ТНК будут чувствовать себя еще вольготнее, чем сейчас. Генеральный секретарь ВТО Ренато Руджеро даже планирует окончательную всемирную ликвидацию всех таможенных барьеров. Он предложил правительствам стран-участниц к 2020 году аннулировать все региональные соглашения и превратить весь мир в единую зону свободной торговли — план, который, судя по предыдущему опыту, существенно обострит кризис рабочих мест[219]. Несмотря на это, большинство ответственных за экономику политиков от Вашингтона до Брюсселя и Бонна крепко держится за эту схему.
Глобальная западня, по-видимому, наконец захлопнулась. Похоже, что правительства самых богатых и могущественных стран мира являются пленниками политики, которая больше не допускает никаких изменений курса. И нигде люди не ощущают этого острее, чем в самóй колыбели капиталистической контрреволюции — в Соединенных Штатах Америки.
Победа бульдозера
Хуже ничего не бывает. Мертвенно-бледный Джек Хейес сидит на своей тесной кухне и силится сохранить хладнокровие. Он двадцать девять лет проработал токарем и наладчиком в компании Caterpillar, являющейся крупнейшим мировым производителем строительно-дорожных машин и бульдозеров. Он прошел через все взлеты и падения в истории своей фирмы, ее головных предприятия и офиса в Пеории, штат Иллинойс, включая страшные 1980-е, когда «Кат» чуть не обанкротился. Хейес добровольно отработал бесчисленное множество неоплаченных часов, помогая совершенствовать технологические процессы, устанавливать новые, управляемые компьютерами станки и обучать те самые «команды качества» в сборочных цехах, что вернули компании былую мощь. И вдруг, в 1991 году, вспоминает Хейес, когда оборот и прибыль достигли рекордных отметок, руководство объявило войну рабочим. Было объявлено о понижении зарплат на целых 20% и об удлинении рабочей недели на два часа. Поначалу правление компании даже не шло на переговоры. Хейесу и его давним товарищам по работе все было предельно ясно. Вместе со своим профсоюзом, Объединением работников автомобильной промышленности (UAW), они организовали забастовку на всех заводах компании в США. Они не сомневались в своей правоте: в конце концов, справедливость и мораль были на их стороне. Почему рабочие не могли получить свою долю растущих доходов?
Четыре года спустя Хейес так и не знает ответа. Рабочие — члены профсоюза Ката провели ряд забастовок, как путем неявки на работу, так и сидячих, последняя из которых длилась свыше полутора лет. Начавшись как обычная забастовка против распоясавшегося руководства фирмы, она превратилась в наиболее длительную и ожесточенную акцию борьбы трудящихся за свои права в послевоенной Америке. Она обошлась профсоюзу ни много ни мало в 300 миллионов долл., выплаченных его членам за простой, и все впустую[220]. Вечером в воскресенье 3 декабря 1995 года Хейес и его товарищи услышали от руководителя UAW Ричарда Этвуда следующее: «Единственные, по кому реально ударила забастовка, это наши сплоченные и верные члены». Caterpillar была неуязвима, и забастовщикам не оставалось ничего другого, как вернуться на работу. Отработав после этого несколько смен на новых условиях, Хейес все никак не поймет, как такое могло произойти. «Сам бы я никогда не поверил, что фирма может поступить с нами так подло», — говорит он, качая головой.
Под «фирмой» в данном случае подразумевается Дональд Файтс — человек, возглавивший в 1991 году совет директоров компании и пользующийся в американском сообществе предпринимателей таким авторитетом, какого оно удостаивает очень немногих. Ведь именно Файтс продемонстрировал, как раз и навсегда покончить с властью профсоюзов. Действуя как своего рода бульдозер, руководимая им Caterpillar сумела доказать то, что в большинстве индустриальных стран пока еще трудно себе представить: забастовки, даже если они длятся годами и поддерживаются кампаниями и демонстрациями по всей стране, больше не могут вынудить руководство предприятия повысить зарплату его работникам. На самом деле они предоставляют той или иной транснациональной корпорации благоприятную возможность сэкономить на стоимости труда и повысить прибыль при условии, что ее высшее руководство действует с достаточной решимостью.
До начала 1980-х это было немыслимо. Caterpillar была классической американской компанией, производившей все — от гаек и болтов до окончательной сборки на своих собственных предприятиях. Ее отделения по всему миру организовывали производственный процесс примерно так же. Но в 1981 году ее японский конкурент Komatsu начал атаковать рынок США демпинговыми ценами. Это экспортное наступление неизмеримо упрощал предельно заниженный курс иены, усердно поддерживаемый японским центральным банком. Caterpillar начала нести убытки, и ее руководство провело радикальную реорганизацию производства. Менеджеры стали закупать гораздо больше деталей и узлов у мелких поставщиков, зачастую специально для этого созданных. Рабочая сила в этих новых фирмах была, как правило, молодой и дешевой, потому что многие из них создавались в южных штатах, где профсоюзы едва ли способны организоваться. В то же время руководство Ката включило зарубежные предприятия в систему единого планирования и вложило 1,8 млрд долл. в автоматизацию местного производства. Эти мероприятия осуществлялись при содействии профсоюзов, и компании в итоге удалось снова стать прибыльной. Ради повышения производительности UAW даже согласился на особую форму кооперации и смирился с закрытием многих заводов. Это, помимо всего прочего, означало изменения в составе рабочей силы. В 1979 году в корпорации было занято около 100 000 человек, почти половина которых были членами UAW. Восемь лет спустя на Caterpillar работало всего 65 000 американцев, из которых в профсоюзе состояла лишь четверть. С другой стороны, руководство сообщало о повышении прибылей и крупнейшей доле компании на рынке строительного оборудования за все время ее существования.
И вот настал час Файтса. Он заявил своим подчиненным, что в силу того, что зарплаты в Японии и Мексике ниже, чем в Пеории, ставки всех новых работников должны быть меньше профсоюзных, а остальным придется довольствоваться тем, что они имеют: никаких прибавок реальной зарплаты больше не будет. Когда UAW призвал к забастовке, Файтс пригрозил заменить всех бастующих новой рабочей силой. В США, как и в Германии, трудовое законодательство не допускает увольнений во время забастовок, но и не запрещает нанимать штрейкбрехеров. В прежние годы в подобных случаях профсоюзы обычно могли рассчитывать на отсутствие вблизи предприятий незанятой квалифицированной рабочей силы в количестве, достаточном для продолжения производства, но экономический спад, рационализация и дешевый импорт комплектующих из-за границы создали целую армию оставшихся без работы квалифицированных рабочих, которые были бы только счастливы ее получить. К тому же автоматизация свела число сложных операций, требующих высокой квалификации, до минимума. Угрозу главы Ката приходилось принимать всерьез.
Поэтому UAW попытался парализовать производство снижением темпа работы[221] и выполнением операций в полном соответствии с существующими правилами. В ответ Файтс не долго думая повыгонял со своих предприятий всех профсоюзных деятелей, и взбешенные рабочие забастовали вновь, на этот раз уверенные в победе, так как подобные увольнения были незаконными и Файтс уже не имел права пытаться сорвать забастовку, привлекая рабочую силу извне. Тогда Файтс разыграл свою самую рискованную карту. Он направил в сборочные цеха служащих, инженеров, весь управленческий персонал среднего и младшего звеньев и прежде всего около 5000 работавших неполный рабочий день. Одновременно он сделал максимально возможные заказы в зарубежных филиалах и добился успеха. Пока пикетчики месяцами выстаивали у заводских складов, Caterpillar наращивала объемы производства и продаж. Когда забастовщики в конце концов капитулировали, Файтс навязал им такие условия труда, которых не существовало вот уже несколько десятилетий. От них требовалось работать при необходимости по двенадцать часов в сутки, в том числе по выходным, без всякой дополнительной оплаты. Файтс торжествующе объявил, что реорганизация, проведенная им во время забастовки, вскрыла огромные резервы производительности. Планируется сократить еще 2000 рабочих мест[222].
Американская модель: возврат к поденному труду
Война Файтса против своих рабочих была сенсационной, но не ее результаты. Того, что Caterpillar навязала столь беспардонным образом, большинство других крупных американских компаний тоже добилось, но более тонкими методами. После того как их японские, а также европейские конкуренты проторили себе дорогу на американский рынок дорогостоящих потребительских товаров вроде автомобилей и бытовой электроники, экономика США изменилась до неузнаваемости. На пути к повышению производительности труда и снижению издержек корпорации не ведали иной стратегии, кроме рационализации и урезания реальной зарплаты. «Разукрупнение», «перенос производства» и «реорганизация» — вот методы, с которыми скоро столкнутся, если уже не столкнулись, все американцы, работающие по найму. Результаты, казалось бы, оправдывают эти жертвы. Осенью 1995 года, через десять лет после великих потрясений, «Бизнес уик» написал, что у Америки «самая производительная экономика в мире»[223]. Правительство страны тоже ликует. Во время своей кампании по переизбранию в 1996 году президент Клинтон то и дело бодро рапортовал, что экономика США находится в самой лучшей форме за последние тридцать лет. Он даже ссылался на статистику рынка труда, из которой явствует, что в конечном счете гораздо больше рабочих мест было создано, чем ликвидировано, почти 10 миллионов за первый срок его президентства, или по 210 000 в месяц. Уровень безработицы в 5,3% был ниже, чем в любой другой стране ОЭСР[224].
Америка и в самом деле снова впереди всех, но ее гражданам приходится платить за это мучительную цену. Богатейшая и наиболее производительная страна мира имеет теперь крупнейшую экономику с низким уровнем зарплаты. Огромный внутренний рынок или блестящие ученые уже не являются «местными преимуществами» Америки; теперь это только дешевая рабочая сила. Ожесточенная конкуренция одарила более чем половину населения новым американским кошмаром — непрерывным упадком. В 1995 году четыре пятых всех американских рабочих и служащих мужского пола зарабатывали в реальном исчислении на 11% в час меньше, чем в 1973 году[225]. Другими словами, вот уже более двух десятилетий уровень жизни огромного большинства американцев падает. В давно ушедшие дни «золотых 60-х» Джон Ф. Кеннеди выразил ожидание роста благосостояния простой формулой: «Когда уровень воды в реке поднимается, все лодки на воде поднимаются вместе с ним». Но волна либерализации и дерегулирования эпохи Рейгана породила тип экономики, к которому эта метафора уже неприменима. Действительно, в период с 1973 по 1994 год реальный ВНП на душу населения вырос в Соединенных Штатах на целую треть. В то же время, однако, у трех четвертей работающего населения, не относящегося к руководящему персоналу, средняя зарплата без вычетов сократилась на 19% и составляет всего 258 долл., или 380 марок, в неделю[226]. И это лишь статистическая средняя величина. Для нижней трети этой пирамиды падение зарплаты было еще более значительным: эти миллионы людей зарабатывают теперь на 25% меньше, чем двадцать лет тому назад.
В целом американское общество отнюдь не стало беднее; в самом деле, совокупные доход и благосостояние никогда не были такими высокими, как сейчас. Но этот статистический рост относится только к 20 миллионам семей, к одной пятой, составляющей вершину пирамиды, и даже внутри этой группы распределение доходов происходило в высшей степени неравномерно. С 1980 года богатейший 1 процент семей удвоил свои доходы, и теперь приблизительно полмиллиона сверхбогачей владеют третью всего частного капитала в США. Очевидно, что от переустройства американской экономики выиграли и топ-менеджеры крупных корпораций. С 1979 года их и без того высокая зарплата выросла в среднем на 66%. К 1980 году они уже получали примерно в сорок раз больше, чем их рядовые служащие. Теперь это соотношение равняется 120:1, а самые высокооплачиваемые управленцы, такие как Энтони О'Рейли, глава продовольственного гиганта Heinz, делают более 80 миллионов долл. в год, или чуть меньше 40 000 долл. в час.
Большинству этих начальников платят за всемерное снижение стоимости труда. Легче всего это удается в таких не требующих высоких технологий отраслях, как производство одежды, обуви, игрушек и простейших электротоваров, которые в «стране Господа Бога» по большей части уже не изготавливаются. Их изготовители превратились в импортеров, которые либо закупают товар в Азии, либо эксплуатируют собственные производства за границей. В наши дни такие лидеры мирового рынка, как корпорация по производству спортивной одежды и обуви Nike или гигантский производитель игрушек Mattel, сами уже никакими заводами не управляют. Они просто размещают заказы то у одних, то у других производителей, которые выбираются по принципу минимальных издержек и с равным успехом могут быть, к примеру, индонезийскими, польскими, мексиканскими и даже американскими. В одной только соседней Мексике, в так называемых «макилладорас», где о таких расходах на социальные нужды, как пенсии или пособия по болезни, никто и не слыхал, на американские компании работает по найму почти миллион человек, получающих менее 5 долл. в день. В Америке от этого поначалу больше всех страдали неквалифицированные рабочие сборочных конвейеров, но в 80-е годы, вспоминает Джозеф Уайт, экономист из политически нейтрального Института Брукингза, «не осталось ни одного профсоюзного деятеля, которому бы не сказали за столом переговоров, что если он будет требовать слишком многого, то рабочие места членов его союза уплывут в Мексику».
Правда состоит в том, что корпоративная Америка больше не хочет иметь никаких дел с профсоюзами. В каждом секторе топ-менеджеры разработали стратегии, которые не позволяли бы их служащим защищать свои интересы. Зеленый свет им дал сам президент Рейган в 1980 году, когда все члены профсоюза, работавшие в государственной авиадиспетчерской службе, были бесцеремонно уволены. Затем правительство и Конгресс внесли в трудовое законодательство ряд послаблений, позволивших главным управляющим и менеджерам предпринять самое радикальное наступление на права трудящихся со времен войны. Можно со всей определенное тью заключить, пишет Лестер Туроу, экономист Массачусетс кого технологического института (МТИ), что американские «капиталисты объявили своим рабочим классовую войну и выиграли ее»[227].
Главным оружием боссов корпораций стало сокращение целых областей управления и производства. Огромному числу таких служащих, как, например, работники бюро зарплаты, наладчики компьютеров и строительного оборудования или расчетчики налогов, указали на дверь. Им сказали, что впредь их работа будет выполняться субподрядчиками. Немного погодя многие из них снова устроились в те же компании, но на несравненно более низкие ставки, без права на пенсию или пособие по болезни и почти всегда с запретом на организацию профсоюза по месту работы.
Другая излюбленная модель — превращение постоянных служащих в нештатных сотрудников. Миллионы людей, в прошлом состоявших в штатных расписаниях компаний, ныне, как и прежде, работают специалистами по компьютерам, исследователями рынка или консультантами по оказанию услуг клиентам, но платят им теперь сдельно или по контракту, и весь рыночный риск ложится на их плечи. Кроме того, быстро растет число работающих неполный рабочий день и временных работников. Начав же внедрять схему заказа продукции точно по расписанию, устраняющую необходимость в дорогих складских помещениях, компании пришли к идее найма работающих точно по расписанию, которых в былые времена называли просто поденщиками. В настоящее время столь ненадежными условиями труда вынуждены довольствоваться свыше 5 миллионов граждан США, многие из которых работают в двух или трех фирмах одновременно. Таким образом, менеджеры имеют в своем распоряжении как внутри, так и вне компаний резерв дешевой рабочей силы, который они могут задействовать в соответствии с обстановкой на рынке. Сегодня крупнейшим американским частным работодателем является уже не General Motors, AT&T или IBM, а агентство предоставления временной работы Manpower.
Эти перемены охватили почти все области трудовой деятельности. Между 1979 и 1995 годами 43 миллиона человек лишились работы[228]. В большинстве своем они быстро нашли себе другую, однако в двух третях случаев это сопровождалось ухудшением условий труда и изрядным снижением зарплаты. Крупные фирмы уменьшились в размерах, а их работа была разделена между многочисленными юридически самостоятельными единицами, расположенными в разных местах. Как мы уже видели на примере Caterpillar, новая фрагментарная организация труда размывала основу профсоюзного движения. В 1980 году в профсоюзах состояли более 20% рабочих и служащих, а сегодня таковых лишь 10%. Один только UAW потерял более полумиллиона своих членов.
Устранение механизмов государственного контроля и других противовесов постепенно привело к главенству в экономике США принципа «победитель получает все», который ныне доминирует во всех слоях американского общества. Так экономисты Филип Кук и Роберт Фрэнк назвали схему, по которой сегодня организовано большинство американских компаний[229]. Общественный договор, долго воспринимавшийся как нечто само собой разумеющееся, в свое время означал, что если дела у IBM, General Motors или любой другой компании идут хорошо, то у их служащих тоже все в порядке. К настоящему времени от этого договора не осталось и следа. В начале 1980-х, по словам Уильяма Диккенса из Института Брукингза, крупнейшие компании США делились со своими служащими примерно 70 процентами прибыли[230] и платили им больше средних ставок для соответствующих специальностей на рынке труда. В порядке вещей было и субсидирование менее доходных подразделений фирмы более доходными, и ситуация, когда от всех без исключения отделов требуется максимально возможная прибыль, в то время как корпорация в целом переживает не лучшие времена, была невозможна. Однако дерегу-лированная финансовая экономика превратила это социальное преимущество в слабость с точки зрения управления. Вскоре смышленые брокеры из инвестиционных банков на Уоллстрит обнаружили эту «неэффективность» и тем самым создали золотое дно для спекулянтов 1980-х. Финансируемые посредством займов враждебные поглощения позволяли скупать и затем распродавать определенные активы таких компаний, уволив оттуда всю избыточную или «слишком много получающую» рабочую силу. Всемирную известность этой стратегии уничтожения рабочих мест принес голливудский фильм «Уоллстрит», в котором беззастенчивый брокер Гордон Гекко дробит на части авиакомпанию за счет ее персонала.
Во избежание подобных корпоративных набегов многие руководители компаний сами занялись реструктуризацией и не пощадили никого. IBM, например, перевела своих водителей на контракт и наполовину урезала зарплату личных секретарш. Персонал многих подразделений IBM был поставлен перед альтернативой, с которой 14 000 служащих ее французского отделения столкнулись перед Рождеством 1994 года: или снижение зарплаты, или увольнение 2000 человек. (В данном случае сотрудники согласились отказаться от одной десятой заработка.) Между 1991 и 1995 годами IBM таким образом оставила без работы 122 000 человек и уменьшила расходы на зарплату на одну треть. Одновременно правление премировало пятерых своих членов, ответственных за «даунсайзинг» (сокращение размеров), выдав каждому из них, помимо зарплаты, по 5,8 миллиона долларов[231]. На IBM, как и во всех других компаниях, сотрудникам недвусмысленно дали понять, что единственным мерилом успешности корпорации являются «интересы акционеров». В самом деле, цена акций IBM и ее дивиденды побили осенью 1995 года все предыдущие рекорды. Эта логика объясняет, почему персонал фирм, прибыли которых не являются экстраординарными, тоже должен, быть готов к самому худшему.
Страх перед неравенством
Все больше фирм, таким образом, ставят с ног на голову принцип, провозглашенный еще Генри Фордом и придавший американскому капитализму ту жизненную силу, что способствовала его всемирному триумфу. В 1914 году, когда этот капиталист-новатор удвоил своим рабочим зарплату, доведя ее до 5 долл. в день, «Уолл-стрит джорнэл» заклеймила этот шаг как «экономическое преступление». А ведь Форд просто открыл то, что позднее стало общепризнанным законом роста на уровне национальной экономики. Коль скоро автомобили должны быть общедоступны как товары широкого потребления, потенциальные покупатели должны зарабатывать достаточно денег, чтобы быть в состоянии их купить. Поэтому он за три месяца выплачивал рабочим эквивалент цены «форда» модели «Т». Сегодня зарплата большого числа рабочих крупных автомобильных корпораций до такой пропорции уже не дотягивает, особенно если речь идет о предприятиях в Мексике, Юго-Восточной Азии или на юге США. Торговля открытых границ и поражения профсоюзов «преодолели все ограничения», сетует Роберт Рейч, известный экономист и министр труда в правительстве Клинтона. Теперь, когда компании продают свою продукцию по всему миру, «их выживание уже не зависит от покупательной способности американских рабочих», которые во все большей степени становятся «запуганным классом»[232].
Мало того, экономист из МТИ Лестер Туроу полагает, что государственная статистика по безработице в лучшем случае обманчива или не более, чем пропаганда. К 7 миллионам безработных, официально зарегистрированных в 1995 году (цифра, основанная исключительно на анкетных данных министерства труда), следует добавить 6 миллионов тех, кто, тоже не имея работы, прекратил ее поиски. Еще есть 4–5 миллионов трудоустроенных, которые, вопреки своему желанию, вынуждены работать неполный рабочий день. Сложив вместе только эти три группы, мы обнаруживаем, что 14% трудоспособного населения не имеют постоянной работы. Ряды этой армии пополнятся до 28%, если учесть тех, кто работает лишь время от времени, 10,1 миллиона временных работников и работающих по вызову, а также 8,3 миллиона нештатных сотрудников, зачастую с университетским образованием, у которых редко бывает достаточно много заказов[233]. Распределение доходов согласуется с этой картиной. По данным Международной организации труда ООН, почти одна пятая всех занятых работает за зарплату ниже официального уровня бедности; это так называемая «работающая беднота», категория, давно закрепившаяся в американской социологии. При этом в США трудоустроенным приходится в наши дни работать в среднем напряженнее, чем в других странах ОЭСР, уровень социальной защиты американцев среди этих стран самый низкий, и они вынуждены чаще своих зарубежных коллег менять работу и место жительства.
Таким образом, американская «чудо-занятость», столь прославляемая европейскими экономистами, оказывается сущим проклятием для тех, кого она затрагивает. «Снижение уровня безработицы мало что значит, — пишет лояльная по отношению к Уолл-стрит газета «Нью-Йорк тайме», — если фабричного рабочего, получающего 15 долл. в час, увольняют и он на своей следующей работе зарабатывает только половину этой суммы». Журнал «Ныосуик» написал о новой конкурентоспособности Америки, применив к ней определение «капитализм-убийца». Но крайне неравномерное распределение богатства отнюдь не является для Америки историческим новшеством; ведь именно стремление к экономической свободе в конечном счете и привело к образованию Соединенных Штатов. Американцы никогда не завидовали богатству преуспевающих бизнесменов, поскольку всегда что-то оставалось и для остальных. До 1970 года в истории США не было ни одного сколько-нибудь продолжительного периода, когда на долю значительного большинства населения выпадали бы одни убытки, а меньшинство увеличивало бы свои активы и доходы в несколько раз. Нынешний упадок влечет за собой огромные последствия для всех областей жизни американского общества и все сильнее угрожает его политической стабильности. По этой причине все больше американцев, в том числе и представители состоятельной белой элиты, считают выбранное направление развития неверным. Так, например, Эдвард Луттвак экономист Центра стратегических и международных исследований, одного из консервативных вашингтонских мозговых трестов, из хладнокровного поборника неолиберализма превратился в его самого непримиримого противника. «Турбокапитализм», как он его называет, является, по его мнению, «скверной шуткой. То, что марксисты утверждали сто лет тому назад и что в то время абсолютно не соответствовало действительности, сегодня уже реальность. Капиталисты становятся все богаче, в то время как рабочий класс нищает». Глобальная конкуренция пропускает «людей через мясорубку» и уничтожает сплоченность общества[234].
Свои взгляды меняют не только инакомыслящие интеллектуалы вроде Туроу, Рейча и Луттвака. Люди, на практике вовлеченные в экономическую и политическую жизнь, тоже явно сомневаются в правильности господствующей тенденции и задаются вопросом, не слишком ли далеко политика уже оторвалась от экономики. Сенатор-республиканец Конни Мэк, к примеру, немало способствовал принятию нового законодательства как председатель сенатского комитета по экономике, но весной 1996 года признал, что «трудолюбивые американцы полны справедливого скептицизма»; «они чувствуют, что что-то прогнило»[235]. А Алан Гринспен, который как глава Федерального резервного банка Нью-Йорка всегда осуждал любые перераспределительные шаги в государственной политике, на слушаниях в Конгрессе предостерегающе заявил, что растущее неравенство стало главной угрозой американскому обществу[236]. Эффектный поворот на сто восемьдесят градусов совершил Стивен Роуч, главный экономист в Morgan Stanley, четвертом по величине инвестиционном банке Нью-Йорка. Книги и исследования Роуча менее чем за десять лет сделали ему имя в стратегии управления. Выступая в телевизионных ток-шоу, в университетах, в Конгрессе и на эксклюзивных семинарах для менеджеров, он последовательно отстаивал сокращение рабочей силы и гораздо более простую модель корпоративной организации. Но в четверг 16 мая 1996 года все корпоративные клиенты его банка получили письмо, в котором он, словно какой-нибудь католик-реформатор прошлого, публично отрекался от своих убеждений. «Я годами превозносил рост производительности как некую высшую добродетель, — писал он. — Но должен признать, что по зрелом размышлении не считаю, что это привело нас в землю обетованную». В своем письме Роуч сравнил реструктуризацию американской экономики с примитивной подсечно-огневой системой земледелия, при которой за непродолжительным периодом урожайности неизбежно следует утрата плодородия почвы, от которого зависит жизнь тех, кто ее обрабатывает. Частью данного образа действий является стратегия рационального управления и сокращения размеров. Если руководители американских корпораций в ближайшее время не сменят курс и не будут наращивать рабочую силу вместо того, чтобы лишать ее квалификации, стране не хватит ресурсов, чтобы удержаться на мировом рынке. «Рабочую силу, — подытожил Роуч, — нельзя выдавливать вечно. Тактика бесконечного сокращения рабочей силы и урезания реальной зарплаты— это в конечном счете рецепт индустриального вымирания»[237].
Как же перейти от сокращения к восстановлению? Критики вроде Роуча, Мэка и Рейча почти ничего на этот счет не предлагают, главным образом призывая топ-менеджеров принять во внимание долгосрочные социальные последствия своих действий. Но джинн уже выпущен из бутылки. «Горькая правда состоит в том, — прокомментировала «Файнэншл тайме» новую инициативу Роуча, — что как раз акционерам и менеджерам сокращения выгодны. Ныне Уолл-стрит предпочитает не зарабатывать доллар, а экономить его на расходах». Держатели акций наглядно это продемонстрировали на Нью-Йоркской фондовой бирже на следующий же день после появления циркулярного письма от экономиста из Morgan Stanley. Руководство корпорации по производству пищевых продуктов ConAgra объявило, что в текущем году оно уволит 6500 сотрудников и закроет 29 своих фабрик. Только одна эта новость подняла цену акций ConAgra так высоко, что биржевая стоимость компании за 24 часа подскочила на 500 миллионов долларов[238]. Эта быстрая обратная связь между финансовым рынком и топ-менеджерами, соблазненными опционами на акции, только подстегнула борьбу за повышение эффективности и удешевление труда. Но даже если бы можно было устранить в США влияние стремления к краткосрочной выгоде на ход событий либо законодательным путем, либо путем переубеждения внутренних инвесторов, то и в этом случае вряд ли удалось бы повернуть вспять снижение зарплат и покупательной способности американских трудящихся. Ибо пока американская элита приходит в себя и размышляет об альтернативах, транснационалы давно уже начали ту же самую борьбу в других индустриальных странах ОЭСР. Европа и наиболее развитые страны Азии, по-видимому, намерены и впередь неуклонно следовать в кильватере капитализма американского образца, и ситуация с рабочими местами и заработной платой продолжает ухудшаться. Зачастую конкуренция на потребительских рынках является лишь косвенной причиной этого процесса. Механизм транснациональной сети действует быстрее.
«Что же еще осталось немецкого в Hoechst?»
Наглядной иллюстрацией захватывающего дух темпа глобальной интеграции является автомобильная промышленность. Сокращение рабочей силы и «рациональное производство» 1980-х были в данной отрасли только началом. С течением времени все бóльшая доля производства в ней отводилась внешним поставщикам законченных модульных блоков: мостов, установок кондиционирования воздуха, приборных панелей и т.д. В результате сегодня на долю американских автомобильных заводов приходится лишь треть от общего объема производства, а остальное выполняют поставщики, которые сами вынуждены постоянно осуществлять рационализацию под давлением цен, устанавливаемых их клиентами. Этот новейший путь повышения производительности, в свою очередь, положил начало интеграции дешевеющей рабочей силы через все границы — не только государственные, но и между компаниями.
В наши дни в Германии полный производственный цикл проходят только автомобили класса «люкс». Новый «фольксваген-поло», хоть и собирается в Вольфсбурге, более чем наполовину изготавливается за рубежом. Комплектующие для него поставляются из Чехии, Италии, Франции, Мексики и США[239]. Toyota уже производит за границей больше автомобилей, чем в Японии, а американская автомобильная индустрия уже не в состоянии обходиться без поставок от японских производителей[240]. Однако даже замена маркировки «сделано в Германии» на «сделано «Мерседесом» не дает подлинной картины. Под давлением конкуренции разработчики повсеместно осознали, что они сэкономят кучу денег, если отдельные компоненты будут производиться компаниями, работающими совместно. Вместо 100 различных типов минигенераторов в автомашинах всех германских производителей используется не более дюжины. Но интеграция и упрощение на этом не заканчиваются: Volvo использует дизельные двигатели Audi венгерского производства, Mercedes покупает шестицилиндровые двигатели для своего нового микроавтобуса «виано» у Volkswagen и даже аристократичная Rolls-Royce устанавливает в свои традиционные кузова «начинку» от BMW.
В то же время крупные корпорации непрерывно формируют альянсы, совместные предприятия и объединенные компании, максимизирующие прирост эффективности. Volkswagen совместно с Audi поглотила испанскую корпорацию Seat и лидера восточноевропейского рынка Skoda. BMW купила крупнейший британский автомобильный концерн Rover, a Ford поглотил Mazda, четвертого по величине производителя Японии. Завод к югу от Лиссабона, принадлежащий Ford и Volkswagen, изготавливает лимузины, продаваемые под двумя разными названиями: «форд-гэлэкси» и «фольксваген-шаран». То же самое делают Fiat и Peugeot. Малолитражки Chrysler, изготавливаемые в Таиланде компанией Mitsubishi, а в Нидерландах совместно Mitsubishi и Volvo, продаются в США под американской торговой маркой.
Так автомобильная промышленность плетет свою замысловатую всемирную паутину, подвижность и гибкость которой достойны ее продукции. Собственно производители — не более чем одна из расходных статей, бесправные пешки, которые можно в любой момент убрать с доски. Между 1991 и 1995 годами в автоиндустрии одной только Германии было ликвидировано более 300 000 рабочих мест, тогда как годовой объем производства оставался примерно на том же уровне. Конца этому не видно. «Мы планируем с настоящего времени по 2000 год ежегодно повышать эффективность на шесть-семь процентов, — сообщает шеф европейского отделения Ford Альберт Касперс. — Сегодня нам для производства «эскорта» требуется 25 часов. К 2000 году этот показатель должен быть снижен до 17,5 часов». Больше автомобилей, меньше рабочей силы — этот лозунг принят на вооружение и в Volkswagen. По словам финансового директора компании Бруно Адельта, ожидается, что всего за четыре следующих года производительность возрастет на 30% при ежегодной ликвидации от 7000 до 8000 рабочих мест. Совет директоров VW довел до сведения акционеров, что за тот же период доход с оборота увеличится в пять раз[241].
Потери рабочих мест из-за транснациональной интеграции вызывают немалую тревогу. Еще более тревожен, однако, тот факт, что попутно снижается действенность традиционных контрмер национальной социальной и экономической политики. До 1990-х годов ведущие экономики мира развивались разными путями. Япония культивировала принцип пожизненной занятости, и тяготы адаптации распределялись равномерно. Коллективная безопасность ценилась выше дохода на вложенный капитал не только в общественной шкале ценностей, но и в практике корпораций. Во Франции технократы проводили национальную промышленную политику, часто достигая выдающихся результатов, вследствие чего страна улучшила свои позиции в мировой экономике без снижения общего уровня жизни. Германия блистала высокоразвитой системой образования и тесной кооперацией между капиталом и трудом. Высокие стандарты технологии и рабочей силы наряду со здоровым социальным климатом восполняли потери в менее престижных секторах.
Сегодня все это, по-видимому, уже не имеет большого значения. Руководители японских фирм, словно копируя своих американских коллег, внезапно становятся приверженцами рационального управления и «аутсорсинга»[242]. Там, где к увольнениям все еще стараются не прибегать, сотрудникам урезают зарплату, понижают их в должности с тем же результатом или переводят в более мелкие подразделения и на временную работу, где те увольняются сами. Тем не менее прямое увольнение, именуемое в самурайском лексиконе «обезглавливанием», уже не является общественным табу. Поначалу ему подвергались только временные работники, незамужние женщины и молодой вспомогательный персонал, но теперь от него не застрахованы даже управленцы среднего звена с солидным стажем. «Раньше мы делили невзгоды поровну и полагались на правительство, — говорит Джиро Ушито, глава одной фирмы по производству электроники. — В дальнейшем будут применяться только правила рынка»[243]. Последствия этого власти до сих пор пытаются скрывать. Официально безработными числится не более 3,4% трудоспособного населения, но эта цифра — явная фикция. Всех, кто ищет работу свыше полугода, просто перестают регистрировать. Независимое исследование, проведенное в 1994 году министерством экономики, показывает, что если бы применялись американские методы регистрации (также не обеспечивающие абсолютной точности), то уже на тот момент показатель уровня безработицы равнялся бы 8,9%[244]. Сегодня, по оценкам критически настроенных аналитиков, работу ищет каждый десятый японец трудоспособного возраста. Правительство, когда-то стоявшее на страже социальной стабильности, ныне действует ей вопреки. Дерегулирование и либерализация торговли парализуют целые отрасли, и от прежних торговых излишков осталась лишь ничтожно малая часть. Тадаши Секидзава, председатель правления Fujitsu, дает этому простое объяснение: японская система «слишком далеко ушла от международного среднего уровня», и настало время перемен.
Тот же аргумент все чаще слышен на другой стороне планеты. Вот уже пять лет крупные французские корпорации планомерно сокращают персонал. Высокий уровень безработицы, более 12%, — не единственная проблема. Около 45% трудоустроенных вынуждены довольствоваться временными контрактами, не обеспечивающими защиты от необоснованного увольнения. В 1994 году число новых сотрудников, принятых на временной основе, составило 70%[245]. Транснациональный рынок подрывает основу силы профсоюзов, и те теряют своих членов, влияние и, что самое главное, перспективы. Этот происходит во всех странах ЕС, за исключением Великобритании, где уже в годы правления Тэтчер власти и работодатели общими усилиями низвели заработки и условия труда до уровня сегодняшней Португалии.
Наиболее радикальные системные изменения имеют место в богатой Германии. Весомое подтверждение этому исходит из правлений компаний самой прибыльной отрасли немецкой индустрии — химической. Три ее гиганта — Hoechst, Bayer и BASF — сообщили в 1995 году о самых высоких прибылях за всю историю их существования. Но одновременно они проводили в Германии дальнейшее сокращение штатов, урезав 150 000 рабочих мест в предыдущие годы. «Мы знаем, что люди находят это противоречивым», — признал шеф Bayer Манфред Шнайдер, добавив, однако, что высокие прибыли корпорации не должны заслонять тот факт, что «в Германии Bayer находится под давлением»[246].
Эти две короткие фразы со всей очевидностью объясняют позицию Шнайдера. Сегодня называть Bayer равно как и ее конкурентов германской компанией можно лишь по традиции и еще потому, что в этой стране находится ее штаб-квартира. Эти отпрыски IG-Farben уже в среднем 80% бизнеса делают за границей, и лишь треть их персонала работает в Германии. «Что же еще осталось немецкого в Hoechst? — вопрошает Юрген Дорманн, главный управляющий этого химического гиганта со штаб-квартирой во Франкфурте.— Наш крупнейший рынок — Соединенные Штаты, наш кувейтский акционер держит больше акций, чем все немецкие, вместе взятые, наши исследования носят международный характер». Германская же акционерная компания, не зарабатывающая никаких денег, по сути, бездействует. Возможно, это и преувеличение, но при сравнении головного офиса Hoechst с ее американским или азиатским подразделением оно напрашивается само собой. Дорманн, однако, тут же заявляет, что на Hoechst в Германии естественным образом возложена «социальная миссия, поскольку мы считаем себя в том числе и гражданами Германии». Только вот до сих пор «с патриотизмом слегка перебарщивали»[247].
Проблема социальной ответственности стоит не только перед Дорманном — такой роскоши не может позволить себе ни один управляющий высокого полета в глобально организованном бизнесе. Статья 14 Конституции Германии гласит, что «собственность обязывает» и «должна служить на благо всего общества», но большинству коллег Дорманна это кажется уже недостижимым. Управляющие, как это бывало раньше только в США, расчленяют компании на «центры прибыли», которые или добиваются максимальной доходности, или ликвидируются. Hoechst постепенно отходит от химического бизнеса, а в принадлежащей Bayer группе Agfa намечается реструктуризация, поскольку ее доходы составляют всего три процента от оборота. Таким образом, прежняя концепция немецких акционерных обществ (назовем ее «Дойчланд АГ[248]») распадается, и на смену ей приходит новая, совершенно другая корпоративная культура. Во множестве крупных немецких компаний ныне в ходу, так сказать, магическая формула — «интересы акционеров», означающая, по сути, не что иное, как максимизацию прибыли в интересах держателей акций. Та же цель легла в основу соглашения о слиянии, заключенного в мае 1996 года фармацевтическими гигантами Ciba-Geigy и Sandoz и вызвавшего протест со стороны многих швейцарцев, над которыми нависла угроза массового сокращения штатов. В дебатах по этому поводу принял участие даже архиепископ Венский Кристоф Шенборн, долгие годы преподававший во Фрибургском университете. «Если две из крупнейших в мире химических корпораций объединяются, — сказал он, — хотя дела у обеих и так идут превосходно, и при этом «высвобождают» 15 000 рабочих мест, то причиной тому является не необходимость, продиктованная всемогущим божеством «свободного рынка», а алчное стремление кучки людей к дивидендам»[249].
Интересы акционеров: конец «Дойчланд АГ»
Адаптация к американским принципам — это, однако, не просто произвол бездушных капиталистов. Давление на фирмы и их главных управляющих исходит от транснационального финансового рынка, реального силового центра глобализации. Свободная торговля акциями и другими ценными бумагами поверх границ размывает национальные связи еще основательнее, чем создание производственных сетей. Например, треть акций Daimler-Benz уже находится в руках иностранцев. 43% акций его главного акционера, Deutsche Bank, также принадлежат иностранным инвесторам. Преимущественно в иностранном владении находятся Bayer, Hoechst, Mannesmann и множество других компаний. К тому же в большинстве своем эти инвесторы — отнюдь не мелкие акционеры и не банки и корпорации, которые в силу своей специфики могли бы принимать посильное участие в делах немецкой индустрии. Деньги в германские ценные бумаги вкладывают главным образом инвестиционные, страховые и пенсионные фонды из Соединенных Штатов и Великобритании. Их управляющие, усердно пытаясь выжать из зарубежных вкладов столько же, сколько из отечественных портфелей, не идут в своих требованиях к компаниям ни на какие компромиссы. «Давление иностранных акционеров на немецкие компании нарастает», — откровенно заявляет финансовый директор Bayer Гельмут Лоэр[250]. Наибольшие опасения в последнее время вызывают эмиссары Калифорнийского пенсионного фонда общественных работников, распоряжающегося вложениями на сумму свыше 100 миллионов долл. Управляющие Калифорнийской пенсионной системы, сокращенно именуемой Кальперс, которые уже пытаются диктовать свои условия по доходности таким мощным компаниям, как General Motors и American Express, увеличили свои зарубежные инвестиции до 20%, потому что, поясняет стратег Кальперса Хосе Арау, «неэффективность на международных рынках сегодня выше, чем на отечественном рынке». Для таких регулировщиков потоков мирового капитала неэффективными являются компании с подразделениями, где доход от инвестиций меньше 10%, что за пределами Соединенных Штатов является совершенно нормальным показателем. Особенно активно и планомерно Арау и его команда давят на несговорчивых управляющих крупных акционерных обществ, «с тем чтобы заставить эти иностранные компании думать об интересах акционеров» (слова одного из консультантов фонда), в Японии, Франции и Германии[251].
Отчасти в ответ на подобные требования, отчасти в ожидании таковых на высшие руководящие должности в немецких компаниях назначается все больше «жестокосердых», отмечает Франк Тайхмюллер, председатель северогерманского отделения IG-Metall, отраслевого профсоюза металлистов. Их продвижению по служебной лестнице способствуют беспощадность, с которой они прибегают к увольнениям, и жесткость в отношениях с профсоюзами. Возьмем, к примеру, Юргена Шремпа, возглавившего в мае 1995 года Daimler-Benz. Частично ответственный за убытки на сумму почти в 6 млрд марок в предыдущем году, он по вступлении в новую должность закрыл два подразделения, AEG и самолетостроительную фирму Fokker, и объявил, что в течение следующих 3 лет компания выставит за ворота 56 000 своих работников. Проведенные сокращения подняли цену акций Daimler чуть ли не на 20%, и акционеры, хоть и оставшись без годовых дивидендов, стали богаче почти на 10 млрд марок. Человека, который, по мнению его рабочих и служащих, не справляется со своими обязанностями, «Уолл-стрит джорнэл» и «Бизнес уик» чествовали как революционера, ломающего традиционную для Германии уютную схему взаимоотношений работника и работодателя и реорганизующего компанию в интересах держателей акций. Потом Шремп (годовое жалование 2,7 миллиона марок) добился от представителей акционеров в совете директоров выделения ему и еще 170 управленцам опционов на акции, которые должны в результате повышения курса принести каждому из них дополнительный доход в 300 000 марок.
Точно так же, как и босс Daimler, на биржевых ценах играет великое множество других бизнесменов из самых разных компаний. На протяжении многих лет случаи вроде прекращения действия в IBM коллективных тарифных договоров или дробления Siemens на части были исключениями из правила, широко освещавшимися в масс-медиа, но с весны 1996 года вся германская система партнерства между капиталом и трудом разваливается на части. Почти внезапно профсоюзные деятели обнаружили, что они сражаются уже не за один или два процента надбавки к зарплате своих членов, а за само выживание союзов. Компании одна за другой находят способы обойти существующие тарифные договора или просто выходят из ассоциации работодателей. Договора, которые компании средних размеров пытаются навязать своим советам представителей рабочих и служащих, повергают профсоюзных деятелей в ужас. В таких ситуациях почти всегда имеет место откровенный шантаж. Так, например, на предприятии компании — изготовителя отопительных котлов Viessmann в Касселе, которое считается высокоэффективным, имея годовой оборот в 1,7 млрд марок при штате в 6500 работников, руководству оказалось достаточно объявить, что следующая серия газовых водогрейных котлов будет производиться в Чехии. После этого 96% рабочих и служащих без возражений согласились работать три сверхурочных часа в неделю без дополнительной оплаты, лишь бы не был закрыт ни один цех в Германии[252]. Почти безропотно прошла и «модернизация» изготовителя медицинского оборудования Draeger в Любеке. Однако сотни работников этого предприятия от упаковщиков и водителей до компьютерщиков и мастеров производственного обучения внезапно обнаружили, что ходят на работу в независимый филиал, где прежние тарифные договора уже не действуют. При увеличенном рабочем времени они теперь зарабатывают на 6–7 тысяч марок в год меньше[253].
В то время как в относительно благополучной Германии заработки снижаются, внедрение тех же методов организации производства в странах, где они невысоки, гарантирует отсутствие их повышения в будущем. Так, работники Skoda, чешской дочерней компании Volkswagen, подсчитали, что со времени поглощения их предприятия вольфсбургским автогигантом производительность труда на нем выросла на 30%, но зарплата отнюдь не повысилась. «Если дела пойдут так и дальше, то даже через пятьдесят лет у нас не будет таких условий труда, как в Германии», — гневно заявил представитель заводского комитета Skoda Зденек Кадлек. Однако глава VW Фердинанд Пьех хладнокровно отверг требования о повышении зарплаты, выдвинутые его чешскими работниками. Skoda, предупредил он, не должна терять свое сравнительное местное преимущество, иначе «нам, конечно, придется подумать, не является ли производство где-нибудь вроде Мексики более рентабельным»[254].
Профсоюзные работники почти всегда пытаются сопротивляться попыткам принуждения такого рода, но почти всегда терпят поражение, потому что, сетует председатель IG-Metall Клаус Цвиккель, «работодателям удается стравливать друг с другом рабочих и служащих и производственные участки»[255]. Многие профсоюзные функционеры, включая заместителя Цвиккеля Вальтера Ристера, до сих пор заставляют себя верить в то, что охраняемое законом участие рабочих и служащих в контрольных советах компаний и наличие только одной федерации профсоюзов позволяют «избежать катастрофического развития событий», приведшего к поражению американских профсоюзов[256]. Рядовые члены говорят на другом языке; они по собственному опыту знают, что стоящее денег членство в союзе не обеспечивает никакой защиты во время кризиса и даже может повредить их карьере. Понимание этого наряду с массовыми увольнениями и дроблением компаний привело к уменьшению с 1991 года числа членов Германской федерации профсоюзов, DGB, на одну пятую. Один только IG-Metall потерял 755 000 плативших взносы членов. Да, более половины этого сокращения произошло из-за краха промышленности Восточной Германии, но даже на Западе из профсоюзных списков был вычеркнут почти миллион человек. Не в последнюю очередь из-за этого срабатывает шантаж, как в случае с Viesmann, где в профсоюзе состоят только 10% рабочих и служащих. С начала 1996 года германские ассоциации работодателей, пользуясь слабостью своих былых «социальных партнеров», проводят одно крупное наступление за другим. Поощряемый правительством в Бонне, президент Федеральной ассоциации германской промышленности Олаф Хенкель в мае 1996 года призвал отказаться во всех отраслях от генерального соглашения об условиях найма, что позволило бы понизить процент от зарплаты, выплачиваемый в случае болезни. Месяц спустя Вернер Штумпфе, президент Ассоциации работодателей в металлургии, сделал первую попытку ограничить право на забастовки. Впредь его ассоциация будет обсуждать с предприятиями только вопросы процента от зарплаты и продолжительности рабочего года. Все остальное — продолжительность рабочей недели, оплату отпусков, больничных и т.д. предполагается передать в ведение советов представителей рабочих и служащих предприятий. Его цель — лишить профсоюзы права организовывать на предприятиях акции протеста по таким проблемам, поскольку «забастовки больше не соответствуют духу времени» и охваченные ими компании «потеряют свою долю рынка». Штумпфе, очевидно, не отдает себе отчета в том, что его предложение направлено против одного из основных конституционных прав.
Кроме того, Хенкель, Штумпфе и их коллеги отказались признать введение минимальной зарплаты в строительстве, хотя работодатели и профсоюзы данной отрасли совместно к этому призвали. Действующее в Германии право на свободные переговоры о заключении коллективного договора между предпринимателями и профсоюзами подразумевает, что федеральное законодательство по минимальной зарплате может вступить в силу только с согласия работодателей. Воздержавшись от этого, представители компаний примирились с тем, что германская строительная промышленность, будучи не в силах противостоять демпингу зарплат со стороны иностранных поставщиков, столкнется с крупнейшей лавиной банкротств со времен войны. По данным Центральной ассоциации германских строителей, до 6000 строительных фирм страны разорится, что приведет к ликвидации 300 000 рабочих мест[257].
Дерегулирование: методичное безумие
Очевидно, что сокращением штатов и снижением заработков занимаются не только управляющие фондами и председатели правлений компаний; есть тут и третья группа действующих лиц — национальные правительства. В странах ОЭСР большинство министров и правящих партий до сих пор верит, что максимально возможное ограничение государственного вмешательства в экономику ведет к процветанию и созданию новых рабочих мест. В рамках этой программы от Токио до Вашингтона и далее до Брюсселя неуклонно стираются с лица земли все управляемые государством монополии и олигополии. Все это делается во имя конкуренции, занятость не имеет никакого значения. Но по мере того как правительства приватизируют почту и телефонную связь, электроэнергию и водоснабжение, воздушное сообщение и железные дороги, по мере того как они либерализуют международную торговлю в этих службах и дерегулируют все — от технологии до охраны труда, они усиливают тот самый кризис, для борьбы с которым их избрали.
Это противоречие уже давно является очевидным в США и Великобритании. Классическим примером стало дерегулирование американского воздушного транспорта. В 70-е годы организованный государством картель из соображений безопасности и контроля отводил авиакомпаниям определенные маршруты, и конкуренция была, скорее, исключением, чем правилом. Авиалинии получали достаточные доходы и обычно предоставляли своему персоналу пожизненную занятость, хотя цены на билеты по сравнению с другими видами транспорта действительно были довольно высоки. Те, у кого было больше времени и меньше денег, путешествовали автобусом или поездом. Администрация Рейгана поставила все с ног на голову. Цены рухнули, но вместе с ними и многочисленные компании. Воздушный транспорт и авиационная промышленность стали крайне нестабильными отраслями; результатом явились массовые увольнения, враждебные поглощения авиакомпаний и их дробление, хаос в аэропортах. В конце концов осталось лишь шесть крупных авиалиний. Имея меньше персонала, чем 20 лет назад, они продают больше рейсов, чем когда-либо, и никогда прежде авиабилеты не стоили так дешево. Вот только хорошие рабочие места утрачены навсегда.
В 80-х эта концепция была с энтузиазмом поддержана управленческой элитой Западной Европы, но поддержки у политического большинства она не нашла нигде, кроме Великобритании. Подлинным оплотом, своего рода орденом радикальных рыночников, стала Комиссия ЕС в Брюсселе, чиновники которой разработали бОльшую часть европейского законодательства в тесном сотрудничестве с зависящими от частного сектора экономики консалтинговыми фирмами и лоббистами[258]. Практически без какого бы то ни было публичного обсуждения приватизация и дерегулирование всех управляемых государством секторов стали неотъемлемой составной частью крупномасштабного плана единого рынка. Бывший председатель Еврокомиссии Петер Шмидхубер логично охарактеризовал это как «крупнейший проект дерегулирования в истории экономики». «Европа 1992» началась с огромной волны слияний и поглощений в частном секторе, обошедшейся по меньшей мере в 5 миллионов рабочих мест. Сейчас, на втором этапе, страны ЕС должны высвободить защищенные государством сектора и монополии; при этом планируется дальнейшее сокращение рабочих мест.
Первыми на очереди в новой Европе, как и в США, были авиаперелеты. Когда в 1990 году Евросоюз отменил ограничения на все полеты через границы, начали падать цены, что привело к закрытию всех государственных авиакомпаний. (Единственными исключениями стали British Airways и Lufthansa, но они фактически уже были приватизированы.) Менее крупные западноевропейские авиалинии, включая Alitalia, Austrian Airlines, Iberia, Sabena и Swissair, едва ли были конкурентоспособными в новых условиях. На фоне постоянных конфликтов с персоналом один план оздоровления следовал за другим, обычно с помощью миллионных вливаний из государственной казны, однако никаких перспектив успешного разрешения сложившейся ситуации пока не наблюдается, и уже ликвидировано в общей сложности 43 000 рабочих мест[259]. С апреля 1997 года авиалиниям будет разрешено осуществлять перелеты в границах любого государства — члена ЕС: самолеты, например, British Airways смогут летать между Гамбургом и Мюнхеном. Ожидание этой новой погони за эффективностью уже породило в отрасли вторую большую волну сокращений. Одна только Lufthansa намерена за 5 лет сэкономить на расходах по зарплате 1,5 млрд марок. Помимо неопределенного числа увольнений, в планы главы этой авиакомпании Юргена Вебера входит, по его словам, замораживание заработной платы, увеличение рабочего времени и сокращение отпусков[260]. К концу битвы за долю рынка в небе Европы уцелеют, по всей вероятности, четыре или пять «мега-перевозчиков» (отраслевой жаргон).
Уже одно это инспирированное государством уничтожение занятости является в условиях свирепствующей безработицы политической концепцией, целесообразность которой весьма сомнительна, но есть и более масштабный план, по сравнению с которым то, что происходит с воздушным транспортом, выглядит как мелкий лабораторный эксперимент. С начала 1998 года вся внутренняя торговля ЕС в сфере телекоммуникаций будет выведена из-под государственного контроля, что создаст новое Эльдорадо для инвесторов и крупных корпораций[261]. Бывшие государственные монополии— от Хельсинки до Лиссабона — должны быть «приспособлены» к конкуренции, тогда как частные международные консорциумы готовятся штурмовать рынок стоимостью в миллиарды, где двузначные показатели роста и потенциальные прибыли до 40% в год оправдывают любые капиталовложения. К чему это приведет, можно понять из сравнения Deutsche Telekom с американской AT&T. В 1995 хозяйственном году лидер рынка США, персонал которого составлял 77 000 человек, получил совокупную прибыль в размере 5,49 млрд долл. Deutsche Telekom, имея почти тот же годовой оборот в 47 млрд долл. и 210 000 сотрудников, почти втрое больше, чем AT&T, декларировал прибыль, равную в долларовом эквиваленте всего лишь 3,5 млрд.[262] Бывший управляющий Sony и нынешний босс Telekom Рон Сом-мер договорился с профсоюзом, что к 1998 году 60 000 сотрудников будут уволены по сокращению штатов и в связи с досрочным уходом на пенсию. Но для того, чтобы компания оставалась конкурентоспособной, к 2000 году придется уволить примерно 100 000 сотрудников — беспрецедентная «чистка» для послевоенной Германии[263]. В лучшем случае лишь какая-то часть этих рабочих мест будет восстановлена в консорциумах-конкурентах, которые формируются вокруг электрических корпораций VEBA и RWE (совместно с AT&T и British Telecom), поскольку эти новички могут полагаться на собственные телефонные сети вдоль линий электропередач и на значительные резервы персонала, который они в настоящее время перегруппируют с выгодой для себя. Кроме того, законодательство позволяет им использовать на выгодных условиях распределительную сеть Telekom и вначале концентрироваться на особенно прибыльных конурбациях, где для удовлетворения спроса требуется меньше персонала.
Правительственные заправилы, однако, больше не желают наращивать безработицу в одиночку. В ноябре 1996 года федеральное правительство объявило, что оно распродаст Deutsche Telekom несколькими траншами на всех крупнейших фондовых биржах мира. Об остальном позаботятся охотники за доходами для акционеров в крупных взаимных фондах. Та же драма повторяется по всей Европе, и уровень безработицы в странах ЕС неуклонно повышается. А пока телекоммуникационные компании продолжают вооружаться против будущих конкурентов, политики запускают следующий раунд либерализации.
Весной 1996 года Конгресс США решил отменить контроль над американским телефонным рынком, позволив трем общенациональным компаниям — AT&T, MCI и Sprint — конкурировать на всех уровнях с семью прежними региональными монополиями. Две из этих региональных компаний тут же слились и одновременно провели сокращение штатов, а AT&T объявила о предстоящей ликвидации еще 40 000 рабочих мест. British Telecom, в свою очередь, намерена сделать еще один большой шаг на пути к максимальной прибыли при минимальной занятости. С тех пор как в 1984 году началась ее приватизация, почти половине ее персонала, насчитывавшего 113 000 человек, было указано на дверь. К 2000 году к ним присоединятся еще 36 000. Британцы и американцы, как видно, готовятся к тотальной всемирной конкуренции, для которой деловито расчищают дорогу политики. В женевской штаб-квартире Всемирной торговой организации правительственные делегации с осени 1995 года ведут переговоры о деталях всемирного соглашения о свободной торговле в области телекоммуникаций. Если таковое действительно вступит в силу — а лоббисты корпораций упорно его пробивают, — то в мире останется всего четыре или пять гигантов данной отрасли, предсказывает профессор Эли Ноум из Колумбийского университета в Нью-Йорке[264].
Для правоверных рыночников в Вашингтоне, Брюсселе и большинстве европейских столиц дерегулирование телекоммуникаций — ни в коем случае не последний шаг. Если Комиссия ЕС добьется своего, то к 2001 году настанет очередь почтовой связи с 1,8 миллиона ее служащих. Та же участь ожидает электрические монополии. Вслед за британцами осуществить этот проект собственными усилиями хотят федеральное правительство Германии, а также ряд штатов США.
Если европейские политики, постоянно заявляющие, что их главная забота — борьба с безработицей, говорят это всерьез, то их действия можно охарактеризовать только как методичное безумие. С равным успехом можно усомниться в том, что они все еще отдают себе отчет в своих действиях. Так, например, 1 января 1996 года Рон Соммер изменил шкалу тарифов Deutsche Telekom: междугородные разговоры подешевели, а местные — подорожали. Это оправданно с точки зрения повышения конкурентоспособности компании и привлекательности ее акций. В новом конкурентном окружении уже нет смысла субсидировать местные разговоры преимущественно частного характера за счет частого использования дальней связи для деловых переговоров; в самом деле, главная цель нововведения — привлечь корпоративных клиентов низкими ценами на звонки по стране и за границу. Но как только новые тарифы вступили в силу, популярные печатные издания и политики принялись общими усилиями настраивать общественное мнение против коварной Telekom, которая-де заставляет одиноких старушек, зависящих от телефона, платить по счетам жирных котов-бизнесменов. Возглавляемые министром почт Вольфгангом Бёчем (партия ХСС), те же политики из всех парламентских партий, что прежде одобряли новые расценки, теперь требовали специальных тарифов на звонки друзьям и родственникам. Соммеру не оставалось ничего другого, как заявить, что такой популизм «возмутителен»[265].
Сей политический карнавал негодования и лицемерия не просто абсурден. Он доказывает, что лица, облеченные властью, в большинстве своем уже не осознают последствий политики глобализации, на которой основаны их законы. «Решение либерализовать отдельные отрасли, где предлагаются общественные услуги, вовсе не является идеологическим; оно выражает естественную готовность адаптироваться к экономическому и технологическому развитию», — настаивает Карел ван Мирт, нынешний член Еврокомиссии по проблемам, связанным с конкуренцией[266]. Но сами слова, которые он использует, выдают идеологию, всплывающую всякий раз, когда политики взывают к естественности, производя дележ общественной собственности, налоговых поступлений и экономических выгод. Такие лоббисты, как Дирк Хюдиг, представляющий в Брюсселе интересы британских промышленных корпораций, говорят более откровенным языком. Весьма немалые суммы, которые европейцы платят за общественные услуги, есть, по его мнению, результат неэффективности государственных корпораций, которые в большей степени обслуживают своих служащих, нежели своих клиентов; производительная часть общества больше не может нести это бремя на своих плечах[267].
Звучит логично. Более высокие затраты на телефонную связь, транспорт, электричество или деловые поездки являются конкурентным недостатком европейской экономики. Отдельные потребители тоже платят монополиям по завышенным ценам и испытывают бесконечные проблемы из-за зачастую низкого качества услуг. Безусловно, компании, о которых идет речь, в большинстве своем работают ниже оптимальной эффективности, но при этом они обеспечивают множество рабочих мест во времена кризисов. Если же миллионы граждан скатываются вниз по социальной лестнице или вынуждены опасаться за свою работу и свое будущее, то дерегулирование становится безумной политической гонкой. Большинство правительств придерживается данного курса, так как их эксперты твердо верят в неолиберализм и обещают, что снижение расходов на высокие технологии и сферу обслуживания поможет создать новые и более выгодные рабочие места.
Но чудес не бывает. Не принесут их и долгожданные успехи приватизированной индустрии телекоммуникаций. Бум мульти-медиа, предсказываемый как результат дешевого доступа к информационным магистралям, будет прежде всего и в наибольшей степени еще одной программой уничтожения занятости. Чем больше клиентов смогут в режиме «он-лайн» заказывать билеты, производить банковские операции и все виды покупок, тем меньше рабочих мест останется в банках и страховых компаниях, бюро путешествий и розничной торговле. Также нет никаких признаков того, что потери рабочих мест будут хоть в какой-то мере компенсироваться работой над созданием программ и компьютеров, призванных обеспечивать согласованное взаимодействие различных систем в мире будущего. В тех немногих отраслях грядущей мультимедийной индустрии, где человеческий труд будет по-прежнему востребован, например в кино- и шоу-бизнесе, позиции Германии и остальной Европы будут довольно слабыми; таково заключение, сделанное консалтинговой фирмой Roland Berger (подразделение Deutsche Bank). Вследствие этого политика, вращающаяся вокруг вступления в компьютерный век, не внушает особого оптимизма[268].
Дерегулирование в сочетании с манией эффективности ведет к самоуничтожению. Тем не менее большинство экспертов из ведущих учреждений мировой экономики, будь то ОЭСР, Всемирный банк или МВФ, продолжают призывать к всемирной интеграции. Их оптимистические заверения уже сейчас можно поставить под сомнение, взглянув на проблемы, выходящие на первый план в высокоразвитых странах, но они по-прежнему единодушно заявляют, что рынок с открытыми границами указывает «третьему миру» выход из бедности и отсталости. «Для многих развивающихся стран глобализация повышает шансы сократить отставание от индустриально развитых стран», — пишут, например, Эрих Гундлах и Питер Нунненкамп из Института мировой экономики в Киле, академического оплота германских неолибералов[269]. А «Франкфуртер альгемайне цайтунг», газета, находящаяся на острие борьбы за освобождение капитала, убеждает, что «только с помощью глобализации 6 млрд человек смогут воспользоваться достижениями, которыми чуть ли не до конца 80-х годов безраздельно распоряжались лишь 600 миллионов жителей старых индустриальных стран». Это сильный аргумент, но верен ли он? В самом ли деле беднякам Юга выгодно уменьшение благосостояния Севера?
Глава 5 Удобная ложь. Миф о местных факторах и честности глобализации
Он молча сидит там, сложив руки между колен и плотно сжав губы. Хесус Гонсалес никогда не думал, что ему уготована такая участь. Он долгие годы вкалывал до седьмого пота, прежде чем стал электротехником, и, в конце концов, нашел хорошую и, казалось, надежную работу с регулярным жалованьем в процветающей мексиканской автомобильной промышленности. На фабрике, где он работал, собирались амортизаторы для мексиканских мотоциклов и тракторов, и ничто, казалось, не предвещало беды. Но внезапно все рухнуло: сначала песо, затем торговля и, наконец, национальная экономика. Его фирма обанкротилась. Теперь этот тридцатилетний отец семейства проводит дни на тротуаре шумной авениды Сан-Хосе в центре Мехико. Он сидит на жестяном ящике и рекламирует себя с помощью куска картона, на котором неразборчиво написано слово «electricista[270]». Он надеется получить случайную работу, но на лучшие времена больше не рассчитывает. Этот кризис, говорит он, «продлится намного дольше, чем мы думали».
Для Мексики 1996 года случай с Хесусом Гонсалесом вполне типичен. Каждый второй мексиканец трудоспособного возраста или безработный, или перебивается поденным трудом в теневой экономике. Вот уже полтора года совокупный продукт на душу населения неуклонно снижается. Страну сотрясают политические волнения, забастовки и крестьянские восстания. Это совсем не то, что планировали правительство и его советники из США. Десять лет три сменявшие друг друга президента послушно выполняли все предписания Всемирного банка, Международного валютного фонда и правительства Соединенных Штатов. Они приватизировали бóльшую часть государственной промышленности, сняли все ограничения для иностранных инвесторов, отменили импортные пошлины и открыли страну мировой финансовой системе. В 1993 году Мексика даже заключила с Соединенными Штатами и Канадой Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), предполагавшее полную интеграцию страны в североамериканский рынок в течение десяти лет. Международное сообщество неолибералов нашло в лице Мексики примерного ученика, и в 1994 году клуб богатых стран, видимо, признал это окончательно, приняв ее в ОЭСР.
Поначалу казалось, что все идет по плану. Многочисленные транснациональные корпорации открывали или расширяли в Мексике производственные площади. Объем экспорта ежегодно возрастал на 6%, а внешняя задолженность госбюджета, которая в 1982 году поставила страну на грань катастрофы, начала уменьшаться. Впервые в Мексике стал набирать силу пусть и немногочисленный, но вполне платежеспособный средний класс, который основывал новые компании и платил налоги. Но при всем том «экономическое чудо» приносило реальную выгоду лишь очень незначительной части экономики и населения. Новые, динамично развивавшиеся отрасли химической, электронной и автомобильной промышленности сильно зависели от импорта и создавали сравнительно мало новых рабочих мест. Старая крупная промышленность была выведена из государственного сектора и передана в руки нескольких акционеров-толстосумов. Всего лишь 25 холдингов контролировали корпоративную империю, производившую половину ВНП страны[271]. В то же время, однако, излишняя открытость по отношению к Соединенным Штатам подвергла основные секторы мексиканской экономики внешней конкуренции. Страну захлестнул поток импортных товаров, и компании средних размеров, специализировавшиеся на трудоемком производстве, были поставлены на колени. В одних только машиностроении и прежде стабильной текстильной промышленности были вынуждены закрыться пятьдесят процентов предприятий. Реальный экономический рост стал отставать от роста населения. Форсированная капитализация сельского хозяйства, которая, как предполагалось, должна была подстегнуть экспорт и помочь справиться с гигантскими конкурентами из США, на практике имела катастрофические последствия. Несколько миллионов сельскохозяйственных рабочих потеряли работу из-за механизации и хлынули в и без того перенаселенные города. Начиная с 1988 года импорт рос в четыре раза быстрее, чем экспорт, наращивая дефицит торгового баланса, который в 1994 году равнялся соответствующему показателю всех остальных латиноамериканских стран вместе взятых[272]. Но к тому времени пути назад у стратегов мексиканского роста уже не было. Для успокоения избирателей и сохранения дешевого импорта правительство удорожало валюту страны за счет высоких процентных ставок. Это не только парализовало местную экономику, но и привлекло в страну свыше 50 млрд долл. в краткосрочных инвестициях из североамериканских фондов. В декабре 1994 года наконец случилось неизбежное: мыльный пузырь лопнул, и произошла девальвация песо. Страшась гнева американских инвесторов и мирового финансового краха, вашингтонский министр финансов Рубин и шеф МВФ Камдессю организовали крупнейший чрезвычайный заем всех времен (см. гл. 3). Это, разумеется, спасло иностранных инвесторов, но ввергло Мексику в экономическую катастрофу. Для того чтобы вернуть доверие международных рынков, президент Эрнесто Седильо распорядился начать следующий раунд шоковой терапии. Реальные процентные ставки в размере свыше 20% и радикальное урезание расходов на общественные нужды привели к тяжелейшему экономическому спаду за последние 60 лет. В течение нескольких месяцев 15 000 компаний обанкротились, около 3 миллионов человек потеряли работу, и покупательная способность населения уменьшилась по крайней мере на треть[273].
После десятилетия неолиберальных реформ стомиллионная нация к югу от Рио-Гранде живет хуже, чем прежде. Стабильность государства подрывается всевозможными движениями протеста — от крестьянской партизанской войны сепатистов на юге до примерно миллиона человек, принадлежащих к среднему классу, которые не в состоянии выплатить подскочившие проценты по займам. Социолог Анне Хуфшмид, хорошо знающая Мексику, считает, что эта страна и впрямь стоит на пороге — только не процветания, а «неуправляемости и гражданской войны»[274].
По этой причине итог авантюры с NAFTA оказался отрицательным и для могущественного северного соседа. Когда американские сборочные заводы переносились на юг, администрация Клинтона еще могла утверждать, что экспорт отечественной продукции в Мексику создает 250 000 дополнительных рабочих мест в самих Соединенных Штатах. Но экономический крах до такой степени уменьшил в Мексике спрос на импортные товары, что торговый баланс США с Мексикой впервые стал отрицательным. Надежды на рост занятости в Соединенных Штатах пошли прахом. Возросли лишь доходы компаний, снизивших расходы на зарплату благодаря дешевой мексиканской рабочей силе. Девальвация песо даже означала, что многие американские корпорации равно как и множество германских и азиатских компаний по производству автомобилей и электроники, получили дополнительное преимущество на мировом рынке. Работа в таких фирмах дает средства к существованию многим мексиканским семьям, но она и близко не компенсирует потерь вследствие краха национальной экономики. Опять растет число мексиканцев, которые незаконно и зачастую при ужасных обстоятельствах пересекают Рио-Гранде, дабы тяжелым трудом зарабатывать на жизнь в США, тогда как предполагалось, что именно этому виду миграции NAFTA положит конец.
Итак, мексиканский опыт показывает, что идея чудо-процветания в результате полного освобождения рынка — наивная иллюзия. Всякий раз, когда слаборазвитая страна пытается без субсидий и тарифной защиты конкурировать с мощными индустриальными экономиками Запада, ее потуги обречены на скорый провал. Свободная торговля — не более чем закон джунглей, и не только в Центральной Америке.
Евроазиатским аналогом Мексики является Турция. В надежде на ускорение модернизации правительство в Анкаре заключило с ЕС договор о таможенном союзе, вступивший в силу в начале 1996 года. Турецкие промышленники ожидали, что за этим последует увеличение объема экспорта в Евросоюз. Однако модернизаторы на побережье Босфора, как и их мексиканские коллеги, далеко не в полной мере оценили последствия открытой экономики для своих внутренних рынков. Теперь, когда товары со всего мира могут экспортироваться в Турцию на условиях ЕС, страну наводнила дешевая зарубежная продукция. Всего через полгода Турция стала испытывать изрядный дефицит торгового баланса. Действительно, экспорт вырос на 10%, но импорт подскочил на 30. Опасаясь за валютные резервы страны, новое правительство, лидирующее положение в котором занимает исламистская Партия всеобщего благоденствия, немедленно ввело импортные пошлины в размере 6%. Таможенный договор с ЕС разрешает защитные меры такого рода, но действовать они могут не более 200 дней. Турция попала в западню[275].
И вновь приходится констатировать, что без защитных мер результат присоединения полной радужных надежд, но не располагающей значительным капиталом развивающейся страны к зоне свободной торговли высокоразвитых индустриальных стран, скорее отрицательный, нежели положительный. Это, конечно, далеко не новость. В отличие от преданных идее неолиберализма европейцев и американцев многие правители беднейших стран мира поняли это много лет тому назад и выбрали куда более разумный путь к процветанию.
Драконы вместо овец: азиатское чудо
Иностранцам уже давно нравится приезжать на Пинанг. В прошлом веке британские колонизаторы, привлеченные морским климатом и плодородной почвой этого острова у западного побережья Таиланда и Малайзии, создали здесь свой опорный пункт. Ныне, как и в былые времена, в административном центре одноименного штата, Джорджтауне, царит большое оживление. Туристические достопримечательности и торговля фруктами с плантаций больше не привлекают жителей дальних стран, но поток светлокожих визитеров из Японии, Европы и США, теснящихся у ленты транспортера в ожидании багажа в зале прилета местного аэропорта, не убывает. Новая притягательная сила Пинанга — его промышленная зона. Огромные рекламные щиты Texas Instruments, Hitachi, Intel, Seagate и Hewlett-Packard сообщают, что все крупные электронные корпорации сочли необходимым создать здесь свои производственные площади. Жители Малайзии гордо называют свой бывший курорт «Силиконовым островом». Его фабрики превратили эту страну Юго-Восточной Азии в крупнейшего в мире экспортера полупроводниковой продукции и в настоящее время обеспечивают работой 300 000 человек.
Пинанг — лишь один из множества поразительных признаков той экономической революции, которую вот уже 25 лет переживает эта бывшая аграрная страна, давно не относящаяся к категории развивающихся. С 1970 года ее экономика росла в среднем на 7–8% в год, а объем промышленного производства — более чем на 10. Сегодня уже не 5, а 25% работающего населения занято в промышленности, на долю которой приходится треть совокупного продукта Малайзии. В период с 1987 по 1995 год доход на душу населения этой 20-миллионной страны удвоился, достигнув 4000 долл. в год. Ожидается, что к 2020 году он возрастет в пять раз и достигнет уровня Соединенных Штатов[276].
Во впечатляющей погоне за процветанием участвует не только Малайзия. Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг, которых прежде называли азиатскими «тиграми», достигли уровня Малайзии на пять-десять лет раньше нее. Последними прорыв совершили Таиланд, Индонезия и южные регионы Китая, и теперь они, так называемые «драконы», демонстрируют аналогичные достижения. Экономисты и промышленники всего мира поют дифирамбы чуду азиатской экономической модели, живому примеру того, как рынок обеспечивает выход из нищеты и отсталости. Однако у азиатского бума мало общего с laissez-faire[277] капитализмом большинства стран ОЭСР. Все без исключения растущие экономики Дальнего Востока применили стратегию, от которой Запад в конце концов отказался, — широкомасштабное вмешательство государства на всех уровнях экономической деятельности. Вместо того чтобы позволить вести себя, как ягнят, на бойню международной конкуренции, как это сделала Мексика, драконы управляемого государством экономического строительства разработали богатый инструментарий, с помощью которого они держат развитие под контролем. Интеграция в мировой — рынок для них не цель, а средство, которым они пользуются осторожно и по зрелом размышлении.
Во всех быстрорастущих экономиках Азии степень открытости внешнему миру подчиняется принципу авианосца, изобретенному японцами. Высокие пошлины в сочетании с техническими требованиями блокируют импорт во всех отраслях экономики, где, по мнению планировщиков, фирмы их страны слишком слабы, чтобы противостоять международной конкуренции, и где они хотят защитить существующие уровни занятости. И наоборот, правительства и органы государственной власти поддерживают экспортное производство всеми средствами — от налоговых скидок до бесплатного предоставления инфраструктуры. Важным элементом данной стратегии является манипулирование обменным курсом. Все азиатские страны копируют эту японскую модель и с помощью интервенций центрального банка искусственно поддерживают курс своей валюты на уровне, более низком, чем это соответствует реальной покупательной способности внутри страны. При этом, в соответствии с официальными обменными курсами, заработки в Юго-Восточной Азии в среднем составляют одну сороковую от того, что получают жители Западной Европы, но при сопоставлении покупательных способностей они эквивалентны одной восьмой[278].
Инженеры азиатского роста не вмешиваются только в потоки краткосрочного капитала на финансовых рынках; прямые инвестиции транснациональных корпораций также подчиняются определенным условиям. Малайзия, к примеру, систематически организует включение своих государственных и частных фирм в отделения иностранных компаний, тем самым добиваясь того, что все большее число местных работников осваивает ноу-хау, применяемые на мировом рынке. Для повышения общего профессионального уровня населения правительства всех этих стран вкладывают значительную часть бюджета в создание эффективной системы образования.
Там, где этого недостаточно, передача технологий обеспечивается дополнительными лицензионными и патентными соглашениями. Требования относительно доли местных предпринимателей в производстве для мирового рынка гарантируют, что значительная часть прибылей остается в стране и вкладывается в развитие национальных компаний. Так, наиболее выгодным по соотношению цена/качество автомобилем в Малайзии является «протон», который выпускается при участии Mitsubishi, но на 70% изготавливается внутри страны. Невзирая на протесты автомобильных корпораций стран ОЭСР, той же стратегии в сотрудничестве с двумя южнокорейскими фирмами придерживается Индонезия. Все эти начинания направлены на достижение общего результата: правительства сохраняют экономический суверенитет и следят за тем, чтобы и местный, и иностранный капиталы служили определенным политическим целям. Тех, кто не сотрудничает, выставляют за дверь[279].
Успех азиатских планировщиков подтверждает их правоту. Почти все ныне переживающие экономический бум государства Восточной Азии начинали, как Мексика, в качестве звеньев в цепи поставщиков, управляемой мировыми корпорациями. Однако руководители их правительственных органов никогда не забывали о необходимости защищать национальную экономику и ее рост, финансируя его за счет экспорта продукции местных отделений транснационалов. Постепенно они создали свои собственные крупные корпорации, наполовину государственные и наполовину приватизированные, которые теперь выходят на мировой рынок самостоятельно. Мощные «чаебол», конгломераты вроде Hyundai или Samsung, каждый из которых имеет по нескольку отделений, выпускающих, в зависимости от специализации, автомобили, компьютеры или суда, есть не только у Южной Кореи. Даже у Малайзии с ее сравнительно небольшим населением в 20 миллионов уже есть б собственных мультинационалов. Самый большой из них, Sime Darby, имеет 200 дочерних фирм в 21 стране, где работают 50 000 человек. По размеру собственного капитала он уже превосходит, например, крупнейшую азиатскую авиакомпанию Singapore Airlines.
Следовательно, глобализация мировой экономики вовсе не подчиняется какому-то единственному, универсальному принципу. В то время как давние центры процветания призывают к невмешательству со стороны государства и расширению сферы приложения рыночных механизмов, страны, переживающие экономический рост только сейчас, поступают как раз наоборот. Те же корпоративные стратеги, что в Америке или Германии бесцеремонно отвергают всякое государственное вмешательство в свои инвестиционные проекты, в Азии с готовностью предоставляют инвестиции в миллиарды долл. на условиях, диктуемых государственными бюрократами, которые безбоязненно называют свою работу централизованным экономическим планированием. Предстоящие доходы от двузначного роста сметают прочь все идеологические предубеждения.
Честная торговля: защита для бедных?
Конечно, азиатское чудо имеет и оборотную сторону. Этот бум идет рука об руку с коррупцией, политическими репрессиями, масштабным уничтожением окружающей среды и зачастую с чрезмерной эксплуатацией бесправной рабочей силы, главным образом женской ее части. Взять, к примеру, Nike. Пошивочно-штамповочные работы по изготовлению ее дорогой спортивной обуви, цена которой в Европе и США доходит до 150 долл. за пару, на предприятиях Индонезии, с которыми компания заключила контракт о поставке, выполняются примерно 120 000 работницами и работниками, зарабатывающими меньше трех долл. в день. Это — нищенское жалованье даже по индонезийским меркам, но оно соответствует установленному законом минимуму, которым вынуждено довольствоваться свыше половины 80-миллионной рабочей силы страны[280]. Дабы сохранить это «преимущество», военный режим, вот уже тридцать лет возглавляемый диктатором Сухарто, в корне пресекает всякий протест со стороны трудящихся. Например, когда осенью 1995 года Тонгрис Ситуморанг, 22-летний рабочий завода Nike в Серанге, мобилизовал своих коллег на забастовку, местные военные просто заперли его на неделю на одном из заводских складов и круглые сутки держали под наблюдением. В итоге, однако, его отпустили, и все, чего он лишился, — была его работа. Другие, как две профсоюзные активистки Сугиарти и Марсина, о которых узнала вся страна, поплатились за свою храбрость жизнью. Их изувеченные пытками тела были найдены на свалках промышленных отходов фабрик, где они пытались организовать забастовку. Министр промышленности Тунгки Аривибово обращает внимание на давнюю конкуренцию даже между теми странами, где заработки минимальны. Пытаясь оправдать санкционированную государством сверхэксплуатацию, он говорит, что в Китае, Вьетнаме и Бангладеш ставки не выше. Если повысить минимальную зарплату, «мы не сможем с ними в этом конкурировать». Стратегия его правительства состоит в том, чтобы привлечь в страну производство как можно более высококачественной (и, следовательно, дорогой) продукции[281].
Для соседней Малайзии эта стадия уже позади. Ее продвижение вверх по иерархической лестнице мировых производителей обеспечило многим малайзийцам полную занятость и рост заработков, потому что правительство по крайней мере легализовало профсоюзы в компаниях. Но это еще далеко не свободная страна с основными демократическими правами. Режим, возглавляемый премьер-министром Махатхиром Мухаммадом, находящимся у власти вот уже 15 лет, подвергает все средства массовой информации строгой цензуре. Забастовки и митинги запрещены, а оппозиционные партии — не более чем очковтирательство для выборов, проводящихся в угоду мировому общественному мнению. Экономическое усиление растущего среднего класса происходит на фоне зачастую бесчеловечных условий труда менее обеспеченных слоев населения, не говоря уже о более чем миллионе рабочих-иммигрантов из беднейших стран региона, из которых вообще можно выжимать все соки. После 3 лет работы они, независимо от обстоятельств, должны покидать страну, освобождая место для новой дешевой рабочей силы. Так, Siemens на своей малайзийской фабрике по производству микропроцессоров вынуждена относительно неплохо платить местным квалифицированным рабочим, но не 600 индонезийским женщинам, работающим на конвейере, с которыми всемирная корпорация обращается, как с крепостными. За 350 марок в месяц они трудятся до изнеможения по шесть, а то и по семь дней в неделю, а на ночь их, как заключенных, запирают в фабричном общежитии. Глава местного отделения Siemens даже хранит у себя их паспорта, чтобы быть уверенным в том, что они не ускользнут от иммиграционной службы в конце своего трехлетнего срока[282].
Еще меньше церемонятся с рабочей силой на многих из более чем 150 000 совместных предприятий, где инвесторы со всего мира сделали ставку на бурное развитие социалистической рыночной экономики Китая. Более чем миллиону работающих там женщин приходится шить, штамповать или упаковывать по 15 часов в день, а в случае надобности и того больше. «Люди вынуждены работать, как машины», — пишет одна местная газета. Зачастую при поступлении на предприятие они обязаны вносить залог в размере нескольких месячных зарплат, который не возвращается, если они увольняются вопреки желанию руководства. По ночам они набиваются в тесные и часто запираемые общие спальни, которые превращаются в смертельные ловушки в случае пожара. То, что законодательство об охране труда игнорируется, признало даже центральное правительство в Пекине; только за первые б месяцев 1993 года на производстве произошло свыше 11 000 несчастных случаев со смертельным исходом и 28 000 пожаров[283]. В то же время те, кто правит от имени китайского рабочего класса, пресекают всякое сопротивление, и прежде всего в особых экономических зонах для иностранных инвесторов. «Тех, кто жалуется или пытается организовать профсоюз, чаще всего приговаривают к трем годам трудовых лагерей, и в настоящее время наказание отбывают сотни профсоюзных деятелей», — сообщила в июне 1996 года Международная конфедерация свободных профсоюзов[284].
Правительства стран Запада, сталкиваясь с неприемлемыми (по западным стандартам) восточноазиатскими методами захвата частей мирового рынка, в большинстве своем проявляют удивительную сдержанность. В последний раз главы западноевропейских правительств продемонстрировали свою искусственную слепоту в начале марта 1996 года, когда они встретились в Бангкоке с коллегами из восьми ведущих азиатских государств с целью дальнейшего развития взаимных экономических отношений. Пока в конференц-зале сменявшие друг друга ораторы вызывали в воображении аудитории картины взаимопонимания между народами, представители более чем 100 организаций, выражающих интересы простых людей, протестовали на контрконференции против бесчеловечных условий труда на предприятиях Азии, а К) 000 таиландцев разбили лагерь перед резиденцией своего премьер-министра, выступая против неравномерного распределения растущего национального богатства[285]. Ни один из европейских гостей не сказал про это на публике ни слова. Германский канцлер и британский премьер-министр, например, предпочли усердно добиваться на переговорах за закрытыми дверями крупных сделок для транснациональных корпораций, все еще носящих немецкое или английское название. Попутно шеф Daimler-Benz Юрген Шремп довел до всеобщего сведения, что Германия должна быть готова «учиться у Азии», а Германская промышленно-торговая палата представила исследование, в котором индонезийская диктатура восхвалялась за «политическую стабильность» и «особенно благоприятные условия для инвестиций»[286].
Подобное невежество несет в себе роковую весть: в категориях мировой экономики охрана труда и окружающей среды, демократия и права человека имеют второстепенное значение. «Но мы не можем позволить, чтобы авторитарные режимы рассматривались как необходимое условие экономического успеха, — предостерегает Джон Эванс, генеральный секретарь TUAC, международной профсоюзной организации со штаб-квартирой в Париже, представляющей интересы рабочих и служащих стран ОЭСР. — Оспаривать распределение доходов можно только в условиях демократии»[287]. Как и большинство профсоюзных деятелей в мире, Эванс уже давно выступает за введение торговых санкций против стран, нарушающих права человека и экологические нормы.
В Соединенных Штатах избранная при поддержке профсоюзов администрация Клинтона формально одобрила это требование. В конце переговоров по учреждению Всемирной торговой организации (ВТО) представитель США предложил включить в итоговый договор социально-экологический пункт, согласно которому на страны, экспортная продукция которых явно изготавливается в условиях, нарушающих минимальные стандарты Международной организации труда (МОТ) ООН, должны были бы поступать жалобы в ВТО, после чего на них при необходимости налагались бы карательные пошлины. Некоторые страны, и не только те, которых это затрагивало напрямую, выступили против такого пункта, но их оппозицию можно было бы преодолеть, поскольку они бы многое потеряли, если бы были сохранены защитные пошлины и торговые барьеры, намеченные к устранению в рамках нового договора. В итоге предложение провалилось, главным образом потому, что против него выступили все страны ЕС, за исключением Франции. Особенно ожесточенное сопротивление ему оказали правительства Германии и Великобритании — стран, где, как горько заметила «Ле монд дипломатик», «люди верят в свободную торговлю, как дети в Деда Мороза»[288]. Так осталась неиспользованной уникальная возможность ввести всемирный торговый кодекс, хотя переговоры об этом тянулись в общей сложности 7 лет.
На самом деле нет ни одного убедительного довода против введения такого рода минимальных стандартов. Основные нормы МОТ, такие как гарантия профсоюзных свобод и запрет на детский или принудительный труд и на дискриминацию по этническому или половому признаку, уже записаны в конвенциях ООН, давно ратифицированных почти всеми государствами. Угроза торговых санкций просто придала бы этим соглашениям несколько бóльшую убедительность. Такие люди, как министр экономики Германии Гюнтер Рексрот или генеральный секретарь ВТО Ренато Руджеро, настаивают, что «тогда с черного хода [социальных нормативов международной торговли], мог бы проникнуть неопротекционизм», что богатые страны, возможно, воспользовались бы нововведением как предлогом для сдерживания дешевой конкуренции со стороны Юга. То же самое утверждали все без исключения представители развивающихся стран на переговорах в Женеве: дескать, социальный пункт договора по ВТО попросту лишил бы бедняков Юга их доли процветания.
Данный аргумент, однако, имеет в лучшем случае лишь пропагандистскую ценность, а в устах европейских политиков он граничит с лицемерием. Когда затрагиваются интересы влиятельных ассоциаций и капиталистов, Комиссия ЕС и европейские правительства, очевидно, не столь щепетильны в своей торговой политике. До сих пор всякий раз, когда европейские компании не ко времени находили себе поставщиков в регионах с низкой заработной платой, Комиссия налагала высокие антидемпинговые пошлины по требованиям заинтересованных отраслевых ассоциаций, и прежде всего на импорт из Азии. Шла ли речь о шарикоподшипниках из Китая, видеокамерах из Южной Кореи или продукции химической промышленности из России, брюссельские сторожевые псы торговли неизменно вводили карательные пошлины, охватив таким образом сто с лишним категорий продукции, под тем сомнительным предлогом, что поставщики намерены продавать товары по заниженным ценам, чтобы захватить нечестным путем долю рынка.
Введение минимальных социально-экологических норм не стало бы чем-то принципиально новым — это было бы только справедливо по отношению к трудящимся развивающихся стран и их населению, вынужденному страдать от отравления окружающей среды. Заявления тамошних властей предержащих о том, что профсоюзные свободы или запрет на детский труд сделали бы бедных еще беднее, — не более чем ложь. Наоборот, окажись недемократические элиты Юга под давлением широких слоев населения, требующих поделиться плодами экономического успеха, это создало бы угрозу их собственным доходам от торговли. Протекционистские ограничения на импорт, допускаемые социальными статьями договора о ВТО, можно было бы без труда предотвратить и в том случае, если бы компетентные учреждения ООН были уполномочены выявлять нарушения прав человека.
Протекционизм: защита для богатых?
При всей справедливости и полезности потенциальных торговых санкций против авторитарных режимов они все же мало способствовали бы уменьшению натиска конкуренции с Юга. Многие профсоюзные деятели убеждены, что санкции помогли бы сдержать рост безработицы и тенденцию к снижению заработков, но это ошибка. Преимущество малых затрат, присущее странам с низким уровнем заработков, проистекает не только из политических репрессий и эксплуатации со стороны компаний и правительственных чиновников. Рост объема экспорта из довольно небольшого числа успешно развивающихся стран обусловлен прежде всего более низким, чем на Западе, общим уровнем жизни населения, запросы которого по части доходов меньше в связи со сравнительно невысокими ценами на еду и жилье. Кроме того, молодые капиталистические экономики до сих пор не испытывают нужды в системе социальной защиты, поскольку их семейные структуры пока не претерпели серьезных изменений. «Наша социальная система — это семья», — таков обычный ответ азиатских политиков, когда их спрашивают о заботе о больных и стариках. Еще более важным фактором является валютный демпинг, делающий экспортную продукцию стран, переживающих экономический бум, исключительно дешевой. Например, микропроцессорная фабрика Siemens в Малайзии оставалась бы рентабельной, даже если бы ей приходилось платить сборщицам на конвейере по 700 марок в месяц и в стране были свободные профсоюзы. Производить спортивную обувь Nike в Индонезии или Бангладеш было бы по-прежнему выгодно, даже если бы в этих странах была удвоена минимальная зарплата. Конечно, введение минимальных нормативов необходимо и помогло бы увеличить социальную справедливость на Юге, но оно вряд ли защитило бы существующие рабочие места на Севере или привело бы к созданию новых.
По этой причине многие французские экономисты, следуя традиционной протекционистской линии своей страны, призывают к избирательным ограничениям в торговле. Так, советник французского правительства по экономическим вопросам Жерар Лафай предложил взимать с азиатских экспортеров антидемпинговые пошлины, которые по меньшей мере компенсировали бы искусственное занижение курсов их валют. Но эти таможенные сборы не должны, по его мнению, идти в казну той или иной страны; их-де следует выдавать в качестве кредитов в европейских валютах соответствующим экспортерам. Эти средства, считает Лафай, могли бы пойти на финансирование импорта из Европы, что привело бы к улучшению баланса в торговле и курсах обмена. Звучит убедительно, но не без изъянов. Эта мера может распахнуть ворота перед произвольным повышением пошлин. Никто не смог бы объективно определить, что такое честный баланс, и сказать, не сочтет ли та или иная обложенная пошлиной страна, что ей преграждают доступ к рынкам Севера, от которых она вынужденно зависит в своем развитии.
Более того, еще неизвестно, способен ли вообще щит от конкуренции со стороны стран с низким уровнем зарплаты воспрепятствовать галопирующему обесценению рабочей силы в высокоразвитых странах. Не вызывает сомнений, что рост импорта с Востока и Дальнего Востока повлек за собой убытки в трудоемких секторах промышленности. В обувной и текстильной промышленности, компьютерной технике, точном машиностроении и связанных с ними секторах все страны триады Европа/Северная Америка/Япония уступают рабочие места новым конкурентам на мировом рынке. Это главная причина падения спроса на неквалифицированный труд и простые сборочные операции на конвейерах. Британский экономист Адриан Вуд в своем обширном эмпирическом исследовании показал, что начиная с 1980 года занятость в промышленности в странах триады снизилась в среднем на 15% в результате роста объема торговли со странами, переживающими экономический бум[289].
С макроэкономической точки зрения данная тенденция до сих пор приносит в большинстве процветающих стран Севера выдающиеся результаты в бизнесе, потому что одновременно с ростом импорта растет и экспорт. В конце концов, новые прогрессирующие экономики вынуждены покупать все, что они не могут производить сами: от фабричного оборудования до телекоммуникационных спутников. Ни одно другое государство ОЭСР не извлекает из этого такой выгоды, как Германия, которая по отношению к своему ВНП и по сей день является крупнейшим экспортером в мире. Она даже имеет преобладание экспорта над импортом в торговле с Юго-Восточной Азией и новыми рыночными экономиками Центральной Европы. При этом бóльшая часть доходов от экспорта напрямую вкладывается в капитале — и наукоемкие отрасли, такие как машиностроение и строительство сооружений, химическая промышленность, производство электроники и измерительных приборов высокой точности.
Этот перекос и является основной причиной кризиса занятости. Большинство германских, французских и японских компаний процветает благодаря глобализации. Вместе с тем процент их доходов, идущий на оплату труда немцев, французов и японцев, неуклонно снижается. Общий уровень жизни не понижается; просто все меньшая часть экономического продукта приходится на долю окладов и зарплат. Даже в Германии, где, как до недавних пор считалось, достигнут баланс, доля зарплат с 1982 года упала на 10%. В то же время все более неравномерным становится распределение суммарной зарплаты между различными профессиональными группами. Специалисты, которым трудно найти замену, или квалифицированные поставщики услуг, у которых едва ли могут 6_ыть конкуренты на международном уровне, все еще могут рассчитывать на рост доходов. Огромное же большинство остальных, особенно неквалифицированных, скатывается все ниже и ниже.
Этот процесс лишь в незначительной степени можно отнести на счет развивающихся экономик стран Азии или Центральной Европы. Большинство же негативных изменений на рьшке труда вызвано быстрым наращиванием взаимосвязей между самими странами ОЭСР, на которые в 90-х годах по-прежнему приходится более двух третей зарубежных инвестиций в мире. Действительно, компании Севера увеличивают свои капиталовложения в развивающиеся страны, однако свыше половины этих средств вкладывается в разработку сырьевых ресурсов и предприятия сферы обслуживания, такие как отели и банки, где перемещение рабочей силы вряд ли играет существенную роль. Зарубежные поглощения компаний и инвестиции интенсифицируются главным образом между богатыми странами. Если объем прямых зарубежных инвестиций в развивающиеся страны с 1992 по 1995 год увеличился от неполных 55 до 97 млрд долл. в год, то соответствующий показатель для стран ОЭСР за тот же период подскочил примерно от 111 до 216 млрд.[290] Следовательно, клуб богатых, как и прежде, оставляет для себя львиную долю переживающей бум мировой торговли.
Эти цифры показывают, до какой степени и капитал, и торговля интегрированы в пределах стран ОЭСР. Но волна конкуренции, поднявшаяся в результате среди наиболее процветающих стран мира, означает, что на протяжении вот уже многих лет производительность растет быстрее, чем благосостояние общества в целом; технологические изменения, вызванные конкуренцией, делают все больше и больше рабочих мест избыточными. Так что винить в безработице и целенаправленном снижении заработков нужно вовсе не дешевую рабочую силу Юга и Востока. Она не более чем инструмент и смазка в нисходящей спирали рационализации и урезания зарплат в мире ОЭСР.
Неолиберальная школа экономики наполнила целые библиотеки своими исследованиями, в которых она старается доказать, что кризис занятости вызван не транснациональной интеграцией и конкуренцией, а лишь совершенствованием методов управления и технологий производства[291]. Но это чисто научное различие. В реальном мире эти два явления неразрывно связаны между собой, потому что только глобальная интеграция придает технологическому прогрессу ту пробивную силу, что выдавливает сегодня миллионы людей на задворки общества. В той гипотетической ситуации, когда протекционизм направлен исключительно против стран с низким уровнем заработков, попытки обуздать этот процесс с помощью торговых барьеров и импортных пошлин малоэффективны. Та или иная страна была бы способна восстановить свои трудоемкие производства лишь в том случае, если бы она оградила себя от конкуренции со стороны других высокоразвитых стран. Но тогда она потеряла бы все рынки для собственного экспорта, так как конкуренты ответили бы тем же, а это — стратегия хаоса. Ценой обратных структурных изменений стала бы колоссальная потеря в благосостоянии, даже если бы уровни занятости несколько повысились.
Всякий раз, когда экономисты и ученые мужи категорически настаивают, что гражданам придется затянуть потуже пояса из-за того, что на рынок оказывают давление новые армии дешевой рабочей силы, они умалчивают о том, что в богатейших странах мира общий объем продукции продолжает расти. В среднем доход на вложенный капитал по-прежнему увеличивается, и даже быстрее, чем раньше. Поэтому нельзя сказать, что бедные страны отбирают у богатых их процветание.
На самом деле все наоборот. Во всем мире экономическая глобализация приносит все большую долю растущего благосостояния привилегированным слоям Севера и Юга — богатым владельцам собственности и капитала, а также высококвалифицированным профессионалам за счет остального населения. Статистика Bundesbank об источниках частного дохода отражает тот факт, что и Германия, несмотря на сильные профсоюзы и высокие социальные затраты, уже давно подвержена этой тенденции. Еще в 1978 году в Западной Германии 54% доходов, остающихся после уплаты налогов, приходилось на зарплаты и оклады. Остальное наполовину состояло из доходов от процента и прибылей и наполовину из пенсий и платежей на социальные нужды. Шестнадцать лет спустя, в 1994 году, доля зарплат и окладов за вычетом налогов упала до 45%. Теперь аж треть национального дохода попадает к тем, кто, не работая, извлекает выгоду из процента и корпоративных прибылей[292].
В свете этих данных конфликты, возникающие из-за всемирной экономической интеграции, означают не больше и не меньше чем борьбу за распределение, которая так же стара, как и сам капитализм. Удивляет лишь то, что рыночным мистикам все еще удается скрывать эту простую истину как от себя, так и от широкой публики. В Германии, например, споры о «местных факторах» становятся все более абсурдными и приводят к политически неверным решениям большого масштаба.
Немецкая модель; ложь о местных факторах
Гельмут Коль рассыпался в похвалах. «Профсоюзы продемонстрировали исключительную готовность к сотрудничеству и дискуссиям», — льстил он представителям германских трудящихся. Их «альянс во имя занятости» дал «положительные результаты». Клаус Цвиккель, председатель IG-Metall, отраслевого профсоюза металлистов, проявил себя как «образцовый согражданин, умеющий доводить дело до конца», a IG-Chemie, профсоюз работников химической промышленности, заслуживал, по его мнению, «глубочайшего уважения и благодарности». Объекты его красноречия получили заверения в поддержке в трудные времена. «Я ученик Людвига Эрхарда[293]. Наша партия никогда не будет придерживаться политики, ориентированной только на рынок; социальные условия также являются ее частью, вследствие чего никакого социального демонтажа не последует»[294]. Так говорил канцлер еще в апреле 1996 года в телепрограмме, шедшей в наиболее благоприятное эфирное время. Всего лишь через два месяца те, кому были даны столь лестные оценки, организовали в Бонне крупнейшую со времен войны профсоюзную демонстрацию, чтобы выразить протест против того же самого канцлера и его политики. Далеко за 300 000 человек прибыло на 74 поездах специального назначения и 5400 автобусах, причем для того, чтобы выступить против разрушения социальных достижений, безработицы и урезания заработков с подачи государства, некоторым из манифестантов пришлось провести в пути целых 70 часов. Если правительство будет и далее придерживаться этой программы, заявил глава федерации профсоюзов DGB Дитер Шульте, «в нашей республике создастся обстановка, по сравнению с которой события во Франции покажутся слабенькой прелюдией» (очевидный намек на аналогичные действия французских профсоюзов за полгода до этого). На этот раз Коль нашел для своих когда-то столь покладистых партнеров другие слова, назвав их «профессиональными жалобщиками и сеятелями сомнений», у которых «на уме лишь защита эгоистических интересов» и которым «нет дела до будущего Германии»[295].
Времена в Германии меняются. Ныне, отбросив всякий камуфляж, консервативно-либеральное правительство агрессивно проталкивает все, чего годами добивалась капиталистическая элита страны. «Мы слишком дорого обходимся», говорит канцлер, но это «мы» относится только к зарабатывающим на жизнь в поте лица рабочим и служащим. Из уст в уста переходит выражение «эгоистические интересы». Премьер-министр земли Саксония, христианско-демократический прорицатель Курт Биденкопф, обнаружил аж «целую гору эгоистических интересов», которую надо «взорвать»[296]. Вот эти интересы: выплата зарплаты по больничным, денежные пособия на детей, защита от необоснованного увольнения, пособия по безработице, предоставление работы государством, пятидневная рабочая неделя, ежегодный тридцатидневный отпуск и многое другое, что издавна входит в социальную составляющую рыночной экономики Германии. Несомненно, по международным меркам большинство германских трудящихся до сих пор выделяется своим положением в лучшую сторону, что вызывает восхищение и зависть во всем мире и в свое время позволяло политическим партиям страны делать «немецкую модель» лейтмотивом своих предвыборных кампаний. Но затем, в свете глобальной конкуренции, социальные достижения превратились в эгоистические интересы. Хотя правительственная программа, опубликованная в апреле 1996 года, и называется «За рост и занятость», нынче Коль и его министры со всей очевидностью решили поставить эгоистов на место. Их топор занесен над широким спектром достижений в сфере социальной защиты и оплаты труда. Впредь наказывать прекращением выплат будут даже женщин, которые, забеременев (разумеется, из чистого эгоизма), утрачивают трудоспособность.
Цель вполне ясна. Коль скоро машина глобальной экономики оставляет все меньше средств на оплату труда, людям, живущим на зарплату и пособия по социальному обеспечению, придется делить между собой меньшую совокупную сумму, вследствие чего каждому что-нибудь да достанется и уровень безработицы снизится. Подразумевается, что Германия должна учиться у Америки, где уровень занятости выше, но лишь за счет более низких заработков и социальных выплат, а также большего количества рабочих часов и худших условий труда. Один из германских агитаторов за повышение дохода от капитала сформулировал данный принцип достаточно четко: «Для того чтобы снова иметь полную занятость, нужно на 20% уменьшить суммарную зарплату». Это Норберт Вальтер, бывший директор Института мировой экономики в Киле, а ныне глава отдела экономических исследований Deutsche Bank, совет директоров которого регулярно награждается опционами на акции за заботу об «интересах акционеров»[297]. Сделай этот банковский экономист подобное предложение несколько лет назад, он оказался бы в политической изоляции; сегодня же он знает, что на его стороне правительство. За это Вальтер и его товарищи по оружию могут благодарить кампанию, которая на протяжении многих лет велась в средствах массовой информации и где никакие искажения или фальсификации не считались слишком грубыми, если помогали обеспечить победу.
Одним из главных аргументов в этом пропагандистском сражении является то, что немецкое социально ориентированное государство стало непомерно дорогим. Или, согласно формулировке Вальтера, слишком много граждан имеют «приспособленческий менталитет» и предпочитают получать социальные пособия вместо того, чтобы взяться за работу. Безусловно, германская система социальной защиты во многом несовершенна. Существующие 152 формы пособий по социальному обеспечению организованы в какой-то мере хаотично, сопряжены с высокими административно-управленческими расходами и часто выплачиваются симулянтам, тогда как действительно нуждающиеся не могут оплатить тем, что получают, даже крышу над головой. Свыше 8 миллионов человек уже находятся за чертой бедности, и средств на то, чтобы вновь сделать их полноценными членами общества путем переподготовки и создания рабочих мест, не хватает. Но вот социально ориентированное государство, вопреки утверждениям, дороже обходиться не стало. В 1995 году во всех областях затрат на социальные нужды было выплачено почти триллион марок — в одиннадцать раз больше, чем в 1960 году, однако национальный доход увеличился тем временем на ту же сумму. Таким образом, социальные затраты стоили Федеративной Республике в 1995 году немногим более 33% ВНП. В 1975 году, за двадцать лет до того, эта цифра для Западной Германии была почти такой же: 33%[298]. Если не учитывать Восточную Германию, то данный показатель был бы сегодня на 3% ниже.
Но вот что действительно кардинально изменилось, так это структура финансирования данных расходов. Почти две трети затрат на социальные нужды покрывается из взносов получающих зарплату и оклад. Но в силу того, что их доля в национальном продукте непрерывно падает вследствие безработицы и медленного роста заработков, вышеназванные взносы с годами приходится повышать до громадных размеров, с тем чтобы можно было в полном объеме выплачивать пенсии, пособия по безработице и деньги на лечение. Четыре миллиона безработных означает ежегодную потерю 16 млрд марок для одних только пенсионных фондов. Поэтому кризис германской системы социальной защиты почти полностью обусловлен кризисом занятости, а вовсе не чрезмерными запросами ленивого и избалованного населения. Для увеличения богатства страны и предотвращения неоправданного удорожания рабочей силы было бы логично проводить такую налоговую политику, при которой такие не вносящие своего вклада в социальные расходы категории работников, как чиновники, предприниматели и лица с высокими доходами, начали бы это делать. Правительство Коля, однако, движется в противоположном направлении. В рамках программы развития Восточной Германии оно разбазаривало средства, выделенные на социальные нужды, на всевозможные расходы, не имеющие ничего общего с их предназначением: от компенсаций жертвам репрессий со стороны правившей СЕПГ до выходных пособий увольняемым должностным лицам бывшей ГДР. Администраторы компетентных федеральных органов подсчитали, что, сняв с пенсионных фондов и фондов выдачи пособий по безработице и по болезни это финансовое бремя, для которого те вовсе не предназначены, можно было бы сразу же сократить социальные взносы до 8% от суммы зарплат[299]. Даже те, кто громче всех сетует на раздутые социальные расходы государства, вольны использовать эти взносы по собственному усмотрению. Так, с 1990 по 1995 год германские предприниматели и отделы кадров компаний досрочно отправили на пенсию три четверти миллиона работников, омолаживая свою рабочую силу за счет плательщиков взносов. При этом дополнительная нагрузка на пенсионные фонды составляла 15 млрд марок в год, что эквивалентно одному проценту совокупной зарплаты[300].
Не менее сомнительным способом заставлять граждан ФРГ снижать свои запросы являются настойчивые заявления, что в Германии стоимость труда выше, чем в других странах. В действительности же международные различия в уровнях почасовой оплаты значат не больше, чем разница между затратами на строительство в центре Франкфурта и в каком-нибудь пригороде Перлеберга. Реальное значение на мировом рынке имеют расходы по зарплате на единицу труда, или стоимость продукции, производимой такой единицей. Сравнив соответствующие показатели по всему миру, экономисты Хайнер Флассбек и Марсель Штремме из Германского института экономических исследований (DIW) в Берлине пришли к поразительным результатам. С 1974 по 1994 год расходы по зарплате на единицу труда в Западной Германии в пересчете на местные валюты выросли в общей сложности на 97%, тогда как во всех остальных странах ОЭСР этот прирост в среднем составил целых 270%[301]. Выходит, немецкая машина эффективности определенно работала хорошо, и именно это и по сей день позволяет немецким компаниям лидировать на многих рынках. В июле 1996 года такие же выводы были сделаны экономистами мюнхенского института Ifo, одного из шести экономических исследовательских центров, консультирующих федеральное правительство. «Нигде средний реальный доход на одного работника не рос так медленно, как в Германии, — докладывали эксперты Ifo министерству экономики в Бонне. — Аналогичные цифры имеют место только в США. Эти данные подкрепляют точку зрения умеренных профсоюзов Германии и подтверждают, что высокая почасовая оплата при малом полезном рабочем времени оправданна в силу высокой производительности труда»[302].
Конечно, ни одна страна в мире не может на протяжении десятилетий продавать больше, чем она импортирует, без определенных последствий. В случае Германии результатом явился устойчивый рост курса немецкой марки по отношению к другим валютам. В итоге надбавки к зарплате, выбиваемые в каждом новом раунде переговоров, неизменно вскоре «съедались» обесцениванием заработков, деноминированных в других валютах. Таким образом, кризис Европейской валютной системы и проводимая Федеральным резервным банком Нью-Йорка политика дешевого доллара толкали марку вверх, а доллар вниз, экспорт германской продукции принес в 1994 году на 10% меньше, чем в 1992. Аналитики из DIW сообщали, что если принять во внимание указанные сдвиги обменных курсов, то видно, что динамика затрат в Германии примерно совпадает с таковой в других индустриальных странах. Тесно связанный с ассоциациями работодателей Институт германской экономики в Кельне также подсчитал, что расходы по зарплате на единицу труда в Германии в долларовом выражении сегодня приблизительно те же, что и в Америке[303].
На этом фоне заявление о высокой стоимости германских трудящихся, сделанное осенью 1995 года Олафом Хенкелем, бывшим главой ЮМ и нынешним президентом Федеральной ассоциации германской промышленности, прозвучало как беззастенчивая пропаганда. Он утверждал, что коль скоро немецкие компании ежегодно инвестируют за границей миллиарды марок, то при этом происходит своего рода вывоз рабочих мест. Или, как он выразился: «Рабочие места — это наиболее успешный предмет германского экспорта»[304]. Это утверждение, произведшее в обществе эффект разорвавшейся бомбы и ставшее вскоре притчей во языцех, является, тем не менее, абсолютно ложным.
В подтверждение данного тезиса Хенкель произвел следующие вычисления. Начиная с 1981 года германские компании вложили в свои зарубежные филиалы 158 млрд марок. За тот же период их заграничный персонал увеличился на 750 000 человек. Следовательно, Германия «экспортировала» около 54 000 рабочих мест в год. На самом деле все обстоит иначе. Страна, имеющая в течение нескольких лет положительное сальдо торгового баланса, неизбежно экспортирует больше капитала, чем импортирует. По той же причине и в течение того же времени японские корпорации инвестировали в свои зарубежные отделения на 100 млрд марок больше, чем германские. Бóльшая часть такого рода инвестиций делается не в экономики с низким уровнем заработков, а в другие индустриально развитые страны. Важнейшими направлениями германской экспансии являются Великобритания, Испания, Соединенные Штаты и Франция.
Важнее, однако, то, что новые рабочие места существуют только в теории. Это убедительно доказал Михаэль Вортманн из берлинского Института внешней экономики, который про вел исследование зарубежных инвестиций германских компаний за последние десять лет[305]. Действительно, согласно статистике Bundesbank, с 1989 по 1993 год персонал германских компаний за рубежом увеличился на 190 000 человек, но за то же время германские инвесторы скупили иностранные компании, где работало в общей сложности свыше 200 000 человек. Значит, «экспортированные» рабочие места там уже давно были. Многие корпорации, разумеется, открывают новые предприятия: BMW строит завод в Южной Каролине, Siemens — на севере Англии, Bosch — в Уэльсе, Volkswagen — в Португалии и Китае. Однако при этом немецкие стратеги мирового рынка поступают с приобретенными иностранными компаниями точно так же, как и в самой Германии: рационализируют, перемещают и концентрируют. Кроме того, многие зарубежные приобретения делаются просто для расчистки рынка, когда за покупкой вскоре следует закрытие. Подводя итоги, приходится констатировать, что немецкие компании создают за границей так же мало рабочих мест, как и внутри страны. Дебаты о германской конкурентоспособности, как видно, полны несообразностей, противоречий и преднамеренно обманчивых формулировок. Все это, однако, не столь безобидно, как может показаться, и роковым образом отражается на политике. Уверовав в местническую риторику радикальных пропагандистов свободного рынка, правительство загоняет страну в клетку программы жесткой экономии, от которой больше вреда, чем пользы. В одном только государственном секторе к 1998 году должно исчезнуть порядка 200 000 рабочих мест. А когда иссякнут фонды для создания рабочих мест в Восточной Германии, еще 195 000 человек встанут в очередь за пособием по безработице. Урезание пособий по социальному обеспечению приведет к дальнейшему снижению покупательной способности внутреннего рынка. По мнению Хольгера Венцеля, главы ведущей германской ассоциации розничной торговли, из-за недостатка покупателей число рабочих мест в магазинах и универмагах будет ежегодно сокращаться на 35 000[306]. «Безработица питает сама себя», — предупреждает Вольфганг Франц, одно из пяти экономических «светил», работающих на федеральное правительство[307]. Тем не менее министры утверждают, что альтернативы режиму жесткой экономии нет, и указывают на растущий дефицит государственного бюджета.
Этот аргумент также неубедителен. Бесспорно, с ростом безработицы государственные доходы от сбора налогов снижаются. Но те, кто залатывает бюджетные дыры, умалчивают о том, что они сами сознательно уменьшают размер этих доходов. С каждым годом компании и предприниматели получают все больше налоговых поблажек на федеральном и земельном уровнях, и одновременно власти закрывают глаза на перевод активов в офшорные зоны. Ряд снижений налогов для акционерных компаний наряду с потоком выгодных списаний уменьшили налоговое бремя на прибыли корпораций с 33% в 1990 году до 26% в 1995, при этом государственные доходы из данного источника упали на 40%[308]. Еще в 1980 году налоги на прибыль составляли четверть доходов государства, и если бы сегодня было так же, то в государственной казне было бы на 86 млрд марок больше, чем сейчас, что в полтора раза превышает дополнительную задолженность, накопленную министром финансов в 1996 году. Не следует забывать и о том, что сама по себе программа жесткой экономии приведет к дальнейшему снижению налоговых поступлений. А с отменой налогов на личное имущество и коммерческий капитал в казну перестанут поступать еще 11 млрд марок.
Считается, что все эти меры должны упростить создание в Германии новых фирм и рабочих мест. Отдельные страны будут конкурировать друг с другом даже в налогообложении корпораций — так министр финансов Тео Вайгель оправдывает налоговые реформы, снижающие государственные доходы. Однако давно ясно, что надежда на то, что более высокие прибыли чуть ли не сами собой превратятся в новые предприятия и рабочие места, несбыточна. Между 1993 и 1995 годами корпоративные прибыли в Федеративной Республике увеличились в среднем на 27%, а уровень инвестиций остался неизменным.
Выход из спирали, ведущей вниз
Противоречия германской заботы о местных факторах иллюстрируют основное заблуждение политики, делающей глобальную конкуренцию самоцелью: она не учитывает перспективы. Необузданное соперничество за овладение мировым рынком (труда) обесценивает трудовые ресурсы все более быстрыми темпами и, подобно состязанию между зайцем и черепахой, разворачивается вне поля зрения подавляющего большинства населения. При вступлении в это соперничество того или иного участника у него либо уже есть более дешевый конкурент, либо таковой появляется не сегодня-завтра. Те, кто «адаптировался», лишь вынуждают других адаптироваться в какой-нибудь другой области и вскоре обнаруживают, что настало время двигаться дальше. Независимо от того, что они делают, это игра, в которой большинство трудящихся заведомо обречено на проигрыш. Преимущество имеют только богатые и те, кто обладает (в данный момент времени) дорогостоящей квалификацией, — приблизительно одна пятая часть населения давних индустриальных центров. Даже профессиональные поборники неолиберализма вроде штаб-квартиры ОЭСР в Париже уже не могут отрицать, что мир движется к обществу 20:80. Слишком уж много статистических данных по доходам, указывающих на расширение пропасти между богатыми и бедными. При всем том дальнейшее движение по спирали, ведущей вниз, отнюдь не предопределено и даже не является вероятным, как бы ни развивались события. Разработано большое число возможных контрстратегий. В основе любого изменения курса должно быть повышение стоимости труда. Даже либеральные экономисты не оспаривают тех огромных возможностей, что могла бы дать экологическая реформа налоговой системы. Постепенное долгосрочное удорожание энергопотребления не только стало бы противодействием угрозе для окружающей среды, но и повысило бы спрос на рабочую силу и замедлило бы развертывание технологий автоматизации производства. Рост транспортных расходов установил бы новые пределы транснациональному разделению труда. Передвижные склады комплектующих в виде бесконечных колонн грузовиков на автомагистралях перестали бы себя оправдывать. В тщательно продуманном модельном расчете Германский институт экономических исследований продемонстрировал, что понемногу увеличивающийся с каждым годом экологический налог на жидкое котельное топливо, бензин, природный газ и электричество привел бы за десять лет к созданию в Германии более 600 000 рабочих мест. Минимизации энергопотребления можно было бы достичь главным образом за счет технических усовершенствований в строительстве и децентрализации производства самой энергии, что создало бы рабочие места для многих людей[309].
Еще больше рабочей силы понадобится, если сделать более дорогим потребление сырья. Аналитик Вальтер Штаэль опубликовал примечательный расчет на эту тему под интригующим названием «Западня ускорения, или Победа черепахи»[310]. Повышение цен на ресурсы обеспечило бы долговечным изделиям явное преимущество в части расходов перед их недолговечными и одноразовыми конкурентами и способствовало бы росту занятости. На примере автомобилестроения Штаэль показывает, что уже давно можно выпускать автомобили, шасси и блок двигателя которых служили бы двадцать лет вместо обычных ныне десяти. В случае модели, рассчитанной на десять лет, покупная цена составляет в среднем 57% суммарных затрат, и только 19% идет на ремонт. Однако за двадцать лет цена новой машины снижается до 31% всех расходов, а стоимость ремонта возрастает до 36. Если предположить, что расходы на автомобиль остаются такими же, как и в первом случае, то стоимость автоматизированного заводского труда была бы пропорционально ниже, а стоимость трудоемких ремонтных работ пропорционально выше.
Многое можно сделать и в других сферах. В системе здравоохранения, в переполненных школах и университетах, в восстановлении разоренных ландшафтов или обветшалых городов-спутников работы более чем достаточно. Сами по себе частное предпринимательство и рынок здесь бессильны. Создание соответствующих рабочих мест возможно лишь при условии субсидирования таких программ государством, в первую очередь муниципальными и районными властями.
Необходимые средства должны быть предусмотрены в бюджете. Можно без всякого вреда для экономики обложить налогом перемещение капитала через границу, создавая выгодный источник финансирования, предотвращающий удорожание труда. Еще больше дал бы запрет на перевод активов в офшорные центры вроде Лихтенштейна или Нормандских островов, являющиеся своего рода черной дырой в мировой экономике, где с каждым годом все больше денег укрывается от налогообложения. Помимо чисто финансовой выгоды, в та кой реформе заложено противодействие тенденции к перераспределению доходов снизу вверх.
Возражения против такого рода предложений очевидны. Связанные по рукам и ногам путами глобальной экономики, государства-нации, по крайней мере богатого Севера, в большинстве своем уже просто не в состоянии осуществлять столь радикальные реформы. На словах все партии германского Бундестага за эконалог, но на практике любая подобная инициатива отвергается, стоит тому или иному представителю промышленников намекнуть, что повышение цен на энергоносители вытеснит тысячи компаний за границу. Так демократия превращается в театр абсурда.
Выходит, что ключевой задачей на будущее является обретение вновь способности к политическим действиям, восстановление верховенства политики над экономикой. Ведь уже очевидно, что долго так продолжаться не может. Слепая адаптация к силам мирового рынка неумолимо подталкивает издавна процветающие общества к беззаконию и краху социальных структур, функционирование которых является гарантом их стабильности. Но рынкам и мультинационалам нечего противопоставить той разрушительной силе, что исходит от растущего радикально настроенного меньшинства деклассированных и отверженных.
Глава 6 Спасайся, кто может. Вот только кто может? Исчезающий средний класс и подъём радикальных соблазнителей
— Превратится ли весь мир в одну большую Бразилию, в страны с полным неравенством и гетто для богатой элиты?
— Этим вопросом вы берете быка за рога. Конечно, даже Россия становится Бразилией.
Михаил Горбачев в «Фермонт-отеле», Сан-Фрациско, 29 сентября 1995 г.[311]Лайнер авиакомпании «Канадэйр», вылетающий задержанным рейсом «Люфтганзы» номер 5851 в берлинский аэропорт Те-гель, с раздражающей медлительностью выруливает на взлетно-посадочную полосу венского аэропорта Швехат. В 16-м ряду у иллюминатора поудобнее устраивается тридцатилетний Петер Тишлер. Несмотря на желание выглядеть расслабленным, он явно на пределе. Вперившись отсутствующим взглядом в складной столик перед собой, он начинает говорить[312].
В это июньское утро 1996 года, в пятницу, он встал в пять часов и помчался во взятой напрокат машине через Моравию и винодельческий район на востоке Австрии, чтобы успеть к 9.05 на рейс до Берлина. Там у него назначена встреча до полудня, и домой, в городок Айторф недалеко от Бонна, он вернется только вечером. Уик-энд он проведет в Испании, а в четверг он должен быть в Соединенных Штатах. Перелеты для него так же привычны, как для других езда на трамвае. Означает ли это, что у него завидная жизнь?
Тишлер знает мир, но его не знает никто. Он — не менеджер и не профессиональный теннисист, а своего рода механик эпохи глобализации, точнее говоря, он исправляет ошибки программирования в управляемых компьютерами установках литья под давлением. Он переутомлен и издерган и не особенно выбирает слова.
«Стоит ли все это таких усилий? — спрашивает он. — Я работаю по 260 часов в месяц, притом почти 100 часов сверхурочно. Из зарплаты в 8000 марок мне остается всего 4000, потому что я принадлежу к первой категории налогообложения». У него нет времени обзавестись семьей: «Государство разбазаривает мои деньги, и на пенсию мне ничего не останется». Его работодатель, узкоспециализированная машиностроительная фирма Bartenfeld, высокорентабельна, но недавно сократила четверть рабочих мест, «что уже совсем не смешно». Хоть его об этом и не спрашивают, Тишлер говорит, что в столь безрадостной ситуации виноваты «выселенцы [этнические немцы из России и Восточной Европы], и турки». Он добавляет: «Не понимаю, почему мы тратим столько денег на Россию и помощь развивающимся странам да еще и подбрасываем капустки евреям. Распродажа нашей страны и наших фирм — сущее безумие». Как человек с «богатым международным опытом», он знает, за кого будет голосовать: «Ясное дело, за республиканцев», несмотря даже на то, что это, к сожалению, «еще не настоящая правая партия». Ему-де не следовало бы говорить это «вслух», но «многие граждане уже вооружаются».
Смена декораций. Другой аэропорт, схожая судьба, но совершенно другая реакция. Стоит душный июльский день 1996 года, и Лутц Бюхнер, заместитель управляющего полетами «Lufthansa» во Франкфурте, пытается успокоить разъяренного, часто путешествующего самолетом человека, который прибыл к выходу Б-31 за двенадцать минут до взлета и не был допущен на борт, так как несколько недель тому назад минимальное время между окончанием регистрации и вылетом было увеличено с 10 до 15 минут. Бюхнер спокойно объясняет новые правила и проявляет понимание проблем торопливого пассажира: «Чувствуется нарастающее давление со всех сторон. Даже люди, от которых вы никогда не ожидали такой реакции, выходят из себя по пустякам»[313]. Тем не менее Бюхнер убежденно заявляет: «Приходя каждое утро на работу, я чувствую радость. Я на стороне этой компании». Несколько дней назад, однако, он стоял вместе с 1000 своих коллег у входа в аэропорт, потому что хорошие экономические результаты не помешали Lufthansa объявить об увольнении по сокращению штатов еще 86 сотрудников.
У тридцатипятилетнего Бюхнера, как и у измотанного компьютерного эксперта Петера Тишлера, нет детей, «потому что безработица скоро доберется и до меня». Само собой, он с пониманием отнесется к «личной экономии и сокращению зарплаты, если это обезопасит наши рабочие места», но направленная вниз спираль глобализации все же не останется без ответа: «Назревает бунт, вне всякого сомнения». Бюхнер, однако, «безусловный пацифист»: «Конечно, в стороне я не останусь, но быть застреленным на демонстрации не хочу. Я загодя переберусь со своей подружкой-гречанкой на какой-нибудь маленький островок в Эгейском море».
Современный радикал Петер Тишлер и смятенный, но миролюбивый Лутц Бюхнер — два благополучных, непритязательных гражданина, представляющие собой прототипы будущего развития Германии и, возможно, остальной Европы. Не проглядывают ли в этих двух характерах контуры повседневной политики на рубеже тысячелетий? Сражайся или смывайся: не это ли становится решающим выбором? Даже если повторение истории не неизбежно, многое говорит о приближении конфликтов, вроде тех, что сотрясали европейский континент в 1920-е годы.
Социальное связующее, удерживающее общества от распада, стало хрупким и начало крошиться. Надвигающееся политическое землетрясение является угрозой всем современным демократиям. Этот процесс наиболее очевиден, хотя и на удивление мало изучен, в Соединенных Штатах Америки.
Одиночество Чарли Брауна
«Почему Европа совершает подобное самоубийство? Неужели вы не понимаете, что в конце концов вам придется приспособиться к экономическим тенденциям и глобальным изменениям?»
Вашингтонский бизнес-консультант Гленн Даунинг, который с полной убежденностью в своей правоте выдал эти сентенции одному своему гостю с континента-самоубийцы, консервативен с детства и в настоящее время предпочитает вкладывать деньги в сибирскую сырую нефть[314]. Его дочь Эллисон, выпускница юридической школы, состоит в штате честолюбивых помощников одного конгрессмена-республиканца. Накануне вечером, в последнюю субботу сентября 1995 года, у нее было шикарное венчание, и папа Даунинг полон оптимизма: «Наконец хоть что-то происходит». Он с радостью упоминает о предвещаемой Ныотом Гингричем, радикально настроенным лидером республиканского большинства в палате представителей, новой «американской революции» — главной надежде американских правых со времен Рональда Рейгана.
Пора, глаголет Даунинг, кончать с болтовней о падающих заработках. Во всем виноваты демократы, «потому что статистика попросту фальсифицируется, а расчет инфляции ведется неправильно». Те, кто говорит об «упадке или даже крахе американского среднего класса», просто выставляют себя дураками, как и те, кто полагает, что оба члена белой супружеской пары среднего класса должны упорно трудиться, чтобы приблизиться к тому уровню жизни, который еще в 70-х вызывал зависть во всем мире и воспринимался как нечто само собой разумеющееся. В те дни у мужчин была надежная, хорошо оплачиваемая работа, а их жены, как соломенные вдовы, оставались в своих пригородных домах, независимо от того, были у них дети или нет. Если они и работали, то, как правило, от скуки, а не от нужды.
Даунинги уже много лет живут в Рестоне, штат Виргиния, среди лесов процветающего округа Ферфакс, недалеко от аэропорта имени Даллеса и штаб-квартиры ЦРУ. «Вы только посмотрите вокруг», — самодовольно говорит глава семейства, стоя на новой террасе, которую он аккурат к семейному торжеству собственноручно выложил новым разноцветным кирпичом в виде карты мира: красно-коричневые континенты и ярко-красные океаны образуют абсолютно плоскую и гладкую поверхность.
Менее чем через год после свадьбы Эллисон, летом 1996-го, стало ясно, насколько этот корпоративный консультант и инвестор оторвался от реальности. Идеального мира белого среднего класса больше не существует. Разумеется, тридцатилетняя дочь Даунинга окружает своего почти шестидесятилетнего отца любовью и заботой. «Люди его поколения уже не способны адекватно воспринимать изменения в обществе, — объясняет она в присутствии своего мужа Джастина Фокса, выросшего в комфортабельном калифорнийском пригороде вблизи Беркли[315]. Мы никак не можем позволить себе образ жизни наших родителей: дом, наподобие того, который папа купил незадолго до моего рождения, сегодня обошелся бы в 400 000 долл., что нам просто не по карману».
И не важно, что карьера Джастина успешно развивается: он стал «писателем-репортером» процветающего журнала деловых кругов «Форчун», и теперь молодожены живут в Манхэттене. Эллисон бросила работу в столице и зарабатывает всего 1100 долл. в месяц как агент по проведению выборов кандидата от республиканцев в законодательное собрание штата Нью-Йорк. Джастин же за две недели зарабатывает за вычетами из жалованья не более 1157 долл. Одна только плата за их уютную, но маленькую квартиру на 39-й улице составляет 1425 долл. в месяц, что равняется почти половине их совместного дохода, а ведь еще есть электричество и телефон. Годовой оклад Джастина 45 000 долл. «Этого совершенно недостаточно, — говорит Эллисон, но она вовсе не недовольна. — Взгляните на людей, которые моложе нас и оканчивают колледж, на двадцатидвух- и двадцатитрехлетних. Зачастую они могут рассчитывать самое большее на место официанта в закусочной или рассыльного на мопеде». Муж Эллисон делает по-журналистски лаконичный комментарий: «Средний класс вымирает».
Озабоченные своим будущим, уцелевшие прослойки американского среднего класса 90-х вкладывают свои сбережения в акции и другие ценные бумаги. Даунинг и Фокс инвестируют, помимо прочего, в Coca-Cola и тихо радовались своему счастью во время проведения Олимпийских игр под знаком этого гиганта по производству безалкогольных напитков. За те шестнадцать дней, что длились игры столетия в Атланте, курс акций Coca-Cola поднялся на Уолл-стрит на 4,2%[316].
20 миллионов американских семей играют в биржевую рулетку, вкладывая деньги как минимум в один из более чем 6000 спекулятивных фондов, которые вправе распоряжаться по своему усмотрению ни много ни мало 6 триллионами долл. по всему миру. Если еще двадцать лет назад 75 % личных сбережений в Соединенных Штатах держались на сберегательных счетах или в ценных бумагах с фиксированным доходом, как это обычно делается сегодня в Европе, то в 90-е годы это соотношение стало обратным: теперь три четверти сбережений участвуют в биржевых спекуляциях. Действуя подобным образом, вкладчики дают управляющим фондами возможность повсеместно оказывать давление с целью урезания зарплат и сокращения штатов, зачастую в тех же самых компаниях, где эти мелкие инвесторы до сих пор работают[317].
Тем не менее для каждого отдельно взятого индивидуума «спекуляции на бирже становятся нормой бережливости». Так один из коллег-журналистов Фокса начинает свое эссе, опубликованное во влиятельном американском журнале «Харперс мэгэзин»[318]. Увидев свет через 15 лет после начала «рейганомики», статья Теда К. Фишмена из Чикаго проливает больше света на экономическую ситуацию и состояние умов чувствительного к политической конъюнктуре и почти исключительно светлокожего зажиточного слоя населения, нежели бесчисленные статистические данные и исследования.
«Несмотря на то что я белый женатый мужчина тридцати семи лет, принадлежащий к Лиге плюща [выпускник одного из элитарных университетов], и, таким образом, по любым меркам, пользуюсь чуть ли не всеми преимуществами, которые только можно иметь в американском обществе, я не уверен, что все это гарантирует мне уход на пенсию с состоянием, достаточным для поддержания моего нынешнего уровня жизни. Единственным средством, которое может позволить мне накопить нужную для этого сумму, я считаю фондовый рынок. Так что я один из 51 миллиона биржевых игроков. Я ежемесячно вкладываю деньги в четыре взаимных фонда и в семи других имею долгосрочные инвестиции, распределение которых время от времени "регулирую"».
Сегодня, однако, давно уже не 80-е годы, когда, как пишет чикагский эссеист, переживавший бум фондовый рынок «выезжал на определенном рейгановском оптимизме: люди, у которых были деньги, считали, что им будет позволено существенно их приумножать, по крайней мере временно. Нынешним же рынком движет страх».
«Я рад каждому новому другу»: в 70-х эту фразу, написанную черными буквами, часто можно было видеть на спине ярко-оранжевой тенниски, которую любили носить учащиеся калифорнийских средних школ. А спереди, на груди, был изображен сияющий Чарли Браун, персонаж мультфильма «Peanuts». Тогдашние дети повзрослели и стали обеспокоенными родителями, их беззаботный смех по большей части остался в прошлом, а что до друзей, то их теперь находить труднее, чем когда-либо. Хваленое американское общество свободной конкуренции пожирает своих детей, и скудные доходы поколения «бэби-бума» означают, что сегодня звезде «Peanuts» радоваться особенно нечему.
Ежедневно миллионы семей чувствуют, как у них поднимается температура, когда индекс Доу-Джонса меняется на несколько пунктов, и нередко они часами обсуждают возможные последствия со своими управляющими фондов и биржевыми маклерами. Почти каждый игрок знает, что в выигрыше в конце концов останутся лишь немногие, часто за счет друзей, вложивших свои деньги не в те акции или облигации. Так что теперь Чарли Брауну и впрямь одиноко.
Если уж выпускники колледжей, такие как Даунинги, Фоксы и Фишмены, оказались в столь затруднительном положении, что думают, что их будущее благосостояние можно обеспечить только посредством биржевых спекуляций, то что остается делать тем американцам, которые не настолько молоды, привилегированны и здоровы или просто не светлокожие?
В статье, опубликованной в «Нью-Йорк таймс» в начале февраля 1996 года, говорится, что несколько миллионов из 18,2 миллионов конторских служащих должны принимать во внимание, что в ближайшие годы их заменят компьютеры[319]. В тот же самый день, когда ранним утром эта шокирующая новость появилась на газетно-журнальных прилавках рядом с жилыми домами и офисами, вступила в решающую стадию длившаяся несколько недель забастовка нью-йоркских коммунальных работников — лифтеров, уборщиц, домработниц и т.д. Ранее ассоциация работодателей потребовала снизить на 40% начальную зарплату всем новым работникам. Швейцары, чей труд прежде оплачивался неплохо, стали бы тогда зарабатывать всего лишь 352 доллара в неделю[320]. Профсоюз работников сферы обслуживания не мог на это согласиться, опасаясь, что в этом случае работники со стажем будут вскоре уволены и заменены низкооплачиваемыми новичками. Тогда работодатели договорились нанять сразу более 15 000 штрейкбрехеров, которые были бы только благодарны, получая 9 долл. в час.
В Нью-Йорке, который прежде всегда считался «городом профсоюзов», где штрейкбрехерам делать нечего, всплеска общественного недовольства на этот раз не произошло, несмотря даже на то, что многие работники так и не были приняты обратно и противостояние завершилось мировым соглашением о снижении начальной зарплаты на 20%. Слишком многие американские граждане были сражены доводом, что было бы лучше использовать в качестве рабочей силы голодных с улицы.
Конечно, Соединенные Штаты никогда не воспринимались как однородное или даже солидарное общество, но это?.. Атака на весь средний класс превращается в пожар, который уже охватил значительную часть указанной передовой прослойки мирового сообщества. Неразрешенные расовые конфликты, хорошо известная проблема наркомании, не менее известный уровень преступности, развал когда-то знаменитых средних школ, где учителя работают за зарплату, на которую не согласится ни одна домработница в Германии! Конца распаду не видно, а значит, революция тех, кто на вершине, против тех, кто на дне, продолжается.
А у тебя, Европа, дела идут лучше? Всякое самодовольство где-либо между Лиссабоном и Хельсинки было бы совершенно неуместным. К счастью, инвестор и бизнес-консультант Гленн Даунинг неправ, полагая, что старый континент Европа, откуда родом прародители нынешних планировщиков «американской мечты», держит курс на самоубийство. Но как Европе держаться своих корней, если сбывшийся американский кошмар внезапно возвращается, подобно бумерангу?
Конец германского единства
Отказ от идеи вовлечения как можно большей части среднего класса в процветающие национальные экономики идет рука об руку с растущей дезинтеграцией общества.
В Германии по меньшей мере четверть населения распрощалась с процветанием; нижняя прослойка среднего класса медленно, но верно скатывается к нищете. С особенным безразличием общество, до сих пор являющееся богатейшим в Европе, относится к своей молодежи, и миллион детей уже живет на социальные пособия[321]. Исследователь молодежных проблем из Билефельда Вильгельм Хайтмейер предостерегает:
«Одна из жизненных целей молодых людей всегда состоит в том, чтобы превзойти или, по крайней мере, сохранить социальный статус семьи, в которой они выросли. Но в наши дни это очень трудно, потому что практические условия на рынках труда и образования предельно жесткие. Эта неуверенность в перспективах на будущее постепенно охватывает все социальные слои. И одним из способов психологически справляться со стрессом и конкурентной борьбой является насилие»[322]. Начиная с 1989–90 годов немецкие статистики зарегистрировали резкий подъем уровня преступности среди детей и юношества. Вопреки обычным объяснениям этого явления «снижением нравственных стандартов», Хайтмейер утверждает, что «молодые люди, о которых идет речь, вовсе не отвергают, а, наоборот, с лихвой претворяют в жизнь идеалы «радикального общества свободного рынка»[323].
«Вымогай, грабь, избивай ради сиюминутного удовольствия. Кругом полно соперников», — так «Берлинер тагесцайтунг» с присущей ей резкостью характеризует отношение молодого поколения к жизни[324]. Член СДПГ Вильфрид Пеннер, председатель комитета Бундестага по внутренним делам, видит объяснение в том, что «родители не занимаются воспитанием». Но миллионы родителей могли бы на это ответить: много ли у нас времени на воспитание, если мы вынуждены работать с двойной отдачей и полностью измотаны стрессом? Кроме того, сколько детей до сих пор живет с обоими родителями?[325]. Кардинальная реформа в сфере образования при всей своей несомненной необходимости уже не способна в ближайшие годы удержать миллионы состоятельных представителей среднего класса Германии от сползания на более скромную социальную ступень. Это уже не под силу даже умнейшим выпускникам и выпускницам школ страны.
Пропасть между богатыми и бедными расширяется: те, кто много зарабатывает, все меньше хотят иметь дело с широкими слоями населения, которые кажутся им все более агрессивными. Германское единство разваливается, хотя оно совсем недавно было достигнуто географически. Вместо «процветания для всех», к которому в 1957 году призвал в одноименной книге Людвиг Эрхард, мы теперь повсюду наблюдаем «бунт элит», как определил это явление американский историк Кристофер Лаш в своем последнем труде, опубликованном в 1995 году, уже после его смерти. Обособление богачей становится нормой, и пример берется с Бразилии.
Измена элит: Бразилия как всемирная модель
Гости выдавливают из тюбика зеленый сыр на соленое печенье; на складной столик выставляются запотевшие от холода алюминиевые банки слабоалкогольного пива. На решетке над углями шипят великолепные бифштексы, а восьмилетний сын хозяина дома в тенниске с надписью «Национальная футбольная лига Майами» бежит из сада в свою комнату, чтобы принести оттуда золотисто-желтый пластмассовый кубок, выигранный им на последних школьных соревнованиях по дзюдо. Что это, идиллия уик-энда в каком-нибудь непритязательном североамериканском пригороде?[326].
С наступлением вечера отец семейства, Роберто Юнгманн, катается по округе на велосипеде с маленькой Жудокой и ее младшей сестрой Луизой мимо недавно посаженных эвкалиптов и вилл, украшенных деревянными балконами в альпийском стиле и фасадами в стиле пост-модерн. «Лежачие полицейские» на дорогах замедляют уже довольно интенсивное движение транспорта, а на выездах из гаражей установлены недоступные для собак металлические корзины для мешков с мусором. «Здесь рай», — говорит жена Роберто Лаура. «Рай» площадью в 322 581 квадратный метр, или почти в 44 футбольных поля, называется Альфавилль и находится на западе Большого Сан-Паулу. Окруженный стенами высотой в несколько метров, на которых установлены прожектора и электронные детекторы движущихся предметов, он является идеальным прибежищем для своих обитателей, которые боятся наводняющих центр мегаполиса преступников и хулиганов и хотят жить, как средние семьи в Европе или процветающих районах США, не сталкиваясь с неприглядной социальной реальностью своей страны.
По Альфавиллю круглые сутки патрулируют в поисках непрошеных гостей частные охранники. Это подрабатывающие в свободное от службы время офицеры военной полиции, которые разъезжают на мотоциклах или служебных автомобилях, оснащенных мощными сигнальными лампами вроде тех, что можно увидеть в фильме «Улицы Сан-Франциско». Стоит даже кошке пробраться в это гетто преуспеяния, и недремлющие стражи порядка немедленно мчатся к месту происшествия.
«Эта система должна быть совершенной, — говорит переводчица Мария да Сильва, — потому что совсем рядом живет очень много вооруженных людей». Позволить себе несколько собственных охранников могут лишь «действительно богатые люди». Для среднего класса, заявляет застройщик Ренато де Альбукерк, — «Альфавилль это модель с будущим». Юрист Юнгманн явно доволен: «Мой сын может резвиться тут целый день, и мне не нужно о нем беспокоиться». И немудрено: детей до 12 лет не пропускают через стальную решетку на входе без сопровождения родителей или воспитателей, а несовершеннолетние подростки вообще должны иметь при себе письменное разрешение от родителей.
Любой посетитель обязан предъявить документ, удостоверяющий личность, и пропускается на территорию только после подтверждения по телефону от соответствующего жителя гетто. Охранники тщательно обыскивают большие автомобили и на выходе прощупывают с ног до головы разносчиков и строительных рабочих на случай, если те что-нибудь украли. Власть наемных блюстителей спокойствия, которым жители Альфавилля с радостью себя вверяют, почти неограниченна. Домашняя прислуга, которая в Бразилии вовсе не является прерогативой сравнительно малочисленного высшего общества, здесь может быть нанята только с разрешения охраны. При рассмотрении кандидатур нянек, судомоек или шоферов все они тщательно проверяются по архивам военной полиции. «У тех, кто в прошлом хоть раз совершил кражу или ограбление, нет никаких шансов», — подтверждает компаньон застройщика Йодзиро Такаока.
Этот магнат недвижимости японского происхождения настаивает на том, что реальный Альфавилль не имеет ничего общего с одноименным, снятым более тридцати лет тому назад научно-фантастическим фильмом французского режиссера Жана-Люка Годара, в котором показан технотронный мир будущего, где каждый находится под наблюдением. Это название — фантазия одного бразильского архитектора, является, стало быть, случаем трансконтинентального фрейдистского внушения.
Такаока продает участки земли «только людям с безупречной репутацией». Цена за квадратный метр, 500 марок, мало кому доступна не только в такой стране «третьего мира», как Бразилия.
Идея последовательного социального апартеида, представляющая собой, по словам Такаоки, «решение наших проблем», пользуется пугающим успехом. Уже создано свыше дюжины подобных Альфавиллю «островов», и намного больше строится или находится в стадии проектирования. По оценке партнера Такаоки Альбукерка, на территории Альфавилля и соседнего гетто Алдейя да Серра общей площадью приблизительно в 22 квадратных километра можно расселить порядка 120 000 человек.
Возникшие по соседству промышленные компании, офисы, торговые центры и рестораны тоже строго охраняются. Но государственная полиция, печально известная своей коррумпированностью и некомпетентностью, там практически не появляется.
Покой сего благодатного оазиса оберегают 400 охранников с шестизарядными револьверами у бедра. Кроме того, гетто окружены кольцом спецподразделений, вооруженных обрезами «таурусов» 12-го калибра, «чтобы, — охотно сообщает Хосе Карлос Сандорф, начальник охраны Альфавилля-1, — укладывать зараз пятерых или шестерых».
В стенах гетто охране разрешено стрелять в любого незнакомца, даже если он безоружен и никому не угрожает. «В Бразилии, — говорит Сандорф, — если вы пристрелите вторгшегося в ваши владения, вы всегда правы».
«Фактически те, кто обладает деньгами и властью, ведут оборонительную гражданскую войну. В Европе лица, совершающие насильственные преступления, коротают дни за высокими стенами, а здесь это состоятельные люди», — утверждает социолог из Бразильского центра анализа и планирования (CEBRAP) Виниций Калдейра Брант, который неоднократно страдал от военного режима, находившегося у власти до 1985 года. Но Аль-фавилль — это «рыночная необходимость, — говорит в оправдание Такаока. — Мы создаем условия для рая на земле».
Если охранникам Альфавилля до сих пор редко приходилось пускать в ход свои кольты, объясняет босс Сандорф, «то только потому, что толпа знает, насколько надежна здешняя охрана». Однако на его второй работе, в военной полиции, стволы паутиной не зарастают, потому что, как гласит закон улицы, «кто больше может, тот меньше жалуется». А что, если однажды голодные вокруг Альфавилля поднимут восстание? «Надеюсь, в этот день я буду на дежурстве, — слегка улыбаясь, едва ли не с наслаждением ответствует Сандорф. — Тогда я им спуску не дам».
Является ли Альфавилль моделью для всего мира? Вопрос правомерен, поскольку последствия глобализации разрывают социальную ткань даже тех стран, которые пока что знакомы с процветанием не понаслышке, и появляется все больше и больше копий этих предательских анклавов: например, в Южной Африке вокруг Кейптауна и в винодельческом районе Стелленбош, где и после официального прекращения политики апартеида все еще культивируется разделение по расовому и имущественному признаку; очевидно, в Соединенных Штатах, где высокие стены, окружающие территории типа Беверли-Хиллз, и частная охрана стали символом социального статуса от Бакхеда вблизи Атланты до Миранды неподалеку от Беркли; во Франции, а также в прибрежных районах Италии, Испании и Португалии равно как и в Нью-Дели или охраняемых кондоминиумах[327] и кварталах высотных зданий Сингапура. Даже острова, которые когда-то использовались для содержания политзаключенных, боровшихся за социальную справедливость, ныне превращаются в убежища для богачей с их богатством, не желающих платить по счетам за свое высокомерие. Один из таких примеров — чарующий островок в бухте Илья-Гранди у восточного побережья Южной Америки.
Не чужды бразильские ценности и новой Германии. В поисках инвесторов ее старейший морской курорт Хайлигендамм попал в руки Fundus, группы по торговле недвижимостью из Кёльна. Во времена кайзера Вильгельма, прежде чем начать приходить в упадок, этот расположенный недалеко от Росто-ка на Балтийском море знаменитый «белый город» с двумя дюжинами вилл в стиле периода классицизма был излюбленным местом летнего отдыха аристократии. В наши дни благодаря примерно двум сотням новых роскошных жилищ, а также укрупненному и отремонтированному «Гранд-отелю» он становится новым убежищем общественной и финансовой элит, представители которых часто предпочитают тень солнечному свету. От властей Хайлигендамма требуется проложить побольше шоссейных дорог и ввести строгие ограничения на въезд. То есть речь идет о новой стене в бывшей ГДР? «Главное, что здесь наконец-то что-то происходит, — говорит Гюнтер Шмидт, арендатор симпатичного, но обветшалого кафе, выживающего в основном за счет студентов, которые все еще наезжают в Хайлигендамм. — Избранным дамам и господам, естественно, нужна особая безопасность, иначе они просто не приедут»[328].
Вот так и будет выглядеть в конечном счете общество 20:80. Но уже сегодня, задолго до того как оно окончательно сформировалось, имеются очаги сопротивления, которые красят прошлое в розовый цвет и носят заметные черты авторитаризма.
Шовинизм и иррациональность процветания: современный радикал Петер Тишлер
«Они еще удивятся, — продолжает угрожать германский радикал Петер Тишлер по пути в Берлин, имея в виду почти всех, над кем мы пролетаем. — Принимая по 200 000 выселенцев в год, мы являемся посмешищем для всех: французов, испанцев и иже с ними. Лодка уже полна, а они все прут с Востока. Они получают все задаром, а мы вынуждены работать в поте лица. Там, где я живу, немцы из России владеют потрясающими земельными участками. Нам за свои приходится вносить обеспечение в банк, а им все оплачивает государство».
Ярость патриотичного компьютерного эксперта, направленная против немцев, возвращающихся на историческую родину, плавно переходит в более знакомую ксенофобию: «Слишком много иностранцев, вот безработица и растет. Нагрузка на систему социального обеспечения чересчур велика, во многом из-за тех, кто, получая пособие, работает на стороне. Им следовало бы поостеречься, а не то дела в Германии примут действительно крутой оборот».
Кому это «им»? «Тем, кто у власти, ну и, конечно, иностранцам тоже, — разъясняет Тишлер. — И не удивительно, что Германия как экономическая зона испытывает теперь все эти проблемы. Я хотел, как молодой предприниматель, основать свое дело, но государство требует так много, что об этом пришлось забыть. Оно ставит такие условия, что с равным успехом можно оставаться в стороне». В то же время он думает, что знает, почему немецкие компании переживают трудные времена: «Мы делаем слишком много закупок за границей для нужд местного производства, в результате чего страдает качество продукции. Полностью немецких товаров уже, считай, и не выпускается».
До конца 80-х дела все еще шли в гору, и нам, мол, следовало бы вновь принять на вооружение сильные стороны того времени. Германия как ведущий мировой экспортер задала бы работы политикам, «и им пришлось бы снова подумать о гражданах». Совершенно неприемлем тот факт, что «курды могут запросто блокировать автомагистрали». Как-то раз Тишлер хотел успеть на рейс до Алжира из Дюссельдорфского аэропорта, «а им было на это наплевать». Этот много путешествующий по свету компьютерщик знает, как нужно было поступить: «Я бы ввел пограничников или спецназ, и они бы расчистили все за пять минут».
Тишлера-избирателя республиканцы, несмотря на их небезызвестные лозунги, не вполне устраивают: «Проблема, к сожалению, в том, что у нас в Германии нет настоящей правой партии». Все было бы по-другому, «имей мы кого-нибудь вроде австрийца Йорга Хайдера».
Пока самолет пересекает воздушное пространство над прусскими Альпами, Тишлер обрисовывает контуры современного радикального гражданского движения. Оно «вернуло бы нашей стране порядок. Такая партия без труда набрала бы от 20 до 30% голосов». Когда он наконец чувствует под ногами твердую почву немецкой столицы, на его лице на несколько минут появляется выражение глубокого удовлетворения. Хотя данный рейс «Lufthansa» соединяет два города в пределах Европейского Союза, в тесном зале прилета сидят в своих будках дотошные пограничники. «Мне нравится, что они по-прежнему проверяют здесь паспорта, — говорит торопливый в других ситуациях системщик, — даже если приходится часок подождать». После паспортного контроля больше задержек нет, и сей благонравный бюргер ускоряет шаг, чтобы успеть на встречу.
Спасители-фундаменталисты: сайентология, Росс Перо, Иорг Хайдер
Возможно, величина такой фигуры, как Гельмут Коль, заслоняет в Германии то, что почти ни в одной другой индустриально развитой стране далее игнорировать не приходится. Все больше и больше избирателей отворачивается от своих традиционных представителей. Словно ведомые некоей невидимой рукой, они лишают своей поддержки партии центристского толка и ищут спасения у правых популистов. Старые политические учреждения разваливаются, что вновь лучше всего видно на примере Соединенных Штатов. Граждане США, как правило, проявляют во время выборов изрядную пассивность: даже в 1960 году захватывающая борьба за президентское кресло между Кеннеди и Никсоном привлекла на избирательные участки не более 60,7% электората. В 1992 году фактически лишь 24,2% имеющих право голоса отдали его за победителя, Билла Клинтона, тогда как правый популист Росс Перо с первой попытки набрал 10,6% их голосов, или 19% всех признанных действительными бюллетеней.
Летом 1996 года, как и четырьмя годами ранее, Перо сильно отставал в опросах общественного мнения от своих соперников. Но на этот раз он мог полагаться на хорошо отлаженный механизм его Партии реформ, которая консультируется со своими членами посредством Интернета[329]. К тому же «зеленые», разочарованные антиэкологическим и враждебным по отношению к нацменьшинствам популизмом Клинтона, впервые в истории президентских выборов в США официально выдвинули своего кандидата. Им стал защитник прав потребителей Ральф Нейдер, который хочет начать «создание агрессивной политической силы будущего»[330].
По мере того как подобные кандидаты получают все большую поддержку на выборах, способность двух основных американских партий к консолидации избирателей ослабевает, создавая все больше простора для откровенно иррациональных решений и авторов таковых. Например, еще несколько лет тому назад соперничество между кандидатами от республиканцев и демократов в части ужесточения требований к иммиграции было бы в крупнейшей в мире стране иммигрантов немыслимым. Но в августе 1996 года бывшая звезда американского футбола Джек Кемп чуть ли не бил себя в грудь, отрекаясь от своей относительно умеренной позиции по отношению к «нелегалам», чтобы его выдвинули на пост вице-президента при Бобе Доуле[331].
Проницательные политические обозреватели характеризуют текущие изменения в том, что еще до недавних пор было наиболее стабильной парламентской демократией в мире, в исключительно тревожных тонах. «Мы находимся в предфашистской ситуации», — говорит выдающийся вашингтонский журналист и писатель Уильям Грейдер, нередко проявлявший острое чутье к политическим тенденциям[332]. В 1987 году, например, он в своей книге «Секреты храма» обстоятельно поведал о том, как центральный банк США «правит страной», а в 1992 году его книга «Кто расскажет людям?» с подзаголовком «Предательство американской демократии», где анализируется сомнительная политическая система его страны, оказалась в списке бестселлеров «Нью-Йорк тайме».
Существуют крайне правые республиканцы, тесно связанные с разного рода неонацистами и закладывателями бомб из самозваных «ополчений», затем так называемые «бешеные», которые призывают к созданию «независимых штатов» в пику центральной власти в Вашингтоне и часто являются обычными неудачниками, не добившимися благосостояния, и, наконец, секты вроде сайентологической, считающиеся экспертами «новой формой политического экстремизма». Вся эта смесь представляет собой исключительно вредоносное варево[333]. «Фашизм проистекает из определенных тенденций в экономике и финансовой политике. Любой вызывающий к себе доверие американский политический деятель авторитарного толка, который пообещает дать людям хлеб и в чьих посулах прозвучит отчетливый расистский подтекст, будет быстро продвигаться наверх», — пророчествует Грейдер.
Это едва не произошло в 1996 году, когда Пэт Бьюкенен, националист и сторонник протекционизма, одерживал одну победу за другой на праймериз (предварительных выборах) республиканцев для выдвижения кандидата в президенты. Политолог из Гисена Клаус Леггеви, ныне преподающий в Университете штата Нью-Йорк, считает, что «не будет преувеличением сказать, что в программе Бьюкенена слышны отголоски ранних разновидностей европейского фашизма»[334]. В конце концов истэблишмент республиканцев и превосходно организованная Христианская коалиция (ставшая с ее 1,7 миллиона членов главной силой республиканской партии) сочли содержащие элементы антисемитизма и ксенофобии популистские нападки Бьюкенена на практику большого бизнеса чересчур радикальными, и его кампания была заблокирована.
Тем не менее «движение Бьюкенена» имеет много общего с современными европейскими национал-популистами, такими как Йорг Хайдер, Умберто Босси и Жан-Мари Ле Пен, которые тоже выставляют себя аутсайдерами, агрессивно выступают против иммигрантов и шумно требуют радикальной приватизации и морального очищения, — проводит параллели Леггеви. — Для них Вена, Рим, Париж или Брюссель то же, что для Бьюкенена Вашингтон, и они так же, как и он, призывают к коренному преобразованию системы налогообложения». Силой новых правых являются не столько их лидеры, сколько соблазнительность их идей. Когда предвыборная борьба 1996 года в США вступала в решающую стадию, сам Бьюкенен уже никого не интересовал, но его тезисы по-прежнему играли немаловажную роль.
Авторитаризм является реакцией на избыток неолиберализма, подобно тому как пересохшие поля охватывает пожар. К примеру, Новая Зеландия, распахнувшая двери перед дерегулированием довольно давно, теперь вынуждена бороться с иррациональным, расистским движением протеста «Новая Зеландия превыше всего», лидер которого, Уинстон Питере, совершил серьезный прорыв на выборах осенью 1996 года. Соседняя Австралия, обычно не привлекавшая особого международного внимания, в середине августа того же года стала одной из центральных тем в масс-медиа, поскольку ее новое консервативное правительство планировало настолько драконовское трудовое законодательство и такое сокращение общественных расходов, что аборигены, рабочие и студенты штурмовали парламент[335]. Ксенофобы идут в наступление даже в Швеции, которая прежде славилась своей открытостью, равно как и в Швейцарии, Италии, Франции и Бельгии.
Как видно из этих примеров, проблема фундаментализма отнюдь не ограничивается исламом. «У всех нас есть свои Зюгановы», — написал один обозреватель «Интернэшнл геральд трибюн», имея в виду «назадсмотрящего» российского коммуниста Геннадия Зюганова[336]. И вновь дальше всех в этом направлении ушли австрийцы. Начиная с 1986 года крайне правый популист Йорг Хайдер завоевывает популярность в темпе, который, как полагает не только он сам, уже к концу тысячелетия приведет его на пост канцлера. Единственным реальным тормозом на этом пути для него до недавних пор (впрочем, недолго) являлись его обмолвки, пробуждающие в тысячелетней Австрии воспоминания о тысячелетнем рейхе.
Этот профессиональный популист, выглядящий в свои сорок пять исключительно моложаво, продвинулся дальше всех своих единомышленников в мире благодаря особому, намеренно культивируемому изоляционизму своей страны. Вступив в январе 1995 года в Европейский Союз (шаг, которому Хайдер яростно противился, несмотря на отсутствие альтернативы), эта альпийская республика подверглась мощному, вызванному субъективными причинами шоку адаптации к общеевропейским стандартам эффективности. Одновременно ей, как и остальным странам ЕС, пришлось справляться с последствиями глобализации. Для большинства австрийцев, которые в неоднозначных ситуациях неизменно прячут голову в песок, этот двойной вызов оказался невыносимым бременем. «Нас изберут здравомыслящие люди», — говорит Хайдер, не осознавая, что, будучи избранным, он поставит своих избирателей в еще более затруднительное положение. Ибо сей обольститель сам является радикальным сторонником свободного рынка и хвалится, что научился у неолиберала Джеффри Сакса в Гарвардском университете «готовить экономику к глобальным переменам». Осенью 1996 года, во время предвыборной кампании, улицы Вены были увешаны плакатами следующего содержания: «Вена не должна превратиться в Чикаго», «С нами Вена останется нашим домом» и, самое эффектное, «День выборов — день расплаты». Государственный секретарь, социал-демократ Карл Шлёгль признал: «Мы в опасности». А Петер Марицци, секретарь центрального комитета этой когда-то «красной» партии, предсказал: «Это будет катастрофой»[337].
Первая экстраполяция: возвращение императорско-королевской столицы
Если бы возникла необходимость определить на основании существующих тенденций и анализа прошлых выборов тех счастливчиков, которые в будущем будут жить лучше всех на свете, то жители Вены, бывшей столицы императорско-королевской монархии, лидировали бы в этом прогнозе с большим отрывом. Да, сегодня этот мегаполис, бывший в начале прошлого века седьмым по величине на земном шаре, находится далеко внизу списка 325 городов с населением свыше миллиона. Но скоро он, вероятно, сможет извлекать такую же выгоду из своих компактных размеров, как и из былого великолепия.
Если, согласно прогнозам, самое позднее в 2050 году вызванный изменением климата подъем уровня мирового океана будет представлять угрозу для большинства городов-монстров мира, а на горные районы всей планеты обрушатся неописуемые селевые потоки, то Вена, эта колыбель модернизма, благополучно избежит означенных напастей, обладая, несмотря на глобальное потепление, умеренным континентальным климатом и находясь вдали от морей, среди пологих холмов неоднократно воспетого и уже однажды защищенного от турецких войск Венского леса.
Нынешние правители сделали выводы из ошибок Габсбургов. Памятуя о беспорядках конца прошлого века, они остановили наплыв нежеланных инородцев, прежде чем тот смог начаться. И никакая боснийская голытьба, никакие цыганские таборы и даже чернокожие дельцы черного рынка из Африки не нарушат идиллического существования новой венской элиты, населяющей район Пратер, рядом с которым сто лет назад свыше 100 000 евреев нашли убежище от дальнейшего обнищания и новых погромов в Восточной Европе.
На сей раз не надо тревожиться насчет изгнания евреев, которое не оправдало бы себя, поскольку там их и так уже наверняка не осталось, подобные злопыхательства ныне можно услышать в пивных, причем не только в столичных. Но антисемитизм Вены, этот ее сверхэффективный экспортный продукт, имеет современного и не менее многообещающего преемника в виде ксенофобии без иностранцев.
По-прежнему находящаяся у власти в Австрии большая коалиция Социал-демократической и Народной партий предусмотрительно сделала шаги в этом направлении еще в 1994 году, и, разумеется, не только из страха перед той чертой национального менталитета, которую столь очевидно высветили голоса, отданные за Хайдера. Совет министров с его обычным единодушием принял пакет законов, поставивших политику страны в области интеграции иммигрантов позади всей Западной Европы. Ежегодно всего лишь несколько тысяч иностранцев, не имеющих паспорта ЕС, в большинстве своем высококвалифицированные управленцы и профессиональные спортсмены получают разовое разрешение на работу в Австрии. Для Хайдера это не имеет никакого значения; напротив, ксенофобия, в конце концов, стала считаться допустимой даже в приличном обществе. Примерно так же обстоят дела в политике, которая «хайдеризуется», хотя Хайдер еще не пришел к власти. Например, стоило социал-демократу, министру внутренних дел Каспару Айнему, являющемуся потомком по прямой линии рейхсканцлера Бисмарка, лишь намекнуть на необходимость проявлять великодушие в вопросе объединения семей, и его советникам пришлось оправдываться, как школьникам, перед ближайшими соратниками канцлера (тоже, кстати, социал-демократа), будто Айнем вздумал утверждать, что торговцы героином должны оставаться безнаказанными.
На выборах в городское управление Вены в октябре 1996 года над социал-демократами нависла реальная опасность утраты абсолютного большинства, которое они удерживали на протяжении десятилетий. В связи с этим член их партии, представитель столичных транспортников Иоганн Хатцль, попытался исправить положение, выступив с законодательной инициативой: «Я вполне могу себе представить, что, проведя соответствующую проверку, мы обнаружим, что некто с видом на жительство [т.е. иностранец, проживающий в Австрии на законном основании] постоянно штрафуется за превышение скорости или нарушение правил парковки. Это также является признаком недостаточной воли к интеграции [в общество]. Следовательно, вид на жительство должен быть аннулирован»[338]. Несмотря на подобные чистки, ухудшение экономической ситуации означает, что неприглядной бедности и надоедливой агрессивности не всегда можно избежать даже при строжайших ограничениях на иммиграцию. В «золотые красные» 20-е социал-демократы пытались путем социально-жилищного строительства превратить Гюртель, почти замкнутое кольцо улиц вокруг внутренней Вены, в «пролетарскую кольцевую дорогу», некое подобие роскошного старого Ринга[339]. С тех пор эта дорога превратилась в транспортный ад с проститутками, главным образом из Восточной Европы, выстраивающимися вдоль полосы парковки. Хайдер инстинктивно бичует «трущобиза-цию» этого и прилегающих районов, где в дешевых квартирах живут преимущественно рабочие-иммигранты с юго-востока Европы. В настоящее время муниципалитет, стремясь благоустроить эту территорию и повысить ее статус, проталкивает проект «городской Гюртель-плюс».
Это не мечтательный волюнтаризм. По замыслу Хатцля и Хайдера, первоначальный Ринг, до 1850 года защищавший город от турок и прочих незваных гостей, должен быть заменен стеной вдоль Гюртеля в стиле «хай-тек». Это не только обеспечило бы богатый традициями императорско-королевский мегаполис надежными рабочими местами в период кризиса; Вена стала бы местом реализации экспериментального проекта, который привлек бы внимание всего мира. Тогда столь политически неспокойная ныне столица с ее извечным нежеланием быть городом переселенцев вскоре, может статься, обрела бы в своем здоровом центре те самые мир и спокойствие, что всегда так ценились в ее истории.
Сюда, однако, устремляется все больше утекающего за границу капитала всех типов. На протяжении вот уже многих десятилетий банки, отделения которых расположены в живописной зоне отреставрированного внутреннего города, принимают такой капитал от клиентов, строго охраняя их конфиденциальность. Согласно репортажу австрийского телевидения об убийстве одного грузинского бизнесмена с сомнительной репутацией, несколько весьма состоятельных приезжих из России за день в среднем тратят в Вене больше денег, чем все туристы из Германии[340]. Гости из России особенно ценятся агентами по продаже недвижимости (прежде те предпочитали предлагать виллы миллионерам из Саудовской Аравии) и ювелирами. Сбыт драгоценных камней в становящихся все роскошнее бутиках ведущих дилеров бьет все рекорды.
«Роскошь респектабельна в социальном отношении во всем мире, и ей больше незачем скрываться: она приемлема, уважаема и даже находится в центре общественного интереса. Это одна из ключевых тенденций девяностых годов. Уровень, на котором Cartier обновляет и отделывает свой бутик в Вене, ставит ее на передний край данной тенденции». Лист с посланием, в котором Cartier Joailliers в июле 1996 года довела эту информацию до сведения клиентов, самодовольно красовался на строительном заборе у ее филиала на величавой Кольмаркт в непосредственной близости от источающей сладкий аромат, но пользующейся дурной славой императорско-королевской кондитерской Демеля.
Этот гимн богатству и респектабельности неоднократно срывали, как будто в нем было что-то непристойное, а забор измалевали грубыми антикапиталистическими граффити. Прохожие выражали негодование, и в итоге управляющей бутиком Cartier пришлось оклеить весь забор дорогостоящей печатной бумагой компании. Лазерные системы наблюдения на стенах города, «интеллектуальные карточки» с закодированными личными данными и эффективные средства контроля в проходах и на станциях подземки положили бы конец подобным безобразиям раз и навсегда. Жаль только, что шикарные поезда метро заезжают во внешние районы и что его проектировщики не предусмотрели маршрута эвакуации до аэропорта. Радует, однако, то, что аренда и жилье внутри Гюртеля стоят уже так дорого, что живут здесь скорее клиенты Cartier, нежели уклоняющиеся от работы пачкуны с краскопультами.
Скорость, скорость, скорость: турбокапитализм не всем по плечу
Хочется кричать: нет, нет и еще раз нет! Пусть такое возрождение Вены будет не более чем сном, провальным или, на худой конец, успешным голливудским триллером, но не чем-то реальным, не тем, что будет на самом деле! Пусть это будет неверным предсказанием вроде тех, что обычно делаются перед выборами. Пускай все это окажется фантастическим искажением, галлюцинацией, вызванной чрезмерным темпом глобализации, почти не оставляющим времени на трезвое размышление.
Дело именно в скорости, в том «ускорении процесса созидательного разрушения», что является «новой отличительной чертой рыночной экономики современного капитализма», утверждает экономист Эдвард Луттвак, придумавший применительно к этому явлению термин «турбокапитализм»[341]. «Устрашающий темп изменений, — считает этот родившийся в Румынии американец, сделавший себе имя также как историк и специалист по военной стратегии, — травмирует значительную часть населения»[342].
Луттвак близок к республиканской партии, но он беспощадно критикует ее лидеров, когда те, как кандидат на пост президента Боб Доул, апеллируют к «семейным ценностям», проводя при этом прямо противоположную политику: «Всякий, кто считает важной прочность семей и сообществ, не может одновременно выступать за дерегулирование и глобализацию экономики, ибо последние подготавливают почву для стремительных технологических изменений. Распад американских семей, наблюдаемый во многих частях света крах разного рода объединений, члены которых видели в них смысл жизни, волнения в таких странах, как Мексика, — все это последствия одной и той же разрушительной силы»[343].
Луттвак видит «ставший уже классическим пример последствий турбокапитализма» в дерегулировании воздушного транспорта в Соединенных Штатах, которое, конечно, привело к удешевлению билетов, но имело и такие последствия, как волнообразные сокращения штатов и «хаотические, нестабильные авиакомпании». Эти перемены «были бы интересным предметом для социологического исследования. Сколько разводов и, следовательно, так называемых трудных детей они породили? Насколько силен экономический стресс, вызванный ими в семьях работников авиалиний?»[344].
Есть еще одно, не менее весомое последствие чудовищной скорости происходящих изменений. В условиях глобальной конкуренции предложение потребительских товаров меняется так быстро, что даже тридцатилетнему мир потребления подростка кажется чуждым. Масса людей не может освоить электронные игры и компьютеры. Миллионы рабочих и служащих вынуждены не раз за время трудового стажа переучиваться практически «с нуля». Желающие преуспеть должны демонстрировать «мобильность», т.е. готовность то и дело переезжать. «Это полное сумасшествие, — говорит Герберт Хубер на венской Херренгассе, улице, где в революционном 1848 году Карл Маркс произносил пламенные речи против эксплуатации. — Раньше обычно было достаточно починить одну лопнувшую трубу за день, а теперь их должно быть как минимум восемь. Так и в строительстве: какой-то части рабочих приходится выполнять во много раз больше работы, чем прежде». При такой скорости многие неизбежно отстают, либо будучи не в состоянии, либо просто не желая постоянно приспосабливаться к окружающему миру и всю жизнь работать с максимальной отдачей. Основополагающие карьерные или корпоративные решения зачастую принимаются в рискованно авральном режиме, а от политиков всегда ожидают немедленной реакции. Партийные предпочтения могут измениться даже в кабине для голосования и сделать устаревшими самые современные прогнозы. Таким образом, переменчивые настроения и впечатления становятся основой для далеко идущих решений. Хубер, который 25 лет проработал водопроводчиком, был уволен и теперь служит портье, раньше всегда голосовал за социал-демократов, но с 1994 его фаворитом является, «понятное дело, Йорг Хайдер», которому «и впрямь надо дать попробовать»[345]. «В такие времена у меня вырабатывается симпатия к определенного рода неэффективности и даже разболтанности», — говорит в самооправдание Эренфрид Наттер, экономист и консультант по организационным вопросам из Вены[346]. Казалось бы, старомодные «передышки», которые осмотрительный философ из Западной Австрии Франц Кёб поощряет как индивидуальное «замедление времени», стали вдруг предметом всеобщего обсуждения во всем мире[347].
«Глобализация приводит к такой скорости структурных изменений, с которой все большее число людей просто не в силах справиться», — замечает даже Тиль Неккер, многолетний президент Ассоциации германской промышленности (BDI), который, тем не менее, с гордостью отмечает, что он «принимал весьма активное участие в дебатах о местных [германских] факторах»[348]. Ныне этот когда-то крайне самонадеянный индустриальный лидер полагает, что «давно назрела серьезная дискуссия о последствиях глобализации». Существующая динамика подвергает невыносимому давлению всех и каждого — не только рядовых избирателей, но и якобы неуязвимых глобальных игроков.
Глава 7 Злоумышленники или жертвы? Несчастные глобальные игроки и удобная оборотная сторона принуждения
Я знаю, дамы и господа: все очень сложно, как и мир, в которой мы живем и действуем.
Австрийский канцлер Фред Зиноватц в своем правительственном заявлении, 1983 годПерсональная защита от убийцы по-прежнему столь же тре-вожаще непостоянна, как и погода. Желающий присутствовать на той или иной всемирной конференции ООН на Ист-Ривер в Нью-Йорке подвергается тщательному опросу, после чего получает закатанное в пластик удостоверение с фотографией. Далее, прежде чем попасть в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, которая в соответствии с замыслом спроектировавшего ее около 50 лет назад архитектора Ле Корбюзье выглядит со стороны столь приветливо и доступно, нужно встать в очередь для прохождения серии кропотливых проверок. Охранники дотошно ощупывают каждое тело, обыскивают каждый карман. Страх перед нападением ощущается повсюду[349].
Однако стоит сослаться на назначенную вам встречу с генеральным секретарем, и вы преодолеваете все препятствия с легкостью призрака. Надо только назвать свое имя; никакого документа, подтверждающего личность, вахтер не требует, и после короткого звонка на главный этаж путь свободен. На тридцать восьмом этаже небоскреба ООН гостя встречают лишенные фантазии приметы власти, холодная стерильность и комнаты, подавляющие человека своими размерами, но вот вооруженной охраны что-то не видно[350].
Бутрос Бутрос-Гали живет, постоянно рискуя подвергнуться нападению. Он, как и многие другие мировые знаменитости, выглядит в реальной жизни гораздо ниже и тщедушнее, чем на телеэкране; постоянные конфликты, сопутствующие его глобальным обязанностям, заметно отразились на его облике. Сегодня 22 июля 1996 года. Он на ногах с трех утра, вновь тщетно пытаясь встряхнуть мировое сообщество, прежде чем тому останется реагировать уже на последствия новейшей вспышки насилия. Генеральному секретарю сообщили, что в Бурунди убито по меньшей мере 300 гражданских лиц народности хуту и что назревают новые акты геноцида. Но Франция хранит молчание, США тоже: как-никак у администрации Клинтона в самом разгаре предвыборная кампания.
С некоторых пор важнейшей темой для Бутроса-Гали является глобализация. Для того чтобы поговорить о ней, он продлевает свой 15-часовой рабочий день еще на час. «Существует не одна, а несколько глобализаций: например, глобализация информации, наркотиков, эпидемий, экологических факторов и, конечно же, в первую очередь финансов. Ситуация значительно осложняется тем, что все эти глобализации происходят с разными скоростями, — говорит он, постепенно воодушевляясь. — Рассмотрим пример. Действительно, на всемирных конференциях, последняя из которых совсем недавно прошла в Неаполе, мы говорим о таких вещах, как транснациональная преступность. Но это крайне замедленная реакция в сравнении со скоростью глобализации этой самой преступности».
Разного рода асинхронные глобальные изменения, продолжает Бутрос-Гали, «чудовищно усложняют проблему и могут вызвать опасную напряженность». Более всего его беспокоит будущее демократии: «Это реальная опасность. Какая система будет управлять глобализацией, авторитарная или демократическая? Нам срочно нужна повестка дня, нужен всемирный план демократизации». Это распространяется на все государства — члены ООН и их взаимоотношения. «Какая нам польза, — вопрошает глава ООН, — оттого, что демократия защищается лишь в нескольких странах, а глобализацией руководит авторитарная система, а следовательно, технократы?»
В результате глобализации «у отдельных государств остается все меньше и меньше возможностей влиять на события, тогда как никем не контролируемые силы глобальных игроков, например в мире финансов, все возрастают и возрастают». Знают ли об этом главы ведущих государств, постоянные собеседники Бутроса-Гали? «Нет, — обреченно качает он головой. — Как лидеры своих стран они все еще находятся под впечатлением, что они располагают национальным суверенитетом и могут справиться с глобализацией на национальном уровне». Он дипломатично добавляет: «Разумеется, мне не хотелось бы ставить под сомнение умственные способности этих политических лидеров».
Далее генеральный секретарь ООН, египтянин, который в свое время 14 лет был членом правительства в Каире, заявляет следующее: «В очень многих сферах политические лидеры уже не обладают реальной властью в принятии решений. Но полагают, что они до сих пор в состоянии сами решать важнейшие вопросы. Я хочу сказать, что это — всего лишь фантазия, не более чем иллюзия».
Бутрос-Гали считает, что извечные жалобы на то, что груз повседневных забот отвлекают политиков от рассмотрения долгосрочных проблем, справедливы в любой точке мира: «В какой-нибудь очень, очень бедной стране где-нибудь в Центральной Африке колебания цены на какао или посевное зерно так же важны, как и то, идет там дождь или нет. Там никто и не слыхал ни о какой глобализации. С другой стороны, в такой могущественной стране, как Германия, занятой в настоящее время объединением двух государств, политические лидеры думают, что глобализация сопоставима с проблемами окружающей среды, не требующими безотлагательного решения».
Одним из главных свидетелей и жертв этой фатальной стратегии является Клаус Тёпфер, который много лет был германским министром по охране окружающей среды, а ныне возглавляет министерство регионального планирования и городского развития. «В лучшем случае мы критикуем уже после события, и если есть сомнения, рады заняться чем-нибудь другим, потому что нас пугает драматизм задачи». Беседа с ним проходит в Бонне в один из июльских дней, сразу после его возвращения из Берлина и незадолго до предстоящего отлета в Нью-Йорк[351]. «Возможно, мы подсознательно отворачиваемся от проблемы, так как пока не видим путей ее решения».
На конференции ООН по экологическим проблемам, состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро, Тёпфер был своего рода желанным посредником между Севером и Югом. В то время администрация США, обычно столь властная и напористая в международных дебатах, вела себя на удивление пассивно, поскольку внезапно лишилась возможности руководствоваться, как выразился Тёпфер, «тактикой противодействия на биполярных переговорах», выработанной в период «холодной войны». Через четыре года после своей необычайно эффективной деятельности в Рио, снискавшей ему похвалу даже со стороны «Нью-Йорк тайме», этот всемирный переговорщик лишь качает головой при виде простирающихся перед ним руин.
Весной 1996 года он какое-то время провел в элитном Дартмутском колледже в лесах Нью-Гемпшира. «Что меня там невероятно впечатлило и не сказать, чтобы разочаровало, так это то, что студенты и даже преподаватели и профессора видят в связи с надвигающимся глобальным потеплением две возможности. Или научные прогнозы ошибочны, что было бы фантастикой, или они верны, и в этом случае мы уже не в силах предотвратить его последствий, потому что психологически невозможно переложить соответствующие расходы на граждан. Таким образом, необходимая экономическая реструктуризация не может быть проведена как по социальным, так и по политическим причинам».
С такими вот расчетами и, возможно, даже и не циничными взглядами поколение молодых ученых и будущих менеджеров всего мира вступает в третье тысячелетие нашей эры. Ведущий политик в стане ХДС, Тёпфер на основании всего своего опыта «действительно поражен тем, насколько быстро глобальный характер проблем делает их чем-то таким, что можно отложить до лучших времен, вызовом, на который можно будет ответить, когда не будет других забот. Я думал, что результаты конференции в Рио сыграют бóльшую профилактическую роль в связи с кризисом. Но все эти конвенции и соглашения очень быстро попали в ящик с грифом «Открыть при благоприятной экономической ситуации».
Большая политика ослепляет. Ничто не происходит без участия сверхдержавы №1, но ничего не происходит и в самих Соединенных Штатах. «Еще слышны отголоски печальной истории дебатов по налогу на энергоносители», — замечает Тёпфер, имея в виду провалившиеся попытки Билла Клинтона и его команды весной 1993 года хотя бы положить начало экологическому налогообложению. В 1992 году в Рио, во время приемов на террасах высоко над Копакабаной, Эл Гор производил впечатление хорошо информированного и многообещающего сенатора. Но с тех пор как он на исходе того года стал вице-президентом, «пути к равновесию», пропагандируемые им в своем бестселлере, остаются абсолютно невостребованными. Умному вице-президенту, вновь оказавшемуся в Белом доме в одной связке с Клинтоном благодаря их популистским призывам, скоро придется создавать свой собственный имидж для участия в президентских выборах 2000 года. Но оптимизма у Тёпфера не прибавилось: «Не думаю, что кто-либо в Америке повысит свои шансы на президентство, разрабатывая «экологический» имидж».
Между тем на Всемирной конференции ООН по проблемам народонаселения, проходившей в основанном 5000 лет назад Каире в сентябре 1994 года, всего через пять лет после падения Берлинской стены, перед человечеством открылись обнадеживающие перспективы. Выступая перед делегатами из 155 стран с пафосом, который американцы обычно приберегают для дифирамбов собственной стране, Эл Гор восхвалял южноиндийский штат Керала за его хорошо продуманную систему здравоохранения. То обстоятельство, что у власти там на протяжении десятилетий находились яростные противники американской системы, в том числе и коммунисты, Гора, как видно, не смутило.
«К тому же прирост населения там упал почти до нуля», — удивленно сказал вице-президент[352]. Он даже самокритично признал, что таким успехам, как в Керале, и «пониманию проблем, достигнутому в развивающихся странах, уделяется слишком мало внимания», и теперь хотел «преодолевать границы». Пустые слова?
Собравшиеся представители мирового сообщества внимали в полном молчании. И все же Гору удалось сорвать аплодисменты, когда он, как восторженный юнец, рассказал аудитории про одно воскресное утро четырехлетней давности. Тогда он уселся со своим младшим сыном перед телевизором, чтобы стать вместе с ним свидетелем исторического события освобождения из тюрьмы «отважного и прозорливого Нельсона Манделы», еще одного коммуниста и давнего недруга Америки.
Как только привлекательный вице-президент покинул конференцию, делегацию США возглавил один из ближайших соратников Клинтона Тимоти Уирт. Этот выпускник Гарварда и Стэнфорда был уже умудренным опытом конгрессменом-либералом, когда президент назначил его первым госсекретарем по «глобальным вопросам». «Все возможно», — восторженно заявил Уирт в Каире и снисходительно посмеялся над упреком в «странных коалициях»[353]. Приподнятое настроение не покидало его даже тогда, когда он рассказывал о встрече с правительственной делегацией из враждебного Америке Ирана, «который теперь полностью разделяет нашу позицию в вопросе планирования семьи».
Контраст с Рио 1992 года вряд ли мог быть более разительным. Если республиканцам Буша нравилось то и дело устраивать у подножия горы Сахарная голова бездумную обструкцию, то демократы Клинтона вели себя на берегах Нила, как сговорчивые надсмотрщики за рабами. Казалось, они едва ли не играючи справляются с новым миром, дезориентированным из-за отсутствия блоков. Они настаивали на необходимости проведения демографической политики, которая выгодна всем — и бедным, и богатым. Их речи были столь убежденными и убедительными, что исламских фундаменталистов уже не слушали даже их соотечественники-египтяне.
Давно ненавидимые американцы стали вдруг теми, кто демонстрирует компетентное и либеральное лидерство в гуманитарных вопросах, отвечающее реалиям нового мира. Гор и Уирт, оба испытанные сторонники активных мер в мировой политике, воздерживались от пустого великодержавного бахвальства, и никто не устоял перед их живостью и обаянием. «Долгое время отсутствовало понимание того, что афоризм «Мысли глобально, действуй локально» быстро становится реальностью». Постепенно росло ощущение, что вместо ответных мер на чисто национальном уровне возможны действия через новые международные учреждения. «Новый мировой порядок закладывается на такого рода конференциях ООН», — заявил Уирт. Операции же, подобные боснийской и руандийской, носят исключительно «противопожарный» характер.
Несколько месяцев спустя вряд ли нашелся бы хоть один интеллектуал, который более наглядно, чем Уирт, показал бы, на какие зигзаги способна администрация США из желания угодить колеблющемуся электорату. После победы на выборах в Конгресс в ноябре 1994 года радикально настроенных республиканцев Гингрича Уирт был лишь тенью самого себя на переговорах по подготовке Всемирного совещания глав правительств по социальным проблемам, которое должно было пройти в Копенгагене в январе будущего года. Явно не испытывая энтузиазма, он немногословно отвергал предложения различных групп и постоянно ссылался на «республиканское большинство в Конгрессе, делающее наши международные обязательства чрезвычайно трудновыполнимыми». Спорное, но отважное лидерство уступило место покорности обстоятельствам.
Подлаживаясь под новых хозяев Конгресса, Уирт призвал покончить с ритуалом, когда «около полуночи в последний день той или иной конференции ООН на стол кладется куча денег для последующей раздачи», назвав это «старым мышлением». В 1996 году администрация Клинтона довольно последовательно провела постыдную пропагандистскую кампанию против ООН и безосновательно потребовала смещения Бутроса-Гали, с тем чтобы умиротворить своих не слишком информированных избирателей, настроенных против этой организации[354].
Импульсивные реакции вместо продуманных шагов, дорогостоящие ремонтные работы вместо своевременного избежания неверных путей — сегодня это всё, чего, по мнению глобальных игроков, можно ожидать от большой политики. Мишель Камдессю, который как глава МВФ в Вашингтоне является ключевым связующим звеном между миром политики и финансовыми рынками, подчеркивает, что «люди должны понимать, что их действия равно как и бездействие всегда имеют всемирные последствия»[355]. Так он оправдывает свой ночной мексиканский переворот в январе 1995 года, когда он пытался преодолеть «первый кризис XXI века», ссужая 18 млрд долл., внесенных вкладчиками МВФ (см. гл. 3). Камдессю, помимо того, убежден, что «в глобализированном мире никто больше не может позволить себе не приспосабливаться». Он не сомневается, что музыку заказывают управляющие фондами с Уолл-стрит: «Мир в руках этих парней».
«Эти парни», как он их назвал, с ним категорически не согласны. Нет, возражают они, тут мы не находимся у руля и не несем никакой ответственности. «Это не мы, это рынок», — так считают они все, от Майкла Сноу, устраивающего дела высокорискованного «хедж-фонда» на нью-йоркской Парк-авеню для швейцарского банка UBS,[356] до спекулянта-мультимиллиардера Стива Трента в Вашингтоне, из окна изысканного офиса («вороньего гнезда») которого Белый дом выглядит как lego-модель[357].
«Возьмем, например, Бельгию или Австрию, — говорит Трент. — Это ведь тамошние инвесторы вывозят свои деньги и создают проблемы для собственных стран. Если риск мал, а ожидаемая прибыль достаточно велика, то именно австрийские и бельгийские страховые компании и банки вкладывают все больше и больше денег, накопленных в их странах, например в Аргентине. Почему же они это делают? Они действуют в интересах своих австрийских инвесторов и их австрийских клиентов. И вовсе не американские финансовые институты, а отдельные лица, профессиональные аналитики, предлагают им наилучшие возможные варианты капиталовложений. Так что вы не вправе возлагать на нас как на фирму, спекулирующую в мировом масштабе, ответственность ни за какой обвал национальной валюты или крупный отток капитала. Мы же осуществляем операции исключительно на рынках больших стран и только с основными валютами».
Винсент Трулья, вице-президент инвестиционной службы Moody's, предлагает еще более простое оправдание: «Наша консалтинговая служба, присуждающая лидерам рейтинг «ААА», стала метафорой рынка. Мы не можем позволить себе никаких эмоций по отношению к отдельным странам или фирмам. В своей работе я думаю только о тех стареньких бабушках, которые вложили свои сбережения в фонды. Они рассчитывают получить максимально возможный доход либо из-за отсутствия у них регулярной пенсии, либо просто для того, чтобы их внуки могли поступить в хороший колледж и платить немалые деньги за учебу только за счет дивидендов от фонда. Так что, когда я помогаю этим бабушкам, я помогаю всем, кто инвестирует»[358].
Это новая власть инвесторов, фондов и промышленных компаний во всем мире может оказывать мощное воздействие на ту или иную небольшую страну. На это указал австрийский экономист Фердинанд Лацина, который был самым опытным министром финансов в Европе, пока не ушел из правительственной политики в апреле 1995 года. «Управляющие инвестиционными фондами в значительной степени аполитичны, — считает Лацина, — и все же рыночная либерализация — это идеология»[359]. Это слишком часто означает, что «каждый, кто на словах за конкуренцию, очень скоро приходит к мысли, что рынок разрушен и что как только возникает настоящая конкуренция, необходима поддержка со стороны государства».
Даже если к субсидиям внутри Европейского Союза относятся неодобрительно, «очень многое в настоящее время делается с использованием налоговых льгот. Прежде чем инвестор решает, куда вкладывать деньги, или промышленное предприятие строит новый завод, всегда досконально выясняется, придется ли платить какие-либо налоги и если да, то насколько придирчивы местные налоговики». Если раньше, к примеру, сталелитейные компании на десятилетия обосновывались на определенных производственных площадках и создавали тысячи рабочих мест, то в эпоху микроэлектроники такие начинания, скажем, для Siemens «зачастую ограничиваются несколькими годами и приносят лишь сотню-другую рабочих мест». Глобализация с ее «растущим уровнем стресса» в значительной мере ограничила национальный суверенитет, признает Лацина, который ныне управляет жиросчетами в Австрийском сберегательном банке: «Но какой политик готов признать, что он принимает решения под давлением обстоятельств?».
Уж только не Михаил Горбачев. Открыв с падением Стены последнюю треть мира транснациональному рынку, он, однако, непоколебимо верит в собственное возвращение к власти и в демократический социализм. На той памятной конференции в «Фермонт-отеле» в сентябре 1995 года он, словно монарх, грелся в лучах славы. Калифорния была последним крупным районом мира, понявшим, что на Востоке происходят коренные преобразования, а теперь это последнее место, где Горбачева все еще чествуют как героя. «Международная система нестабильна, — наставительно изрекает первый и последний президент Советского Союза в номере «Фермонта», оплаченном его американскими спонсорами. — Политика отстает от событий. Мы, словно пожарная команда, выезжаем на пожары в Европе и мире. И всегда приезжаем слишком поздно»[360].
Затем эта полулегендарная личность, напоминающая мощный восьмицилиндровый «ягуар», газующий при отсутствии колес, бичует растущую «социальную поляризацию, которая ведет только к разделению и примет в конце концов такие масштабы, что станет неизбежной классовая борьба. Вместо этого нам нужны партнерство и солидарность в социальной сфере».
Ключевое слово «партнерство» производит впечатление даже на американского медиа-магната Теда Тэрнера, который, как и Горбачев, пребывает в «Фермонте» вместе со своими приближенными. Явно довольный собой, Тэрнер напирает на то, что его телесеть CNN посвящает бесчисленные минуты вещания не только главным событиям дня, но и проблемам, формирующим будущее «единого мира», к которому он призывает. Так, на Всемирной конференции по народонаселению в Каире в 1994 году он продемонстрировал, насколько близко к сердцу он принимает проблему контроля над рождаемостью. Его глобальное телевидение вознесло конференцию до уровня «исторического события». Ни одна деталь переговоров не считалась настолько банальной, чтобы не посвятить ей отдельный выпуск передачи «По ту сторону цифр» с бюджетом в миллионы долл.
Появившиеся в связи с этим критические замечания насчет явного манипулирования общественным мнением сотрудники CNN постарались нейтрализовать с помощью опасного аргумента, что все их усилия служат «чертовски хорошему делу». На официальных приемах в ООН подвыпившие люди, близкие к Тэрнеру, спорили с маститыми продюсорами CNN о том, кто вывел Теда и его «оскароносную» жену Джейн Фонда на верный «зеленый» курс. Личная беседа с этим человеком, фигурирующим в регулярно публикуемом журналом «Форбс» списке 400 богатейших людей планеты, оставляет стойкое впечатление, что он понимает, чтó поставлено на карту в современном мире[361]. «Крупные миллиардеры заняты тем, что избавляются от управленцев среднего звена, прежде чем настанет день, когда те смогут требовать от компании пенсионного обеспечения. Мы превращаемся в Мексику или Бразилию, где богатые ведут голливудский образ жизни за высокими заборами. Многие мои друзья, боясь, что их похитят ради выкупа, содержат целую армию телохранителей».
Сидя в своем умеренно охраняемом CNN-центре в Атланте, этот угловатый, «сделавший себя сам» миллиардер негодует из-за того, что сверхбогачи жертвуют в год на социальные и экологические нужды пропорционально гораздо меньше, нежели обычные, «рядовые» миллионеры. «Это чудовищно, — говорит Тернер. — Федеральное правительство обанкротилось, правительства штатов обанкротились, муниципальные власти тоже. Все деньги в руках этой кучки толстосумов, и никто из них ими не делится. Это опасно и для них, и для страны. Мы можем получить новую Французскую революцию, и еще одна мадам Дефарж с ее вязаньем увидит, как этих малых привезут на запряженных быками повозках на городскую площадь и хрясь! оттяпают им головы».
В 1994 году сей провидец от кабельного телевидения пожертвовал 200 миллионов долл. в пользу ряда университетов и экологических инициатив, но сделал он это скрепя сердце: «У меня дрожала рука, когда я подписывал эти бумаги, потому что я знал, что выбываю из гонки за титул богатейшего человека Америки». Вместо радости мецената он испытывал гнетущий страх снижения социального статуса — извращенное, но по-человечески понятное ощущение. Тэрнер, который сделал себе имя и как спортсмен, полагает, что «этот список в «Форбс» разрушает нашу страну, поскольку это означает, что новые сверхбогачи вцепились в свои деньги мертвой хваткой». Он хотел бы ввести рейтинг самых щедрых дарителей и одновременно претворить в жизнь своего рода коллективный договор богатых о разоружении: «Если каждый из нас отдаст по миллиарду, мы все вместе опустимся в списке самых богатых в равной степени».
Тэрнер, безусловно, остался бы вблизи вершины; его бизнес в Атланте и Голливуде процветает, и вскоре он начнет передавать новостные и документальные программы по новому огромному кабельному каналу НВО, что послужило поводом для различных предположений во время репортажа CNN с женской велогонки на Олимпийских играх в Атланте в июле 1996 года. Больше всего Тэрнер озабочен будущим своей империи масс-медиа, поскольку его дети слишком беззаботны, чтобы идти по его стопам должным образом. Рынок победил, что хорошо для всех, а остальное — вопрос приспособления.
«Как бы то ни было, реального прогресса мы добьемся только тогда, когда поймем, что изменения неизбежны». Таков курс, проложенный для Европы Тилем Неккером, который уже много лет является президентом Ассоциации германской промышленности[362]. Один из помощников капитана этого корпоративного корабля в океане глобальной конкуренции, — Германн Франц, уже 13 лет входящий в совет директоров Siemens и в настоящее время занимающий пост ее главного управляющего делами. Год за годом эта гигантская компания регистрирует выдающиеся прибыли, в 1995 году составившие 1,27 млрд долл. по всему миру, что на 18,8% превышает показатель 1994 года. И тем не менее пятая по величине корпорация в мире сокращает свой германский персонал еще на 383 000 человек.
«Подумайте только, — говорит Франц в своем кабинете в стиле барокко в мюнхенской штаб-квартире компании на Виттельсбахерплатц, — один час работы женщины, изготовляющей электропроводку для «фольксвагена», стоит нам в Нюрнберге 45 марок. В Литве эта цифра не дотягивает даже до полутора марок, да еще и заводские здания предоставляются бесплатно. Так что нам действительно следует подумать о Volkswagen и максимально снизить издержки производства»[363]. По-видимому, главный человек в Siemens испытывает угрызения совести и недовольство в связи с этой новой социальной проблемой, ибо признает, что «будут трения». И тут же добавляет: «Впрочем, индустрия за них не в ответе». Франц, таким образом, попадает в сеть, плести которую сам же и помогал. Он сознательно усугубляет социальное разделение и в то же время считает себя не более чем послушным исполнителем законов мирового рынка. Siemens проводит операции по всему миру из своей германской штаб-квартиры, «но мы обязаны заботиться обо всех наших служащих во всех странах». Если Евросоюз попытается себя защитить, то компании придется (с крайней неохотой) перевести свой головной офис в Соединенные Штаты или на Дальний Восток. Франц, этот глобальный игрок, восторгается наличием новых возможностей, особенно на Востоке. Еще в 1993 году он предрекал радикальные перемены в Германии: «Все мы должны понять, что здесь труд стал слишком дорогим, хотя многие работники еще об этом не знают». Это означает, что «нам в Германии придется распроститься со множеством простых промышленных операций. Вместо банкоматов и кофейных автоматов люди из плоти и крови вновь получат здесь работу» — по соответственно более низким, зачастую крайне низким ставкам.
Это поразительные заявления, особенно для Германии, и они свидетельствуют о том гнетущем ощущении тревоги, что испытывают менеджеры в странах Европы. Все чаще и чаще они в тесном кругу близких друзей и знакомых размышляют над тем, насколько велик риск, на который они идут (вернее, думают, что должны идти) в той деятельности, которую британский экономист Сьюзен Стрейндж называет новым глобальным «казино-капитализмом». Китай, Южная Корея, Индонезия, Саудовская Аравия — все эти перспективные рынки должны быть открыты, публично настаивают экономические лидеры, если мы не хотим упустить свой шанс на дальнейший рост оборота и прибылей. Но те, кто делает ставку на Средний Восток и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, уже не могут спать спокойно.
«Главная проблема заключается в том, что культурные системы разных регионов мира сильно отличаются одна от другой», — так начинает свой анализ топ-менеджер Антон Шнайдер. Шнайдер — «зеннербуа» [мальчик с высокогорной сыроварни], сын главного производителя сыра в области Бреген-цервальд, треугольнике, где сходятся Швейцария, Германия и Австрия. Он вырос вместе с шестью братьями и сестрами, стал выдающимся экономистом в левом профсоюзе, а затем сделал блестящую карьеру в международной фирме Boston Consulting как эксперт по оздоровлению производства. В 1995 году это привело его в кресло шефа переживающей трудные времена KHD (Klockner-Humboldt-Deutz) Corporation со штаб-квартирой в Кельне.
«То, что одни называют честной игрой и честным поведением, в других культурах непостижимо. Например, корейцы придерживаются определенного протекционизма, считая это чем-то само собой разумеющимся, и утверждают, что это честная игра; мы же этого понять не в состоянии. Не поймешь и саудовцев: они состоят в недавно созданной Всемирной торговой организации, ВТО, и пользуются поддержкой американцев, но у них совершенно другие ценности. Это основная ошибка в схеме единого рынка, сплавленного воедино в мировом масштабе».
По мнению Шнайдера, в Северо-Западной Европе и Соединенных Штатах «за двести лет стали общепринятыми сравнительно пуританский протестантский капитализм и рыночная экономика с правилами, которых все мы в принципе придерживаемся. Возможно, в католических областях они посвободнее, но и там люди ходят исповедоваться. С другой стороны, в азиатских регионах, где исповедуют буддизм, наши правила и установки не особенно принимаются всерьез; страна и семья значат там гораздо больше».
Глобализация сводит вместе игроков из всех фирм и стран, как на чемпионате мира по футболу. Однако, если придерживаться этой метафоры, это означает, что в мире масштабных экономических решений до сих пор нет общих правил игры, не говоря уже об общепризнанных судьях. «Так оно и есть, — подтверждает шеф KHD. — Многие культуры привносят в эту игру совершенно различные правила. Я не хочу судить о том, какие из них лучше или хуже. Но, во всяком случае, многие новые игроки и команды вовсе не знают и не понимают того, чтó мы подразумеваем под честной конкуренцией».
Далее Шнайдер делает заключительные выводы: «Думаю, что почти все крупные европейские фирмы понимают, что ими управляет экономическая глобализация. Или кто-то всерьез полагает, что хоть одна большая европейская корпорация рада инвестировать в Китае? Ни одна не рада, потому что всем известно, что там нет правовой системы, которая защищала бы наши права. И такая ситуация не только в Китае. Если нет никакой защиты инвестиций, никакой защиты ноу-хау, то забудьте обо всем этом. Любое совместное предприятие, учрежденное сегодня, просуществует максимум тридцать лет. После этого все будет принадлежать китайцам».
Но к чему тогда эта всемирная активность? «Нам приходится это делать, — отвечает капитан индустрии. — Мы хотим присутствовать на этих рынках и поднимаемся на борт на предлагаемых нам условиях. Мы должны пробиться на эти рынки. Для меня, разумеется, лучше попасть туда самому, чем пропустить конкурента. Но радости от этого никто не испытывает».
Страх — плохой советчик, и эту народную мудрость главные управляющие знают хорошо. Как ни действуй, серьезных ошибок, по-видимому, не избежать. Если топ-менеджер, обремененный повседневными проблемами, озабоченный тем, как идут дела, просто отмахивается от них и идет напролом, он быстро навлекает на себя риск того, что реорганизация, аутсорсинг и разукрупнение загубят больше, чем спасут. Но если он бежит от новых времен и в порядке самозащиты лишь старается не делать ничего плохого, то он уже почти все делает плохо.
Кто же тогда эти глобальные игроки от политики, финансов, экономики и средств массовой информации: просто люди, управляемые событиями, или те, кто эти события умышленно провоцирует?
Глава 8 Кому принадлежит государство? Упадок политики и будущее национального суверенитета
В Европе на межгосударственном уровне организованы только преступность и капитализм.
Курт Тухолъский, 1927 годЕсли промышленники переводят все свои деньги за границу, это свидетельствует о серьезности положения.
Курт Тухольский, 1930 годВ начале марта 1996 года 250 налоговых инспекторов искали в отделениях зарубежного бизнеса и налогов Commerzbank во Франкфурте компрометирующие документы. Главе этого четвертого по величине банка Германии, одной из крупнейших фигур в финансовом мире, это вскоре стало действовать на нервы. Во внутреннем сообщении для своих коллег Мартин Кольхауссен написал, что он и его банк стали жертвами организованного государством сговора, назвав обыск «преднамеренной операцией против нашего банка, наших клиентов и нас самих». Ни один член совета директоров
«не нарушил действующего законодательства. Нашему банку не в чем себя упрекнуть. С нами незаконно обращаются, как с преступниками».
На самом деле Кольхауссен лукавил. В тот самый день, когда его опровержения были использованы в сообщениях для прессы, его коллеги по совету директоров Клаус Патиг и Норберт Кэсбек составили письмо в Третье налоговое управление Франкфурта, в котором признались в серьезных нарушениях в надежде избежать преследования. Они писали, что в отчетах, представленных налоговым органам, содержится ряд «неточностей». «Исправления цифр, относящихся к дебиторской задолженности зарубежных филиалов, не вошли с налоговым эффектом в общие результаты». Проще говоря, банк занизил официальные прибыли германской материнской компании, а следовательно, и налогооблагаемую базу, многократно перенеся на себя издержки своих иностранных филиалов. В силу того, что служащие банка действовали при этом слишком топорно, перенос убытков в материнскую компанию был в данном случае сочтен незаконным, сообщал вскоре после этого «Шпигель», ссылаясь на налоговых инспекторов. Банк, утверждалось в статье, подавал искаженные отчеты на протяжении более чем 10 лет начиная с 1984 года; в одном только 1988 году Commerzbank занизил прибыли, подлежащие налогообложению, на 700 миллионов марок, а всего за указанный период от налоговых органов было сокрыто свыше полумиллиарда марок[364].
Тогда налоговые инспекторы земли Гессен впервые сделали веские доказательства такого рода всеобщим достоянием, но инсайдеры и финансовые власти сообщают о подобных случаях уже много лет. В контексте глобальной интеграции транснациональные компании оперируют в пределах юридически серого пространства, что позволяет им легко сводить налогообложение прибылей к минимуму. Тот выдающийся рейд в самое сердце банковского капитала Германии стал для ее фискальных органов промежуточной вехой борьбы с уклоняющимися от налогов отдельными гражданами и фирмами. Более чем в сорока отделениях таких известных финансовых учреждений, как Dresdner Bank, Bayerischer Hypotheken- und Wech-selbank [Баварский ипотечно-вексельный банк] и американский банк Merrill Lynch, их сотрудники конфисковали материалы по счетам нескольких тысяч клиентов, подозреваемых в переводе активов в Люксембург, Лихтенштейн и другие места для укрытия их от налогообложения. Наконец-то, во всяком случае так показалось многим наблюдателям, прошло время, когда власти придерживались laissez-faire[365] подхода к организованным банками перманентным налоговым каникулам. В связи с результатами дознания даже Гельмут Коль позлорадствовал, заявив, что одна германская земля, где к уклонению от уплаты налогов относятся как к мелкому правонарушению, «уже лишилась своего будущего».
Канцлер оценил опасность в достаточной мере, но радоваться пока еще рано. Как бы часто и скрупулезно налоговые органы ни проводили проверки и расследования, они не в состоянии выиграть столько лет откладываемую войну с незаконными частными доходами и корпоративными прибылями. Дело в том, что к нелегальным методам ухода от налогов прибегают только плохо информированные частные лица и чересчур беззастенчивые менеджеры. Хорошо управляемые предприятия и высококвалифицированные менеджеры не находят это нужным. Джунгли транснационального финансового рынка позволяют безо всяких нарушений закона значительно уменьшать налоговое бремя, в некоторых случаях даже ниже уровня в 10%.
«Вы от нас больше ничего не получите!»
Как это делается? Это уже давно демонстрируют крупные корпорации Германии. Например, BMW, самая рентабельная автомобильная компания страны, еще в 1988 году сообщила налоговым властям о доходах аж в 545 миллионов марок. Четырьмя годами позже доходы упали до каких-то 6% от этой суммы, составив 31 миллион марок. На следующий год, несмотря на возросшую общую прибыль и не изменившиеся дивиденды, BMW объявила об убытках от операций внутри страны и получила от налоговой службы компенсацию в 32 миллиона марок. «Мы стараемся закладывать расходы там, где самые высокие налоги, т.е. внутри страны», — откровенно объясняет финансовый директор BMW Фолькер Доппель-фельд. Аналитики данного сектора подсчитали, что таким путем с 1989 по 1993 год корпорация «сберегла» от выплаты государству более млрд марок[366].
Электротехнический гигант Siemens перевел свою штаб-квартиру за рубеж. В 1994–1995 годах из общего дохода в 2,1 млрд марок сумма, заработанная в Германии, не достигла даже 100 миллионов марок, а в 1996 году Siemens вообще ничего не заплатил[367]. Daimler-Benz, со своей стороны, в отчете о состоянии дел фирмы за 1994 год лаконично сообщает, что налог на прибыль в основном «пришелся на заграницу». Даже злополучный Кольхауссен из Commerzbank в конце марта 1996 года заявил, что его эксперты научились обходить налоговые обязательства законным путем. Всего через три недели после налета инспекторов на его офис он, словно им назло, представил балансовый отчет, бывший не чем иным, как насмешкой над рядовыми налогоплательщиками. Из отчета следует, что торговая прибыль банка в 1995 году удвоилась, достигнув 1,4 млрд марок, но платежи государству за тот же период сократились наполовину, до отметки менее чем в 100 миллионов марок[368].
Резкое сокращение выплачиваемых налогов не является прерогативой крупных корпораций: многим фирмам средних размеров удается делать то же самое. Систематически используя различия между налоговыми системами разных стран, они минимизируют общую налогооблагаемую сумму. Простейший метод — это то, что эксперты называют «трансфертным ценообразованием», которое основано на взаимодействии зарубежных филиалов и отделений. Торгуя друг с другом полуфабрикатами, услугами или даже просто лицензиями, такие фирмы могут указывать в ведомостях взаиморасчетов заоблачные цены. При этом расходы активных международных компаний всегда наибольшие там, где максимальны налоговые ставки, тогда как филиалы, действующие в офшорных зонах или регионах с низким уровнем налогообложения, всегда извлекают непомерные прибыли, даже имея единственный офис с факсом и парой сотрудников.
У государственных инспекторов нет никакой возможности контролировать такую практику. Зачастую просто невозможно проверить, завышены ли цены в торговле между фирмами или нет, так как по множеству предметов таковой не удается обнаружить сопоставимых рыночных цен. Власти могут копнуть поглубже лишь тогда, когда планировщики корпораций обманывают слишком уж нагло. Так, например, в Японии с ее высокими налогами многочисленные транснациональные корпорации в начале 90-х зашли слишком далеко в своих попытках исказить отчетность. Осенью 1994 года министерство финансов в Токио вскрыло злоупотреблений на сумму почти в 2 млрд марок более чем в 60 компаниях, включая таких мировых лидеров, как Ciba-Geigy и Coca-Cola: указанные в их отчетах трансфертные цены были чересчур высоки. Одной из этих фирм был германский фармацевтический гигант Hoechst, обвиненный в том, что с 1990 по 1992 год он завысил примерно на 100 миллионов марок счета своих филиалов за поставки сырья[369]. Разумеется, столь незначительные победы рассерженных налоговиков не могут сколько-нибудь серьезно повредить организованному бегству от налогов. Там, где трансфертного ценообразования уже недостаточно, срабатывают другие трюки. Посредством, например, «двухуровневого лизинга» можно решать сразу несколько задач. Учитывая разницу в национальных налоговых скидках на новое оборудование, компании используют затраты на приобретение станков, электростанций, самолетов и т.п. для снижения уровней налогообложения одновременно в двух странах. Также весьма широко распространен «голландский сандвич», метод, совмещающий филиал в Нидерландах с головным офисом компании в налоговом убежище, таком, как Нидерландские Антильские острова или Швейцария. При этом два налоговых кодекса можно использовать таким образом, что девять десятых совокупной прибыли компании облагается всего лишь пятипроцентным налогом.
Естественно, правительства и законодательные органы во всем мире пытаются бороться с этими и другими уловками такого рода, совершенствуя свои методы контроля и устраняя налоговые лазейки. Пользы от этого, как правило, мало. «В конечном счете любые перемещения капитала можно замаскировать с помощью сложной структуры фирмы», — считает один адвокат по налоговым делам с клиентурой по всему миру. Ситуация в данной области «напоминает гонку зайца с черепахой, — соглашается ведущий эксперт по налоговому праву из министерства экономики Германии Иоханнес Хёфер. — Действительно хорошие советники по налоговым вопросам всегда на шаг впереди налоговых органов»[370].
Это означает, что за последние десятилетия компании, действующие в международном масштабе, сумели втянуть чуть ли не весь мир в «соревнование налоговых систем», как выразился первый заместитель министра финансов Германии Ганс-Георг Хаузер. Поскольку отдельные страны конкурируют друг с другом за инвестиции и вследствие того, что налоговые инспекторы столь очевидно бессильны, законодателям остается лишь «снижать планку» налогообложения, ориентируясь на минимальный существующий уровень. Тенденция к такого рода снижению началась в 1986 году, когда правительство США установило новый стандарт, снизив налог на прибыль акционерных компаний с 46 до 34%. За годы, прошедшие с тех пор, большинство индустриальных стран было вынуждено последовать этому примеру.
Тем временем конкуренция между странами Европейского Союза приняла гротескные формы. Бельгия с 1990 года предлагает компаниям, работающим по меньшей мере в четырех странах, открывать так называемые координационные центры, объединяющие все виды услуг: рекламу, маркетинг, юридические консультации и, на что делается особый упор, финансовые операции. При этом они должны платить налог не с совокупной прибыли, а лишь с малой доли доходов местной компании. Эта модель стала одной из самых популярных, и перечень тех, кто извлекает из нее выгоду, охватывает целый ряд крупнейших компаний — от нефтяных мультинационалов Exxon и Mobil до производителя покрышек Continental. Opel экономит на налогах, имея финансовую штаб-квартиру в Антверпене, Volkswagen направила своих финансистов в Брюссель, Daimler разместила обходящих налоги в пригородном местечке Завентем, а их коллеги из BMW обосновались в Борнеме. Благодаря бельгийской щедрости финансовые отделения в сердце Евросоюза стали в целом наиболее рентабельными. Вследствие этого BMW, согласно своему балансовому отчету, как бы заработала треть суммарной прибыли в бельгийском отделении, не произведя там ни одной машины[371]. Еще более привлекательной является налоговая лазейка, предлагаемая правительством Ирландии всем тем, чей финансовый бизнес управляется из офиса в районе старых дублинских доков. Из каждого фунта, официально заработанного ирландским филиалом той или компании, в государственную казну Ирландии поступает только 10 пенсов. Вот почему ныне в дворцах из стекла и бетона, окружающих бывшую гавань, находятся крошечные отделения почти 500 транснациональных компаний — «не более чем адреса», как подчеркнул глава Германско-ирландской торговой палаты. Наряду с Mitsubishi и Chase Manhattan здесь представлены все крупные немецкие банки и страховые компании; отсюда управляются средства даже Евангелического кредитного кооператива, базирующегося в Касселе. Федеральное финансовое управление Германии подсчитало, что к 1994 году одни только немецкие компании утаили, воспользовавшись ирландской лазейкой, около 25 млрд марок[372].
При всей очевидности последствий налогового туризма открытых границ в политических дебатах этот вопрос остается табу. Наряду с валютной политикой, включающей в себя управление ставкой процента и курсом обмена, в транснациональной экономике понемногу утрачивается еще одна ключевая область национального суверенитета — власть самостоятельно устанавливать налоговые ставки. Германский институт экономических исследований в Берлине подсчитал, что, вопреки видимости высоких налогов, средний эффективный уровень налогообложения доходов корпораций и предпринимателей в Федеративной Республике в действительности упал с 37% в 1980 году до всего лишь 25% в 1994. И это не только германское явление. В этом налоговом соревновании ставка для компаний снижается не только в отдельных странах, но и во всем мире. В 1991 году империя Siemens все еще выплачивала почти половину своих прибылей 180 государствам, в которых у нее были отделения. Какие-то четыре года спустя это соотношение сократилось до 20%.
Демократически избранные правительства больше не принимают решений об уровне налогов; теперь люди, направляющие потоки капиталов и товаров, сами устанавливают размер вклада, который они согласны внести в расходы государства. Очень многие глобальные игроки хорошо помнят, как в конце апреля 1996 года глава Daimler-Benz Юрген Шремп со всей очевидностью обрисовал безрадостные перспективы парламентским экспертам по государственному бюджету. Самое позднее к 2000 году, заметил он во время ужина с депутатами Бундестага, его компания больше не будет платить в Германии никаких налогов на прибыль. «Вы от нас больше ничего не получите», — резюмировал он. Представителям народа только и оставалось, что слушать в смятенном молчании, когда финансовый директор Манфред Генц позднее подробно рассказывал о системе перевода прибылей в иностранные государства и об инвестициях в Восточную Германию[373].
Черные дыры в государственной казне
Оскудение государственной казны в результате экономики открытых границ очевидно не только для налоговых органов. Новый Транснационал[374] еще и направляет все бóльшую долю государственных расходов в собственную казну. Соревнование за наименьшие выплаты сопровождается соревнованием за получение наибольших субсидий. В этой связи во всем мире необходимым ожидаемым минимумом уже является бесплатное предоставление земли, включая автострады, железные дороги, электро- и водоснабжение. Где бы та или иная корпорация ни задумала строить завод, ее планировщики расходов могут рассчитывать на всякого рода общественные пожертвования и субсидии. Так, корейский гигант Samsung при строительстве нового завода по производству электроники на севере Англии при размере капиталовложений в миллиард долл. сумел привлечь добрых 100 миллионов долл. из британского казначейства. Это уже очень приличная сумма, но страны и регионы, желающие иметь у себя отделения Mercedes-Benz, должны вкладывать значительно больше. Налогоплательщики Франции и ЕС уже вовлечены в прямое субсидирование четверти стоимости нового завода Mercedes в Лотарингии, который будет производить малолитражные автомобили. Если принять во внимание ожидаемые уклонения от налогов, то общественный взнос без какого бы то ни было права голоса дойдет до одной трети всех капиталовложений[375]. И это вовсе не является чем-то необычным. За пределами конурбаций такой уровень субсидий — более или менее европейская норма. Но в зависимости от уровня безработицы и политической дезориентации верхнего предела, видимо, не существует. Например, в 1993 году Mercedes-Benz внесла только 55% стоимости выполнения пуско-наладочных работ для нового завода в сравнительно бедном штате Алабама. По сравнению с этим десятилетние налоговые каникулы, которые General Motors в 1996 году оговорила в качестве условия своего присутствия в Польше и Таиланде, явно выглядят скромно.
Современный рекорд управления инвестициями посредством налоговых нарушений установило федеральное правительство в Восточной Германии. Так, например, американской электронной корпорации Advanced Micro Devices (AMD), построившей новую фабрику по производству микропроцессоров в Дрездене, были компенсированы 800 миллионов марок, или 35% от капиталовложений. Кроме того, федеральное правительство и земля Саксония гарантировали ссуду на сумму аж в миллиард марок, а банковский консорциум, участником которого является правительство земли, вложил еще 500 миллионов марок. При этом корпорации в конечном счете не придется оплачивать и пятой доли всех расходов, и почти весь рыночный риск ложится на налогоплательщиков[376]. Так же обстоят дела с заводами Opel и Volkswagen в Хемнице, Мозеле и Айзенахе. Равносильная повторной закладке модернизация балтийских верфей под управлением Vulkan со штаб-квартирой в Бремене и норвежского гиганта Kvaerner обойдется по плану в 6,1 млрд марок. Тот факт, что Vulkan находится на грани банкротства из-за убытков своих западногерманских компаний, возможно, потребует поиска еще полумлрд. Ясно, что попытка завлечь международные корпорации щедрыми субсидиями может обернуться черной дырой для государственных финансов, и впервые правительство Коля уяснило это на примере химической промышленности в индустриальном регионе бывшей ГДР, где расположены предприятия компаний Buna, Leuna и Bitterfeld. Именно там сам канцлер угодил в западню.
«Подумайте о наших семьях!»
Когда 10 мая 1991 года вертолет Гельмута Коля приземлился в Шкопау, это поначалу было лишь одним из многих предвыборных мероприятий. В Доме культуры завода Buna он старался заручиться доверием избирателей и «демонстрировать надежду», но затем непосредственно ощутил отчаяние людей, которым угрожало обнищание. «Подумайте о наших семьях!» — крикнул какой-то рабочий, стоявший сразу за первым барьером. Затем уже в помещении председательница заводского комитета Buna призвала его ускорить приватизацию, чтобы сохранить хотя бы оставшиеся 8000 рабочих мест из прежних 18 000. «Пожалуйста, сдвиньте дело с мертвой точки, пожалуйста, не разочаруйте нас!» — умоляла канцлера представительница рабочих и служащих. Очевидно, это не оставило равнодушным мастодонта германской политики. Сам выросший в городке компании BASF Людвигсхафене, он не смог устоять перед требованиями рабочих-химиков. Отбросив заранее подготовленную речь, он сказал, что, «само собой разумеется», их доверие не будет обмануто. Он дал слово, что «это производство сохранится».
Продиктованное добрыми намерениями и по-человечески понятное заверение Коля стало, тем не менее, одной из самых дорогостоящих его ошибок за время пребывания в должности. Ибо отныне федеральное правительство было беззащитным перед любым шантажом. Невзирая на обещание Коля, советы директоров трех химических гигантов Германии указали на состояние старых производственных площадей и сказали твердое «нет». Зато управляющие американской корпорации Dow Chemical поняли, что им улыбается фортуна. Бернхард Брюммер, в свое время возглавлявший Gulf Coast, отделение Dow, управлял делами бывшего производственного объединения Buna от Тройханданштальта (треста, ответственного за распродажу промышленности Восточной Германии), в силу чего располагал всей необходимой информацией. Для начала совет директоров Dow, пятой по величине химической компании в мире, просто обозначил свой интерес и сделал ряд неопределенных предложений. Потом, на исходе длившегося целый год переговорного марафона, юристы корпорации загнали представителей Тройханда в угол. Обещание канцлера обрекло тех на придумывание сколько-нибудь приемлемого варианта, и они все больше и больше запутывались в дебрях ручательств и заверений. В конце концов, 1 июня 1995 года три крупнейших предприятия старого объединения Buna перешли во владение Dow Chemical под названием BSL Olifenverbund; юристы фирмы заполучили контракт, обещавший им свободную от риска сделку ценой в миллиарды марок. Сама корпорация должна была заплатить из ожидаемых затрат в 4 млрд марок всего лишь 200 миллионов, но даже эта сумма должна была поступить в виде процентного займа от материнской компании. В то же время BVS, преемник Тройханда, был вынужден принять на себя обязательство покрыть все убытки BSL до конца 1999 года, составляющие в сумме 2,7 млрд марок. Поскольку компания начала бы работу с убытками примерно в 3,2 млрд марок, заложенными в ее балансовом отчете, Dow освобождалась в обозримом будущем от любых налогов даже при высоких прибылях. Очистка токсичных стоков компании в течение 30 лет равно как и прокладка ее трубопровода до международного порта Росток были сделаны за счет государства. То, что ожидали получить взамен, оказалось едва ли не смехотворным. Dow пообещала не более 1800 рабочих мест, да и то только до 1999 года. Если эта цифра окажется ниже, то особых проблем у менеджеров Dow не возникнет: за каждое потерянное рабочее место нужно будет заплатить штраф в 60 000 марок — пустяк по сравнению с вовлеченными суммами.
В конечном счете может оказаться, что Федеративной Республике придется самой оплачивать все рабочие места на BSL, вкладывая каждый раз свыше 5 миллионов марок, что доведет общий безумный итог почти до 10 млрд. Даже если истратить эти государственные деньги на строительство небоскребов посреди Тюрингского леса, это обеспечило бы средствами к существованию большее число людей. Вложенные в реконструкцию городов, индустрию туризма и высшее образование, те же инвестиции, наверняка, в какой-то степени приблизили бы Восточную Германию к уровню Западной. Общественность узнала обо всех этих нелепых условиях сделки с Buna благодаря лишь нескольким журналистам из «Шпигеля», потратившим месяцы на исследование подоплеки контракта. На основании информации, полученной от персонала BVS, они доказали, что Dow, ничем не рискуя, получит прибыль самое меньшее в 1,5 млрд марок, даже если все предприятие обернется провалом[377]. С появлением статьи сколько-нибудь серьезного протеста не последовало. Но кому из ведущих политиков захотелось бы возражать? Может быть, Коль и плохо сработал в Шкопау, но почти у каждого политика, ответственного за экономику, есть подобный опыт и, в конце концов, каждое рабочее место имеет значение.
Столь же неразборчивы при распределении вверенных им налоговых поступлений министры научных исследований и разработок всех земель Германии. К примеру, в 1993 году Daimler-Benz, которая сама уже не платит никаких налогов, положила в карман свыше 500 миллионов марок из федерального исследовательского фонда. Таким образом, более четверти федеральных дотаций на научные исследования было выделено одной-единственной фирме, которая, получив их, хоть завтра может начать делать деньги на другом конце света, не создав ни единого рабочего места в Германии. Siemens тоже сорвала немалый куш на непоследовательной политике, обусловленной новыми правилами игры в глобальной экономике. Приверженцы старой национальной промышленной политики — такие люди, как Конрад Зайтц, бывший начальник департамента планирования в министерстве иностранных дел, годами предупреждали, что Япония и Соединенные Штаты монополизируют производство микропроцессоров, этого сырья компьютерной эры. Вследствие этого германское федеральное правительство и Комиссия ЕС добросовестно вложили несколько млрд марок из исследовательских фондов в европейские электронные корпорации, особенно щедро в Siemens, и все понапрасну. Сегодня эта корпорация со штаб-квартирой в Мюнхене разрабатывает чипы следующего поколения вместе со своими мнимыми конкурентами, IBM и Toshiba. Мало того, с 1998 года вступит в строй совместное предприятие Siemens и американской фирмы Motorola в Ричмонде, штат Виргиния, где должно начаться производство сверхпроизводительного 64-мегабитового компьютерного чипа, разработанного при финансовой поддержке со стороны ЕС[378].
Это разорительное и зачастую бессмысленное субсидирование показывает, насколько политики и правительства утратили ориентацию в лабиринте глобальной экономики. «Давление международной конкуренции побуждает правительства предлагать финансовые стимулы, которые невозможно оправдать объективными экономическими критериями», — делает вывод UNCTAD, торговая организация ООН, которая в настоящее время изучает политику субсидий в мире. — Нужно срочно искать способы «предотвращения подобных эксцессов»[379]. Однако проводники политики интеграции в мировой рынок, желающие доказать избирателям, что они что-то предпринимают в связи с безработицей, не понимают, что осуществляемое ими дорогостоящее стимулирование компаний в конечном счете принесет их странам только вред. Опустошая бюджет для поддержания национальной доли мирового экономического пирога, они навязывают микроэкономическую логику, которая ведет макроэкономику к катастрофе. Даже если не учитывать такие традиционно субсидируемые отрасли, как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, жилищное строительство и железные дороги, то по самым скромным подсчетам в одной только Германии субсидии в промышленность обходятся более чем в 100 млрд марок в год.
Масштаб этого перераспределения богатства существенно воздействует на структуру государства. Используя метафору из биологии, неолиберальные пророки из Института мировой экономики в Киле утверждают, что по отношению к транснациональной экономике государство не более чем «хозяин». Имеется в виду, конечно, то, что переплетенность компаний поверх границ приобретает все более паразитический характер: их товары перевозятся по субсидируемым из государственной казны дорогам и рельсам, их служащие отправляют своих детей в государственные школы, их управляющие наслаждаются представлениями в финансируемых государством театрах и операх. Эти и другие возможности они оплачивают лишь в виде налогов на прибыль и потребление своих рабочих и служащих. Но в силу того, что заработки под воздействием конкуренции неуклонно снижаются и многие живущие на зарплату уже приблизились к порогу, за которым необходима социальная помощь, одна страна за другой сталкивается со структурным кризисом государственных финансов. Бюджеты государств подвергаются тому же самому давлению, что снижает доходы населения, но в высокоорганизованных индустриальных экономиках требования к государству скорее растут, чем снижаются. Новые технологии делают поддержание инфраструктуры все более дорогим, ущерб окружающей среде требует все более масштабных мероприятий по ее восстановлению, а растущий средний возраст населения требует все бальших затрат на пенсии и медицинское обслуживание. В результате ответственные политики часто не имеют иного выбора, кроме как урезать расходы в областях, где нет влиятельных заинтересованных групп, способных этому воспрепятствовать, т.е. в сферах социальной защиты, учреждений культуры и общественного обслуживания, от плавательных бассейнов до школ и университетов. Таким образом, государство становится проводником перераспределения, направленного снизу вверх. Впечатляющим доказательством этого является проект бюджета на предстоящий год, представленный федеральным правительством Германии летом 1996 года. В случае его одобрения поступления в частный и государственный бюджеты сократятся на 14,6 млрд марок, и на точно такую же сумму уменьшится налоговое бремя компаний и предпринимателей[380].
Результаты сокращения государственных финансов в угоду экономике свободного рынка лучше всего видны в Соединенных Штатах и Великобритании, правительства которых первыми начали «отступление государства». Повсюду не хватает средств на содержание или даже на завершение общественной инфраструктуры. По отношению к ВНП государство в США вкладывает только треть того, что Япония тратит на свои автострады и железные дороги, школы, университеты и больницы[381]. В Вашингтоне, например, большинство школ годится только на снос. Мэр утверждает, что на их ремонт требуется 1,2 млрд долл.; примерно столько же запрашивает городская полиция на техобслуживание своего оборудования и парка автомобилей. Конгресс такие суммы платить отказывается. В результате школы могут продолжать осмысленную деятельность только при помощи добровольцев, а полицейским силам приходится производить ремонт за свой счет, чтобы продолжать несение службы[382]. В Великобритании, этой европейской модели неолиберализма, системы социального обеспечения и образования тоже приближаются к уровню развивающейся страны. Каждый третий ребенок растет в бедности, и 1,5 миллиона детей младше 16 лет вынуждены работать из-за недостаточного социального обеспечения. Если на континенте четыре пятых 18-летних получают высшее образование, то в Великобритании более половины их сверстников не продолжают обучение. В то же время там стремительно растет уровень неграмотности. Согласно репрезентативному опросу, уже пятая часть тех, кому исполнился 21 год, неспособна выполнять простое сложение в уме, а одна седьмая таковых не умеет ни читать, ни писать[383].
В сравнительно благополучной Германии, где богатство до сих пор в значительной мере перераспределялось и где граждане традиционно рассчитывают на всеобъемлющее обеспечение со стороны государства, этот процесс только начался. Знамением грядущих невзгод, однако, является утрата иллюзий в богатейшем, но и самом задолжавшем городе республики — Франкфурте-на-Майне. В 1990 году его тогдашний мэр, социал-демократ Фолькер Гауфф, провозгласил: «Благосостояние Франкфурта превыше всего». Шесть лет спустя городскому казначею Тому Кёнигсу, члену партии «зеленых», не остается ничего другого, как шаг за шагом отходить от этого обещания. При том, что социальные затраты, до сих пор защищенные законом, ныне в три раза больше, чем прежде, основной источник доходов Франкфурта, промысловый налог, уже приносит меньше, чем в 1986 году, несмотря на то что в городе действует 440 отделений банков, а экономический рост превышает 20%. Планируется закрыть 30 из 46 центров добрососедства. Полдюжины плавательных бассейнов будут либо проданы, либо закрыты. Уже не осталось средств на такие социальные проекты, как места для встреч постоянных жителей того или иного квартала и иммигрантов; музыкальные школы и музеи разукрупняются. Сезон в «Театер-ам-Турм» длится всего шесть недель, а директор оперы грозится прекратить представления из-за урезания дотаций. Жертвы пока что невелики, но Кёнигс полон мрачных предчувствий: «Есть риск того, что станет гораздо труднее достигать социального равновесия». Если эта тенденция сохранится, то «мирное сосуществование классов, наций и стилей жизни во Франкфурте взорвется»[384].
Преступность без границ
Вынужденные сокращения государственных расходов низводят политиков до уровня простых исполнителей, ссылающихся на высшую власть экономического прогресса, чтобы уйти от ответственности за обнищание. Это подрывает основы демократического государства. И все же хронические финансовые проблемы — лишь один из многих признаков упадка политики. Наряду с валютным и налоговым суверенитетом пошатнулось еще одно завоевание национального государства — монополия на насилие. Потому как от снятия с экономики законодательных оков выгадывают не только банки и корпорации, но и криминальные мультинационалы. Во всех индустриально развитых странах полиция и суды сообщают о скачкообразном росте организованной преступности. «Что хорошо для свободной торговли, то хорошо и для преступников», — резонно замечает один офицер Интерпола[385]. По данным группы экспертов, составленной в 1989 году из представителей семи крупнейших индустриальных стран, оборот на мировом рынке героина вырос за два десятилетия (к 1990 году) более чем в двадцать раз, а кокаина — более чем в пятьдесят[386]. Каждый, кто знает, как торговать наркотиками, способен преуспеть и в любой другой незаконной торговле. Беспошлинные сигареты и другая контрабанда, оружие, угнанные автомобили, нелегальные иммигранты — все это вытесняет наркотики с позиции основного источника доходов криминальной экономики. По оценке властей США, только контрабандный провоз иммигрантов, одна из современных форм работорговли, ежегодно приносит китайским «триадам» доход в 2,5 млрд долл.[387]
В Европе о новой мощи незаконных торговцев свидетельствует еще и взрывоподобный рост контрабанды сигарет. До конца 1980-х годов уклонение от уплаты налога на табак было в основном проблемой Италии, но в 1990 году несколько сплоченных организаций распространили свою деятельность ка весь европейский единый рынок. Два года спустя в Германии было конфисковано 347 миллионов контрабандных сигарет, а к 1995 году эта цифра выросла до 750 миллионов. По оценкам налоговых инспекторов, это составляет лишь около 5% всей незаконной торговли сигаретами, а Отделение по борьбе с налоговыми преступлениями со штаб-квартирой в Кёльне сообщает, что Германия ежегодно теряет на этом 1,5 млрд марок, а ЕС в целом 6–8 млрд.
Этот контрабандный бум вызван не огрехами в работе полиции. «Имеется вполне определенная информация о преступных организациях и их рынках сбыта» — заявляет старший прокурор Ганс-Юрген Кольб, глава подразделения по борьбе с экономическими преступлениями в Аугсбурге, работающий с такого рода делами с 1992 года[388]. Товар обычно производится на табачных фабриках США и достаточно регулярно доставляется в Европу, где временно складируется либо в беспошлинных портах Роттердама или Гамбурга, либо в Швейцарии, на так называемых «свободных складах». Этим занимаются не только легальные западноевропейские импортеры: большие партии заказываются на экспорт в Восточную Европу или Африку обществами с ограниченной ответственностью, зарегистрированными на Кипре, в Лихтенштейне или Панаме. Далее груз в запломбированных грузовиках отправляется в путешествие по территории ЕС, но никогда не доходит по назначению, так как его подменяют подделкой до пересечения следующей границы. Если грузоотправитель находится под наблюдением и водитель подозревает, что за ним следят, его клиенты говорят ему по сотовому телефону, чтобы он продолжал путь с первоначальным грузом, пока не пересечет достаточно границ, чтобы оторваться от преследования. Поскольку доход от одной партии товара обычно составляет как минимум 1,5 миллиона марок, эпизодические конфискации груза или уплата пошлины на него не представляют проблемы. Полиция, столкнувшись с громадным увеличением объема незаконной торговли, в состоянии контролировать лишь малую ее часть. Порой удается конфисковать очень большую партию контрабандных сигарет, но это едва ли как-то влияет на сам незаконный бизнес, так как арестовывают всегда мелких курьеров или дистрибьюторов. Подлинные организаторы — это респектабельные бизнесмены, которых невозможно привлечь к ответственности. «Мы знаем имена этих людей, но не можем до них добраться», — сетует Кольб. Лихтенштейн или Панама, разумеется, недосягаемы, вследствие чего международное полицейское сотрудничество там, самое позднее, и заканчивается.
Гораздо больше следователей беспокоит тот факт, что они уже не могут конфисковывать активы преступных компаний. Сколь бы ни были эффективны в своей работе полицейские и судебные органы, в неподвластном никакому законодательству пространстве глобального денежного рынка нелегальные накопления неприкосновенны. Уклоняющиеся от уплаты налогов — не единственные, кто прячется за банковской секретностью зон бегства капитала, которые международное финансовое сообщество защищает зубами и когтями. И вовсе не случайно, что крупнейшие убежища от налогов образовались вдоль основных маршрутов торговли наркотиками. Вот как Сьюзен Стрейндж резюмирует роль офшорных зон в подпольной экономике: «Панама и Багамы хорошо известны как центры отмывания денег, вырученных от кокаиновых сделок между Латинской Америкой и Соединенными Штатами. Гонконг играет ту же роль в поставках героина на Запад из Юго-Восточной Азии, тогда как Гибралтар и Кипр укрывают нелегальные доходы драгдилеров из Турции и других стран Среднего Востока»[389]. В то же время самые строгие законы против отмывания денег не способны остановить проникновение криминальных инвесторов в легальные сектора. «Если вы хотите отмыть доходы, нажитые нечестным путем, то в сегодняшнем мире это можно без проблем делать почти повсеместно», — откровенно признает банкир Фолькер Штрайб, в свое время работавший на Commerzbank в Азии и Африке, а ныне возглавляющий его берлинское отделение[390].
Последствия этого ужасающи. Эксперты считают, что организованная преступность является сейчас наиболее быстро растущей отраслью мировой экономики, ежегодно приносящей прибыль в 500 млрд долл. В своем отчете для федеральной уголовной полиции Германии исследователи из Мюн-стерского университета прогнозируют, что к 2000 году Германию ожидает 35-процентный рост числа таких преступлений, как контрабанда людей, незаконный временный труд, сбыт краденых автомобилей и охранный рэкет[391]. По мере роста финансовой мощи гангстерских картелей они приобретают все бальшую способность коррумпировать легальный бизнес и государственные учреждения или даже прибирать их к рукам. Чем слабее государство, тем серьезнее эта опасность. В России и на Украине, в Колумбии и в Гонконге законный и незаконный бизнес плавно переходят друг в друга. Никто уже не может сказать, какие части государственного аппарата все еще защищают власть закона, а какие уже работают по контракту на одну из преступных группировок в ее войне против соперников. Даже Италия, несмотря на ряд громких арестов, еще не выиграла своей войны против мафии. Капиталы прежних боссов без помех перешли к неизвестным наследникам, которым нужно лишь модернизировать свои организации. К июню 1996 года было конфисковано только 2,2 млрд от оцениваемой в 150–200 млрд марок общей суммы, находящейся в руках четырех крупных итальянских преступных синдикатов. Но даже и в этом случае адвокаты мафии пытаются отсудить у государства две трети этой суммы на том основании, что эти деньги заработаны в законном бизнесе[392].
Управляемые из стран-баз при поддержке банков, преступные сети постепенно охватывают богатые регионы мира, где экономика и финансы пока что функционируют относительно неплохо. Заказное убийство больше не является экзотическим преступлением даже в Германии. В войне между соперничающими бандами вьетнамцев, организующими сбыт продукции сигаретной мафии в Восточной Германии, только в первой половине 1996 года в Берлине было убито 19 человек. Граница между законностью и беззаконием становится размытой и здесь. Даже серьезные банки и корпорации оказываются замешанными в подпольные сделки без ведома высшего руководства. Если та или иная конкурирующая компания, контролируемая преступниками, пользуется нелегальными методами, служащие другой компании вскоре поддаются соблазну последовать примеру конкурентов. Снизить порог сопротивляемости коррупции помогают и взятки типа «назовите вашу цену». В анонимном опросе руководящих работников, проведенном аудиторской фирмой KPMG в нескольких сотнях компаний из 18 стран, почти половина респондентов заявили, что они считают рост экономической преступности серьезной проблемой[393].
Повсюду в мире государство и политика явно сдают позиции. Даже антитрестовское законодательство, бывшее когда-то бастионом защиты рыночной экономики от сговоров предпринимателей против потребителей и налогоплательщиков, сегодня утрачивает эффективность; оно уже почти ничего не значит на глобальных рынках, скажем, воздушного транспорта, химикатов или прав на съемку и трансляцию. Разве можно установить, сговорились ли заранее между собой три крупных евроамериканских альянса, сформированные между Lufthansa, British Airways и Air France и их заокеанскими партнерами, если они сперва подавили всех более мелких конкурентов на трансатлантических маршрутах? А что делать с такими медиа-магнатами, как Лео Кирх, Руперт Мэрдок и три гиганта — Time Warner/CNN, Disney/ABC и Bertelsmann/CLT? И кто запретит им повышать цены всякий раз, когда им вздумается, или разграничивать сферы влияния?
Экологическая политика тоже ютится на задворках. Соревнуясь в склонении компаний к созданию рабочих мест, правительства по большей части забросили или отложили экологические реформы. Летом 1996 года большинство климатологов расценило грандиозные наводнения в Китае и уже третью американскую засуху в этом столетии как предвестников катастрофы, обусловленной ростом концентрации в атмосфере парниковых газов. Однако ничего не предпринимается, и даже призывы многих министров, отвечающих за охрану окружающей среды, звучат вымученно и неубедительно.
Перечень направлений, по которым государство отступает перед лицом анархии мирового рынка, можно продолжать чуть ли не до бесконечности. Во всем мире правительства теряют даже способность управлять развитием своих стран. Становится очевидным системный провал глобальной интеграции на всех уровнях. Поток товаров и капитала охватил весь мир, а регулирование и контроль по-прежнему остаются в национальной компетенции. Экономика пожирает политику.
Однако вопреки распространенному мнению прогрессирующее бессилие государства вызвано отнюдь не повсеместным сокращением его аппарата и даже не (как подозревает японский аналитик, бывший глава азиатского отделения McKinsey's Кенити Омаэ) «концом государства-нации»[394]. Ибо государство и его правительство остаются единственным институтом, к которому граждане и избиратели могут взывать о восстановлении справедливости, ответственности и позитивных тенденций. Иллюзорна и та изложенная в центральной статье одного из номеров «Ньюсуик» точка зрения, что функции государства могла бы взять на себя некая лига траснациональных корпораций[395]. До сих пор ни один главный управляющий, каким бы могущественным и влиятельным он ни был, не брал на себя ответственности за что-либо, происходящее вне его корпорации. Ему платят не за это. Напротив, главы компаний в чрезвычайных ситуациях первыми требуют вмешательства государства. Вот и получается, что вместо всеобщего сокращения государственной администрации во многих местах на деле происходит обратное. Неспособные на далеко идущие реформы министры и государственные служащие вынуждены заниматься своего рода суррогатом политики. Например, нынешний экологический закон Германии содержит более 8000 статей не из-за тяги немцев к идеальным, всеобъемлющим правилам, а потому, что ответственные чиновники, будучи не в силах противостоять общей тенденции загрязнения окружающей среды, должны тем не менее оберегать граждан от всевозможных рисков для их здоровья. Результатом является бесконечный бюрократический балласт. Такая же ситуация и с налоговым законодательством. Раз уж не представляется возможным осуществить социально справедливую реформу из экономических соображений, политики из всех партий нагромоздили целый лес исключений и скидок для тех или иных групп, в котором налоговики давно утратили всякое представление о целом.
Реакция политиков на угрожающий рост преступности в целом отвечает примерно той же схеме, но ей присущи куда более рискованные методы. Не имея возможности затронуть финансовую основу мощи того, что заместитель министра внутренних дел Баварии Германн Регенсбургер метко назвал «преступными группами, ориентированными на рынок», они повсюду в мире прибегают к усилению полицейского аппарата[396]. В июне 1996 года, невзирая на энергичный протест службы охраны частной жизни граждан от злоупотребления информацией, внушительная коалиция христианских и социал-демократов приняла в Бонне решение легализовать одобренное полицией «обширное подслушивание». Отныне налоговые инспекторы могут подслушивать граждан в их собственных домах, даже если они просто подозревают их в причастности к организованной преступности. Годом ранее федеральная земля Бавария ввела у себя так называемое «тайное инспектирование», что позволяет полиции когда угодно и где угодно проводить «инспекционные проверки вне зависимости от конкретных подозрений или инцидентов» и арестовывать любого гражданина на основании одних лишь подозрений. Такое расширение возможностей надзора дает некоторое представление о направлении, в котором развиваются события. Если анархическое давление со стороны интегрированных рынков уже невозможно ограничить политическими средствами, то бороться с последствиями приходится путем репрессий. Авторитарное государство становится ответом на бессилие политики перед экономикой.
Очевидно, что любая контрстратегия должна основываться на международном сотрудничестве. Верные этой идее ученые, защитники окружающей среды и политики уже давно призывают к более тесному политическому взаимодействию поверх границ. Число межправительственных встреч и соглашений возросло во много раз. Западная Европа даже ввела некую форму транснационального законодательства путем договоров об едином рынке и Европейском Союзе. Длинная серия конференций ООН — Всемирный экологический саммит 1992 года в Рио-де-Жанейро, Всемирная демографическая конференция 1995 года в Каире, совещание 1996 года по будущему городов в Стамбуле — свидетельствует о непрерывной интернационализации политики. Мало-помалу, похоже, обретает форму что-то вроде всемирной координации правительств. Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали специально создал комиссию из ведущих государственных деятелей, которая в 1995 году представила обширную программу «глобального управления». Основой этой программы должны стать демократическая реформа Совета Безопасности ООН и создание дополнительного Экономического Совета Безопасности для придания первому большей действенности[397]. В то же время глобальный размах приобрели и частные политические инициативы. Гринпис и Международная амнистия распространили свою борьбу за защиту окружающей среды и прав человека почти на все страны земного шара, и во многих местах они сейчас так же известны, как кока-кола и музыкальная станция MTV. Победа экологов над мультинационалом Shell и британским правительством летом 1995 года в истории с затоплением нефтяной платформы Брент-Спар была повсеместно воспринята как новая форма наднациональной политики, своего рода демократии потребителей, достигнутой благодаря наличию всемирных СМИ.
Становится ли поэтому более реальной глобальная кооперация в деле сохранения социальной и экологической стабильности? Может быть, для прорыва к глобальному управлению нужно просто приложить чуть больше усилий? Число научных конференций и публикаций на эту тему может навести на мысль, что мы стоим на пороге новой эры. Но взгляд на достигнутые до сих пор результаты быстро отрезвляет.
Глобальное управление: полезная иллюзия
Когда около 500 дипломатов из 130 стран собрались в конце марта 1995 года в берлинском Конгресс-центре на переговоры о соглашении по защите климата Земли, в воздухе определенно витал дух надежды. Защитники окружающей среды и делегаты возбужденно бегали по коридорам бетонного лабиринта в стиле космического корабля и старались заручиться поддержкой правительств инициативы по островным государствам, находящимся под угрозой затопления водами Тихого и Индийского океанов. Япония, Германия, Скандинавия и многие другие были готовы подписать соглашение, обязывающее индустриальные страны уменьшить выбросы парниковых газов на четверть; казалось, что угроза климатической катастрофы может быть предотвращена. Но по крайней мере один из участников конференции был осведомлен лучше других. Его угловатая голова с дряблыми щеками на хилом теле, коротковатые брюки и поношенные ортопедические ботинки придавали ему вид безобидного провинциала. Внешность была обманчива. Дональд Перлмен, адвокат вашингтонской фирмы Patton, Boggs & Blow, был на Берлинской межправительственной конференции важнейшей фигурой. Каждое утро он поджидал своих союзников из числа делегатов у входа в главный зал и нашептывал им инструкции на день.
Перлмен существенно поспособствовал тому, что после двухнедельного переговорного марафона все предложения по защите окружающей среды выродились в единственную туманную декларацию. Сам этот человек с бульдожьим лицом не имел никакого мандата. Согласно справочнику вашингтонских лоббистов, его контора представляет интересы химического гиганта DuPont и трех нефтедобывающих корпораций — Exxon, Texaco и Shell. Еще в ноябре 1992 года их искусно организованное сопротивление подавило ранние экологические инициативы администрации Клинтона. По словам еще одного участника Берлинской конференции, вице-президента Института изучения мировых проблем Кристофера Флавина, их кампания «систематической дезинформации» убедила американскую общественность в том, что климатическая опасность — еще не доказанный факт.
Соединенные Штаты как главный виновник глобального потепления не могут открыто противиться принятию защитной конвенции, чего требует большинство других стран, поэтому их нефтяной и угольной промышленности приходится находить иные пути деятельности в международном масштабе. Это и было работой Перлмена, и он выполнил ее мастерски. За три года он посетил все из как минимум 20 подготовительных сессий, проведенных в разных частях света, и сумел сплотить представителей арабских нефтедобывающих государств против любых защитных мер. Под его руководством эти сессии вначале превратились в инструмент проволочек в соответствии с хитроумной стратегией блокады. Самой большой проблемой для него были климатологи, которые в большинстве своем были единодушны относительно надвигающейся опасности. Поэтому этот юрист, выступающий на стороне нефтяных компаний, протащил в научный комитет ООН, отвечавший за подготовку для Берлинской конференции обзора состояния знаний по проблеме, ученых из Кувейта и Саудовской Аравии, которые оспаривали многие положения, прежде считавшиеся бесспорными. При этом они даже представили несколько написанных Перлменом записок в качестве поправок и занимались, согласно гневному комментарию голландского климатолога Джозефа Алькамо, «бесконечным крючкотворством». От подготовленного Алькамо проекта заключительного доклада в итоге остался ни к чему не обязывающий документ с невнятными формулировками. Перлмен ликовал: «никакого научного консенсуса» по климатической опасности достигнуто не было. На последовавших межправительственных переговорах нефтедобывающие страны добились того, что отныне, согласно резолюции, решения должны были приниматься только единогласно, вследствие чего принятие сколько-нибудь действенной конвенции ООН по проблеме изменения климата отодвинулось на неопределенный срок. Следующая конференция, состоявшаяся в Женеве в июле 1996 года, также не принесла ощутимых результатов.
Гнетущий черепаший темп «климатической дипломатии» — главная слабость в целом прекрасной идеи глобального управления. Представляется, что попытки координации действий различных групп государств в мировом масштабе выявляют реальное господство хорошо организованных лобби и отдельных правительств и имеющееся у них де-факто право вето. Если один из главных участников переговоров не одобряет ту или иную инициативу, ее можно считать похороненной. В то же время правительства, чьи избиратели хотят реформ, получают желанный аргумент для оправдания собственной пассивности.
Но это не означает, что всемирная кооперация обречена на провал по самой своей природе. История «глобального управления» знает и примеры выдающегося успеха. Так, мировое сообщество довольно быстро и эффективно отреагировало на обнаружение осенью 1985 дыры в озоновом слое над Антарктикой. За два года индустриально развитые и развивающиеся страны договорились о принятии конвенции ООН, которая наряду с подписанным в 1987 году Монреальским протоколом и двумя последующими раундами уточнений обязала все государства-члены прекратить производство химикатов, разрушающих озоновый слой, к 1996 году[398].
Центральные банки ведущих индустриальных стран установили в рамках Банка международных расчетов своего рода временный режим для защиты финансовых рынков от самих себя — набор минимальных стандартов деятельности глобальных финансовых игроков. С 1992 года все крупнейшие финансовые дома должны поддерживать резервы на уровне не менее 8% от выданных ими кредитов; в противном случае они лишаются лицензии и доступа к сети. Эти резервные суммы снизили риск повторения долгового кризиса вроде того, который в начале 1980-х поставил крупные американские банки на грань разорения. Несмотря на отдельные отступления, договор о нераспространении ядерного оружия также подтверждает тот факт, что всемирная кооперация может быть весьма эффективной. Ни один вид преступности не пресекается так решительно, как махинации с технологиями или материалами для производства оружия массового поражения.
Разумеется, все эти примеры имеют одну общую черту. Соответствующие международные соглашения не были бы достигнуты, если бы у руля переговорного процесса не стояло правительство Соединенных Штатов. Само по себе это обстоятельство успеха не гарантировало, поскольку Россия, Западная Европа и главные страны Юга тоже могли нажать на тормоза. Но все эти страны в той или иной мере зависят от доброй воли США хотя бы в силу важности американского рынка. Давно уже так повелось, что если Америка — это еще не все, то без нее все равно ничего не происходит.
Америка, укажешь путь?
Глобализация, понимаемая как высвобождение сил всемирного рынка и лишение государства экономической власти, — для большинства стран жестокая реальность, от которой никуда не скроешься. Для Америки же это — процесс, сознательно запущенный и поддерживаемый в движении ее экономической и политической элитой. Только Соединенные Штаты могли вынудить японское правительство открыть свой рынок для импорта. Только правительство в Вашингтоне могло заставить китайский режим закрыть 30 фабрик по производству видеокассет и компакт-дисков, которые делали миллиарды на пиратской продукции. И опять-таки только администрация Клинтона могла уговорить русских поддержать военную интервенцию в Боснии, положившую конец балканской кровавой бойне.
Заем в 10 млрд долл., подоспевший как раз к избирательной кампании Бориса Ельцина летом 1996 года, был услугой за услугу.
Таким образом, единственная оставшаяся супердержава — это последнее государство, все еще сохранившее в значительной степени национальный суверенитет. Именно вашингтонские политические деятели и их советники устанавливают правила глобальной интеграции в широком спектре торговой, социальной, финансовой и валютной политики, даже если они часто сами этого не осознают. Не тяга к колониальному господству и не действительное военное превосходство, а один лишь масштаб американской экономики делает США последним упорядочивающим фактором среди хаоса глобальных взаимосвязей. Поэтому вполне возможно, что американское правительство, в конце концов, первым вырвется из глобальной западни. Уже сегодня американская модель тотального подчинения рынку нигде не критикуется более сурово, чем в самих Соединенных Штатах. Если от Калифорнии до Нью-Гемпшира достаточное количество людей придет к выводу, что сдача государством своих позиций разоряет и их страну, то со дня на день может произойти внезапное изменение курса. Не следует забывать, что государство всеобщего благоденствия, ныне распадающееся под натиском планетарной экономической машины, впервые появилось в тех же США. Когда в 30-е годы предыдущий рывок к глобализации завершился катастрофой, правительство Франклина Д. Рузвельта с его антикризисной программой «нового курса» изобрело современную модель социально ориентированного государства, чтобы обуздать бедность. Следовательно, не исключено, что через пару-тройку лет вошедший в поговорку американский прагматизм отбросит радикальные доктрины свободного рынка так же быстро, как он сделал их догмой в 80-е.
«Америка, укажи путь!» — такова не высказываемая вслух идея, которой весьма и весьма часто руководствуются европейские политики при рассмотрении основных проблем будущего человечества. Однако в своем стремлении разрядить взрывоопасную ситуацию, вызванную рынком без границ, Европа вряд ли может рассчитывать на американское лидерство. До сих пор все правительства США противились любым аргументам в пользу замедления темпа экономической интеграции и возвращения ее под государственный контроль. Вследствие этого совещания группы «семерки», единственно обладающие сколько-нибудь реальным весом в деле всемирной кооперации между государствами, выродились в бесполезную говорильню. Да, на саммите семи глав правительств в Лионе в июне 1996 года президент Франции Жак Ширак призвал к «контролируемой глобализации». Вместе с федеральным канцлером и министром финансов Германии он твердо настаивал на том, чтобы положить конец разорительной конкуренции ставок налогообложения и поставить мировые финансовые рынки под более жесткий контроль. Но из-за противодействия со стороны США и Великобритании заключительное коммюнике явило собой беззубый текст, в котором участники межправительственной встречи на высшем уровне лишь поручали бюрократии ОЭСР подготовить то или иное предложение к следующему году.
Точно таким же образом Конгресс США и администрация Клинтона уже долгое время саботируют любые попытки заручиться поддержкой учреждений ООН, призванные сделать слияние рынков и государств вновь управляемым. Американские политики систематически выступают с бесцеремонными нападками в адрес ООН, представляя ее необузданной, бесполезной бюрократией, реально неспособной ни на какие полезные действия. При этом они несправедливы к большей части примерно девятитысячного персонала ООН, который тратит более 70% скудного годового бюджета в 2,4 млрд долл. на гуманитарную помощь и развертывание миротворческих сил ООН. На самом деле в обвинениях американцев перепутаны причина и следствие. Пока представитель США в Совете Безопасности участвует в разработке новых заданий «голубым каскам» и операций по оказанию гуманитарной помощи, его правительство нарушает свои обязательства в рамках международного законодательства, задерживая взносы в бюджет ООН и доводя задолженность своей страны до 1,3 млрд долл.[399] Находясь постоянно на грани банкротства, аппарат ООН неизбежно функционирует все хуже и хуже.
Вряд ли можно ожидать, что американская политика с ее популизмом и демагогией укажет миру выход из глобальной западни. Но это не так уж и плохо, ибо отступничество Америки предоставляет странам Европы историческую возможность, какой у них никогда прежде не было. Европейский Союз мог бы стать реальностью, а его руководители могли бы принять бразды правления мировой экономической политикой на себя.
Шанс для Европы
Если сравнить между собой календарные планы министров, их заместителей и других высших чиновников 15 стран Европейского Союза, результат будет довольно неожиданным. Не считая уик-эндов и отпусков, вряд ли найдется хоть один день в году, когда бы по меньшей мере одна, а обычно от десяти до двадцати групп из 15 членов не встречались в Брюсселе для продвижения того или иного общеевропейского законопроекта. От контроля качества пищевых продуктов до минимальных зарплат в строительной промышленности, от иммиграционной политики до борьбы с преступностью, связанной с наркотиками, — ничто в Европе больше не происходит без Брюсселя. Законодательная интеграция внутри ЕС уже давно находится на уровне, который какие-то два десятилетия назад показался бы недостижимым. Это нарастающее согласование вынуждает государства-члены все теснее координировать свою деятельность едва ли не во всех областях общественной жизни. То, что этот процесс зашел так далеко и преодолел столько препятствий на своем пути, произошло во многом благодаря человеку, с 1982 года занимающему пост федерального канцлера Германии. Величайший успех Гельмута Коля состоит не в достижении германского единства, а в его непоколебимом стремлении к европеизации национальной политики. Но вся серьезность его намерений впервые стала ясна только в декабре 1991 года, когда он парафировал Маастрихтский договор, призванный обеспечить переход от прежнего Экономического Сообщества к Европейскому Союзу. Преодолевая массированное сопротивление со стороны Bundesbank, собственной партии и большой части консервативной элиты, он объединил свои силы с Францией, чтобы внести в европейскую повестку дня давнюю мечту о валютном союзе. Обладая безошибочным инстинктом власти, Коль и его тогдашний партнер Франсуа Миттеран оценили значение этого шага намного раньше своих избирателей и даже большинства своих советников; они понимали, что единая валюта может стать ключом к политической унификации континента и положить конец доминирующей роли США. Поскольку, даже если положение о единой валюте вступит в силу только в 2001 году, ЕВС даст Европе возможность отвоевать основную долю государственного суверенитета в областях валютной, финансовой и налоговой политики. Европейские ставки процента и обменные курсы станут тогда гораздо менее зависимыми рт американского рынка, чем сегодня.
Таким образом, краеугольный камень политического объединения Европы уже заложен. Если бы государства-члены еще и выработали общую социально-экономическую политику, распределение ролей на мировой арене претерпело бы серьезные изменения. Опираясь на рынок с более чем 400 миллионами потребителей, политически единая Европа имела бы не меньший вес, чем Соединенные Штаты Америки. И тогда действительно достойный своего названия Европейский Союз мог бы, имея хорошие шансы на успех, настаивать на ликвидации налоговых убежищ, требовать соблюдения минимальных социальных и экологических стандартов и повышать налог с оборота в сделках с капиталом и валютой. Если вообще есть шанс на то, чтобы связать воедино мировую экономику и в экономическом и в социальном отношении, то именно этим путем и надо идти.
При всей скорости, с которой Коль и его партнеры продвигают технические и организационные аспекты объединения, им пока что не удалось превратить ЕС в реально дееспособную политическую единицу. Аппарат ЕС и его методы формирования общественного мнения и принятия решений застряли на уровне обычной межгосударственной дипломатии. Большинство граждан справедливо видит в нынешнем проекте ЕС чуждого демократии монстра, призванного заменить их национальные государства властью технократии.
Рассмотрим простую аналогию, проясняющую странную структуру европейской конфедерации. Представим себе, что в Германии все законы принимаются не Бундестагом — федеральным собранием, а Бундесратом, состоящим из делегатов правительств и министерств отдельных земель республики. Допустим также, что делегаты не подчиняются директивам своих парламентов и даже не подотчетны им. Все переговоры проводятся за закрытыми дверями, а делегаты должны хранить в тайне то, как они голосуют. В обсуждении и принятии законопроектов парламентарии также не участвуют. Вместо этого проекты постановлении составляются центральным органом из 12 000 человек, неподконтрольных парламентам, но консультируемых целой армией промышленных лоббистов. Назвать подобную систему демократической может лишь циник. Но именно так неделя за неделей творится европейское законодательство в Брюсселе.
Там, в стандартном офисном здании из стекла и мрамора на Рондпойнт-Шуман, чуть ли не ежедневно собираются в соответствии с повесткой дня ведущие министерские бюрократы из стран ЕС. Зачастую несколько комитетов заседают одновременно. Как только министры, их заместители, послы или их представители более низкого ранга входят в это здание, у них в конституционном смысле появляется вторая личность. Из чиновников исполнительной власти они превращаются в обладателей мандатов важнейшего законодательного органа Европы — Совета Министров. Они модифицируют и принимают предложения центрального органа Комиссии ЕС. Все, что данная структура одобряет как «директиву» или «постановление», является юридически обязательным для всех 15 государств-членов, независимо от воли национальных парламентов. Единственная функция, оставленная парламентам, состоит в том, чтобы без голосования вносить такие тексты в национальное законодательство. Так исполнительный орган ЕС пишет все больше своих собственных законов при закрытых дверях, и именно по этой схеме была принята по крайней мере треть германских законов последнего десятилетия.
Принцип разделения властей фактически отменен в пользу власти Брюсселя, и тем самым заложены семена массового недовольства проектом объединения Европы в целом. Выборы в так называемый парламент в Страсбурге — это периодическое попрание суверенной власти государств-членов. За какую бы партию ни голосовали избиратели, ни один из заседающих в Брюсселе правителей своего места не лишится. В то же время целые группы с общими интересами систематически исключаются из процесса принятия решений в ЕС. Противодействуя в Брюсселе примерно 5000 организованных в международном масштабе лоббистов от промышленности, группы от профсоюзов, специалистов по охране окружающей среды и защитников прав потребителей не надеятся даже на гласность. Плохая пресса докучает евробюрократам не более, чем плохая погода.
Такое продолжение демократии технократическими средствами, может быть, и удобно правительственным аппаратам, потому что чиновники избавлены от неприятных публичных дебатов. Но как форма правления оно все дальше и дальше заводит Европу в тупик, где нет никакой возможности действовать. Кажущаяся сила администрации ЕС является в действительности ее величайшей слабостью, ибо без демократической законности невозможно добиться никакого решения большинства по важным проблемам. Система ЕС страдает тем же недостатком, что и глобальное управление: она дает сбой всякий раз, когда правительства не приходят к взаимному согласию. Никто не в силах заставить все 15 стран действовать одновременно. Ни один проект реформы, не получивший поддержки транснациональной индустрии, до сих пор не прошел. Осмысленные экологические, социальные и налоговые реформы уже не разрабатываются на европейском уровне, но и национальные парламенты больше не в состоянии справиться с дестабилизирующей силой рынков; ссылки на международную конкуренцию пресекают в корне любые попытки сделать это собственными силами. Экономическая интеграция до сих пор ведет не к Соединенным Штатам Европы, а к рынку без государства, где политика лишь расписывается в своем бессилии и порождает больше конфликтов, чем может разрешить.
Рынок без государства
Эта система обречена на провал. Не надо быть оракулом, чтобы понимать, что принцип комитетов министров в скором времени сделает пробуксовывание реформ совершенно нестерпимым. Чем сильнее будет социальная напряженность во Франции, Италии, Австрии, Германии и других государствах-членах, тем больше их правительства будут вынуждены срочно находить национальные решения, тогда как ЕС не предлагает никакой перспективы. Слабость Европы с ее правительствами прокладывает путь всевозможным популистам, обещающим своим избирателям вновь сделать политику национальной. Даже если такие провозвестники национального возрождения, как Ле Пен, Хайдер или Фини, и не добьются парламентского большинства, они подвергнут правящие партии сильнейшему давлению. Справляться с «национальным рефлексом», как элита ЕС насмешливо называет сопротивление ее режиму, будет все труднее, сколь бы иррациональным и экономически бессмысленным ни выглядело стремление выйти из европейской ассоциации.
Между государствами-членами возникнут конфликты (самое позднее, когда будет создан валютный союз), разрешить которые в рамках существующей конституции ЕС и его закулисного законотворчества будет невозможно. Если, например, какая-нибудь страна не выдержит гонки за подъем производительности, ее экономика неизбежно погрузится в кризис. В прошлом центральные банки еще могли смягчать подобные удары путем девальвации национальной валюты и поддержания по крайней мере экспортных отраслей. После создания Европейского валютного союза этого буфера уже не будет. Взамен потребуются компенсирующие дотации из богатых стран в бедствующие регионы. Но если такого рода региональная помощь является обычной практикой в пределах национальных государств, то как Совет Министров предполагает организовывать ее на европейском уровне? Вряд ли можно будет использовать с этой целью налоговые поступления без соблюдения демократических норм, без должного уровня понимания такого шага населением. Этого можно добиться только в том случае, если решения, принимаемые брюссельским советом, будут представляться на суд общественности и если избиратели будут уверены, что, придя к избирательным урнам, они могут на что-то повлиять. Правда, тогда честолюбивым законодателям из министерских комитетов сперва придется доходчиво объяснить своим избирателям, почему нельзя пренебрегать благосостоянием, скажем, греков. То же самое препятствие до настоящего времени стоит на пути совместной полицейской власти. Сколь бы настоятельной ни казалась Гельмуту Колю необходимость в «европейском ФБР», невозможно представить, чтобы существующая система смогла содержать оперативные полицейские силы, которые проводили бы расследования на всем пространстве ЕС. Если такие силы не будут контролироваться каким-либо парламентом и независимыми судами, они попросту превратятся в структуры наподобие мафиозных.
Выходит, что в ближайшем будущем правителям ЕС придется ответить на вопрос, как будет функционировать Европа, которую они сколачивают, и как ее нужно демократизировать. Часто высказывается неверное предположение, что ключом к единой Европе в той мере, в какой в этом заинтересованы ее граждане, является Европейский парламент в Страсбурге. Теоретически 626 евродепутатов уже обладают всей необходимой полнотой власти для преобразования нынешнего дискуссионного клуба в подлинно демократический надзорно-за-конодательный орган. Если бы удалось собрать большинство, выступающее за роспуск Комиссии ЕС, оно могло бы упразднить ее хоть завтра. Кроме того, блокируя бюджет или ратификацию всех международных договоров, оно могло бы заставить Совет Министров исполнять любое требование[400]. Если бы парламентарии в Страсбурге были действительно искренни в своих призывах к демократизации Европы, им ничто не помешало бы незамедлительно принять на себя соответствующие полномочия. Для начала хватило бы одной простой меры: сделать переговоры внутри министерских комитетов гласными. Ни один министр не отважился бы заставить полицию удалить депутатов, каждый из которых избран как минимум полумиллионом человек. Но если демократический раж еще не настолько велик, то лишь потому, что для примерно сотни представленных в Страсбурге национальных партий проблема европейской демократии стоит отнюдь не на первом месте. Большинство депутатов по-прежнему идет на поводу у своих правительств и в конфликтных ситуациях получает от них четкие инструкции по голосованию.
Это парламентское самоустранение говорит о том, что Европа еще не созрела для демократии континентального масштаба: Евросоюз — еще не государство, а направленность политики его членов остается преимущественно национальной. Сам президент Европарламента Клаус Хенш оправдывает подчиненность депутатов главам правительств и тем самым определенно выражает мнение подавляющего большинства своих коллег. Даже в постановлении конституционного суда Германии по Маастрихтскому договору говорится, что ЕС не более чем «конфедерация» или «объединение государств», где нет «общеевропейской нации». Следовательно, «в первую очередь народы государств — членов ЕС призваны придавать его решениям демократическую законность посредством своих национальных парламентов». Отсутствие общего языка, поясняет член конституционного суда Дитер Гримм, уже означает, что «в течение длительного времени не будет широкого публичного обсуждения на европейском уровне», а без настоящих политических связей по всей Европе любой Европарламент всегда будет «распадаться на национальные группки». Этим формирование Евросоюза «коренным образом отличается от создания Германского рейха» в прошлом столетии или от образования Соединенных Штатов Америки. Таким образом, в настоящее время «быстрая передача полномочий национальных государств Евросоюзу» должна быть «замедлена», а парламентам отдельных стран нужно оказывать «большее влияние на позиции, которых придерживаются правительства в Совете Министров».
Звучит довольно убедительно, но предлагаемое решение вовсе не является действенным. Независимо от того, много ли имеется языков или существует единая европейская нация, рынки и власти Западной Европы уже давно неразрывно переплелись между собой. Подлинная европейская революция было детищем открытого рынка, который к лучшему или к худшему, но сплавляет воедино страны-участницы. Валютный союз еще больше усилит эту взаимозависимость. Если Гельмут Коль и его партнеры хотят сделать ЕС дееспособным, то все, что им для этого нужно, — это сделать первый шаг. Для того чтобы поставить процесс принятия решений в ЕС с головы на ноги, достаточно двух изменений. Во-первых, комиссиям следовало бы принимать решения квалифицированным большинством (сейчас это делается только при рассмотрении деталей), и тогда прирост числа голосов обеспечил бы малым государствам-участникам достаточное влияние. Во-вторых, министры должны проводить обсуждения и принимать законы в обстановке полной гласности. Это немедленно положило бы начало процессу демократизации Европы, пусть порывистому и противоречивому, но больше не подавляемому. И тогда, к примеру, немцы были бы поставлены перед фактом, что бедность испанской молодежи — это и их проблема, а голландцы осознали бы, насколько близоруко поступает их правительство, защищая право отечественных фирм грузоперевозок забивать автострады соседей бесконечными колоннами сорокатонных грузовиков. И каждый бы понял, министры финансов каких стран в ответе за то, что компании и богатые люди платят мизерные налоги. Вскоре политические альянсы стали бы сколачиваться не на национальной основе, а на базе общих интересов, и превращение Европейского парламента в основной центр власти на континенте было бы лишь вопросом времени. После подписания Маастрихтского соглашения гражданам стало ясно, что возможны демократические процессы европейского масштаба. Поскольку в виде исключения требовалось одобрение французских и датских избирателей, перед двумя референдумами начались по-настоящему европейские дебаты, продолжающиеся и по сей день. Теперь каждый раз, когда политически подкованные граждане разных стран ЕС встречаются друг с другом, у них есть общая тема для разговора, в ходе которого они могут выдвигать аргументы «за» и «против», потому что их правительства вынуждены публично обосновывать то, что они делают.
Однако до претворения в жизнь демократической реформы ЕС остается урегулировать еще одну немаловажную проблему, от которой зависит его будущее, — членство Соединенного Королевства. До сих пор британские правительства неизменно играли в европейской интеграции деструктивную роль. Они блокировали все инициативы по защите окружающей среды, особенно введение общеевропейского налога на энергопотребление. Все попытки согласования социальной политики государств-членов натыкались на скалу британского сопротивления. Уайтхолл противится согласованной внешней политике равно как и торговым соглашениям, направленным на защиту интересов трудящихся. Юрисконсульты из лондонского Сити делают невозможным контроль над финансовыми рынками. Саботирование Европы достигло своего апогея в июне 1996 года, когда премьер Джон Мейджор ответил на запрет экспорта зараженной британской говядины блокадой решений всех вопросов повестки дня ЕС. Британские правительства вот уже 23 года нарушают статью 5 Римского договора[401], запрещающую странам-участницам «предпринимать шаги, ставящие под угрозу достижение целей настоящего договора».
По иронии судьбы, британская враждебность по отношению к интеграции в ЕС большей частью проистекает из глубоко укоренившегося демократического сознания. «В нашей стране демократия у себя дома», — говорит Джон Мейджор, вторя тем своим соотечественникам, которые недовольны проектом ЕС, потому что готовы подчиняться принципу большинства только в собственной стране, но не в Европе в целом. Эти критики ЕС упускают из виду то обстоятельство, что национальный суверенитет, который они так ревностно защищают, уже отошел в прошлое. Тем не менее принципиальное недоверие большинства британцев и британских политиков к объединению Европы приходится принимать как данность, даже если оно то и дело выражается в шовинистических нападках на континентальных соседей.
Другим странам ЕС очень скоро придется поставить британских избирателей и политиков перед необходимостью решать, хотят ли они сотрудничать или же им лучше выйти из конфедерации. Возможно, оценив риск взятого ею курса, Британия в своем споре с континентальной Европой будет придерживаться более рациональной линии. Конечно, для британской промышленности выход из ЕС был бы «кошмаром», предупредил своих соотечественников Найэлл Фитцджеральд, глава Unilever и европейский представитель Конфедерации британской промышленности[402]. В отрыве от континента Британия быстро потеряет свою последнюю козырную карту — роль зоны с низким уровнем зарплат и слабыми профсоюзами на европейском едином рынке. Но если проект политической интеграции провалится, есть немало оснований полагать, что Европа сможет двигаться вперед только без Британии. Потому что если та будет, как и прежде, жать на тормоза, то всем остальным странам ЕС тоже придется отвергать любое вмешательство в экономику и результатом будет абсурдная, вряд ли стоящая того, чтобы к ней стремиться, адаптация всего континента к британской модели. Ни в одной другой крупной стране ЕС нет столь низких доходов, столь запущенной системы образования и столь резкого контраста между богатыми и бедными. Эти черты более подходят 51-му штату США, нежели члену Европейского Союза, где большинство избирателей и политиков хотя бы все еще стремится к большему социальному равновесию.
Демократический союз, лежащий в основе нового европейского суверенитета и начинающий укрощать деструктивные силы рынков, — это может показаться не более чем утопическим вид„нием. Что же произойдет, если нации старого континента не пойдут по этому пути? Для противостояния корпорациям, картелям и преступникам необходима уравновешивающая мощь государства, пользующегося поддержкой большинства граждан. В условиях же рынка без границ ни одно государство Европы не в состоянии бороться в одиночку. Европейская альтернатива англо-американскому необузданному капитализму либо разовьется в рамках демократически легитимного союза, либо не состоится вовсе. Гельмут Коль прав, настаивая на том, что европейское единство — вопрос жизни и смерти; от этого зависит, будет ли в XXI веке мир или война. Но он ошибается, когда утверждает, что «нет возврата к национальной политике с позиции силы и традиционной концепции равновесия». Апологеты именно такого возврата давно уже появились по всей Европе, и каждый следующий виток ведущей вниз спирали доходов, занятости и социального равенства приносит им миллионы новых последователей. Или Европейской Утопии удастся развиться до восстановления баланса между рынком и государством, или она в конечном итоге развалится по швам. Времени для выбора между этими двумя альтернативами осталось немного.
Глава 9 Конец дезориентации. Как выйти из тупика
Успешно бороться с международной технократией можно только в ее излюбленной области, то есть в экономике, и лишь противопоставив ее ущербной форме знаний другую, в большей степени уважающую людей и реалии, с которыми они сталкиваются.
Из выступления Пьера Бурдьё, профессора Коллеж де Франс, перед забастовщиками на Лионском вокзале в Париже 12 декабря 1995 годаСколько демократии может вынести рынок? Еще несколько лет назад этот вопрос мог показаться бессмысленным. Ведь именно в демократических обществах Запада рыночная экономика позволяла сравнительно большому количеству людей жить без особых материальных забот. Рынок плюс демократия — такова, в конце концов, победоносная формула, поставившая на колени партийные диктатуры на Востоке.
Конец коммунистических режимов, однако, ознаменовал собой не конец истории, а гигантское ускорение социальных преобразований. С тех пор не менее млрд человек оказались вовлеченными в сферу экономики всемирного рынка, а интеграция национальных экономик по-настоящему началась только сейчас. Но то, чему на своем горьком опыте научились основатели послевоенных государств всеобщего благоденствия, вновь становится все более очевидным: рыночная экономика и демократия ни в коем случае не являются неразделимыми кровными братьями, мирно увеличивающими всеобщее благополучие. Скорее наоборот, между этими двумя основополагающими ориентирами старых индустриальных стран Запада по-прежнему существует антагонизм.
Демократически устроенное общество стабильно лишь тогда, когда избиратели знают и чувствуют, что учитываются права и интересы каждого, а не только находящихся на вершине экономической пирамиды. По этой причине политики-демократы обязаны настойчиво добиваться социального равновесия и ограничивать свободу индивидуума ради общего блага. В то же время, однако, для процветания рыночной экономики совершенно необходима свобода предпринимательства. Только перспектива личной выгоды высвобождает те силы, что создают новое богатство посредством нововведений и капиталовложений. Поэтому предприниматели и держатели акций всегда пытаются навязать право сильных, т.е. крупных капиталистов. Наиболее весомое достижение послевоенной политики Запада состоит в том, что был найден правильный баланс между этими двумя полюсами. Именно этот принцип лег в основу идеи социальной рыночной экономики, обеспечившей Западной Германии четыре десятилетия мира и стабильности.
Сейчас это равновесие утрачивается. Коль скоро государство уже не в состоянии управлять деятельностью мирового рынка, положение все больше меняется в пользу сильных. Рулевые новой глобальной экономики с поразительным невежеством выбрасывают за борт интеллектуальное наследие тех, кто впервые обеспечил ей успех. Предполагается, что постоянные урезания зарплаты, удлинения рабочего дня, сокращения пособий по социальному обеспечению, а в США — отказ от целой системы социальной защиты «приспосабливают» государства к всемирной конкуренции. Большинство руководителей корпораций и неолиберальных политиков видит в любом сопротивлении этой программе тщетную попытку защитить статус-кво, поддерживать которое далее невозможно. Глобализацию, говорят они, так же невозможно остановить, как и в свое время промышленную революцию. Все, кто ей сопротивляется, будут, мол, в конце концов, сметены, как разрушители машин[403] в Англии XIX века.
Вперед в 1930-е?
Наихудшее из того, что может произойти, — это то, что глобализаторы, проводящие эту аналогию, окажутся правы. Начало индустриальной эпохи было одним из самых ужасных периодов европейской истории. Когда прежние феодальные правители объединились с новыми капиталистами и грубой силой смели старый мир ценностей, правила гильдий ремесленников и основанные на обычаях права сельских жителей на скудное, но надежное пропитание, они не только причинили неисчислимые страдания миллионам людей. Одновременно они вызвали к жизни неконтролируемые движения сопротивления, разрушительная мощь которых, в конце концов, потрясла нарождающуюся систему международной свободной торговли и вылилась в две мировые войны и захват власти коммунистами в восточной части Европы.
Родившийся в Вене и эмигрировавший в Соединенные Штаты обществовед Карл Поланый в своем блестящем труде «Великое преобразование» подробно рассказывает, как подчинение человеческого труда законам рынка и последовавший в результате этого распад старых социальных структур вынуждали государства Европы все глубже погружаться в пучину иррациональных защитных мер. Создание свободного рынка, утверждает Поланый, «привело отнюдь не к отмене регламентации и вмешательства со стороны государства, а, напротив, к их чрезвычайному расширению»[404]. Чем чаще рынок и его конъюнктурные кризисы порождали волны банкротств и массовых бунтов, тем больше тогдашние правители были вынуждены ограничивать свободную игру рыночных сил. Сперва они только подавляли различные движения протеста рабочего класса, а затем перешли к защите рынков, в особенности от зарубежной конкуренции, и другие страны немедленно ответили тем же. В конце столетия, а еще более в 1920-е годы повседневной заботой правительств была отнюдь не свободная торговля, а разработка протекционистской политики. В итоге, сами того не желая, они сделали торговые и валютные войны настолько ожесточенными, что уже в значительной степени интегрированная мировая экономика погрузилась в Великую депрессию 1930-х.
Конечно, выполненное Поланым описание реакций на высвобождение рыночных сил нельзя схематично распространять на сегодняшнюю глобальную экономику высоких технологий, но его главный вывод все же верен. Либеральные экономисты, чьи воззрения доминировали в XIX столетии, полагали, что общества в их странах могут быть сформированы международной саморегулирующейся рыночной системой. Поланый считает, что это была опасная «Утопия», несшая в себе семена собственной гибели, потому что политика необузданного капитализма постоянно подрывала общественную стабильность.
Ту же самую утопию саморегулирующегося рынка лелеют сегодня все те, кто поднял знамя неограниченного дерегулирования и демонтажа государства всеобщего благоденствия. По словам социолога Ульриха Бека, их «рыночный фундаментализм — одна из форм демократической безграмотности»; мнимые модернизаторы, ссылаясь на закон спроса и предложения, забывают уроки истории. Ибо укрощение капитализма посредством основных социальных и экономических прав не было актом благотворительности, от которой можно отказаться в трудные времена. Скорее, это был ответ на глубокие социальные конфликты и распад европейской демократии в 1920–1930-е годы. Бек пишет: «Только люди, у которых есть дом и надежная работа, а следовательно, и материально обеспеченное будущее, являются гражданами, способными воспринять демократию и воплотить ее в жизнь. Истинная правда состоит в том, что без материальной обеспеченности нет ни политической свободы, ни демократии, а потому все находятся под угрозой со стороны новых и старых тоталитарных режимов и идеологий»[405].
Именно по этой причине противоречие между рынком и демократией вновь обретает взрывную мощь в бурных 1990-х. Эта тенденция давно уже очевидна для всех, у кого есть глаза, чтобы видеть. Ее безошибочным признаком, который политики вынуждены принимать во внимание вот уже много лет, является волна ксенофобии среди населения Европы и Северной Америки. Беженцы и иммигранты существенно поражаются в правах человека посредством все более суровых законов и все более жесткого надзора почти во всех европейских странах равно как и в Соединенных Штатах.
Следующий раунд ущемлений направлен против экономически слабых общественных групп — получателей социальной помощи, безработных, инвалидов, молодежи. Эти люди ощущают все меньше поддержки и сочувствия со стороны тех, кого пока еще можно отнести к «выигравшим». Сами находясь под угрозой снижения социального статуса, мирные граждане среднего класса превращаются в шовинистов благосостояния, которые больше не желают платить за проигравших в рулетку мирового рынка. Политики из числа «новых правых», в Германии концентрирующиеся главным образом в ФДП, сумели обратить общественное недовольство «социальными иждивенцами» в мысль о том, что старики, больные и безработные, должны, как и в прошлом, обеспечивать себя сами. В Соединенных Штатах, где половина граждан (а среди низших слоев намного больше) не утруждает себя участием в выборах, новые социал-дарвинисты даже завоевали большинство в парламенте и разделяют свою страну по бразильской модели. Следующими, как неизбежно подсказывает логика, под удар попадут женщины. В Германии христианские демократы уже решили наказывать беременных женщин, представляющих бюллетени, временным прекращением оплаты труда, а матери-одиночки, зависящие от социальной помощи, вынуждены ежедневно вести борьбу за выживание. Рупор британских либералов «Файнэншл тайме» выстроила цепочку аргументов, обосновывающую дальнейшее поражение женщин в правах. Наибольшую опасность вследствие роста неравенства, безапелляционно утверждает обозреватель-мужчина, представляют собой малообразованные молодые люди мужского пола, становящиеся преступниками и прибегающие к насилию из-за невозможности найти работу. Большинство из них вынуждено выдерживать конкуренцию с женщинами, на которых в настоящее время приходится почти две трети неквалифицированной рабочей силы страны. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, — это «сократить участие в труде женщин, которые с меньшей вероятностью совершают опасные преступления». Выходит, что будущим принципом экономической политики должен стать призыв: «Больше рабочих мест для юношей»[406].
Так пока еще процветающие регионы мира накапливают потенциал будущего конфликта, который отдельные страны и их правительства скоро уже будут не в состоянии разрядить. Если этот курс не будет вовремя изменен, неизбежна, согласно определению Поланого, защитная реакция. Представляется вероятным, что она снова примет протекционистскую, национально ориентированную форму.
Наиболее бдительные директора компаний и экономисты осознали эту опасность уже давно. Тиль Неккер, долгие годы являющийся президентом Ассоциации германской промышленности, — не единственный, кого беспокоит, что «глобализация приводит к такой скорости структурных изменений, с которой все большее число людей просто не в силах справиться. Как нам управлять этим процессом, чтобы рынки открывались, но изменения оставались под контролем?»[407]. Перси Барнвик, глава машиностроительного гиганта Asea Brown Boveri (ABB), имеющего 1000 дочерних компаний в 40 странах, сделал даже еще более серьезное предупреждение: «Если компании не найдут достойного ответа на проблему бедности и безработицы, трения между имущими и неимущими приведут к заметному росту насилия и терроризма»[408]. Другой человек, видящий зловещее предзнаменование, — Клаус Шваб, который, будучи устроителем и президентом Всемирного экономического форума в Давосе, вряд ли может быть заподозрен в каком-либо социальном романтизме. По его мнению, существующие тенденции «умножают людские и социальные затраты на процесс глобализации, доводя их до уровня, при котором социальная структура демократий подвергается беспрецедентному испытанию». Ширящееся «ощущение беспомощности и беспокойства» является предвестником «разрушительной реакции», движения сопротивления, ныне вступающего в «критическую фазу». «Все это, — заключает он, — ставит политических и экономических лидеров перед необходимостью показать, каким образом новый глобальный капитализм может функционировать на благо большинства [населения], а не только управляющих корпораций и инвесторов»[409].
Но это именно то, чего апостолы рынка продемонстрировать не в состоянии. Можно без труда показать, как нарастающее международное разделение труда помогает повышать производительность мировой экономики. Интеграция мирового рынка экономически очень эффективна. Но при невмешательстве государства глобальная экономическая машина абсолютно неэффективна в распределении производимого таким образом богатства; число проигравших намного превосходит число выигравших.
Именно поэтому проводимая до сих пор политика глобальной интеграции и не имеет будущего. Всемирная свободная торговля не может быть устойчивой, если она не подкреплена социально ответственным государством. Разумеется, Бонн — это не Веймар, а государства сегодняшней Европы, за исключением преемников Югославии, несравнимо более миролюбивы, как у себя дома, так и на международной арене, чем 70 лет назад. Ни одно коммунистическое движение не борется за свержение существующей системы, и нигде в Европе генералы или фабриканты оружия не планируют захвата соседних стран, но опасность, исходящая от анархического развития транснациональных рынков, осталась прежней. В воздухе вновь витает предчувствие всемирного биржевого краха, о чем те, кто играет с миллиардами на электронном рынке мировых финансов, знают лучше остальных. И опять демократические партии в одной стране за другой переживают кризис, не имея представления, каким образом и в каких областях они могут снова взять бразды правления в свои руки. Если правительства только и делают, что уговаривают население приносить во имя прогресса жертвы, от которых выигрывает только меньшинство, то на следующих выборах им придется всерьез учитывать вероятность ухода в отставку. С каждым новым процентом роста, безработицы или уменьшения заработков растет риск того, что политики, не зная, что делать, снова ухватятся за соломинку протекционизма, запустив торговые или валютные войны, которые приведут к экономическому хаосу и оставят все страны в еще худшем положении, чем прежде. Для того чтобы это произошло, вовсе не обязательно, чтобы на выборах победили националисты или другие сектанты. Зачем? Находящиеся сегодня у власти сторонники свободного рынка с успехом могут стать завтрашними протекционистами, если они сочтут, что это может принести им достаточное количество голосов[410].
Такой вариант развития событий возможен, но не неизбежен, потому что сегодня у нас есть неоценимое преимущество исторического опыта, из которого мы знаем, что отдельное государство не может вырваться из глобальной западни собственными силами. Поэтому мы должны искать и использовать другие выходы из положения. Дабы не соскользнуть обратно в экономический национализм, необходимо регулировать единый рынок посредством восстановления государства всеобщего благоденствия, с тем чтобы огромные выигрыши в эффективности что-нибудь значили бы для каждого гражданина. Только таким образом можно будет обеспечивать высокую степень поддержки рыночной системы, открытой миру.
Надежды на то, что только в случае прихода к власти какой-либо «настоящей» партии в Германии или во Франции или в любой другой европейской стране некий политический волевой акт может восстановить экономическую и социальную стабильность, иллюзорны. Невозможно вернуться назад во времени в 1960-е или начало 1970-х, когда национальные правительства еще могли прибегать к налоговой политике, чтобы относительно независимо решать, какая степень распределения нужна их странам, и планировать инвестиции таким образом, чтобы смягчать конъюнктурные кризисы. Экономическая интеграция зашла с тех пор слишком далеко. В глобальной гонке за доли пирога мирового рынка отдельные страны мчатся по многополосной скоростной автостраде и могут развернуться во избежание всеобщей свалки, лишь рискуя собственным уничтожением.
Да и нежелательно поворачивать назад, ибо всемирная экономическая интеграция предоставляет и огромные возможности. Фантастический рост производительности можно было бы с равным успехом использовать для того, чтобы защищать все большее количество людей от бедности и финансировать экологические программы в пока что процветающих частях мира. Но тогда главная задача должна состоять в том, чтобы повернуть гонку мирового рынка с ее самоубийственного курса на социальные пути, отвечающие принципам демократии, и заменить глобализацию несправедливости развитием в направлении большего общественного равенства.
Планы и стратегии прекращения тенденции движения к обществу 20:80 уже существуют. Первым крупным шагом было бы ограничение политической власти участников финансовых рынков. Если обложить сделки с валютой и займы за рубежом налогом с оборота, то центральным банкам и правительствам стран «большой семерки» больше не придется безоговорочно уступать непомерным требованиям финансовых дилеров. Вместо замедления инвестиций чрезмерными ставками процента и борьбы с инфляцией, которая никому и не угрожает, они могли бы совместно снижать ставки центральных банков, способствуя тем самым расширению предпринимательской свободы, развитию производства и повышению занятости[411].
Очень важно сочетать это с экологически ориентированной налоговой реформой, которая систематически удорожала бы использование природных ресурсов и улучшала бы положение трудящихся за счет снижения затрат на социальное обеспечение. Это единственный способ остановить сверхэксплуатацию экологической базы всей экономической деятельности, которая лишает грядущие поколения шансов на выживание.
Помимо того, многие единодушно ратуют за необходимость расширения диапазона и повышение эффективности системы образования. Если верно, что на смену индустриальному обществу придет информационное, то нельзя игнорировать тот постыдный факт, что все больше молодых людей в Европе и Америке не получают должного образования, а университеты все больше приходят в упадок просто потому, что налоговый бойкот со стороны корпораций и богачей бьет по государственной казне.
Если бы большее количество людей получало образование и если бы создавалось больше рабочих мест за счет государственных капиталовложений в такие проекты, как, например, транспортная система, приносящая минимальный ущерб окружающей среде, то неизбежно появились бы новые источники бюджетных поступлений. Доход в виде процентов по вкладам больше не следовало бы освобождать от налогообложения, а более высокая ставка НДС на предметы роскоши обеспечивала бы более справедливое распределение налогового бремени.
Опасный мировой жандарм
Все эти предложения, однако, выполнимы при условии, которое, очевидно, пока отсутствует, а именно: при существовании правительств, способных начать реформы в пику новым транснационалам таким образом, чтобы не подвергнуться немедленному наказанию бегством капитала. Единственная страна, которая еще могла бы сделать поворот без посторонней помощи — это экономическая и военная сверхдержава, Соединенные Штаты. Но в настоящее время шансы на американскую инициативу по укрощению рыночных сил в интересах всего мирового сообщества, судя по всему, очень близки к нулю. Более вероятно то, что правительства США будут все чаще прибегать к неверным протекционистским решениям и пытаться получить другие коммерческие преимущества для своей собственной страны.
И это не расходилось бы с традицией. Ведь бескорыстная Америка, которая помогает остальному миру решать его проблемы, никогда в действительности не существовала. Американские правительства, независимо от политической ориентации, почти всегда стремились к достижению того, что они понимали под своими национальными интересами. До тех пор пока нужно было бороться с «империей зла» на Востоке, эти интересы включали в себя стабильную и процветающую Западную Европу, способную противопоставлять коммунизму более привлекательную сторону капитализма. Теперь, однако, Европа Вашингтону для этого уже не нужна. Если влиятельным компаниям в Соединенных Штатах окажется выгодным изгнание с американского или иных крупных рынков иностранных товаров и услуг, будущие правительства наверняка не уклонятся от того, чтобы протянуть рыночным силам руку политической помощи. Администрация Клинтона дала миру почувствовать приближение трансатлантических конфликтов во время долларового кризиса 1995 года. Следующий удар последовал в августе 1996-го, когда президент США под предлогом борьбы с терроризмом подписал закон о недопущении на американский рынок всех европейских и японских компаний (в особенности, нефтяных и строительных), имеющих деловые связи с Ливией или Ираном. Вскоре государства ЕС оказались перед необходимостью угрожать соответствующими ответными мерами.
Именно потому, что американское государство всеобщего благоденствия лежит в руинах и не защищает своих граждан от кризисных потрясений, исходящих от мирового рынка, «отрицательной реакции» на глобализацию можно ожидать от страны, которая до сих пор поддерживала подчинение тотальному рынку повсюду в мире. Североамериканский гигант становится все более непредсказуемым не только в качестве глобального жандарма; он оставляет желать лучшего и в роли стража мировой свободной торговли[412].
Европейская альтернатива
Страны Европы могут и должны начать совместные действия против этой опасности, но решение состоит вовсе не в противодействии Крепости Европа надвигающейся Крепости Америка. Одно из преимуществ Европы заключается именно в том, что она знает о той катастрофе, которая может последовать, если разные страны займутся защитой своих экономик друг от друга. Цель, скорее, должна состоять в том, чтобы противопоставить деструктивному англо-американскому неолиберализму сильную и жизнеспособную европейскую альтернативу. Политический союз, объединенный общей валютой и трагической, но уже отошедшей в прошлое историей, имел бы не меньше веса в мировой политике, чем США и обретающие статус великих держав Китай и Индия. Единственным значимым фактором власти на глобальных рынках является масштаб экономики, что вот уже много лет демонстрируют торговые стратеги Америки. Но объединенная Европа, опирающаяся на рынок с примерно 400 миллионами потребителей, обладала бы способностью развивать новую экономическую политику сперва внутреннюю, а затем и внешнюю, более близкую принципам Джона Мэйнарда Кейнса и Людвига Эрхарда, нежели Мильтона Фридмена и Фридриха фон Хайека. В условиях разнузданного глобального капитализма только объединенная Европа могла бы установить новые правила, обеспечивающие большее социальное равновесие и экологическую реструктуризацию. Это тем более важно, что многие убежденные сторонники единой Европы в правительствах от Лиссабона до Хельсинки до сих пор шли к единству исключительно технократическими путями и лишали избирателей какого бы то ни было влияния на формирование будущего континента. Результатом является Европа крупных корпораций, в которой анонимные чиновники с подачи вездесущих лоббистов от промышленности внедряют рыночную программу социального разделения американского образца в законодательство ЕС, а рядовые граждане не получают никакой серьезной информации о ее преимуществах и недостатках. С созданием единого рынка европейские страны вновь утратили способность к реформированию. Их взаимозависимость означает, что они уже не могут действовать самостоятельно, а для подлинно демократической законности им недостает решений большинством голосов. Поэтому обязательным условием существования жизнеспособной европейской федерации является решительная демократизация процессов принятия решений. Европейская альтернатива получит реальный шанс на успех только тогда, когда негласное законотворчество министерских комитетов станет достоянием гласности и каждый закон ЕС будет обсуждаться в национальных парламентах, где иностранцам тоже будет позволено выступать. Способность к реформированию вернется только при условии, что пробуждение будет одновременно и европейским, и демократическим.
Это вовсе не подразумевает создание еще одной самодовольной европейской бюрократии, регулирующей все и вся. На самом деле все произошло бы как раз наоборот: восстановление в Европе главенства политики над экономикой лишило бы гидру бюрократизма способности отращивать новые головы. Если бы, к примеру, основы финансовой и налоговой политики принимались на европейском политическом уровне, а не в результате согласования между чиновниками, это положило бы конец хаосу, из-за которого государства-члены ежегодно недополучают доходов, укрываемых в международных налоговых убежищах, на сотни млрд марок. Это верно и по отношению к непомерно разросшемуся аппарату, созданному для защиты всякого рода субсидий, аппарату, который стал неконтролируемым только потому, что ЕС, неспособный принимать такого рода решения, не может провести простую финансовую взаимоувязку национальных бюджетов.
Те, кто утверждает, что идея единой Европы не пользуется поддержкой граждан ЕС, ставят все с ног на голову. Демократия — не состояние, а процесс. Верно лишь то, что Евросоюз технократов пользуется слабой поддержкой избирателей, и поделом: он годами выхолащивал национальные демократии отдельных государств, превратив их в посмешище. Несомненно и то, что огромное большинство европейцев не пойдет с готовностью по англо-американскому пути, ведущему к распаду общества. Если демократический Европейский Союз — это единственный способ обеспечить социальную стабильность, государственный суверенитет и благоприятную экологическую обстановку, то решающее политическое большинство этому проекту гарантировано, по крайней мере во Франции, в Южной Европе и Скандинавии.
Но есть ли политическая сила, способная вывести Союз из бюрократического тупика? Еще нет, но скоро, возможно, будет. Уже миллионы европейских граждан на своих рабочих местах, в органах местного самоуправления и бесчисленных общественных и экологических движениях поддерживают альтернативы того или иного рода, чтобы уберечь социальные связи от безумия всемирного рынка. Будь то Гринпис, центр добрососедства или женсовет, профсоюз или церковь, организации, помогающие старикам и инвалидам, акции солидарности с развивающимися странами или многочисленные группы поддержки иммигрантов, люди повсюду ежедневно прилагают значительные усилия, выполняя свой гражданский долг во имя всеобщего блага. Есть такая вещь, как гражданское общество, и оно сильнее, чем думают многие его активисты. Организации трудящихся также не должны позволять убеждать себя, что они неправы, протестуя против обесценивания труда, или что они просто пытаются отсрочить неизбежное. Справедливость — это вопрос не рынка, а власти. Поэтому массовые забастовки во Франции, Бельгии и Испании указывают верное направление. Даже и направленные отчасти на защиту интересов привилегированных государственных служащих, они все же явились законным протестом против перераспределения снизу вверх. Большинство населения этих стран так их и восприняло, иначе они не получили бы столь широкой общественной поддержки. Точно так же профсоюзные демонстрации в Лондоне, Бонне и Риме являются признаком той силы, которую можно наращивать по всей Европе до тех пор, пока правительства уже не смогут ее игнорировать.
Те же цели преследуют многочисленные активисты и представители крупных христианских конфессий. Хотя пассивные члены паствы и не внемлют их призывам, но увлеченным молодым людям они предоставляют неоценимое пространство для их собственных социальных инициатив. Стабильно высокий уровень участия в конгрессах евангелической церкви Германии является признаком широко распространенной потребности в организации и солидарности даже в высокопроизводительном обществе.
Между тем идет брожение в среде экономической и политической элиты Европы. Многие, даже если они не признают этого открыто, глубоко обеспокоены тем, что старый континент все больше американизируется. Несколько более решительных людей даже начали публично высказываться за смену курса. Например, Рольф Герлинг, миллиардер и главный акционер крупнейшей европейской компании по промышленному страхованию, объединился с другими представителями этого мощного в финансовом отношении сектора для борьбы за экологическую перестройку индустриальных стран. «Наше представление о мире выворачивается наизнанку», — говорит он, предрекая эпохальное изменение, «подобное переходу от средневековья к новому времени»[413]. Он намерен вложить часть своего капитала, чтобы помочь компаниям, выпускающим действительно «продукцию будущего», совершить прорыв. Гораздо больше, чем в Германии, в правильности направления, в котором движутся их страны, сомневаются влиятельные промышленники романской Европы. Когда президент Франции Жак Ширак говорил о том, что процесс глобализации должен быть поставлен под контроль, он выражал растущее недовольство лидеров отечественного бизнеса, вынужденных сокращать заработки и рабочие места вопреки своему желанию. А в Италии бывший шеф Fiat Умберто Аньелли предупредил, что «если социальные издержки [на адаптацию к мировому рынку], станут непомерными», то в отдельных странах ЕС снова «разовьется менталитет осажденной крепости».
Таким образом, почти во всех странах Западной Европы накопилось достаточно социальной энергии для выступления против диктатуры рынка и за демократические реформы, в противовес индивидуалистским течениям и «новым правым». До сих пор это еще нигде не вылилось в реальную силу для формирования политики. Но будет ли так всегда? Слабость европейской альтернативы — не в отсутствии поддержки избирателей, а в ее раздробленности в виде различных национальных или региональных движений. В эпоху транснациональной экономики любая инициатива по реформированию, заканчивающаяся у границ своей страны, не стоит этого названия. Неужели нельзя сплотить многие миллионы сознательных граждан в заслуживающий доверия альянс и предложить им общеевропейскую перспективу? Европейский Союз принадлежит нам всем, а не только чиновникам и технократам.
Не последним фактором при определении того, есть ли еще время у граждан Союза сделать его своим, прежде чем он вновь распадется на национальные частицы, станет исход дебатов по глобализации в Германии. В каждой германской партии достаточно политиков, полагающих, что мировой рынок не может долго продолжать развиваться так, как сейчас. По крайней мере в одном Гельмут Коль и его оппонент из СДПГ Оскар Лафонтен сходятся: именно Европейский Союз представляет собой единственный шанс на восстановление способности государства к действию. Не все в их руках, но от них зависит, вырвутся ли их партии из национальной клетки и наполнят ли они лелеемый их лидерами образ будущей Европы демократическими реалиями. Если они и их политические сторонники действительно будут бороться за демократизацию Союза на межнациональном уровне, есть шанс, что панъевропейское гражданское общество и впрямь станет надеждой, которая им так нужна. При этом необходима поддержка со стороны либералов или по крайней мере тех, кто считает себя защитником гражданских прав. Потому что если организованная преступность по-прежнему будет цвести пышным цветом на плодородной почве безгосударственного европейского рынка, то их аргументы против аппарата полицейского надзора уже не будут выглядеть столь привлекательно.
Не меньшей угрозе подвергается главная забота крупнейшей в Европе партии «зеленых» — экологическое переустройство индустриального общества. Бесспорно, богатым странам «придется уступить часть богатства» остальному миру, как сказал, выражая позицию своей партии в Бундестаге, представитель «зеленых» по вопросам налогообложения Освальд Метцгер[414]. Страны Севера, до сих пор наслаждавшиеся расточительным потреблением, не смогут избежать серьезных перемен и сопряженных с ними значительных жертв. Только замена экономики расточительства экономикой, ориентированной на удовлетворение насущных потребностей населения и альтернативные источники энергии (такие, как солнечная энергия), и планирование городов, учитывающее прежде всего интересы человека и исключающее лавинообразные потоки автомобилей, дадут странам Юга шанс на создание экологического пространства, необходимого им для собственного развития. Глобализированное же перераспределение в пользу стран, богатых капиталом, не приближает нас к этой цели ни на шаг, а напротив, удаляет от нее. Урезание зарплат, от которого страдают рабочие и служащие, равно как и уменьшение социальных выплат отнюдь не помогают развивающимся странам; от них выгадывают только богатые или высококвалифицированные представители одной пятой части общества, у которых доход растет от процента или заработков, в то время как остальное население вынуждено довольствоваться меньшим. Пока бóльшая часть избирателей живет в страхе вскоре оказаться среди проигравших, программы экологических реформ не имеют никаких шансов на обретение политического большинства, если в них содержится хотя бы намек на необходимость потуже затянуть пояса. Просвещенный гражданин среднего класса, удержавшийся на хорошей работе, может быть, и оставит свой автомобиль в гараже, но шовинист процветания — никогда.
Во многих частях ЕС политические реформаторы, стремящиеся сохранить сплоченность общества, вполне способны завоевать большинство на выборах. Но если они относятся к целям, содержащимся в их программах, серьезно, то им действительно придется принять вызов международной экономики и создать в европейских рамках такие инструменты и учреждения, которые дадут политике власть сформировать все заново. Европа Гельмута Коля безвозмездно предоставит им валютный союз, являющийся ключом к европейскому строительству. Тем самым откроется возможность ввести согласованные социальные правила в центре управления глобализацией на международном финансовом рынке. В то же время, однако, страны Союза свяжут себя друг с другом до такой степени, что они либо изобретут демократические формы общего законодательства, либо потерпят в своих начинаниях полное фиаско. Удастся ли Европе реализовать свой шанс, зависит главным образом от того, очнется ли национальная политика от европейской дремы и начнет ли она стремиться к реформам, выходящим за пределы национальных границ.
Один из критически настроенных американских экономистов, Этан Капстайн, являющийся также директором Совета по внешним сношениям со штаб-квартирой в Вашингтоне, сформулировал, сколь многое действительно поставлено на карту: «Возможно, мир неумолимо движется к одному из тех трагических моментов, что заставят будущих историков спросить: почему ничего не было сделано вовремя? Разве экономическая и политическая элиты не знали о том глубочайшем расколе в обществе, к которому привели экономико-технологические изменения? Что же не позволило им предпринять шаги, необходимые для предотвращения глобального социального кризиса?»[415].
Для граждан старого континента это означает, что они должны решить, какое из двух грандиозных течений европейского наследия будет формировать будущее: демократическое, берущее начало в Париже 1789 года, или тоталитарное, победившее в Берлине в 1933 году. Ответ дадим мы, избиратели, в большинстве своем все еще придерживающиеся демократических убеждений. Если мы перестанем отдавать инициативу в руки рыночных утопистов, которые прокладывают путь «новым правым», то покажем, что Европа способна и на лучшее.
Глава 10 Десять путей предотвращения общества 20/80
1. Демократизированный и дееспособный Европейский Союз.
Отдельные европейские страны внутри в высокой степени интегрированного единого рынка уже не способны к реформированию. Как не способна и конфедерация ЕС в ее нынешнем виде утверждать и осуществлять такие глубокие изменения, как, например, экологический налог, потому что министерским комиссиям — действующему законодательному органу ЕС — недостает для подлинно демократической законности решений, принимаемых большинством. Если бы деятельность министерских комиссий была гласной, если бы сама Комиссия ЕС избиралась Европейским парламентом и если бы иностранцам разрешалось высказываться на всех национальных парламентских дебатах по каждому закону ЕС, то тогда европейская демократия могла бы стать жизнеспособной и стали бы возможными межнациональные объединения ради политических реформ.
2. Усиление и европеизация гражданского общества.
Чем сильнее рост материального неравенства угрожает социальной сплоченности, тем важнее становится требование, чтобы граждане сами защищали основные демократические права и укрепляли общественную солидарность. Противодействовать ущемлению экономически слабых категорий населения и способствовать осуществлению альтернатив радикализму свободного рынка и демонтажу государства всеобщего благоденствия можно везде: на рабочем месте, в органах местного самоуправления, в сфере содействия организации досуга детей и интеграции иммигрантов. Межнациональное сотрудничество и создание соответствующих сетей придало бы движениям, в которые вовлечены миллионы людей, гораздо больший размах. Каждый имеет право участвовать в формировании будущего, в том числе и в Брюсселе. Мыслить глобально, а действовать локально — это, конечно, хорошо, но еще лучше действовать сообща поверх границ.
3. Европейский валютный союз.
Единственным важным фактором власти в глобальной экономике является размер. Преодоление валютной раздробленности путем ввода единой валюты, евро, могло бы нормализовать соотношение сил между финансовыми рынками и государствами Европы. Можно было бы стабилизировать обменные курсы и согласовывать стоимость европейской продукции в других валютах на рынках Азии и Америки с зарубежными партнерами, вместо того чтобы и дальше подчиняться произволу центрального банка США и финансовых дилеров Лондона, Нью-Йорка или Сингапура. Если удастся сделать евро ведущей валютой, ЕС приобретет достаточную экономическую мощь, чтобы добиваться ликвидации налоговых убежищ и восстановить налогообложение частных доходов от процента и дивидендов.
4. Расширение налогового законодательства Евросоюза.
Фискальная политика — это ключ к демократическому управлению экономическим развитием без дирижистского бюрократического вмешательства в рынок. Однако европейская экономика сейчас настолько интегрирована, что налогообложение может служить этой цели только на общеевропейском уровне. Это единственный способ покончить с конкуренцией внутри ЕС, когда страна с минимальным налогообложением корпораций способна переманивать максимальное число богатых налогоплательщиков.
5. Налог на сделки с валютой (налог Тобина) и на еврокредиты неевропейским банкам.
Экономический ущерб, причиняемый спекулятивными колебаниями обменных курсов, можно существенно уменьшить посредством налога на сделки с валютой и займы, подобного тому, что предложил американский экономист Джеймс Тобин. Тогда переводы из одной валюты в другую на основе разницы процентных ставок стали бы менее выгодными и Европейский центральный банк получил бы свободу приспосабливать процентные ставки к экономической ситуации в Европе и не был бы вынужден следовать американским установкам. Валютный налог, помимо того, обеспечил бы остро необходимые поступления для поддержки стран Юга, неспособных удержаться на глобальных рынках.
6. Минимальные социальные и экологические стандарты в мировой торговле.
Правительства развивающихся стран, обеспечивающие мизерную верхнюю прослойку доходами от торговли на мировом рынке за счет детского труда, безжалостного уничтожения окружающей среды и нищенских зарплат, обусловленных подавлением профсоюзных деятелей, расхищают вверенные им людские и природные ресурсы. Если бы Всемирная торговая организация налагала санкции на страны, правители которых уличены (с подтверждением со стороны ООН) в нарушении основных демократических и экономических прав, большей части недемократических элит Юга пришлось бы проводить политику развития, которая действительно помогала бы их странам двигаться вперед.
7. Всеевропейская реформа экологического налогообложения.
Налогообложение потребления ресурсов могло бы способствовать трудоемкой экономической деятельности и ограничить экологически губительный рост объема грузоперевозок на все бóльшие расстояния. Человеческий труд ценился бы выше, а энергоемкая автоматизация стала бы менее доходной. Кроме того, реструктуризация налогового бремени дала бы шанс на обособление финансирования расходов на социальные нужды от доходов трудящихся.
8. Европейский налог на предметы роскоши.
Доходы компаний нельзя обложить налогом на уровне, превышающем среднемировой, без негативного влияния на их международную конкурентоспособность. Это только поднимет цены на европейские товары и услуги и вытеснит инвесторов из страны. Для того чтобы выигравшие от глобализации все же вносили справедливую долю в финансирование государственных расходов, было бы уместно повысить ставку налога на добавленную стоимость, которым облагаются предметы роскоши. Он был бы применим на уровне в 30% ко всему, чем наслаждаются богатые люди: приобретение собственности сверх основного жилища, роскошные лимузины, океанские яхты, частные реактивные самолеты, дорогие ювелирные изделия, косметическая хирургия и т.д.
9. Европейские профсоюзы.
Крупнейшим упущением европейских профсоюзных деятелей является их отказ от создания мощной организации на уровне ЕС. Это единственная причина, по которой до сих пор нет действующих общеевропейских советов представителей рабочих и служащих предприятий, и только поэтому рабочую силу компаний в разных странах можно стравливать друг с другом. Если бы представители трудящихся захотели покончить со своим мелкопоместным поведением, то эффективно организованные корпоративные лобби в Брюсселе утратили бы свое превосходство в законодательном процессе, а социальная политика ЕС получила бы возможность обрести реальную форму.
10. Прекращение дерегулирования без социальной защиты.
Отмена государственной монополии на средства связи и энергоснабжение равно как и открытие прежде защищенных секторов рынка международной конкуренции оказывают самое пагубное воздействие на рынок труда. Если нет гарантии, что будет создано хотя бы примерно столько же рабочих мест, сколько будет утрачено в результате либерализации, любое открытие рынка должно быть отложено до снижения безработицы.
Примечания
1
«За последние 30 лет стоимость мировых финансовых активов (левые столбцы в каждой паре) росла гораздо быстрее, чем мировой ВВП (правые столбцы): мы называем это углублением финансового океана. Если в 1980 году стоимость активов составляла 108% мирового ВВП, то в 2007-м — 356% (в 2007 г. ВВП — 55 трлн долл, стоимость финансовых активов — 155 трлн. долл.)». Источник: -russia.ru/issue/42/506/ — Прим. сканировщика
(обратно)2
Радость жизни (франц.). — Прим. перев.
(обратно)3
Из его застольной речи 27 сентября 1995 г. в Сан-Франциско.
(обратно)4
Трем журналистам было разрешено присутствовать на заседаниях всех рабочих групп в Сан-Франциско с 27 сентября по 1 октября 1995 г. Одним из них был Ганс-Петер Мартин.
(обратно)5
Wirtschaftsblatt, 14.6.1996; Wifo-Prognose, in: Die Presse, 30.3.1996.
(обратно)6
Die Woche, 26.1.1996.
(обратно)7
DieZeit, 12.1.1996.
(обратно)8
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.1.1996 und 30.4.1996.
(обратно)9
Neue Kronenzeitung, 14.5.1996.
(обратно)10
«Социальный контракт» («общественный договор») — доктрина, провозглашающая необходимость согласия граждан на учреждение формы государственного правления, гарантирующей реализацию их естественных прав. — Прим. ред.
(обратно)11
Frankfurter Rundschau, 22.3.1996, und Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.6.1996.
(обратно)12
Der Spiegel, 4/96.
(обратно)13
Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 16, Lohn, Preis und Profit, S. 103–152, Berlin 1962.
(обратно)14
Der Spiegel, 4/96.
(обратно)15
Впервые этот термин был использован в 1995 г. американским экономистом Эдвардом Луттваком.
(обратно)16
Financial Times, 30.4.1996.
(обратно)17
Согласно исследованию Тимоти Игана (Timothy Egan) Many Seek Security in Private Communities, New York Times, 3.9.1995; см. также Lester Thurow, The Future of Capitalism, New York 1996.
(обратно)18
The Economist, 11.10.1930.
(обратно)19
Вынужденная посадка в апреле 1994 г.
(обратно)20
Визит в январе 1995 г.
(обратно)21
Страна изобилия, нетронутый цивилизацией райский уголок. — Прим. ред.
(обратно)22
Визит в апреле 1993 г.
(обратно)23
Визит в марте 1992 г.
(обратно)24
Крупнейший пляж в Рио-де-Жанейро. — Прим. ред.
(обратно)25
Во время недавней поездки в феврале 1996 г.
(обратно)26
Римский клуб (The Club of Rome) — международная неправительственная организация, основанная в Риме в 1968 г. и занимающаяся исследованием перспектив глобального развития человечества на базе современных тенденций развития стран мира. — Прим ред.
(обратно)27
Интервью в Париже 27.10.1996.
(обратно)28
New Perspectives Quarterly, Fall 1995, p. 3.
(обратно)29
New Perspectives Quarterly, Fall 1995, p. 9.
(обратно)30
New Perspectives Quarterly, Fall 1995, p. 13–17.
(обратно)31
New Perspectives Quarterly, Fall 1995, p. 2.
(обратно)32
Die Welt, 2.2.1996.
(обратно)33
Der Spiegel, 22/96, S. 99.
(обратно)34
Suddeutsche Zeitung, 12.4.1995.
(обратно)35
RTL, 22.5.1996.
(обратно)36
Интервью начиная с октября 1986 г., последнее 23.7.1996 в Нью-Йорке.
(обратно)37
Посещения галерей в Томске в апреле 1994 г., Лиссабоне в ноябре 1993 г. и Вене: «Coming up» Junge Kunst aus Psterreich, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 20-er Haus, 11.6.—15.9.1996.
(обратно)38
Интервью Петера Туррини с декабря 1994 г. по август 1996 г. в Вене, Ретце и Брегенце, первые выдержки в Der Spiegel, 18/95, S. 192 ff.
(обратно)39
Посещение концертов в Вене (13.7.1996) и Нью-Йорке (20.7.1996).
(обратно)40
The Economist, zit. nach Manager-Magazin Spezial, 1/96, S. 9.
(обратно)41
Визит в июле 1996 г.
(обратно)42
Интервью в феврале 1991 г. в Рио-де-Жанейро.
(обратно)43
Der Spiegel, 21/96, S. 191.
(обратно)44
Интервью в ноябре 1992 г. в Бремене.
(обратно)45
IDC-Deutschland Info, 17.1.1996.
(обратно)46
Больших городов со всеми пригородами. — Прим. ред.
(обратно)47
New Perspectves Quarterly, Winter 1995, p. 21.
(обратно)48
Передача Гонконга КНР состоялась, как и планировалось, в 1997 году. — Прим. ред.
(обратно)49
Business Week, 24.4.1995.
(обратно)50
Business Week, 22.1.1996.
(обратно)51
Welt am Sonntag, 25.6.1996.
(обратно)52
Посещение Атланты с 19 по 21.7.1996.
(обратно)53
Интервью в Атланте 20.7.1996.
(обратно)54
World Resources 1996/97, The Urban Environment, Washington D.C., p. 3.
(обратно)55
Речь на социальном саммите в ООН в марте 1995 г.
(обратно)56
UNDP Human Development Report, 1996, New York.Juli 1996.
(обратно)57
OECD-Datenbasis, Recherche in Paris.Juli 1996.
(обратно)58
Интервью Динеша Б. Мехты в Берлине 20.3.1996.
(обратно)59
OECD-Datenbasis, Recherche in Paris, Juli 1996.
(обратно)60
New Perspectves Quarterly, Fall 1994, p. 2.
(обратно)61
ORF-Teletext, 10.8.1996; Frankfurter Rundschau, 26.6.1996.
(обратно)62
Разделение по племенному признаку, предпочтение лицам своего племени. — Прим. ред.
(обратно)63
Studie der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung an der Universitat Hamburg, zitiert in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.6.1996.
(обратно)64
Robert D. Kaplan, Die kommende Anarchie in: Lettre, Fruhjahr, 1996, S. 54.
(обратно)65
Устаревшее название Кот-д'Ивуара. — Прим. ред.
(обратно)66
Robert D. Kaplan, Die kommende Anarchie in: Lettre, Fruhjahr, 1996, S. 58.
(обратно)67
Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, Summer 1993, p. 22.
(обратно)68
Интервью в Каире 12, 13 и 14 сентября 1994 г.
(обратно)69
Der Spiegel, 23/96, S. 158.
(обратно)70
World Urbanization Prospects, The 1994 Revision, New York, p. 105.
(обратно)71
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.6.1996.
(обратно)72
Der Spiegel, 23/96, S. 156ff.
(обратно)73
The Economist, 29.7.1995.
(обратно)74
Интервью в Бонне в декабре 1992 г.
(обратно)75
Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, March/April 1996, p. 86.
(обратно)76
Der Spiegel 2/93, S. 103.
(обратно)77
UNDP-Bericht 1994; UN-Forschungsinstitut fur soziale Entwicklung (States of Disarray 1995).
(обратно)78
UNDP-Bericht 1994; UN-Forschungsinstitut fur soziale Entwicklung (States of Disarray 1995).
(обратно)79
World Resources 1996/97, New York, Oxford 1996.
(обратно)80
Der Spiegel, 23/96, S. 168.
(обратно)81
Der Standard, 14.6.1996.
(обратно)82
Foreign Affairs, Council on Foreign Relations,January/February 1996, p. 65.
(обратно)83
World Resources 1996/97, New York, Oxford 1996.
(обратно)84
Odil Tunali, in: World-Watch, Das globale Umweltmagazin, 2/1996, S. 27ff.
(обратно)85
Odil Tunali, in: World-Watch, Das globale Umweltmagazin, 2/1996, S. 31.
(обратно)86
Der Spiegel, 2/93, S. 106.
(обратно)87
World Resources 1996/97, New York, Oxford 1996.
(обратно)88
Newsweek, 9.5.1994.
(обратно)89
Визит в апреле 1994 г.
(обратно)90
Newsweek, 9.5.1994.
(обратно)91
ORF-Teletext, 13.6.1996.
(обратно)92
Интервью в июне 1996 г.
(обратно)93
Интервью в Вене 19.10.1995.
(обратно)94
Von Weizsacker, E.U., Lovins, A.B., Lovins, H.L., Faktor vier. Doppelter Wohlstand halbierter Naturverbrauch, Munchen 1995.
(обратно)95
The Crucial Decade: The 1990s and the Global Environmental Challenge. World Resources Institute, Washington D.C. 1989.
(обратно)96
Интервью в июне 1989 г. в Вашингтоне, Федеральный округ Колумбия.
(обратно)97
Интервью Лестера Брауна, Криса Флавина и Хилари Френч из Института изучения мировых проблем во время конференции ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г.
(обратно)98
Интервью в Париже 27.10.1992.
(обратно)99
Lester R. Brown, State of the World 1996, New York, London 1996.
(обратно)100
Интервью в Сан-Франциско 27.9.1995.
(обратно)101
В данном конкретном случае речь идет о так называемой мальтузианской ловушке — гипотезе, согласно которой рост населения и ограничение возможностей производства продуктов питания будут удерживать большинство населения на грани голода. Гипотеза не подтверждается в развитых странах со времен промышленной революции. — Прим. ред.
(обратно)102
«Зеленая революция» — термин, появившийся в 60-х годах XX века в связи с начавшимся во многих странах процессом внедрения новых высокоурожайных сортов зерновых культур (пшеница, рис) с целью резкого увеличения продовольственных ресурсов. Также предусматривает необходимое орошение земель, химизацию и механизацию сельского хозяйства; наибольшее значение имеет для развивающихся стран. — Прим. ред.
(обратно)103
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.5.1996.
(обратно)104
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.5.1996.
(обратно)105
Интервью в Париже в декабре 1991 г.
(обратно)106
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.12.1995, S. 15.
(обратно)107
Авторы намекают на национальность Адольфа Гитлера. — Прим. ред.
(обратно)108
Myron Weiner, The Global Migration Crisis, MIT, New York 1995.
(обратно)109
Myron Weiner, The Global Migration Crisis, MIT, New York 1995.
(обратно)110
Интервью в Париже 27.10.1992.
(обратно)111
Интервью в Вашингтоне, Ф.о.К., 6.2.1996.
(обратно)112
Лица, имеющие доступ к информации, не доступной широкой публике. — Прим. перев.
(обратно)113
International Herald Tribune, 16.1.1995.
(обратно)114
Financial Times, 26.1.1995.
(обратно)115
Интервью в Вашингтоне, Ф.о.К., 6.2.1996.
(обратно)116
Financial Times, 16.2.1995.
(обратно)117
International Herald Tribune, 2.2.1995.
(обратно)118
Интервью 29.1.1996.
(обратно)119
International Herald Tribune, 2.2.1995.
(обратно)120
International Herald Tribune, 3.4.1995.
(обратно)121
International Herald Tribune, 3.4.1995.
(обратно)122
The Economist, 7.10.1995.
(обратно)123
Последние данные БМР по ежедневным сделкам, основанные на исследованиях, проведенных в 1994 г., дали цифру в 1,25 триллиона долл. С тех пор финансовые эксперты наблюдали ежегодный рост на 15 %, так что барьер в 1,5 триллиона, вероятно, к настоящему времени уже достигнут.
(обратно)124
1. Валюта, купленная или проданная по курсу, который котируется на определенную дату в будущем. 2. При инвестировании — контракты на продажу и поставку товара в определенное время в будущем. — Прим. перев.
(обратно)125
Интервью представителя агентства Рейтер Питера Томаса, Лондон, 25.1.1996.
(обратно)126
Der Spiegel, 12/1994.
(обратно)127
Эта цифра приведена Постоянным комитетом по евровалюте Группы «десяти» при БМР. Цитируется по записи лекции Эдгара Май-стера, члена совета директоров Bundesbank. — Derivate aus der Sicht der Bankenaufsicht, 29.1.1996.
(обратно)128
Эта сумма упомянута Вильгельмом Ноллингом (Wilhelm Nolling), бывшим президентом Hamburger Landeszentralbank в статье Die Finanzwelt vor sich selbst schutzen. — Die Zeit, 5.11.1993.
(обратно)129
Интервью в Вашингтоне 31.1.1996. Имя интервьюируемого изменено по его просьбе.
(обратно)130
Нижеследующий рассказ о нападении на EBS основан главным образом на превосходном описании этой истории в книге Грегори Дж. Миллмена (Gregory J. Millman) The Vandal's Crown: How Rebel Currency Traders Overthrew the World's Central Banks, New York, 1995.
(обратно)131
Цифры и цитаты из: Steven Salomon, The Confidence Game: How Unelected Central Banks are Governing the Changed World Economy, New York 1995.
(обратно)132
Vereinigte Wirtschaftsdienste, 16.10.1993.
(обратно)133
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3.2.1996.
(обратно)134
Cm. Deutsche Bundesbank, Auszuge aus Pressearukeln, 28.9.1995.
(обратно)135
The Economist, 7.10.1995.
(обратно)136
Cm. Erich Diffenbacher, Organisation Business Crime Control, Die Off-Shore-Bankenplatze, текст лекции, прочитанной на конференции по проблеме отмывания денег в Фонде Фридриха Эберта, Берлин, 7.10.1993.
(обратно)137
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.11.1995.
(обратно)138
Интервью в Берлине 8.1.1996.
(обратно)139
EidgenossischesJustiz- und Polizeidepartment, Bericht der AG «Lagebild Ostgelder», Oktober 1995.
(обратно)140
Согласно внутренним документам федерального министерства финансов Германии, датированным летом 1995 г.
(обратно)141
Международная экономическая организация, созданная в 1961 г. в целях координации экономической политики стран участниц и их программ помощи развивающимся странам. — Прим.ред.
(обратно)142
Jean-François Couvrat/Nicolas Pless, Das verborgene Gesicht der Weltwirtschaft, Munster 1993.
(обратно)143
Newsweek, 3.10.1994.
(обратно)144
Интервью в Нью-Йорке 1.2.1996.
(обратно)145
Handelsblatt, 25.1.1996.
(обратно)146
New York Times, 27.2.1995.
(обратно)147
1 пункт = 0,1%, Financial Times, 24.1.1996.
(обратно)148
Согласно заявлению федерального министерства финансов в ответ на запрос СДПГ в Бундестаге. — Frankfurter Rundschau, 10.9.1995.
(обратно)149
Kommission der Europaischen Gemeinschaften, Bericht der unabhangigen Sachverstandigenausschusses fur Unternehmensbesteuerung («Ruding-Bericht»), Amt fur amtliche Veroffentlichungen, Luxemburg 1992.
(обратно)150
The Economist, 7.10.1995.
(обратно)151
Исследование Deutsche Bank, согласно Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.3.1996.
(обратно)152
The Economist, 29.4.1995.
(обратно)153
The Economist, 7.10.1995.
(обратно)154
Deutsche Bundesbank, Auszuge aus Presseartikeln, 11.1.1996.
(обратно)155
Интервью в Лондоне 31.1.1996.
(обратно)156
Фед (the Fed) — федеральный резервный банк Нью-Йорка, единственный из 12 федеральных резервных банков США, осуществляющий валютные операции, в том числе по поддержанию курса доллара. — Прим. ред.
(обратно)157
International Herald Tribune, 22.4.1995.
(обратно)158
Wirtschaftswoche, 20.4.1995.
(обратно)159
Интервью в Берлине в июне 1995 г.
(обратно)160
Reuters, 19.2.1996.
(обратно)161
Эпизод с Negara подробно изложен в: G. Millman, The Vandal's Crown, New York 1995, S. 225ff.
(обратно)162
Когда убытки по счету валютного дилера превышают заранее определенный лимит, он закрывает свою позицию в убыток. Приказ на сделку, закрывающую убыточную позицию в валюте, называется stop-loss. — Прим. ред.
(обратно)163
The Economist, 18.11.1995.
(обратно)164
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.1.1996.
(обратно)165
Berliner Zeitung, 8 3.1996.
(обратно)166
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.9.1996.
(обратно)167
The Economist, 3.2.1996.
(обратно)168
James Tobin, A Proposal for International Monetary Reform, in: The Eastern Economic Journal, 3–4, July/October, 1978.
(обратно)169
Американский экономист Дэвид Феликс, например, подсчитал, что при уровне налога в один процент облагаемый им оборот все равно составил бы 72 триллиона долл. в год, что означало бы налоговые поступления в размере 720 млрд долл.
(обратно)170
Читай: не на непривилегированное большинство (дословно: «не на главную улицу»). — Прим. ред.
(обратно)171
Jorg Huffschmid, Funktionsweise, Nutzen und Grenzen der Tobin-Tax, in: Informationsbrief Weltwirtshaft & Enwicklung, Sonderdienst, 8/1995.
(обратно)172
Интервью в июне 1995 г.
(обратно)173
Alexander Schrader, Devisenumsatzsteuen Scheiternprogrammiert, in: Deutsche Bank Research. Bulletin, 2C.6.1995, zitiert nackjorg Huffschmid, Fussnote 55.
(обратно)174
Цитируется по: Gregory Millman, S. 231.
(обратно)175
Suddeutsche Zeitung, 21.3.1995.
(обратно)176
Barry Eichengreen, James Tobin and Charles Wyplosz, Two Cases for Sand in the Wheels of International Finance, in: The Economic Journal 105,1995.
(обратно)177
Имеется в виду тоталитарное общество, описанное в романе-антиутопии «1984» английского писателя Джорджа Оруэлла. — Прим. ред.
(обратно)178
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.3.1995.
(обратно)179
Wall Street Journal, 16.9.1993.
(обратно)180
Vereinigte Wirtschaftsdienste, 30.9.1993.
(обратно)181
Эпизод с Negara подробно изложен в: G. Millman, The Vandal's Crown, New York 1995, S. 255.
(обратно)182
Это оценка Роланда Лёйшеля, главного стратега брюссельского Banque Lambert, интервью в Брюсселе 30.1.1996.
(обратно)183
См. Julia Fernald u. a., Mortgage Security Hedging and the Yield Curve, Federal Reserve Bank New York, Research Paper no. 9411, August 1994.
(обратно)184
Der Spiegel 12/1994.
(обратно)185
Der Spiegel 12/1994.
(обратно)186
Wirtschaftswoche, 47/1994.
(обратно)187
Wilhelm Nolling, Die Finanzwelt for sich selbst schutzen, in: Die Zeit, 5.11.1993.
(обратно)188
Felix Rohatyn, Globale Finanzmarkte: Notwendigkeiten und Risiken, in: Lettre international, Nr. 46, Herbst 1994, und: America in the year 2000, Vortrag beim Bruno Kreisky Forum, 8.11.1995, Wien.
(обратно)189
Handelsblatt, 13.4.1995.
(обратно)190
Deutsche Presse-Agentur, 27.1.1995.
(обратно)191
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.12.1995.
(обратно)192
Edgar Meister, Mitglied des Directoriums der Bundesbank, Derivate aus der Sicht der Bankenaufsucht, Vortragsmanuskript, 29.1.1996.
(обратно)193
Интервью во Франкфурте 21.1.1996.
(обратно)194
Интервью представителя Euroclear Дэвида Томаса в Брюсселе 21.1.1996.
(обратно)195
International Herald Tribune, 5.2.1996.
(обратно)196
The Economist, 17.2.1996.
(обратно)197
International Herald Tribune, 4.6.1996.
(обратно)198
Имеется в виду падение Берлинской стены и распад социалистических режимов Восточной Европы. — Прим. ред.
(обратно)199
The Economist, 7.1.1995.
(обратно)200
Цитата приведена в: Die Zeit, 24.11.1995.
(обратно)201
Financial Times, 28.3.1996.
(обратно)202
Financial Times, 3.7.1996.
(обратно)203
Сопровождение (обслуживание) — здесь: поддержание работоспособности системы и ее модификация в соответствии с изменением предъявляемых к ней требований. Разновидность — сопровождение программы (исправление ошибок, внесение модификаций и проведение консультаций по программе, находящейся в эксплуатации). — Прим. ред.
(обратно)204
International Herald Tribune, 29.8.1995.
(обратно)205
Все цитаты взяты из: Thomas Fishermann, Mitleid fur die Erste Welt, Die Zeit, 3.11.1995.
(обратно)206
Согласно вычислениям, выполненным в Федеральном институте труда. Цитируется по: Die Zeit, 24.11.1995.
(обратно)207
До 1990 г. Организация экономического сотрудничества и развития включала в себя только 23 «классические» индустриальные страны бывшего Запада: Соединенные Штаты, Канаду, Японию, Австралию, Новую Зеландию, Германию, Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Португалию, Нидерланды, Данию, Грецию, Ирландию, Бельгию, Люксембург, Швецию, Норвегию, Финляндию, Исландию, Австрию и Швейцарию. С тех пор в нее были приняты еще 5 экономически более слабых стран, граничащих с вышеперечисленными и связанных экономическими договорами с Европейским Союзом или Североамериканской зоной свободной торговли. Это Турция, Мексика, Венгрия, Чехия и Польша.
(обратно)208
WDR (Westdeutscher Rundfunk) — Радио Западной Германии. — Прим. ред.
(обратно)209
DieWoche, 12.9.1993.
(обратно)210
Wall Street Journal Europe, 12.3.1993.
(обратно)211
Edzard Reuter, Wie schafft bessere Erkenntnis besseres Handeln?, Manuskript eines Vortrags bei der Alfred Herrhausen-Gesellschaft, Juni 1993.
(обратно)212
Der Spiegel, 4/1996.
(обратно)213
World Trade Organisation, Trends and Statistics 1995, Genf.
(обратно)214
Ассоциация европейских авиалиний (Adria Airways, Aer Lingus, Air France, Air Malta, Alitalia, Austrian Airlines, Balkan, British Airways, British Midland, CSA, Cyprus Airways, Finnair, Iberia, Icelandair, JAT, KLM, Lufthansa, Luxair, Malev, Olympic Airways, Sabena, SAS, Swissair, TAP Air Portugal, Turkish Airlines).
(обратно)215
Во Франции широко распространено объединение банковского и страхового дела в рамках так называемых общефинансовых компаний, которым для продажи страховых полисов и инвестирования страховых сборов требуется намного меньше служащих. Подобное объединение ожидается в финансовых секторах других европейских стран.
(обратно)216
Цитируется по: Elmar Altvater/Birgit Mahnkopf, Grenzen der Globalisierung, Munster 1996.
(обратно)217
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 1995, New York/Genf.
(обратно)218
Paolo Cecchini aa., Europa ‘92: Der Vorteil des Binnenmarktes, Baden-Baden 1988.
(обратно)219
Financial Times, 26.2.1996.
(обратно)220
На основе репортажа в: In These Times, 26.12.1995.
(обратно)221
Вид забастовки. — Прим. ред.
(обратно)222
Информация из: Los Angeles Times, 5.12.1995.
(обратно)223
Business Week, 16.10.1995.
(обратно)224
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.4.1996, u. Der Spiegel 15/1996.
(обратно)225
Данные из: US Bureau of the Census, Current Population Report, цитируется no: Lester Thurow, The Future of Capitalism, New York 1996.
(обратно)226
Данные из: Simon Head, Das Ende des Mittelklasse, in: Die Zeit, 26.4.1996.
(обратно)227
Данные из: US Bureau of the Census, Current Population Report, цитируется no: Lester Thurow, The Future of Capitalism, New York 1996, S. 180.
(обратно)228
В соответствии с оценкой New York Times на основе статистических данных министерства труда США. — International Herald Tribune, 6.3.1996.
(обратно)229
Phillip Cook/Robert Frank, The Winner-Take-All Society, New York 1995.
(обратно)230
International Herald Tribune, 17.11.1995.
(обратно)231
International Herald Tribune, 17.11.1995.
(обратно)232
Robert Reich, Die neue Weltwirtschaft, Frankfurt/Berlin 1993, u. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.4.1996.
(обратно)233
Данные из: US Bureau of the Census, Current Population Report, цитируется no: Lester Thurow, The Future of Capitalism, New York 1996, S. 126, u. 165/166.
(обратно)234
Цитируется по: Silvio Bertolami, Wir werden alle durch den Fleischwolf gedreht, in: Die Weltwoche, 31.8.1995.
(обратно)235
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.4.1996.
(обратно)236
Данные из: Simon Head, Das Ende des Mittelklasse, in: Die Zeit, 26.4.1996.
(обратно)237
Stephen Roach, America's Recipe for Industrial Extinction, in: Financial Times, 14.5.1996.
(обратно)238
Financial Times, 14.5.1996.
(обратно)239
Согласно информации компании, приведенной в Focus, 45/1995.
(обратно)240
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.5.1996, u. International Herald Tribune, 29.2.1996.
(обратно)241
Цитируется по: Heinz Bluthmann, Abschied auf Raten, in: Die Zeit, 8.9.1995.
(обратно)242
Передача части производственных функций внешним подрядчикам. — Прим. ред.
(обратно)243
Der Spiegel, 16/1996.
(обратно)244
The Economist, 14.10.1995.
(обратно)245
Le Monde diplomatique, Oktober 1995.
(обратно)246
Reuters, 19.3.1996.
(обратно)247
Die Zeit, 22.7.1996.
(обратно)248
Сокращение от Aktiengesellschaft (акционерное общество (нем.)). — Прим. ред.
(обратно)249
Der Standard, 25.5.1996.
(обратно)250
Die Tageszeitung, 6.3.1996.
(обратно)251
Bloomberg Business News, 18.3.1996.
(обратно)252
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3.6.1996.
(обратно)253
Frankfurter Rundschau, 2.12.1995.
(обратно)254
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.10.1994, u. Frankfurter Rundschau, 16.10.1994.
(обратно)255
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.10.1993.
(обратно)256
Der Spiegel, 16/1996.
(обратно)257
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.6.1996.
(обратно)258
Более подробно в: Н. Schumann, Selbstentmachtung der Politik. Die programmierte Krise des EG-Systems, in: Kursbuch 107/1992.
(обратно)259
Данные Ассоциации европейских авиалиний.
(обратно)260
International Herald Tribune, 3.7.1996.
(обратно)261
Испания, Португалия, Греция и Ирландия обеспечили себе сроки перехода до 2003 г.
(обратно)262
The Economist, 1.6.1996.
(обратно)263
Der Spiegel, 8/1996.
(обратно)264
International Herald Tribune, 23.4.1996.
(обратно)265
Der Spiegel, 2/1996.
(обратно)266
Le Monde diplomatique, 1/1996.
(обратно)267
Financial Times, 24.4.1996.
(обратно)268
Frankfurter Rundschau, 2.5.1996.
(обратно)269
Die Zeit, 24.5.1996.
(обратно)270
Электротехник, электромонтер (исп). — Прим. ред.
(обратно)271
Silvio Bertolami, Kater nach dem Tequilarausch in: Die Weltwoche, 12.1.1995.
(обратно)272
Данные из: Anne Huffschmid, Demaskierung auf mexikanisch, in: Blatter fur deutsche und internazionale Politik, 6/1995.
(обратно)273
Newsweek, 18.3.1996.
(обратно)274
Данные из: Anne Huffschmid, Demaskierung auf mexikanisch, in: Blatter fur deutsche und internazionale Politik, 6/1995.
(обратно)275
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.7.1996.
(обратно)276
На основе статьи Фредерика Клермона (Frederic Clairmont) Von Singapur lernen, Le Monde diplomatique, 10.6.1995.
(обратно)277
Неконтролируемым, ничем не сдерживаемым (франц.). — Прим. перев.
(обратно)278
Согласно расчетам Жерара Лафая, экономического консультанта французского правительства и профессора экономики Парижского университета, приведенным в: Die Zeit, 12.4.1996.
(обратно)279
Основное отличие западной стратегии развития от азиатской детально проанализировано экономистом Международной организации труда (МОТ) Чарльзом Гором в: Methodological Nationalism and the Misunderstanding of East Asian Industrialization, UNCTAD Discussion Paper No. Ill, Genf. 1995.
(обратно)280
International Herald Tribune, 29.7.1996.
(обратно)281
International Herald Tribune, 18.3.1996.
(обратно)282
Der Spiegel, 39/1995.
(обратно)283
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.12.1993.
(обратно)284
Financial Times, 20.6.1996.
(обратно)285
International Herald Tribune, 28.2.1996, u. The Economist, 13.4.1996.
(обратно)286
Die Tageszeitung, 28.2.1996, u. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.5.1996.
(обратно)287
Интервью в октябре 1993 г.
(обратно)288
Le Mpnd diplomatique, 18.2.1996.
(обратно)289
Adrian Wood, North-South-Trade: Employment and Inequality, Oxford 1994.
(обратно)290
UNCTAD, World Investment Report 1995 u. 1996, Genf.
(обратно)291
Новейшим продуктом этой идеологической фабрики, в котором все прежние тезисы и теории повторяются еще раз, является книга гарвардского экономиста Роберта Лоуренса (Robert Lawrence) Single World, Divided Nations? International Trade and OECD Labor Markets, OECD Publications, Paris 1996.
(обратно)292
Эти данные не учитывают Восточную Германию, взяты из ежемесячного отчета Bundesbank за июль 1996 г. и опубликованы в: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.7.1996.
(обратно)293
Людвиг Эрхард (1897–1977) — федеральный канцлер ФРГ в 1963–1966 гг., председатель Христианско-демократического союза в 1966–1967 гг.; продолжал политический курс Конрада Аденауэра. — Прим. ред.
(обратно)294
Из интервью по телеканалу ARD 11.4.1996.
(обратно)295
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.6.1996 u. 17.6.1996.
(обратно)296
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.6.1996.
(обратно)297
Die Tagezeitung, 10.6.1996.
(обратно)298
Согласно данным федерального министерства труда и социальной защиты, приведенным в статье Гейнера Гайсслера (Heiner Geissler) Es droht ein neuer Klassenkampf, Berliner Zeitung, 4.1.1996.
(обратно)299
Данные взяты из превосходного анализа кризиса финансирования государства всеобщего благоденствия Вольфганга Хоффманна (Wolfgang Hoffmann) Risse im Fundament, Die Zeit, 15.12.1995.
(обратно)300
Согласно данным, приведенным председателем Федерального института страхования служащих (BfA) Гансом-Дитером Рихардтом на пресс-семинаре, состоявшемся 22.2.1996.
(обратно)301
Heiner Flassbeck/Marcel Stremme, Quittung fur die Tugend, in: Die Zeit, 1.12.1995.
(обратно)302
Handelsblatt, 19.7.1996.
(обратно)303
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.6.1996.
(обратно)304
Stern, 46/1995.
(обратно)305
Michael Wortmann, Anmerkungen zum Zusammenhang von Direktinvestitionen und der Wettbewerbsfahigkeit des Standorts Deutschlands, unveroffhtlichtes Manuskript, Berlin 1996.
(обратно)306
Frankfurter Rundschau, 4.5.1996.
(обратно)307
Der Spiegel, 19/1996.
(обратно)308
Согласно вычислениям, выполненным в Институте WSI профсоюзной федерации DGB и опубликованным во Frankfurter Rundschau, 14.7.1996.
(обратно)309
Группа специалистов DIW во главе с Михаэлем Кольхаасом рассчитала воздействие повышения общего энергетического налога на 7 % в год на структурное изменение германской экономики за десятилетний период, приняв за базовый 1995 год. К 2005 году поступления от налога составили бы 121 миллиард марок и могли бы быть израсходованы на компенсацию взносов в социальные фонды и подоходного налога. В соответствии с распределением нагрузок, команда DIW предложила использовать 71 процент поступлений на уменьшение взносов трудящихся на социальное страхование (уменьшая тем самым расходы по зарплате), а остальное выдавать налогоплательщикам как экологическая премии в размере 400 марок на человека. См. репортаж в Die Zeit, 10.6.1994.
(обратно)310
В: Klaus Backhaus, Holger Bonus (Hrsg.), Die Beschleunigungsfalle oder der Triumph der Schildkrote, Stuttgart 1995.
(обратно)311
Сан-Франциско, 29.9.1995.
(обратно)312
Интервью во время перелета из Вены в Берлин 21.6.1996.
(обратно)313
Интервью во Франкфурте 24.7.1996.
(обратно)314
Интервью в Рестоне, штат Виргиния, 1.10.1995.
(обратно)315
Интервью в Нью-Йорке 21.7.1996.
(обратно)316
Сообщение по факсу от Джастина Фокса, 20.8.1996.
(обратно)317
Оценки профессоров экономики Роя К. Смита и Инго Вальтера из Университета штата Нью-Йорк, интервью в Нью-Йорке 2.2.1996.
(обратно)318
Ted С. Fishman, The Bull Market in Fear, Harper's Magazine, October 1995, p. 55.
(обратно)319
New York Times, 1.2.1996.
(обратно)320
New York Times, 21.1.1996.
(обратно)321
Die Zeit, 31.5.1996, S. 9-11.
(обратно)322
DieWoche, 28.6.1996, S. 6.
(обратно)323
Publik-Forum, 14.6.1996, S. 12.
(обратно)324
Die Tagezeitung, 16.2.1996, S. 13.
(обратно)325
Frankfurter Rundschau, 22.6.1996, S. 4.
(обратно)326
Hans-Peter Martin, Bedingungen fur irdisches Gluck, in: Der Spiegel 33/ 1989; zuietzt Besuch am 1.3.1996.
(обратно)327
Кондоминиум — многоквартирный дом, в котором квартиры находятся в частном владении. — Прим. ред.
(обратно)328
Интервью в Хайлигендамме 11.8.1996.
(обратно)329
ORF-Teletext, 19.8.1996.
(обратно)330
ORF-Teletext, 20.8.1996.
(обратно)331
International Herald Tribune, 17, 18.8.1996.
(обратно)332
Интервью в Вашингтоне, Ф.о.К., 23.1.1995, 2.10.1995 и 31.1.1996.
(обратно)333
ZDF-Auslandsjournal, 19.8.1996.
(обратно)334
Интервью в Нью-Йорке 2.2.1996 и в Леденбурге 21.3.1996.
(обратно)335
ORF-Teletext, 18.8.1996.
(обратно)336
Thomas L. Friedman in: International Herald Tribune, 8.2.1996.
(обратно)337
Интервью в Der Standard, 21.8.1996; первые плакаты появились 30.8.1996; интервью в Вене 30.8.1996.
(обратно)338
Цитата из: Falter 31/1996, S. 9.
(обратно)339
Gurtel — пояс, ремень; Ring — кольцо (нем.). — Прим. перев.
(обратно)340
ORF, Zeit im Bild, 2.8.1996.
(обратно)341
Цитируется по: Los Angeles Times Syndicate International, June 1995, Abdruck u. a. in: Welt am Sonntag, 25.6.1996.
(обратно)342
Портрет Луттвака и цитата в: Die Weltwoche, 31.8.1995.
(обратно)343
Цитируется по: Los Angeles Times Syndicate International, June 1995, Abdruck u. a. in: Welt am Sonntag, 25.6.1996.
(обратно)344
Цитируется по: Los Angeles Times Syndicate International, June 1995, Abdruck u. a. in: Welt am Sonntag, 25.6.1996.
(обратно)345
Интервью в Вене 22 и 23.8.1996. Имя по просьбе интервьюируемого изменено.
(обратно)346
Интервью в Вене 8.7.1996.
(обратно)347
Franz Kob, Innehalten. Von der Verlangsamung der Zeit, 1996, Doppelfaut Presse, Bad Teinach 1996.
(обратно)348
Личное письмо от 24.7.1996.
(обратно)349
Наблюдения, сделанные на различных конференциях ООН в Нью-Йорке; последнее в январе 1996 г.
(обратно)350
Визит в Нью-Йорк 22.7.1996.
(обратно)351
Интервью в Бонне 30.7.1996.
(обратно)352
Каир, 5.9.1994.
(обратно)353
Интервью в Каире 12, 13 и 14.9.1994 и в Нью-Йорке 26 и 27.1.1995.
(обратно)354
Интервью в Вашингтоне, Ф.о.К., 5.2.1996.
(обратно)355
Интервью в Нью-Йорке 2.2.1996.
(обратно)356
Интервью в Вашингтоне, Ф.о.К., 31.1.1996.
(обратно)357
Интервью в Нью-Йорке 1.2.1996.
(обратно)358
Интервью в Вене 29.6.1995 и 21.11.1995.
(обратно)359
Интервью в Сан-Франциско 29.9.1995.
(обратно)360
Интервью в Сан-Франциско 29.9.1995 и в Атланте 20.7.1996; см. также New York Times, 2.8.1996.
(обратно)361
Личное письмо от 24.7.1996.
(обратно)362
Интервью в Мюнхене 9.11.1993.
(обратно)363
Интервью в Вене 13.5.1995, 5.8.1996 и 11.8,1996.
(обратно)364
Der Spiegel 11/1996.
(обратно)365
Попустительского (франц.). — Прим. ред.
(обратно)366
Handelsblatt, 26.3.1993, und Frankfurter Rundschau, 24.2.1995.
(обратно)367
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.7.1996, und Der Spiegel, 12/1996.
(обратно)368
Frankfurter Rundschau, 27.3.1996.
(обратно)369
Financial Times, 13.10.1994.
(обратно)370
Die Zeit, 25.6.1993.
(обратно)371
DieWoche, 3.11.1995.
(обратно)372
Der Spiegel, 12/1996.
(обратно)373
Der Spiegel, 26/1996.
(обратно)374
Очевидно, по аналогии с Интернационалом. — Прим. ред.
(обратно)375
Commission on International Investment, Incentives and Foreign Direct Investment, background report by the UNCTAD Secretariat, Genf 1995.
(обратно)376
Frankfurter Rundschau, 15.12.1996.
(обратно)377
Martin Dettmer/Felix Kurz, Ein Gefuhl wie Weihnachten, in: Der Spiegel 20/1995.
(обратно)378
Deutsche Presse-Agentur, 22.5.1996.
(обратно)379
Commission on International Investment, Incentives and Foreign Direct Investment, background report by the UNCTAD Secretariat, Genf 1995.
(обратно)380
Согласно расчетам Германского института экономических исследований.
(обратно)381
Council on Competitiveness, Charting Competitiveness, in: Challenges, October 1995; zitiert nach: Lester Thurow, The Future of Capitalism, New York 1996.
(обратно)382
Wochenpost, 2.9.1996.
(обратно)383
Данные из: Will Hutton, The State We're in, London 1995, und The Independent, 16.6.1996.
(обратно)384
Frankfurter Rundschau, 29.6.1996.
(обратно)385
International Herald Tribune, 30.8.1995.
(обратно)386
Financial Action Task Force Working Group, Status Report, Paris 1990.
(обратно)387
Time, 24.8.1994.
(обратно)388
Цитируется по Klaus Wittman, Perfekt, blitzschnell und dreist, in: Die Zeit, 3.5.1996.
(обратно)389
Susan Strange, The Retreat of the State, Oxford 1996.
(обратно)390
Во время специальной конференции «Слишком много денег?», организованной Евангелической академией «Локуум» 12.5.1996.
(обратно)391
Deutsche Presse-Agentur, 8.7.1996.
(обратно)392
По данным Комиссии по борьбе с мафией итальянского парламента от 3.6.1996.
(обратно)393
Frankfurter Rundschau, 19.4.1996.
(обратно)394
Kenichi Ohmae, The End of the Nation State, New York 1995.
(обратно)395
Does Government Still Matter? The State is Withering and Global Business is Taking Charge, Newsweek, 26.6.1995.
(обратно)396
Cm. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.5.1996.
(обратно)397
Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood, Oxford 1995.
(обратно)398
К этому времени было установлено, что изменения толщины озонового слоя квазипериодичны и обусловлены естественными причинами. — Прим. перев.
(обратно)399
Frankfurter Rundschau, 9.2.1996.
(обратно)400
Более подробно в: Harald Schumann, Europas Souveran, in: Kursbuch 117, Berlin 1994.
(обратно)401
Договор об учреждении Европейского экономического сообщества, подписанный 25 марта 19.57 г. (вступил в силу с 1 января 1958 г.) ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Великобритания присоединилась к ЕЭС в 1973 г. — Прим. ред.
(обратно)402
Niall FitzGerald, A European Nightmare, in: Financial Times, 5.6.1996.
(обратно)403
Разрушители машин, или луддиты (от имени легендарного подмастерья Лудда, который якобы первым разрушил станок) — участники первых стихийных выступлений против применения машин и капиталистической эксплуатации в ходе промышленного переворота в Великобритании (конец XVIII — начало XIX века). — Прим. ред.
(обратно)404
Karl Polanyi, The Great Transformation, Frankfurt a. M., 1978.
(обратно)405
Ulrich Beck, Kapitalismus ohne Arbeit, in: Der Spiegel 20/1996.
(обратно)406
Financial Times, 30.4.1996.
(обратно)407
Личное письмо от 24.7.1996.
(обратно)408
Die Woche, 26.4.1996.
(обратно)409
International Herald Tribune, 1.2.1996.
(обратно)410
Показательной в этом смысле является попытка министров труда Германии и Франции принять, вопреки всем правилам европейского единого рынка, закон о минимальной зарплате, который закрыл бы доступ на стройплощадки их стран низкооплачиваемым строительным рабочим из Португалии и Англии. Аналогичным образом премьер-министр Саксонии Курт Биденкопф нарушил закон ЕС о субсидиях, выдав дотации «Volkswagen», что, по сути, было протекционистской мерой, «искажающей» конкуренцию в Европе.
(обратно)411
В поддержку этого требования выступает все бóльшее число экспертов-экономистов, среди которых сотрудники Торговой организации ООН UNCTAD и Германского института экономических исследований в Берлине, а также банкир с Уолл-стрит и советник президента США Феликс Рохатин. См. UNCTAD, Trade and Development Report 1995, S. 4-9, Genf; Heiner Flassbeck und Rudolf Dressier, Globalisierung und nationale Sozialpolitik, Berlin/Bonn 1996; Felix Rohatyn, America in the Year 2000, Manuskript eines Vortrags beim Bruno-Kreisky-Forum in Wien, 8.11.1995; Roger Bootle, The Death of Inflation, London 1996.
(обратно)412
Два экономиста, Степан Ляйбфрид из Бременского и Эльмар Ригер из Гарвардского университетов, тоже решительно отстаивают данный прогноз в статье Fundament des Freihandels, Die Zeit, 2.2.1996.
(обратно)413
Berliner Zeitung, 13.4.1996.
(обратно)414
Der Spiegel 32/1996.
(обратно)415
Ethan Kapstein, Workers and the World Economy, in: Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, May 1996, p. 18.
(обратно)
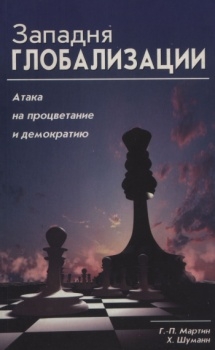


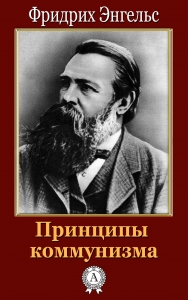

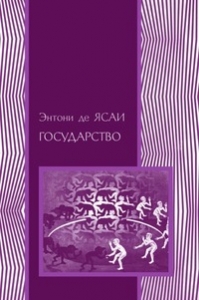
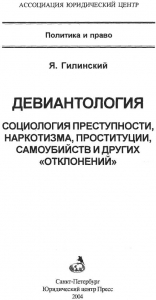


Комментарии к книге «Западня глобализации», Ганс-Петер Мартин
Всего 0 комментариев