Путешествие будет опасным
В часы «пик» по утрам и вечерам улицы Нью-Йорка превращаются в ад кромешный. На тротуарах— не протолкнуться. На мостовых — фантастические автомобильные пробки. Одна нью-йоркская газета провела эксперимент. От реки Гудзон к реке Ист-Ривер по 42-й улице одновременно устремились два репортера. Один пешком, другой в автомобиле. Расстояние—14 городских кварталов. Время — 8 часов утра. Автомобилист пришел к финишу через 18 минут. Пешеход проиграл ему всего лишь 6 минут.
В часы «пик» сотни тысяч (если не миллионы) ньюйоркцев решают головоломную задачку: как из пункта «А» попасть в пункт «Б». Троллейбусов в Нью-Йорке нет. Автобусное движение, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Такси очень дорого. Личную машину негде «припарковать». Да и не у всех есть личные машины. Как добираться на работу и с работы? Город-то огромный! Только с севера на юг около 75 километров.
Вот тут-то и выручает сабвей, подземка, как называют ньюйоркцы свое метро. Без метро Нью-Йорк сейчас просто немыслим. Говорят, что, если бы оно остановилось, город умер бы, как умирает человек, у которого остановилось кровообращение. Судите сами: сейчас нью-йоркским метро пользуются почти 4 миллиона человек ежедневно. Был в его истории рекорд: за сутки 23 декабря 1946 года подземные поезда перевезли 8 872 244 пассажира. В тот день на Нью-Йорк обрушился небывалый снегопад, надолго остановивший уличное движение. Бросив свои машины, ньюйоркцы устремились в метро.
Оно уже не молодо, хотя и не самое старое в мире. Его первая линия (газеты назвали ее чудом XX века) была открыта 27 октября 1904 года. В то утро над городом плыл торжественный звон церковных колоколов. Бухали пушки крейсеров на рейде. Ревели пароходы в порту. Трепетали, щелкали на ветру флаги. День был объявлен нерабочим. Долго еще после этого распевали американцы незамысловатую песенку, посвященную пуску нью-йоркского метро:
Ах, Нью-Йорк! Под ногами — чудеса: Дырка в земле, Под землей — поезда!Сейчас нью-йоркский сабвей — самый большой в мире по протяженности и разветвлению линий. Теперь «дырок в земле» уже 462. Следует пояснить, что надземных станций-вестибюлей в здешнем метро почти нет. Прямо у тротуара — буквально «дырка в земле», и заплеванная, замусоренная чугунная лестница, ведущая вниз, к кассам и турникетам. Эскалаторов тоже нет: метро неглубокое, еще на тротуаре ощущаешь, как под ногами дрожит земля, слышишь грохот проносящихся внизу поездов.
Подземных залов, как у нас, практически тоже нет. От касс выходишь прямо на платформу, подобную железнодорожной. Лишь там, где пересекаются две-три линии, возникли целые подземные городки с магазинами, закусочными и парикмахерскими. Там есть свои улицы, переулки, тупики. Все, как на земле. И проблемы те же.
С каким чувством спускается житель Нью-Йорка в свое метро? Я спрашивал у многих. Мне отвечали:
— Со страхом.
— С отвращением.
— Со стыдом за нашу подземку.
Знакомый полицейский признался:
— Я всегда перекладываю пистолет из кобуры в карман. Знаю, что путешествие будет опасным. У меня однажды сняли ремень вместе с пистолетом, отобрали дубинку и наручники.
А вот рассказ студентки:
— С тех пор как там изнасиловали девушку с нашего курса, я стараюсь держаться от метро подальше. Но время от времени все-таки приходится спускаться в эту клоаку. Избегаю полупустых вагонов. Полупустой вагон — это ловушка. Там оберут тебя до нитки и вытолкнут на следующей станции.
Пожилая женщина объясняла мне, почему она не любит ездить в метро от двух до трех дня и после наступления темноты. От двух до трех дня из школ возвращаются учащиеся. Когда они, горланя и свистя, врываются в вагоны, пассажиры цепенеют. Были случаи, когда отроки и девицы терроризировали целые поезда. У мужчин отнимали бумажники, у женщин — сумочки. То и дело дергали стоп-кран. Во время одной из таких остановок в туннеле напали на машиниста поезда и его помощника.
— А в вечерние часы риск подвергнуться нападению в метро, естественно, удваивается, — сказала эта пожилая одинокая дама. Кстати, ее рабочий день начинается в половине третьего дня и заканчивается полдвенадцатого ночи.
— Так что вы мне можете поверить, я знаю то, о чем говорю, — закончила она свой рассказ.
Вот такая у нью-йоркского метро слава.
— Хуже быть не может, — говорят пассажиры.
— Неправда! — отвечает администрация подземки. — Не хуже, чем на земле.
Администрация метро как-то провела специальную пресс-конференцию, чтобы доказать, что преступность под землей — это детские забавы по сравнению с тем, что творится на поверхности земли. Оперировали они цифрами.
По словам представителя нью-йоркского метро, проводившего эту встречу с прессой, за год на улицах Нью-Йорка преступниками было убито 1554 человека (в среднем примерно 4,3 убийства в день), в метро же за это время было убито только 8 человек (примерно одно убийство в 45 дней).
На улицах Нью-Йорка в том же году было зарегистрировано 4054 случая насилия над женщинами (в среднем 11,1 случая в день). В метро было только 9 таких случаев (одно — в 40,5 дня).
На улицах города было зарегистрировано 77 940 вооруженных ограблений (213,5 ограбления в день). В метро же было ограблено только 2996 человек (всего лишь 8,2 ограбления в день).
На улицах было зарегистрировано 41 068 случаев избиения прохожих (112,5 случая в день). В метро известно лишь о 801 избиении пассажиров (2,2 случая в день).
Вот такие дела. Читатель, наверное, заметил, что речь шла о преступлениях, зарегистрированных полицией. А сколько случаев не зарегистрировано? У американской статистики и на этот вопрос есть ответ. Предполагают, что половина жертв преступлений не заявляет в полицию. Особенно женщины, которые подверглись надругательству.
Надо сказать, что ньюйоркцев эта пресс-конференция не очень утешила. Более того, многих она еще больше напугала. Американцы любят считать, подсчитали и тут, что на один квадратный метр в метро совершается преступлений гораздо больше, чем на улицах.
Чего еще можно опасаться в нью-йоркском метро? Взрыва самодельных бомб. Я помню снимок на первой странице газеты: на полу искореженного взрывом вагона умирает 17-летняя девушка; у нее оторваны обе ноги. В другой раз на станции «Таймс-сквер» осколками бомбы были ранены 23 человека.
То и дело в нью-йоркской подземке случается пожар. Вот передо мной вырезка из газеты «Нью-Йорк тайме»: «В туннеле сабвея под рекой Ист-Ривер произошел пожар, четвертый за этот месяц… Густой удушливый дым быстро заполнил туннель и вагоны четырех поездов, застрявших там. Среди пассажиров началась паника… Многие теряли сознание от жары и дыма, многих рвало… В общей сложности в течение двух часов в больницы было доставлено около 150 человек. Высказывают предположение, что причиной происшествия был загоревшийся мусор».
Таково метро Нью-Йорка — «подземный мир вандализма и преступности, шума и вони, полумрака и грязи», как пишет газета «Вашингтон пост».
Я спрашивал: в чем причина такого бедственного положения метро? Мне отвечали: в бедственном положении самого Нью-Йорка. Город на грани банкротства. Уже давно его расходы значительно превышают доходы. Поступления в городскую казну неуклонно сокращаются, несмотря на то что городские власти не единожды повышали налоги. Источники городских доходов продолжают мелеть, потому что в городе растет процент неимущего населения, с которого нечего брать. Сейчас в Нью-Йорке свыше миллиона человек живет на социальные пособия. Одновременно с этим из города бегут люди состоятельные. За 4 года Нью-Йорк потерял 4,2 процента населения. Бизнесмены переводят свои предприятия и штаб-квартиры в другие места. За последние несколько лет город потерял больше чем полмиллиона рабочих мест.
У мэра Нью-Йорка нет денег, чтобы платить зарплату работникам городского хозяйства. Чтобы как-то свести концы с концами, ему остается одно: сокращение штатов. То и дело сообщают об увольнении полицейских, электриков, пожарников, учителей, мусорщиков, медсестер, закрываются школы, больницы, библиотеки. Из-за нехватки средств власти вынуждены были даже закрыть две тюрьмы и поплотнее набить другие… Не удивительно, что так мало сейчас полицейских в метро, так много там мусора и грязи, так часто там случаются пожары от неисправностей в электросети.
Бывший мэр Нью-Йорка Дж. Линдсей в беседе со мной говорил:
— Огромный город постепенно движется к хаосу. Он становится неуправляем. Им владеют сейчас три чудовища — Бедность, Преступность, Грязь. Его можно было бы спасти, если бы уменьшить непомерно раздутый военный бюджет страны и за этот счет помочь решить проблемы наших городов. Ведь в Нью-Йорке, как в фокусе, сосредоточено то, от чего Америка хотела бы отмахнуться, как от навязчивого кошмара, — социальное неравенство и возникающие из него социальные и экономические проблемы, зарождение которых мы просмотрели.
А вот слова инженера метро Стива Кауфмана:
— Меня иногда спрашивают: «Как это мы, американцы, высадившие человека на Луну, не можем справиться с проблемами подземки?» Я отвечаю: высадка человека на Луну — проблема научная и техническая. Это мы умеем. Состояние же нашего метро — проблема социальная. Это нам не по зубам. Мы знаем, как вывести ракету на заданную орбиту, а вот как сделать достойной жизнь человека, простите, этого нам не дано.
Вечер. Тряска вагона. Скрежет и визг колес на поворотах. То лучи света, то тьма стремительно скользят по лицам пассажиров. Никто не разговаривает. Молодой негр в старой армейской куртке с безучастным выражением лица рассматривает плакатик на стене вагона: «Четыре миллиона твоих земляков бывают здесь каждый день. Будь благоразумен».
Полицейский в кожаной курточке на «молнии», прислонившись к двери, угрюмо смотрит на негра. Левая рука в кармане брюк, пальцы правой теребят ремешок дубинки.
Молодая женщина со спящей дочкой на коленях. Большие испуганные глаза женщины становятся еще больше, когда поезд вдруг замедляет ход и останавливается в туннеле.
Напряженная тишина. Напряжение на лицах. Полицейский вынимает руку из кармана и поправляет на поясе кобуру. Негр нервно зевает, застегивает куртку и закрывает глаза, как будто собирается заснуть.
Постояв две-три минуты, поезд дергается, трогается, медленно вползает на станцию и замирает у платформы.
На пустынной платформе лужа воды. Вода течет по стене, по мраморной мемориальной доске, на которой, пока стоит поезд, можно успеть прочитать: «В память смелых и талантливых людей, построивших нью-йоркскую подземку, — чудо XX века».
Когда упадет звезда?
Едва я вышел из самолета, как сразу физически почувствовал, что я на Юге. Поручни трапа обожгли мои ладони. Раскаленное добела небо Алабамы низко висело над крохотным аэродромом. В высокой траве отчаянно стрекотали цикады. Густо зеленели сады, отягощенные плодами.
Я был единственным человеком, вышедшим из самолета, и единственный человек, встретивший меня в пустынном аэропорту, был однорукий шофер такси. Он кинул мой чемоданчик в багажник и с места рванул машину. Внимательно осмотрев меня в зеркальце, с дружеской фамильярностью спросил:
— Где руку повредил, парень?
— В Европе. Воевал против фашистов.
Он усмехнулся, кивнул на обрубок своей руки:
— А я в Корее. Воевал против коммунистов.
Мы помолчали. Сады кончились, мы въезжали в город.
— Вы с Севера? — спросил он, снова поглядывая на меня в зеркальце.
Я кивнул головой.
— Надеюсь, вы не Ио тех, кто приезжает сюда мутить воду? А? Надеюсь, вы не ищете неприятностей?
В его голосе была сдержанная угроза.
Час назад этот же вопрос задал мне сосед в самолете. Сухой, загорелый человек средних лет в клетчатой рубахе. Мохнатые брови над голубыми глазами, жилистые рабочие руки в черных ссадинах. Он видел, что я читаю книжку «Куклуксклановец».
— Интересуетесь? — спросил он, обнажая в улыбке белые крепкие зубы.
Его, по-видимому, насторожил мой акцент.
— Вы, наверное, не южанин, сэр? Из Нью-Йорка? Надеюсь, вы не из тех, кто…
— Я из Советского Союза.
Он резко повернулся ко мне всем корпусом. Ослепительная улыбка исчезла. Он молча рассматривал меня. Медленно извлек из нагрудного кармана пачку сигарет, закурил, медленно выпустил дым в мою сторону. Процедил сквозь зубы:
— Впервые вижу живого коммуниста.
— Ну и как?
— Мертвые мне больше нравятся.
— А вы, наверное, куклуксклановец?
— Да, я состою в клане. И пока мы существуем, Юг останется американским.
— Не могли бы вы пояснить, что вы имеете в виду?
Он криво усмехнулся, приблизил ко мне свое лицо, и я почувствовал запах виски в его горячем дыхании.
— Хотелось бы пояснить тебе кое-что без свидетелей, — прохрипел он. — Не забывай, что ты в Алабаме, а не в ООН. У нас свои законы, беби. Ночи у нас темные…
Стюардесса принесла стакан с кока-колой и льдом.
— Стакан не чисто вымыт, — сердито сказал ей мой сосед.
— Сэр? — удивилась стюардесса.
— Я сказал, что стакан не чисто вымыт! — рявкнул он. — Наверное, из него пил какой-нибудь ниггер[1].
За окном показались пригороды Бирмингема. Самолет шел на посадку.
В дверях клановец обернулся и погрозил мне пальцем:
— Не забывай, беби, что ты не на Севере!
Я полетел дальше, и вот однорукий шофер такси снова напомнил мне, что я на Юге.
Город утопает в зелени магнолий и пальм. Сегодня воскресенье. Звонят колокола церквей. На улице почти не видно прохожих. До вечера закрыты кинотеатры. В воскресенье место благочестивых жителей в церкви.
Вот кончилась служба, и из церкви выходят прихожане. Чопорные белые женщины в своих лучших платьях; завитые и густо напомаженные старухи; белые мужчины в пиджаках и галстуках, несмотря на жару; чистенькие, прилизанные дети. Священник в черной сутане провожает паству до автомобилей. В воздухе плавают приподнятые шляпы, женщины чмокают друг друга в щеку, урчат моторы «кадиллаков», и негры-шоферы в форменных фуражках распахивают перед хозяевами двери.
Тихо и мирно здесь в воскресенье. Звонят колокола, воркуют голуби…
В маленьком сквере у автобусной остановки сидят трое белых стариков. Они не ждут автобуса, они просто сидят, болтают о том о сем, смотрят по сторонам. Старики дряхлые, отработавшие свое в жизни и теперь не знающие, куда девать свободное время. Рядом с ними, опираясь мощным задом на мотоцикл, стоит полицейский. Он в голубой металлической каске, в синей форменной рубашке с короткими рукавами, в галифе и крагах. На поясе у него пистолет, стальные наручники, связка ключей. Из заднего кармана торчит короткая дубинка с ремешком для руки.
Полицейскому жарко. Он расстегнул рубашку и платком вытирает багровую шею. Наверное, он объезжал свой участок, увидел знакомых и остановился поболтать.
Разговаривают они лениво, протяжно, с характерным южным акцентом.
— Далеко заплывали? — спрашивает полицейский.
Старик в коричневом полинявшем комбинезоне и соломенной шляпе щурит слезящиеся глаза и тянет:
— Да как тебе сказать? До острова доплыли.
— Хорошо клевала?
— Сперва не очень, а потом пошло.
— Пошло, говоришь? А на что брала?
— На червяка и на пшено. Там ее много, целые стада ходят вокруг этого черного.
— Какого «черного»? — удивляется полицейский.
— Вокруг черного трупа.
— Что-то ты непонятное бормочешь, старик, — говорит сбитый с толку полицейский.
— Как еще тебе понятней говорить? — сердится старик. — Негр там плавает. Утопленник. Мы его подцепили багром, перевернули…
Полицейский задумывается. Потом лениво произносит:
— Самоубийца какой-нибудь. Как ты думаешь, старик?
Старик согласно кивает головой.
— А клевала, говоришь, хорошо?
— Хорошо клевала.
— Ну, поеду, — говорит полицейский. Стальные наручники тихо позвякивают у него на боку. — Доброго вечера, старики!
Когда шум мотоцикла затихает за углом, старик разводит руками:
— Конечно, может быть, и самоубийца. Только почему у него кляп во рту?
— Наверное, чтобы не кричал, — сонно поясняет сосед.
…Я иду к отелю и думаю: как все здесь, на Юге, просто, как все обыденно и спокойно: «А клевала, говоришь, хорошо?» — «Хорошо клевала».
Я иду по пустынным в эти знойные часы улицам города, и редкие встречные негры поспешно сдергивают передо мной кепки. Я ищу Фреда. У меня к нему рекомендательное письмо из Нью-Йорка.
— Простите, сэр, — обращаюсь я к старику негру.
От неожиданности он шарахается в сторону. Испуг на его лице сменяется изумлением. На место изумления приходит подозрение: что-то здесь не так, что-то этот странный белый замышляет.
— Вы не скажете, как мне разыскать…
Он насторожен, он ждет подвоха. Я чувствую, что нервы его натянуты, как струны.
— Я ничего не знаю, маста[2],— бормочет он. — Спросите у кого-нибудь из белых.
Фред, которого я в конце концов разыскал, смотрит на меня с недоверием.
— Я не знаю никакой Джоэн, — сухо говорит он. — Вы, наверное, ошиблись.
Он хитрит. Он отлично знает Джоэн, эту тоненькую девушку из Нью-Йорка. Она была здесь в прошлом году с группой белых студентов. Недавно она писала ему, что на этот раз поедет в Миссисипи.
Я протягиваю ему письмо. Он испуганно смотрит по сторонам и спрашивает шепотом:
— За вами никто не следил? Где вы остановились? Я позвоню вам вечером из телефонной будки. Буду ждать вас в четырех кварталах от отеля, если идти на север.
Наступил вечер, а звонка не было. Я зажег в комнате свет, сел поближе к кондишену, развернул воскресное приложение к газете «Нью-Йорк тайме» и принялся читать статью писателя Эрскина Колдуэлла. И сразу перед моими глазами снова появились куклуксклановец — сосед по самолету, однорукий шофер такси, старики в сквере у автобусной остановки и полицейский, опирающийся мощным задом на свой мотоцикл. Колдуэлл, сам южанин, писал: «Вероятно, найдется немало людей, живших на Дальнем Юге в годы второй мировой войны, которые помнят, как в то время от Южной и Северной Каролины до Техаса распространялся один упорный слух. Многие восприимчивые южане отнеслись к нему не как к странному слуху, а с жадностью ухватились за него, как за надежное обещание и вполне вероятную возможность. Было ли это продиктовано тайной враждебностью к северянам-янки или же иллюзиями тех, кто поддерживал этот слух, тем не менее многие полуграмотные и иные белые южане твердо поверили в то, что некоторые видные политические деятели Юга заключили секретное соглашение с нацистской Германией. Согласно самой распространенной версии этого слуха Адольф Гитлер обещал послать десант на побережье Южной Каролины и Джорджии и отдать приказ о систематическом истреблении всех негров и евреев на Дальнем Юге. Эта высадка ожидалась в середине войны, когда Гитлер одерживал победы в Европе. В нескольких случаях, по крайней мере в Южной Каролине и в Джорджии, а быть может, также в Алабаме, Миссисипи и других местах, нашлись люди, которые надеялись на это, и другие, которые были твердо убеждены в том, что нацистские военные корабли уже ждут у побережья Каролины и Джорджии. Во всяком случае, некоторые из них были столь уверены в том, что Гитлер выполнит свое обещание, что они держали наготове оружие и автомобили, дабы по первому приказу выехать из дома и отправиться на побережье на соединение с десантными силами нацистов.
Даже сейчас, спустя много лет после того, как надежды на гитлеровское вторжение и оккупацию американского Юга не оправдались, в некоторых отдаленных горных районах все еще встречаются твердолобые отцы и сыновья, которые готовы утверждать, что Гитлер все еще жив и в любую минуту может прийти.
И хотя это звучит как нелепая выдумка, живущая в местном фольклоре поколениями, люди, которые рассказывают об этом, говорят так, как если бы речь шла о втором пришествии Христа, будучи твердо уверенными в том, что Гитлер сдержит свое обещание, придет с карательными отрядами и поможет сохранить чистоту белой англосаксонской протестантской расы».
Звонок раздался, когда я сидел перед телевизором. Я включил телевизор на середине программы и не знаю, как она называется. Благообразный мужчина с постным лицом проповедника вкрадчивым голосом объяснял:
— Две негритянские революции развиваются одновременно. Одна — за предоставление неграм больших прав, чем имеют белые, другая — за превращение южных штатов в Советскую Социалистическую Негритянскую Республику России. В этих условиях наши надежды должны возлагаться на полицию. Помогайте вашей местной полиции…
В телефонной трубке я услышал чье-то дыхание.
Ночь была душной. В темных кустах сонно попискивала какая-то пичуга. Пахло свежим сеном. Где-то далеко на горизонте глухо гремел гром. Вспыхивали и гасли светлячки. Я прошел четыре квартала, никого не встретил и остановился в нерешительности.
— Садитесь в машину, — услышал я из темноты голос Фреда. Он включил мотор, и старенькая машина неожиданно затарахтела так оглушительно, что на соседней улице залаяли собаки.
Мы приехали на большой пустырь на окраине города. Горели костры, керосиновые фонари светились кое-где под брезентовыми крышами автофургонов. В фургонах на кучах тряпья между скамьями, чайниками, ведрами спали взрослые и дети. Пять в одном фургоне, восемь — в другом, в третьем я не мог даже сосчитать, сколько их там было. Я понял, что это лагерь кочующих сельскохозяйственных рабочих.
Вокруг костров сидели, стояли, лежали негры. Из темноты сверкали белки их глаз и зубы. Здесь целовались, плакали, смеялись, дрались, пели, молились. Пахло пеленками и кукурузным самогоном.
— Джоэн в письме просит показать вам, как живут негры, — сказал Фред. — Ну что ж, смотрите. Они поднимаются с солнцем, собирают абрикосы в садах здешних плантаторов, кончают работу с наступлением темноты, а получают гроши. Заработка не хватает даже детям на молоко. Кончится сезон абрикосов — переедут на хлопковые поля. Но горе все в том, что сельскохозяйственный сезон длится не больше 140 дней. Остальные 225 дней — без работы.
У костра гортанно запела женщина:
О господи, ты обещал, Что кончится рабство, Когда упадет звезда На Алабаму…И хор подхватил, ритмично хлопая в ладоши:
Когда упадет звезда? О, когда упадет звезда?На Бауэри
Есть в Нью-Йорке улица, которая называется Бауэри. Здесь расположены ночлежные дома, часовни и кухни благотворительной организации — «Армии спасения». На этой улице каждый третий прохожий — бездомный бродяга, у которого нет ничего, кроме рваной верхней одежды. Бауэри — это горьковское дно в современном американском издании. Об этом писали еще И. Ильф и Е. Петров. Бауэри потрясла их. Нигде не видели они столько бродяг сразу.
Их тысячи, а может быть, даже десятки тысяч на этой нью-йоркской улице. Грязные, заросшие, одетые в лохмотья, днем они часами сидят и лежат на тротуарах у дверей ночлежек, спят на скамейках в скверах, попрошайничают на перекрестках.
Сколько лет существует Нью-Йорк, столько лет существует и Бауэри, неизменно бросая мрачную тень на фешенебельные кварталы, расположенные совсем рядом. Рассказывают, что еще в 1783 году генерал Джордж Вашингтон, остановившийся здесь, чтобы выпить кружку воды в таверне «Бычья голова», был поражен толпами бродяг.
Говорят, американские режиссеры и актеры, готовя постановку горьковской пьесы «На дне», обязательно приезжают на Бауэри, чтобы взглянуть на американское дно. Здесь есть свои Сатины, Бароны и Актеры. Только здесь вряд ли услышишь: «Человек — это звучит гордо!»
Писатель Элмер Бендинер, изучавший жизнь этих обездоленных, пишет: «Наблюдая за некоторыми из них, вы почти видите, как их пальцы сжимают ручку портфеля, который они когда-то носили, ножку бокала, который они когда-то поднимали. Жизнь сломала их. Сегодня это уже не люди. У них нет никаких надежд. Они знают, что они на дне и глубже пасть уже нельзя. У них только одно желание — поесть и раздобыть глоток виски».
Вечерами длинные очереди дрожащих от холода и голода бродяг вытягиваются у часовен «Армии спасения». В часовне тепло, играет орган, проповедник с микрофоном в руке читает молитву. Здесь можно незаметно подремать, склонив голову на спину сидящего впереди.
— Сперва восславим спасителя, а потом пообедаем, — обещает проповедник. — Споем, братья, псалом номер шесть.
Потом, толкая друг друга, они бегут в подвал, где стоят длинные столы. Один за другим с железными мисками в руках они подходят к повару, который наливает им по поварешке похлебки. Они едят стоя, переругиваясь, торопясь и жадно чавкая. На их лица нельзя смотреть без содрогания. Все это напоминает тяжелый кошмар, когда человек хочет проснуться и не может.
Мистер Гринбаум, управляющий одной из многочисленных ночлежек, показывал свое заведение. Он вел меня между рядами двухэтажных нар, перегороженных металлическими сетками. На нарах лежали бродяги. Некоторые что-то жевали. Другие переговаривались через сетку. Третьи спали, натянув на себя серые одеяла. Зрелище было жутковатое. Как будто попал в зверинец, где за железными сетками обитают странные существа.
Мистер Гринбаум работает в ночлежке уже около четверти века. «Давно бы ушел на более спокойную и выгодную работу, да жалко этих обездоленных», — говорит он.
И тут нашу беседу прерывает чей-то отчаянный крик, шум потасовки, галдеж. Кто-то падает с нар, кто-то за кем-то гонится.
Мистер Гринбаум срывается с места и бежит на шум. Я спешу за ним.
Скоро все выясняется.
На верхних нарах плачет старик. Он плачет горько и безутешно, как может плакать глубоко обиженный, потрясенный несправедливостью человек.
— У него утащили единственные штаны, — поясняет мистер Гринбаум. — Это все, что у него было. Вся частная собственность.
По моей просьбе мистер Гринбаум приводит старика в кабинет и оставляет нас вдвоем. Старика зовут Мартин Комбс. Он подавлен своим несчастьем. Я с трудом пытаюсь разговорить его. Мне хочется проследить его путь от родного дома до Бауэри.
В поселке Стоун-Крик и сейчас еще помнят старого Джона Комбса по прозвищу Кривая Нога. Он был хромым: в 1933 году привалило в шахте. Его старшему сыну Мартину тогда едва исполнилось 16 лет, и он вместо отца стал главным кормильцем семьи. Пришлось проститься со школой и Майклу, которому шел тогда четырнадцатый год. После школы подрабатывал на побегушках и десятилетний Стив. Четырехлетняя Бэтси одна сидела дома — мать у них умерла три года назад.
Хромого Джона считали в поселке героем: он был здесь организатором и руководителем первой профсоюзной ячейки. Начало тридцатых годов было бурным, кровавым временем в Аппалачах. Рабочие требовали права объединяться в профсоюзы. По ночам гремели выстрелы, горели дома профсоюзных активистов. Говорили, что и взрыв, искалечивший Джона Комбса, тоже был не случаен.
Тогда он остался жив. Но через три года с ним все-таки рассчитались. Снайпер, по-видимому, сидел в зарослях цветущего кизила на склоне горы. Пуля попала в затылок старому Комбсу, коловшему у сарая дрова.
Вместо отца руководителем профсоюзной ячейки хотели избрать Мартина, но он отказался. Боялся, что и его убьют. Правда, много лет спустя пожалел, что отказался. Преемник отца на посту руководителя профячейки сумел поладить с хозяевами и стал жить припеваючи, не то что строптивые Комбсы.
В годы второй мировой войны старшего и младшего братьев призвали в армию, а среднего оставили на шахте. Когда Мартин вернулся домой, Майкл, средний брат, был уже болен, хотя и продолжал работать. У него стала быстро развиваться распространенная в тех местах болезнь, которую называют «черные легкие». Ему бы лечиться, да где взять денег? «Тебе бы на курорт, Майкл», — говорил ему профсоюзный врач. Майкл только слабо улыбался на это. Ни один человек из их поселка никогда не бывал на курорте. В тридцать лет Майкл стал инвалидом. А в тридцать шесть — умер, оставив жену и троих детей.
Бэтси, сестренка, общая любимица, мечтала окончить колледж. За учебу платить надо. И немалые деньги. Братья когда-то уговорились: будем помогать поровну. Но когда Майкла уволили по инвалидности, Бэтси поняла: не вытянут братья. Бросила колледж.
В то время хозяева Аппалачского угольного бассейна как раз стали вводить новую технику. Им это сулило прибыли, а рабочим увольнения. Когда в поселок пришли грузовики с новым оборудованием, их забросали камнями. Неделю не давали разгружать. Губернатор прислал отряд солдат. Вечером на горном шоссе за поселком кто-то стрелял по машине хозяина. Пуля попала ему в голову. Подозрение пало на Мартина. Его судили и дали восемь лет каторги.
После тюрьмы он уже не вернулся в родной поселок. Не к кому было возвращаться. Жена не дождалась его, бросила, увезла дочерей в Чикаго. Младшего брата, Стива, наследники убитого хозяина прогнали с работы. Переехал он в другой поселок. Теперь уже давно не работает, живет у сына, который стал рабочим, как дед, как отец.
А Мартин, которому скоро минет 60 лет, — вот он, сидит без брюк, прикрыв ноги серым приютским одеялом, и снова плачет, размазывая по небритому лицу старческие слезы. Он плачет потому, что жизнь прошла так несуразно, так несчастливо, так мало было в ней хорошего и так много плохого. Он продолжает вспоминать, он весь в прошлом и говорит без умолку. Я не могу остановить его. Он вспоминает, как его пытали, мучили в японском плену, как били до полусмерти в тюрьме, как тяжело и долго умирал с развороченным пулей затылком его отец — человек богатырского телосложения и отменного здоровья.
— Хватит, Мартин! — приказывает вошедший в комнату мистер Гринбаум. — Иди на нары. Так и быть — завтра я куплю тебе штаны.
Старик покорно уходит, волоча за собой одеяло.
— Надеюсь, наше супергуманное общество не растерзает меня в клочья за то, что я куплю этому несчастному брюки на казенные деньги, — ворчит ему вслед добряк Гринбаум.
«Если я потеряю работу…»
Американцы умеют работать. Это факт, который не требует доказательств. Все, чем может гордиться деловая Америка в сфере материального производства, создано не взмахом волшебной палочки, а упорным, добросовестным трудом миллионов.
Как же распределяются результаты их труда? Предоставим слово профессору кафедры экономики и управления Массачусетского технологического института Лестеру Тароу. В одном из выпусков журнала «Ньюсуик» он пишет:
«Десять процентов богатейших американских семейств получают 26,1 процента всего денежного годового дохода США, в то время как на долю десяти процентов беднейших семейств остается лишь 1,7 процента… Доходы негров не поднимаются выше 69 процентов от доходов белых. Женщина, выполняющая ту же самую работу, что и мужчина, получает лишь 56 процентов от его зарплаты. Если же мы приглядимся к тому, как распределяются богатства, то увидим, что 20 процентов семейств, принадлежащих к высшему слою нашего общества, владеют 80 процентами всей частной собственности в США, в то время как 25 процентов семейств, находящихся внизу, не имеют во владении ничего, а долги многих значительно превышают их личное имущество…»
Я еще раз хочу обратить внимание читателей на то, что эти цифры приводит американский профессор, посвятивший свою жизнь изучению законов капиталистической экономики.
И еще один закон капитализма: постоянная массовая безработица, миллионы «лишних людей». Так здесь называют безработных.
Я спрашивал американцев:
— Боитесь ли вы потерять работу? Как изменится ваша жизнь и жизнь вашей семьи, если вы потеряете работу?
Вот что отвечали мои собеседники, с которыми я разговаривал в городах Атланта (штат Джорджия) и Миннеаполис (штат Миннесота).
— Ничего себе вопросики, черт побери! «Боюсь ли я потерять работу?» Постучите пальцем по столу три раза! Тьфу-тьфу-тьфу… Спаси и помилуй!
(Мой собеседник — седой плотный человек невысокого роста. Ему 46 лет. Он квалифицированный рабочий — сборщик моторов для холодильников).
— Вы меня извините, но имя мое и фамилию прошу вас забыть. Не знаю, как вам, а мне мое имя в иностранной газете видеть ни к чему. Как раз из-за того, что я с вами здесь откровенничаю, меня и могут с работы попереть. Тогда — приходите за интервью с безработным. Ха-ха! Не приведи господь, конечно.
Ну что же, давайте вообразим, что я потерял работу. Должен вам сознаться, что потерять ее я могу в любое время. Инфляция, как вы знаете, растет день ото дня, все становится дороже, и неизвестно, что будет через год и даже через месяц. Безработица тоже не уменьшается. В такое время люди не очень-то покупают новые вещи: берегут сбережения на черный день. Конечно, и наши холодильники не очень-то большим спросом сейчас пользуются. А мы пока что продолжаем их штамповать с прежним усердием. Так что, глядишь — вот-вот затоварим рынок. Были уже в прошлом такие моменты. Хозяева в этих случаях сокращают производство, а лишние рабочие руки— пожалуйте за расчетом! Если такое случится, одним из первых за ворота вылечу я… Возраст у меня такой. Сорок шесть лет — старая лошадь, надеяться не на что.
Мысль эта мне, признаться, не дает покоя, особенно по ночам. Поверите — без снотворных таблеток ночи не проходит. А утром проснуться не могу. Чтобы поднять меня, жена чуть не водой из ведра окатывает.
Зима у нас была в этом году необычная. Холода, снег, метели. Снова энергетический кризис. Топливо было на исходе. Из-за этого предприятия останавливались. Люди работу теряли. За один январь два миллиона рабочих расчет получили. Говорили: временно. Дескать, появится топливо, приходите снова. Ну, а если оно опять кончится? Ну, а если и нашу фирму эта горькая чаша не минует? Тогда я одним из первых по эту сторону проходной останусь.
Так вот, что же тогда со мной будет? Ну, начнем с того, что я не один, а нас пятеро. Жена, сын и две дочери. Жена сейчас не работает, у нее сильный ревматизм. Сын учится на юриста. Дочки еще в школе— они у нас поздние. Домик у меня. Машина. Не первой молодости авто, но еще бегает. Косилка ручная, чтобы лужайку перед домом подстригать. Вроде должен быть я счастлив. А вот нет его, счастья. Потому что покоя нет. Таблетки снотворные по ночам глотаю. И все из-за того, что боюсь работу потерять. Думаете, я один такой? Все мы — неврастеники, по разным причинам. Хозяин боится в трубу вылететь, рабочий боится безработным стать.
Ну, судите сами. За парня своего около трех тысяч долларов в год за учебу я должен отдать? Должен. За дом и машину я еще рассрочку не выплатил? Не выплатил. Жена болеет. То лекарства нужны, то уколы, то электропроцедуры. За все это— больше тысячи долларов в год. Вынь да положь! А ведь еще питаться и одеваться надо. Как посчитаешь все вместе — дурно делается. И все-таки как-то выкручиваемся. А если работу потеряю?..
Пособие, говорите? Пособие, конечно, буду получать. Около года буду получать. А потом как жить? Есть у меня друзья, которые получают пособие. Не позавидуешь им. Это так, чтобы с голоду не умереть. На пособие сына не выучишь, жену не вылечишь. Пособия еле-еле на похороны хватит, если загнешься от переживаний.
Да ну вас совсем! Какого черта вы душу травите? Не хочу я об этом больше говорить. И без того тошно…
Вы суеверный человек? Я вот очень суеверным в последние годы стал. Давайте постучим по деревяшке три раза…
— Что касается меня, то в случае потери работы я, наверное, не буду получать пособия по социальному страхованию. Дело в том, что я работаю в маленькой компании, где нет ни профсоюза, ни социального страхования. Кроме того, работаю я всего лишь год с небольшим. И вообще весь мой рабочий стаж — год с небольшим.
(Ему 23 года. Он — преподаватель истории, но работу по профессии найти не мог и устроился рабочим на книжный склад. Его зовут Дэвид Андерсон).
— Я очень дорожу той работой, которую удалось найти. Чтобы быть на хорошем счету у хозяина, прихожу на склад за 15–20 минут до начала работы и не спешу уйти домой после работы. Разумеется, все стараюсь делать так, чтобы не получить ни одного замечания. Потеря работы была бы для меня катастрофой. Не знаю, поймете ли вы…
У меня есть два горячо любимых и дорогих человека. Мать и невеста. Мать уже старенькая и слабая. Она отдала мне всю свою жизнь. Я у нее — единственный. Она меня вырастила без отца. Когда я стал работать, я прежде всего сделал вот что: сменил квартиру, чтобы маме было легче и удобнее жить. На оплату двух комнат уходит третья часть моей зарплаты, хотя это и не бог весь какая квартира.
Что вам сказать про мою девушку? Ну, разумеется, это самая красивая, самая нежная, самая добрая девушка в мире. Мы хотим пожениться. И очень хотим ребенка. Она — студентка. Значит, из нас троих зарабатываю пока что один я. И уже сейчас я коплю деньги на будущее, отказываю себе и матери во всем, беспощадно экономлю. Не хожу в кино. Даже курить бросил. Вы не улыбайтесь, пожалуйста. Вы знаете, к примеру, сколько нужно будет уплатить врачам за роды? Около двух тысяч долларов, если в хорошей больнице. А в плохой я не хочу: очень люблю мою будущую жену и будущего ребенка. Не знаю, поймете ли вы меня…
Так вот подумайте сами: смогу ли я платить за квартиру, если я потеряю работу? Смогу ли я жениться, если я потеряю работу? Смогу ли я иметь ребенка?
Безработица убивает в человеке его душу. Человек еще жив, а внутри он уже мертв. Я знаю таких людей. На них страшно смотреть. С ними страшно общаться. Это как общение с живыми мертвецами.
Потерять работу — это как стать прокаженным. Все тебя сторонятся. Потеря работы — это потеря места в нашем очень потребительском, очень жестоком и равнодушном обществе. Я знаю молодого инженера, который стал безработным: через два года он потерял любимую женщину, потерял друзей, потерял веру в самого себя.
Вот что страшнее всего: потерять веру в самого себя, потерять веру в жизнь, когда она, по сути дела, только начинается, стать живым мертвецом в 23 года.
— Я вам вот что скажу, мистер: кто-кто, а я-то знаю, что значит остаться без работы. О да, сэр, можете мне поверить! Я это знаю из собственного опыта и могу вам кое-что рассказать.
(Ее зовут Джуди Хаббард. Ей 37 лет. Она негритянка. Работает уборщицей в отеле).
— Так вот, мистер, слушайте, если хотите. Я ожидала пятого ребенка, когда муж потерял работу. Помню даже, как все это было, хотя с того вечера прошло уже десять лет. Пришел мой Джон домой, сел на стул, смотрит на меня, что-то хочет сказать, а не может — губы трясутся…
Он был сборщиком хлопка, мой Джон. Один из тех, кто летом кочует вслед за солнцем. С детства, с двенадцати лет он собирал хлопок и другой профессии не имел. Сельскохозяйственный сезонный рабочий, вот кто он был с двенадцати лет. Таким, как он, даже пособий по безработице не дают.
Через месяц мы уже недоедали. Жили тем, что получали в церкви из благотворительного фонда. Занавешивали окна, чтобы маленькие думали, что еще ночь и не просили есть…
Скоро совсем плохо стало. И тогда мой Джон сделал то, что делают многие негритянские мужчины, у которых нет больше сил смотреть, как голодают их дети. Он ушел из дому. Бросил нас. Скрылся. Да, сэр, бросил, хотя очень любил нас. И вот только тогда, лишившись главы семьи, я получила по закону право на пособие. Вот только такой ценой, ценой отказа от мужа, получила я право на помощь.
Знаю, что потом Джон уехал искать работу на север. Где-то в штате Иллинойс заболел и у мер…
Давно это было, мистер… Подросли мои старшие, ушли из дома. Улица — теперь их дом. Недоучились, не определились в жизни. Не на кого им было опереться, не было рядом отцовского плеча…
Честно вам скажу, порой не хочется жить, но ведь младшие со мной. Может быть, их выведу в люди. Если не потеряю работы…
Дорогой аппендицит
Боли начались под утро. У Роберта Флинта сомнения не было: это аппендицит. Еще год назад врач после обследований и анализов посоветовал: «Не тяните, молодой человек, не обманывайте сами себя, все равно скоро придется лечь на операционный стол». Роберт тогда не решился. Подумал: авось пронесет! Да и денег лишних не было. Какие у студента деньги? Тогда к врачу его только боль и загнала. Сильная была боль в боку, и он испугался.
За привилегию узнать, что у него «созрел» аппендицит, Роберт тогда отдал врачу 75 долларов. Для студента это огромные деньги. Роберт привык ценить каждый цент, еще когда работал шофером грузовика.
Он и сейчас в каникулы подрабатывает то тут, то там. Летом легче сезонную работу найти: больше туристов, больше требуется рабочих рук в кафе, в кемпингах, в отелях, в такси-парках, на заправочных станциях. Летом Роберт восполняет свой счет в банке — сбережения, накопленные за время работы шофером грузовика. Иначе нельзя. За учебу надо платить, за койку в общежитии надо платить, надо питаться и одеваться. А папы богатенького у Роберта нет. У него вообще никакого отца нет, ни богатого, ни бедного.
И вот, пожалуйста, снова боль в боку. Да такая, что хоть кричи. Кое-как до рассвета Роберт дотерпел, а стало светать, разбудил Глена — дружка по общежитию. Глен его и отвез в больницу.
В приемной — полумрак. Роберт, скорчившись на диванчике, слышал, как Глен отвечал на вопросы дежурного в халате. Имя?.. Адрес?.. Религия?.. Название банка?..
Глен подскочил к Роберту:
— Давай чековую книжку…
А у Роберта уже сознание мутится. Глен пошарил у Роберта по карманам, отыскал книжку, и опять к дежурному. Снова Роберт слышит, как они там разговаривают: «Название банка… Номер счета… Залог четыреста долларов…»
— Подпиши чек, — толкает Глен Роберта — Четыреста долларов залога…
Только после того, как получили чек, приняли Роберта в больницу. Сперва — анализы, подготовка. А через три часа сделали операцию, удалили ему аппендикс. Дело-то нехитрое.
Держали его в больнице пять дней. Вливали в вену физиологический раствор. Брали кровь на исследование. Потом сняли швы и пожелали всего доброго.
Но нет, не выписали, а пригласили к кассиру. Тот протянул Роберту уже приготовленный счет. Роберт взглянул и закачался. Вот как этот счет выглядел:
Хирургу — 300 долларов.
Ассистенту хирурга — 150 долларов.
Рентген — 22 доллара.
Анализы — 11 долларов 75 центов.
Физиологический раствор — 20 долларов.
Обезболивание — 58 долларов.
За койку и питание — 545 долларов.
За телевизор в палате — 15 долларов.
Итого: 1121 доллар 75 центов.
Это почти столько, сколько было в банке на счету у Роберта. Аппендицит съел почти все. Чем теперь платить за учебу, за койку в общежитии? Тут действительно закачаешься…
Кассир молча смотрел на бледного, растерянного Роберта. Кассир все понимал, и ему было жалко парня.
— Может быть, у вас есть медицинская страховка? — спросил кассир. — Она бы покрыла часть расходов.
— Разве у таких, как я, бывает страховка? — махнул рукой Роберт.
Все это я знаю, потому что лежал с Робертом в одной палате: у меня тоже удалили аппендицит. Мне он стоил 1112 долларов. Но я — гражданин Советского Союза, и по Конституции имею право на бесплатную медицинскую помощь. Даже за рубежами моего государства. Оно и заплатило за меня хозяевам вашингтонской больницы.
Было это в 1972 году. С тех пор, по официальным данным, стоимость медицинского обслуживания в США возросла чуть ли не в полтора раза.
В специальном послании президента конгрессу в марте 1974 года говорилось:
«Повсюду в стране средняя суточная плата за пребывание в больнице превышает сейчас 110 долларов.
Роды и послеродовой уход в среднем обходятся в тысячу долларов.
Стоимость лечения больного раком на последней стадии болезни превышает 20 тысяч долларов».
В августе 1975 года американские газеты сообщили, что стоимость одного дня пребывания в больнице уже достигла 131 доллара. В эту сумму не включена плата за лечение. Это только за койку и питание. С тех пор цены подскочили еще выше. По официальным данным, с начала 50-х годов стоимость медицинского обслуживания в США увеличилась более чем в десять раз.
В журнале «Нью тайме» Роджер Раппопорт, хорошо знающий медицинские круги, рассказывает, что в Калифорнии врачи продают своих пациентов владельцам частных больниц. Существует даже такса: от 50 до 100 долларов за голову в зависимости от диагноза. По другой системе врач, который уговорит своего больного лечь в больницу, получает 10 процентов от той суммы, которую уплатит пациент больнице.
Один из администраторов частной больницы рассказывал Раппопорту: «Уж если мы купили больного, мы его не выпустим, как бы он ни брыкался, пока не накрутим ему счет по крайней мере на тысячу долларов. Но и после этого мы будем находить у него все новые и новые болячки. Наша цель вытрясти из него не менее 3 тысяч долларов».
На обложке журнала «Нью тайме», где помещен рассказ Раппопорта, изображен человек на костылях в больничном халате. К халату пристегнута бирка со словом «продано».
Не так давно американская газета «Нэшнл стар» опубликовала статью своего обозревателя Стива Данливи о состоянии медицинского обслуживания в США.
«Мне довелось жить во всех крупнейших центрах преступности Америки, — пишет обозреватель, — но каким-то чудом меня ни разу не ограбили под угрозой кинжала. Зато меня неоднократно очищали под угрозой скальпеля… В момент, когда пишутся эти строки, я только-только начинаю приходить в себя от последнего разбойничьего нападения. Джентльмен в белом халате за тридцать минут, которые я провел в его кабинете, содрал с меня 175 долларов».
Трагедия в том, подчеркивает журналист, что далеко не каждый американец имеет возможность отдать 175 долларов за один лишь визит к врачу.
Жаркий день
Лязгая гусеницами, бульдозер идет прямо на них. Из-под жарко дышащей машины летят искры и серые крошки асфальта. Водитель бульдозера, краснолицый, морщинистый старик в синем выцветшем комбинезоне и красной кепке со сломанным козырьком, дает такой газ, что клубы голубого едкого дыма на миг заволакивают машину.
Бульдозер идет прямо на них. Они сидят на асфальте, закрыв ему путь. Я успеваю сосчитать: 14 человек.
До ревущего бульдозера остается не больше трех метров. Мне хочется курить, и я чувствую, что руки мои дрожат от волнения. «Надо запомнить их лица», — думаю я.
Успею ли я запомнить их лица? Вот молодой плечистый негр в черных очках. Он закусил губы и закрыл глаза.
Белая женщина на коленях. Она что-то кричит, и в ее глазах страх.
Седая негритянка в разорванном на плече платье. Она раскачивается из стороны в сторону. Что-то поет, а может быть, молится.
Снова черное лицо с огромными глазами и ослепительно белыми зубами. Я не могу понять, плачет этот человек или смеется.
Тоненькая белая девушка, коротко остриженная. Она что-то говорит негритянской девочке, которая лежит рядом, спрятав лицо в колени девушки. Я вижу лишь две коротенькие черные, как уголь, косички с беленькими бантиками.
Бульдозер идет прямо на них. Вот уже гусеница раздавила плакат, лежащий у ног девочки с косичками. Я успеваю прочесть плакат: «Дайте работу моему папе!»
Девочка в ужасе вскакивает и дико кричит, прижав кулачки к подбородку. Она такая крошечная перед этой стальной громадиной бульдозером! Косички ее трясутся. Кулачки ее прижаты к подбородку.
И только теперь я заметил то, что не заметил минуту назад. Цепи! Эти люди прикованы друг к другу цепью. Четырнадцать человек сковали себя цепью и загородили въезд на стройку.
Бульдозер останавливается прямо около девочки, которая содрогается от крика. Старик водитель выключает мотор и, ругаясь, вылезает из кабины. Он сдергивает красную кепку, вытирает ею вспотевшее лицо и швыряет ее на сиденье. Его бледные губы трясутся.
— Пошел ты знаешь куда! — говорит он подбежавшему полицейскому. — Я рабочий человек, а не убийца.
К нам подбегает какой-то взмыленный от пота человек. Он в белой, прилипшей к спине рубашке со сбившимся набок галстуком. В руках помятый пиджак.
— Офицер! — кричит он. — Вы обязаны убрать этих людей. Я буду жаловаться!
Затем обращается к водителю бульдозера:
— Том, обожди минутку, сейчас их уберут.
Девочка уже не кричит. Она плачет навзрыд.
Старик переминается с ноги на ногу, делает неуверенный шаг в сторону девочки и говорит:
— Детка… Детка… Не надо плакать, сердечко мое… Прости меня, старого дурака!
Девочка не поднимает головы и еще теснее прижимается к девушке. Старик разводит руками, поворачивается и, ссутулившись, идет прочь от бульдозера. Потный человек со сбившимся набок галстуком рысцой забегает перед ним.
— Том, подожди минутку! Сейчас их уберут, — говорит он.
Неожиданно старика охватывает ярость. Он топает ногами и кричит:
— Будьте вы прокляты! Будь она проклята, ваша работа! Будь она проклята, такая жизнь! Все вы!.. Все вы!..
Я вижу его морщинистое лицо. Оно перекошено гневом и болью. Мне кажется, что он ненавидит сейчас всех людей, а больше всего самого себя. Он плюет на асфальт и, сгорбившись еще больше, идет на толпу, запрудившую тротуар и часть улицы. Он глядит себе под ноги, и люди молча расступаются перед ним…
Воет сирена полицейской машины. Конные полицейские теснят толпу блестящими от пота крупами лошадей. Автомобиль-вагон с решетками на окнах останавливается около бульдозера.
Четырнадцать человек, сидя на тротуаре, поют:
Мы победим! Придет день нашей свободы, Всем сердцем верю: Мы победим!Они поют, хлопая в такт песне ладонями. Звенит цепь, сковавшая их.
Поет молодой плечистый негр в черных очках. Поют белая женщина и негритянка в разорванном на плече платье.
Поет тоненькая беленькая девушка. Всхлипывая, поет девочка с косичками.
Какая это прекрасная песня! Я молча пою ее вместе с четырнадцатью на асфальте.
Всем сердцем верю...Я пою эти слова молча, потому что мне, советскому журналисту, нельзя принимать участие в демонстрации американцев.
Мы победим!..Я молча пою эти слова вместе с четырнадцатью на асфальте.
Нет, не с четырнадцатью! Я и не заметил, что песню подхватили сотни пикетчиков-негров, которые ходят вокруг с плакатами в руках. Ее поет толпа, запрудившая тротуар и часть улицы. Белый парень поет ее с балкона дома. Ее поют пуэрториканские девушки из окна дома напротив. Я не слышу их голосов, а только вижу, как они ритмично хлопают в ладоши.
Я ищу глазами старика, водителя бульдозера, который едва не стал убийцей. Слышит ли он песню? Наверное, не слышит. Сидит где-нибудь сейчас в баре над стаканом виски, бледный от тоски и ненависти, от стыда за самого себя.
К сидящим на асфальте направляются полицейские. В руках у них кусачки с длинными ручками, перекусывающие цепи. Сперва они расковывают девочку, потом всех остальных.
— Вы арестованы за нарушение порядка! — говорит им офицер. — Прошу вас следовать в машину.
И не лишенный галантности жест в сторону автомобиля-вагона с решетками на окнах.
Арестованные не трогаются с места. Полицейские хватают мужчин под мышки и волокут их в машину. К женщинам направляются женщины полицейские. На головах у них форменные фуражки с кокардами. Белые блузки с короткими рукавами. Широченные плечи, мускулистые по-мужски руки. Одна из них легко поднимает девочку с косичками и куда-то уносит.
В толпе, которую сдерживает конная полиция, заметно какое-то движение. Толпа глухо ворчит, колышется, как будто пережевывает что-то, и наконец выплевывает перед полицейскими десяток парней.
— Черные обезьяны! — орет один из парней, одетый, несмотря на жару, в кожаную куртку с «молниями». — Убирайтесь в Африку!
— Пусть лучше убираются в Россию! Там их любят! — вопит другой, размахивая пряжкой ремня, который обмотан вокруг его кулака.
— Легче, легче, ребята, не мешайте нам работать, — увещевает их с лошади полицейский сержант.
— Посмотрите на эту любовницу негров! — орет парень и тычет кулаком в сторону тоненькой девушки.
Парни корчатся от смеха, гогочут, свистят, улюлюкают, исторгают самые оскорбительные, самые циничные, самые грязные слова.
Толпа гудит возмущенно. Девушка стоит бледная, прямая, тоненькая, как тростиночка. Она кажется мне необыкновенно красивой.
— Переспи с нами сначала, а потом с черномазыми, — кривляется перед ней парень в черной куртке.
Даже женщина-полицейский не выдерживает.
— Убирайся отсюда, молокосос! — сквозь зубы шипит она парню.
— Легче, легче, мальчики! — слышен голос сержанта на лошади. — А то и вас придется забрать.
— Не раньше, чем я поцелую эту красотку, — отвечает парень и, подскочив к девушке, с размаху бьет ее пряжкой ремня по лицу. Оттолкнув женщину-полицейского, его приятели бросаются за ним. Кто-то хватает девушку за воротник платья и разрывает его до пояса.
Сержант пускает лошадь в галоп. Мускулистая женщина-полицейский расталкивает парней.
Ревущая толпа прорывает заслон. Какой-то белый мужчина с усами хватает левой рукой парня с пряжкой за шиворот и правой изо всей силы бьет его в подбородок. Парень летит под ноги лошади.
Воет сирена. Мелькают дубинки. Полицейские заталкивают в машину парня с пряжкой, по подбородку которого течет кровь. Четверо других выкручивают руки белому мужчине с усами.
Ржущие от возбуждения лошади встают на дыбы, теснят толпу к тротуару.
Девушка стоит, прислонившись к бульдозеру. У нее кровоточит ссадина на щеке. Платье ее разорвано. Обеими руками она пытается прикрыть грудь. На ее худеньких обнаженных плечах, покрытых загаром, резко выделяются белые бретельки от лифчика.
— Цыпленочек, — тихо говорит сержант на лошади другому конному сержанту, кивая в сторону девушки.
Тот подмигивает в ответ, и оба расплываются в улыбках.
Мне кажется, что девушка слышит их. Я вижу, как вздрагивают обрывки цепей на ее руках. Она молча плачет.
Сержанты трогают лошадей и отъезжают к гудящей толпе. Женщины-полицейские берут девушку за локти и подсаживают в автомобиль с решетками.
Теперь проезд на строительную площадку открыт. Откуда-то из-за угла появляется грузовик с цементом и, объехав бульдозер, врывается в ворота. За грузовиком, радостно подпрыгивая и размахивая пиджаком, несется человек со сбившимся галстуком. Все это происходит так быстро и неожиданно, что толпа успевает лишь ахнуть.
Теперь взоры всех — толпы, полицейских, пикетчиков, которые ходят у решетчатого забора, отделяющего строительную площадку от улицы, — устремлены к углу, откуда слышен вой второго грузовика.
Но не успевает грузовик приблизиться к воротам, как на его пути встают шесть негритянских юношей и две девушки. По их лицам катится пот.
— Нас не сдвинуть… — пронзительно клокочущим, каким-то особым голосом запевает одна из девушек.
— Всем сердцем верю… — хрипло подхватывают юноши.
Визжат тормозные колодки грузовика. К живой стене бросается целый отряд полицейских.
Толпа снова прорывает заслон. Меня толкают со всех сторон. Я едва не падаю. Толпа несет меня то вправо, то влево. Я успеваю заметить, как двое полицейских трясут негритянского юношу и его голова бьется о металлический кузов грузовика.
Полицейские берут верх и снова загоняют толпу на тротуар. Карета «Скорой помощи» увозит раненых. Машина с решетками — арестованных.
Около моего уха стрекочет кинокамера. Телерепортер нагнулся с микрофоном к негритянскому мальчику лет десяти, за руку которого держится сестренка; ей не больше шести лет. Видно, что она перепугана и потрясена тем, что ей пришлось здесь увидеть. Она жмется к брату и все время просит его:
— Пойдем, Джон, пойдем! Я хочу пить.
— Зачем вы пришли сюда? — спрашивает репортер.
— Пусть они примут нашего папу на работу, — хмуро отвечает мальчик и опускает голову.
Репортер легонько пальцами берет его за подбородок, старается повернуть лицом к камере и спрашивает:
— Ты знаешь, чем это может кончиться?
— Знаю! — сердито бросает малыш и снова опускает голову.
— Чем?
— Нас посадят в тюрьму, — почти шепчет мальчик.
— Скажи это громче.
— Нас посадят в тюрьму, — громко и четко говорит мальчик, глядя прямо в объектив стрекочущей кинокамеры.
— Я не хочу в тюрьму! — хнычет сестренка. — Я хочу пить.
Негритянский священник, взобравшись на груду бревен, уговаривает толпу разойтись.
— Братья! — кричит он. — Не доводите дело до кровопролития. Успокойтесь. Возьмите себя в руки.
— Нет сил терпеть! — отвечают ему из толпы.
— Я знаю. Я знаю, что нет больше сил терпеть несправедливость, — продолжает священник. — Но посмотрите на полицию. У них оружие. У них дубинки. Они не остановятся ни перед чем, чтобы протолкнуть эти проклятые грузовики на строительную площадку. Но, братья, о том, что произошло здесь сегодня, завтра будет знать весь мир.
В другом месте толпа подняла на руки молодого негра с бородкой.
— Я спрашиваю вас: где это происходит? — кричит юноша. — В Соединенных Штатах Америки?
— Да! — выдыхает толпа.
— Я спрашиваю вас: это страна свободы?
— Нет! — гремит толпа.
— Это страна справедливости?
— Нет!
— Это страна равенства?
— Нет! Нет! Нет! — грохочет над улицей.
Постепенно толпа расходится. Остаются только полицейские и десяток пикетчиков, которые молча ходят вдоль забора. В их руках плакаты: «Дайте работу неграм и пуэрториканцам!», «Двадцать пять процентов рабочих мест — для цветных!»…
Сержант слезает с лошади, передает поводья полицейскому и устало хрипит:
— Ну и жарища сегодня, ребята! Пойду промочу горло.
Все, о чем я рассказал здесь, произошло на углу Кларксон и Бруклин-авеню в Нью-Йорке. На следующий день газета «Нью-Йорк тайме» вышла с заголовком «Искры мятежа в Бруклине. Столкновение пикетчиков с полицией».
«Чертово дно»
До второй мировой войны здесь были болото, свалка мусора, который вывозили сюда из Вашингтона, да кладбище старых автомобилей. Жители штата Вирджиния называли это место «чертовым дном». Чтобы засыпать его, строители сбросили сюда 5,5 миллиона кубических ярдов земли (кубический ярд равен 0,76 кубического метра) и вбили 41 492 железобетонные сваи. В январе 1943 года было завершено строительство гигантского пятигранника на правом берегу реки Потомак. На месте «чертова дна» возник Пентагон, здание министерства обороны США — «мозговой центр огромного военного организма», по выражению одних, «заповедник воспаленных медных лбов», по определению других, «джунгли, мрачные джунгли», по словам Роберта Макнамары, который, надо полагать, знает, о чем говорит, ибо сам в течение нескольких лет был главой Пентагона.
Ну что же, читатель, я приглашаю вас на экскурсию в Пентагон.
Миновав границы округа Колумбия, мы подъедем к этому самому большому в мире административному зданию со стороны Арлингтонского военного кладбища и поищем место для нашего автомобиля среди десяти тысяч автомашин, табунящихся на трех пентагоновских автолужайках.
Окинув взглядом зеленеющие вдали кладбищенские холмы и стройные ряды белых крестов, домаршировавших уже почти до Пентагона, поднимемся по ступенькам к главному входу и остановимся перед бюстом бывшего министра обороны США Джеймса Форрестола. Наморщенный бронзовый лоб выдает какую-то тяжелую работу мысли, плотно сжатые тонкие губы подчеркивают поглощенность какой-то идеей. «За достижения по укреплению национальной безопасности и за самоотверженную преданность долгу» — выбито на мраморном пьедестале. Как известно, в 1949 году министр Форрестол с криком: «Русские танки подходят к Вашингтону» выпрыгнул из окна своей квартиры и разбился, чем и обессмертил свое имя в новейшей истории США.
Много раздумий, как иронических, так и философских, вызывает этот бронзовый бюст у главного входа в Пентагон. Вот он — памятник жертвам «холодной войны»! Форрестол умер не от пули и не от осколка, он спятил от страха перед «красной опасностью», которую сам же и выдумал, сидя вот в этом самом здании, у подъезда которого воздвигнуто теперь его бронзовое изображение…
Но пойдемте дальше. Открыв массивную дверь, мы увидим перед собой военного полицейского и рядом с ним строгую даму за столиком, выполняющую обязанности справочного бюро и заведующей приемной. Исполняя обе эти функции, дама скажет нам, что ни один из руководителей Пентагона не сможет принять нас в течение ближайших нескольких дней, а где находится кабинет министра — этого дама «просто не знает». Таким образом, нам остается одно — пуститься в длинный путь по лабиринту коридоров Пентагона, общая протяженность которых составляет около 28 километров, в надежде взять интервью у кого-нибудь из 30 тысяч военных и гражданских служащих, работающих здесь в шести тысячах комнат, звонящих по 87 тысячам телефонов, отправляющих и получающих ежедневно 129 тысяч писем и пакетов, выхлебывающих в обед 450 галлонов супа в местных кафетериях, где одновременно могут сесть за стол около 4 тысяч человек.
Тут совсем не ощущаешь жары, если даже на улице в этот день плавится асфальт. Особое электронное устройство бдительно следит за тем, чтобы летом в кабинетах и коридорах температура не поднималась выше 20,5 градуса по Цельсию, а влажность воздуха сохранялась на уровне 50 процентов по специальной шкале. Зимой электронный источник постоянно поддерживает температуру в 24 градуса, а влажность воздуха — 30 процентов. Именно эти градусы и проценты, по мнению врачей, создают идеальные условия для работы сотрудников главного военного ведомства США.
Коридоры, по которым может свободно проехать бронетранспортер, полны жизни. Куда-то спешат стриженные под ежик полковники. Кого-то разыскивает, читает таблички на дверях молодой священник с выправкой строевого офицера. Парочками прогуливаются штатские со лбами интел-лектуалов-атомщиков или ракетчиков. Негры-курь-еры на бесшумных электрических колясочках везут куда-то коричневые папки и свежие газеты. Моряк в белоснежной форме тащит к себе в комнату поднос с бутербродами. И у всех на груди бирки— пропуска с цветными фотокарточками; у некоторых целый набор бирок разных цветов.
На втором этаже в коридоре № 9 — кабинеты начальников штаба армии, флота, авиации и морской пехоты. Здесь же помещается и председатель объединенного комитета начальников штабов. В этот коридор проникнуть можно только мимо сержанта военной полиции, на поясе у которого, кроме пистолетов, висят изящные никелированные наручники и дубинка длиной чуть поменьше метра. Над сержантом — целая система выпуклых зеркал, так что, в какую бы сторону сержант ни посмотрел, он все равно увидит, кто приближается к коридору № 9. Не увидев у нас на груди бирок-пропусков, сержант выразительно звякнул наручниками и поправил на ремне дубинку.
Впрочем, знающие американские журналисты рассказывали мне, что сержант с зеркалами сидит здесь для видимости, так как охранять-то ему, в общем, в этом коридоре нечего. Настоящие помещения для работы начальников штабов — глубоко под землей, куда генералы опускаются на личных лифтах.
Подземные смежные комнаты называются «национальным центром военного командования». Главное помещение подземного центра представляет собой большой зал с овальным столом посередине. Каждое место за столом оборудовано индивидуальным пунктом связи, телефонами разного цвета, микрофонами, кнопками, переключателями, телевизионными и записывающими устройствами. Каждый начальник штаба, сидящий за этим столом, может вызвать старшего военного начальника американских вооруженных сил, в каком бы уголке земного шара последний ни находился.
В 1969 году вступил в строй новый подземный командный центр, который подчиняется начальнику штаба армии. На этот центр возложена также задача организации и подавления негритянских выступлений в США. Электронно-счетные машины, которыми оборудован новый армейский командный центр, могут в мгновение ока дать информацию о 150 американских городах, считающихся наиболее «ненадежными» в расовом смысле.
Американцы рассказывают о тайных комнатах Пентагона много легенд, но в общем-то ни у кого нет сомнения в том, чем занимаются здесь генералы. По словам вашингтонского журналиста Т. Коффина, «люди, сидящие у пультов управления в этих мрачных глубоких убежищах, готовы послать смерть и разрушение через океаны, пустыни и горы».
Таким образом, пять высших пентагоновских генералов, над которыми стоит представитель гражданской власти — министр обороны, управляют огромной военной машиной США. Им подчиняются 3 миллиона 450 тысяч американцев, одетых в военную форму. Половина из этого числа — на чужих территориях: на островах Тихого океана, в Южной Корее, Японии, в Западной Европе, в странах Центральной Америки, на кораблях в Тихом и Атлантическом океанах, в Средиземном море. Кроме того, под началом у Пентагона миллион 300 тысяч вольнонаемных.
Пентагон содержит свыше 400 крупных военных баз и около трех тысяч мелких примерно в 40 странах мира. Помимо американских военнослужащих, на этих базах находится свыше 500 тысяч членов их семей и работает около 250 тысяч иностранных служащих.
Пентагон — крупнейший собственник. Он обладает собственностью, оцениваемой в 202,5 миллиарда долларов (оружие—100 миллиардов, техническое оборудование — 55,6 миллиарда долларов). Это составляет около 60 процентов всей собственности правительства США внутри страны и за рубежом.
Пентагон — крупнейший землевладелец. Только за пределами США он контролирует 31 миллион акров земли — площадь, почти равную штату Нью-Йорк и оцениваемую в 38,7 миллиарда долларов.
Пентагон — крупнейший работодатель. На него работают около 9 миллионов промышленных рабочих США, 990 специальных военных предприятий и свыше тысячи фирм, выступающих в качестве подрядчиков и субподрядчиков на военные заказы. В штате Калифорния в военных отраслях промышленности занято 55 процентов всего самодеятельного населения; в штате Вашингтон — 42 процента.
— Пентагон — это крупнейшая организация на земном шаре! — воскликнул однажды Роберт Макнамара.
— Еще никогда в истории нашей страны в руках столь немногих людей не было сосредоточено столько могущества и власти, — отозвался вашингтонский обозреватель К. Молленхоф.
…Ну, что же, время клонится к вечеру, а мы прошли только половину из 28 километров коридоров Пентагона. Придется нам возвратиться сюда завтра. А сейчас, чтобы нащупать основное звено связи между генералами и «большим бизнесом», оставим Пентагон и поспешим на Капитолийский холм в новое здание палаты представителей американского конгресса, которое носит имя умершего несколько лет назад спикера палаты Рейборна. Поспешим туда, пока не стемнело. Заглянем в зал, увенчанный боевыми штандартами и обветшалыми от времени вымпелами. Два яруса длинных столов террасами поднимаются у дальней стены зала, а над ними, как трон самодержца, возвышается кресло председателя комиссии по делам вооруженных сил палаты представителей.
Несколько лет назад только что назначенный председателем комиссии конгрессмен Риверс сказал:
— Было время, когда военные сами выбирали себе оружие, сами заказывали его оружейникам, а конгресс лишь издали наблюдал за этим. Мы сидели, так сказать, за одним столом, но в пиршестве участия не принимали. Теперь все будет по-другому.
Так вот, этот зал с боевыми штандартами и обветшалыми вымпелами как раз и является одним из тех банкетных залов, где режется на куски жирный пирог военных заказов и решается, кому какой кусочек надлежит скушать. А пирог поистине чудесный. Давно известно, что прибыли промышленных компаний, работающих на Пентагон, как правило, на 70 процентов выше доходов фирм, выпускающих невоенную продукцию. Тут создаются правила круговой поруки, которой связывают себя генералы, законодатели, промышленники, образуя так называемый военно-промышленный комплекс. Схема этого зловещего круга выглядит примерно так: конгрессмены поддерживают требования Пентагона; в благодарность за это хозяева военно-промышленных корпораций, получающих заказы на производство вооружения, поддерживают конгрессменов.
Много лет тому назад я был в городе Чарлстоне, откуда родом конгрессмен Риверс. Одна из улиц города называется Риверс-авеню. Главные ворота военно-воздушной базы, расположенной неподалеку от Чарлстона, называются «Ворота Риверса». При въезде в город висел огромный плакат: «Спасибо вам, Мендел Риверс». Это промышленники из Чарлстона благодарили своего конгрессмена. За что? Промышленники не делали из этого тайны. На плакате по левую сторону от портрета Риверса были перечислены предприятия, благодаря которым процветает бизнес портового города Чарлстона в штате Южная Каролина: военно-воздушная база, армейский склад, база подводных лодок «Поларис», военно-морские доки и склады, заводы по производству морских мин, заводы авиастроительной компании «Локхид».
— Что хорошо для Пентагона, то хорошо и для бизнесменов, — сказал однажды Риверс, сам не подозревая, наверное, того, что раскрыл суть зловещего союза крупнейших монополий с военщиной в государственном аппарате Соединенных Штатов Америки.
— Рядовой Джон Уинтерс из города Кларк, штат Нью-Джерси, 18 лет.
— Рядовой Гарри Пауль из Винчестера, штат Кентукки, 19 лет.
— Сержант Дональд Смит из Денвера, штат Колорадо, 24 года…
В голосе человека скорбь и усталость. Ветер рвет из его рук строчки длинного похоронного списка. Скорбны лица мужчин и женщин, окруживших читающего.
Если посмотреть направо, увидишь, как тени от облаков скользят по белым крестам Арлингтонского военного кладбища. Налево матово поблескивают бока и крыши тысяч легковых автомашин, загнанных на одну из самых больших в мире стоянок. Прямо — серая стена Пентагона.
— Рядовой Джеймс Джонсон из Бедфорда, штат Техас, 20 лет…
Голоса читающего почти не слышно в шуме винтов вертолета, опускающегося на площадку у стены Пентагона. Из вертолета выходят офицеры. У одного к запястью левой руки цепью пристегнут плоский коричневый портфель— так здесь возят секретные документы. Даже не взглянув по сторонам, офицеры скрываются в здании.
Человек продолжает читать список американ-сих парней, убитых когда-то во Вьетнаме. Это «поминки». Это протест против милитаризма и гонки вооружений. Около ста человек принесли этот протест сюда, прямо к стенам Пентагона. Среди них родители погибших. Но их никто не слушает, кроме десятка репортеров, примчавшихся сюда, чтобы написать, передать по радио и показать по телевидению, как полиция будет сбрасывать со ступенек Пентагона очередных «мирников».
У демонстрантов нет над головами плакатов, они не выкрикивают лозунгов, не поют песен. Молча они прислушиваются к именам и цифрам: «20 лет…», «18 лет…», «19 лет…»
Только одна седая женщина с заплаканными глазами протягивает репортерам какой-то желтый листок бумаги. Я беру его. Это похоронная. Отпечатана на бланке телеграфной компании «Уэстерн юнион». Подписана командиром корпуса морской пехоты. «С глубоким сожалением подтверждаю, что ваш сын, рядовой первого класса Уильям Смит… Останки вашего сына будут доставлены вам бесплатно… Вам будут оплачены расходы по организации похорон и погребения…» А дальше, как в прейскуранте торговой фирмы, идет деловое перечисление цен на похороны «на частном кладбище с услугами похоронного бюро» или на национальном военном кладбище в Арлингтоне. Слова «останки вашего сына» и «доллары» соседствуют так близко, что становится не по себе.
Нет, я не хочу смотреть, как этих пожилых одиноких и беспомощных мужчин и женщин, отцов и матерей, у которых погибли сыновья, будут сталкивать с высоких ступенек, валить на асфальт, а то, чего доброго, и бить полицейскими дубинками по головам. За последние годы я вдоволь насмотрелся на такие сцены. Кажется, что я могу написать целый трактат о звуке, с которым полицейская дубинка ходит по головам, по ключицам, по спинам, по рукам, которыми пытаются закрыть лицо.
Я спешу пройти в здание Пентагона, пока полиция не принялась за дело. Но я, наверное, перепутал дверь, потому что попадаю совсем не туда, куда хотел. На первом этаже Пентагона — огромный торговый центр для офицеров и вольнонаемных служащих министерства обороны: несколько магазинов и отделение банка под одной крышей. Сияют разноцветные неоновые рекламы, залиты светом витрины, звучит музыка. Подтянутые мужчины в синих, песочных, зеленых, белых мундирах прицениваются к штатским костюмам, примеривают ботинки, подбирают галстуки, сдают в чистку плащи, перелистывают словари в книжном магазине, толпятся в лавке музыкальных пластинок, оформляют какие-то счета в банке и здесь же справляются о курсе акций финансовой биржи.
Легенда рассказывает о том, как Иисус Христос изгнал торгашей из храма. Из Пентагона торговцев и бизнесменов он не сумел бы изгнать, это уж точно. «На том стоим», — могли бы сказать бизнесмены. «На том стоять будем», — подтвердили бы генералы и адмиралы.
В самом деле, давайте посмотрим, откуда берутся руководители Пентагона. Если заглянуть в послужные списки бывших министров обороны США, то обнаружится такая картина:
Уже упомянутый нами Д. Форрестол пришел в Пентагон с поста главы банка «Диллон Рид энд компани».
Его преемник Л. Джонсон — из железнодорожной корпорации «Пенсильвания рейлроуд».
Д. Маршалл был одно время директором авиационной компании «Пан-Америкэн».
Р. Ловетт руководил могущественным военным концерном «Браун Бразерс, Гарриман энд компани», Ч. Вилсон был президентом корпорации «Дже-нерал моторе».
Н. Маккерлой управлял огромной мыловаренной компанией.
Т. Гейтс был банкиром.
Р. Макнамара занимал пост президента компании «Форд».
Впрочем, бывают и исключения. Такими были преемники Макнамары К. Клиффорд и М. Лэйрд. Клиффорд не был промышленником сам, но его влиятельная юридическая фирма обслуживала и обслуживает крупнейшие промышленные корпорации США. Что касается Мелвина Лэйрда, то он пришел в Пентагон из конгресса США, где был членом подкомиссии палаты представителей по ассигнованиям на военные нужды. «Он всегда был ярым сторонником увеличения военного бюджета и привык смотреть на мир глазами военных и бизнесменов, — писал о нем в свое время журнал „Нью-Йорк тайме мэгэзин“. — На Капитолийском холме он был частью военно-промышленного комплекса».
Ну, а теперь давайте посмотрим, куда уходят руководители Пентагона и военачальники, когда наступает время проститься с военной формой. В крупный бизнес, конечно, куда же еще! Например, бывший заместитель министра обороны Томас Моррис стал одним из президентов компании «Лит-тон индастрис». У Морриса с этой компанией давнишние дружеские связи: в 1967 году, например, «Литтон индастрис» получила заказов от Пентагона на 180 миллионов долларов, а в 1968 году уже на 466 миллионов долларов. Предполагают, что сейчас ее пентагоновские контракты превышают 800 миллионов долларов.
Влияние генералов и адмиралов, сменивших мундиры на пиджаки бизнесменов, становится, может быть, не столь заметным, но не менее реальным. Примеров тому почти столько же, сколько генералов и адмиралов в отставке. Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Б. Кларк стал президентом банка в Техасе. Бывший начальник штаба военно-воздушных сил США генерал К. Лимэй переселился в кабинет председателя совета директоров фирмы «Нетуоркс электроник корпорейшн» в Калифорнии. Их задача — осуществление связей между банками и фирмами, которые платят им сегодня, и между Пентагоном, который платил им вчера.
Сенатор Проксмайер как-то признался, что, по его сведениям, свыше 2 тысяч полковников, генералов и адмиралов состоят на службе ста крупных монополий, поставляющих оружие, оборудование и снаряжение для американских вооруженных сил.
— Нужны ли еще доказательства существования союза между военными и промышленниками? — спросил сенатор. — Это весьма опасный союз, и, если дать ему возможность разрастаться и дальше, он подомнет под себя конгресс и все наши формы государственного управления.
Значительно раньше об этом же задумался один из американских президентов…
Шли первые дни 1961 года. Президент Дуайт Эйзенхауэр готовился сдать полномочия новому хозяину Белого дома Джону Кеннеди и удалиться на свою ферму в штате Мэриленд. Его помощники чувствовали, что генерала что-то беспокоит. Он был задумчив, рассеян. Время от времени требовал папки с материалами о Пентагоне и, закрывшись в кабинете, что-то выписывал из них. За три дня до приведения к присяге нового президента, Эйзенхауэр объявил, что хочет побеседовать с журналистами.
Старый солдат, прошедший высшую школу управления государством, удивил собравшихся журналистов своим волнением, с которым он начал пресс-конференцию. Удивление увеличилось, когда Эйзенхауэр зачитал свое заявление. Это было его завещание Америке, предупреждение соотечественникам.
Он говорил, не скрывая тревоги:
— Ежедневно мы расходуем на нашу военную безопасность сумму, превышающую чистый доход всех американских компаний. Этот сплав многочисленного военного персонала и сильной промышленности, производящей вооружение, представляет собой новое явление в истории Америки, Его экономическое, политическое и даже духовное влияние сказывается во всех городах, во всех законодательных собраниях штатов, во всех учреждениях федерального правительства. Мы признаем повелительную необходимость такого развития. Но мы не должны упускать из виду его тяжелых последствий, которые касаются нашей работы, наших доходов, нашего существования, то есть самой структуры нашего общества. Мы должны помешать этому военно-промышленному комплексу приобрести — намеренно или волей обстоятельств — чрезмерное влияние в правительственных органах. Существует и будет существовать возможность, что мощь его неоправданно возрастет в гибельных масштабах…
«Военно-промышленный комплекс»… Этот термин ввел в обиход генерал Эйзенхауэр на своей последней официальной пресс-конференции в Белом доме. Это было 17 января 1961 года. На следующее утро эти три слова в сочетании со словом Пентагон впервые замелькали в заголовках американских газет.
С тех пор прошло почти два десятилетия. Для Америки это были годы серьезных испытаний, самым тяжелым из которых стала агрессия против вьетнамского народа, подготовленная и осуществленная Пентагоном. Во имя агрессивных устремлений, по требованию Пентагона урезаются ассигнования на внутренние нужды страны, на облегчение участи жителей негритянских гетто, на борьбу с нищетой, на образование и здравоохранение.
Военно-промышленный комплекс всегда выступал за напряженность в международных отношениях и старался провоцировать эту напряженность. Известна записка, которую послал своему управляющему промышленник миллиардер Говард Хьюз: «Поезжай в Вашингтон к нашим новым друзьям, и посмотрим, что можно сделать, чтобы война во Вьетнаме продолжалась».
Известно, что пронизывающие ветры «холодной войны» рождались в недрах военно-промышленного комплекса. Именно Пентагон время от времени начинает раскручивать маховик антисоветской компании, запугивая американцев «красной опасностью», чтобы заставить в очередной раз раскошелиться налогоплательщиков на нужды гонки вооружений.
Я помню, как однажды в Вашингтоне три главные телевизионные компании отменили свои регулярные программы, чтобы показать на экранах телевизоров заседание сенатской комиссии по делам вооруженных сил. На другой день одна из вашингтонских газет назвала эту передачу «спектаклем ужасов».
В спектакле были заняты, помимо членов комиссии, тогдашний министр обороны США М. Лэйрд и тогдашний председатель комитета начальников штабов генерал Э. Уилер. В качестве аргумента для доказательства необходимости начать новый этап гонки вооружений руководители Пентагона избрали затасканный тезис о «советской угрозе». Сев на конька «холодной войны», они не знали удержу. То сам министр обороны США, то генерал Уилер, водя указкой по таблицам и диаграммам, вслух подсчитывали, сколько миллионов жизней унесет «первый ядерный удар», сколько душ погубит «ответный удар» и т. д. в том же духе. Даже видавший виды председатель комиссии сенатор Стеннис не мог удержаться от восклицания:
— Такого ужаса американский народ еще никогда не слышал.
Впрочем, предоставим слово рецензенту этого спектакля из вашингтонской газеты «Стар». «Домашние хозяйки, — писал обозреватель этой газеты, — любимые программы которых были отменены, с ужасом наблюдали, как высшие представители законодательной и исполнительной власти обсуждали результаты обмена термоядерными ударами. Они сыпали на слушателей цифры мегатонн и смертей с такой легкостью, как будто речь шла о результатах футбольной игры. Затем весь этот кошмар был тщательно повторен в вечерних телевизионных новостях для мужей и детей, которых не было дома днем».
Подводя итоги, рецензент указывал, что «спектакль ужасов мало дал для понимания проблемы, но вызвал сильные эмоциональные отклики. В результате нервы нации оказались слегка натянутыми, а перспективы мира слегка уменьшенными».
Подобное же представление руководители Пентагона пытались разыграть на другой день в сенатской комиссии по иностранным делам, но здесь им это не удалось.
— Я отвергаю предположение, что министр Лэйрд больше нас заинтересован в безопасности страны, — заявил председатель комиссии сенатор М, Фулбрайт. — Мы все заинтересованы в безопасности, но вопрос в том: создает ли избыток оружия безопасность? По моему убеждению, гонка вооружений лишь уменьшает безопасность.
Военно-промышленный комплекс и в наши дни выступает против разрядки международной напряженности, против советско-американских соглашений, направленных на обуздание гонки вооружений. Одно существование этого комплекса накладывает глубокий отпечаток на экономическую и политическую жизнь Соединенных Штатов Америки. Не случайно в политических кругах США и в широких слоях американского народа все чаще высказываются опасения, что огромные военные расходы и сокращение ассигнований на социальные нужды могут привести к серьезным осложнениям как внутри страны, так и в отношениях США с другими государствами.
Некоторые американские газеты утверждают, что Пентагону сейчас приходится обороняться от протестующей общественности. Но мы, пройдя 28 километров по коридорам этого самого большого в Америке административного здания, не заметили тут тревоги по поводу общественной критики. На лицах военных было написано отчетливо: «На том стояли, на том стоим, на том стоять будем!»
В самом деле, Пентагону не на что пожаловаться. Если в 1969 году конгресс отпустил ему 71,9 миллиарда долларов, то в государственном бюджете на 1979 год военному ведомству предусмотрено уже почти 130 миллиардов долларов.
…Когда мы выходили из Пентагона, демонстрантов, читавших списки убитых во Вьетнаме, уже не было. Трещал, гнал волны ветра вертолет, к открытому люку которого подходило трое офицеров. К запястью руки одного из них был прикован тонкий портфель из коричневой кожи.
«Коричневые» с 33-й стрит
По тротуару топали фашисты. Человек двадцать. Колонной по четыре в ряд. Коричневые гимнастерки со свастикой на рукавах были перетянуты портупеями. Икры ног облегали блестящие кожаные краги.
Был жаркий летний день. Фашист в первой шеренге на ходу пил кока-колу из горлышка бутылки. Другой фашист жевал резинку. Третий тащил транзисторный приемник, из которого рвалась на простор лихая ковбойская песня.
Вы, наверное, уже догадались, читатель, что вся эта сцена происходила не в Германии, а в Соединенных Штатах Америки. А если еще точнее — в Вашингтоне, на Пенсильвания-авеню, недалеко от Белого дома. Время действия — наши дни.
На каждом углу от колонны отделялся один фашист, выбирал место в тени и принимался раздавать прохожим листовки. В этот жаркий полдень прохожих было мало. Некоторые брали листовки, другие равнодушно проходили мимо. Рядом с фашистом, тоже в тени, стоял разомлевший от духоты полицейский и лениво поглядывал сквозь темные очки — то на фашиста, то на прохожих, то на меня, остановившегося неподалеку.
Потом нас стало четверо. Пожилая женщина молча подошла к фашисту и неожиданно плюнула в него. Думаю, что она метила в свастику, а попала в крагу на ноге. Полицейский укоризненно покачал головой и лениво произнес, обращаясь к даме:
— Нехорошо, мадам. Вы не имеете права плевать в людей.
— Я не плевала в людей, — ответила полицейскому женщина, выделяя слово «людей». — Не вижу перед собой никаких людей, — продолжала она с вызовом. — Этого нацистского подонка я не могу отнести к людям…
— Проходите, мэм, здесь нельзя останавливаться.
— Если здесь нельзя останавливаться, то почему он здесь торчит? — кивнула женщина в сторону штурмовика, который, нагнувшись, вытирал крагу носовым платком.
— У него есть разрешение полицейского управления.
— А нет ли у него разрешения построить тут газовую камеру? — издевалась над полицейским женщина. — Такого разрешения ему еще не выдало полицейское управление?
Привлеченные перебранкой, стали останавливаться прохожие. Полицейский вышел из тени и решительно поправил ремень, на котором висели пистолет и наручники.
— Мэм, я прошу вас пройти и не устраивать здесь митинга.
— Вы что, собираетесь арестовать меня?
— Я вынужден буду сделать это, — потерял терпение полицейский. — Вы нарушаете порядок! Вы собираете толпу!
— Значит, меня вы арестуете, а его оставите здесь, этого болвана со свастикой? — кипятилась женщина. — А вы знаете, оффисэр, что у меня брат погиб в Германии в 1944 году?..
— Я очень сожалею, мэм, но это печальное обстоятельство не дает вам права…
— Нет, вы только послушайте, — обратилась женщина к зевакам, призывая их в свидетели. — У меня права нет, а у фашиста есть! Это как же называется, хотела бы я знать?!
— Это называется демократией, мадам, — съязвил какой-то парень со связкой учебников под мышкой.
Женщина горько усмехнулась и, покачав головой, пошла вдоль Пенсильвания-авеню. Разошлись и зеваки. Фашист взглянул на часы, подошел к полицейскому и сказал:
— Жарко. Я бы кофейку сейчас выпил. Не подержите мои листовки, пока я в кафе схожу?
Полицейский оторопел от такой наглости. Он раскрыл рот, подыскивая, наверное, слова повыразительнее, но фашист опередил его.
— Ну зачем так волноваться, — сказал он миролюбиво. — О’кей, о’кей!
Проходя мимо меня, он протянул мне листовку. В ней говорилось: «Национальный альянс молодежи»— это растущая активная организация молодых мужчин и женщин, озабоченных судьбой страны и решивших взять судьбу Америки в свои руки. Мы боремся за установление нового социального порядка в США для того, чтобы показать пример всему миру.
Ниже был адрес организации: дом 1653 по 33-й улице.
Далеко идти не пришлось. Через тридцать минут я был уже у дверей штаб-квартиры «Национального альянса молодежи». Обыкновенный двухэтажный домик из красного кирпича, каких немало в Джорджтауне — старинном районе американской столицы. Над стеклянной дверью — табличка: «Судьба Запада». Больше ничего. Я сверил адрес. Все правильно.
Вхожу. Небольшая комната вся заставлена книжными полками. На стенах портреты Гитлера, Муссолини, Франко. А вот и американская галерея: сенатор Голдуотер, губернатор штата Алабама Джордж Уоллес, конгрессмен от штата Джорджия Лоуренс Макдональд и другие известные и неизвестные мне джентльмены.
Ну, а что же на книжных полках? Ого! Серьезная библиотека! Чего только здесь нет! «Как покончить с коммунизмом», «Руководство для снайперов», «Ручные гранаты и как ими пользоваться», «Организация уличных боев». Здесь же толстенная крига «Последние дни Романовых». К обложке прикреплена краткая аннотация: «Этот труд по-новому освещает причины революции в России, деятельность русских царей и их трагическую гибель».
Только теперь замечаю за столом молодого человека в штатском костюме и белой рубашке с галстуком, украшенным свастикой. Он внимательно следит за мной, но вопросов не задает и сам разговора не начинает.
— Можно взять? — спрашиваю я, показывая на кипу газет. Молодой человек кивает головой, отчего челка черных волос почти закрывает его левый глаз. Ни дать ни взять молодой фюрер. Только усиков не хватает.
Газета называется «В атаку».
— В атаку — на кого? — спрашиваю я.
Он мнется, не зная, говорить ли мне все или только часть правды.
— Мы атакуем наркотики, — начинает он нерешительно, — смутьянов в университетах…
— И все? — удивляюсь я.
Он смелеет.
— Нет, наша главная атака — на коммунизм, на либералов, на черных смутьянов, — чеканит он, поправляя челку. Он подробно рассказывает, что организация создана молодыми почитателями алабамского губернатора Уоллеса, который, как известно, был кандидатом в президенты США.
Молодой человек с челкой все еще, видимо, не знает, говорить ли мне всю правду. Мы ходим вокруг темы, вокруг да около главного, но так и не можем открыться друг другу. Он не спрашивает меня, кто я, а я не спрашиваю, о чем хочу спросить.
На мой вопрос, как сообщники губернатора Уоллеса собираются атаковать коммунизм, он неопределенно отвечает:
— Путем просвещения молодежи, путем рассылки книг о коммунизме, путем проведения митингов и демонстраций.
— И вы уверены в своей победе?
— Нет, конечно, — соглашается он, — так коммунизм не победишь. Мы знаем, что нам придется взять в руки оружие. И этот час когда-нибудь наступит. Мы готовимся к нему.
Ну что же, картина, в общем, ясна. Пора задавать главный вопрос. Я прошу моего собеседника назвать имена «фюреров».
— Если это не секрет, — добавляю я.
— Никакого секрета нет, — отвечает он. — Организацию возглавляют Роберт Ллойд и Уильям Пирс.
Вот наконец и все встало на свои места. Я ведь лично знаком с обоими руководителями.
Было это в пригороде Вашингтона.
Когда я подходил к этому дому, вспомнилось, как бывалый старшина учил нас, тогда еще не обстрелянных солдат. С силой бей по двери фашистского бункера ногой, наставлял нас старшина, и в распахнувшийся проем — ручную гранату. После взрыва — снова к двери. Веером из автомата. Длинной очередью от стены до стены. После этого, кто в живых останется, поднимут руки и будут гуськом выходить из бункера…
Домик и в самом деле чем-то напоминает бункер: приземистый, с плоской крышей, единственное окно глухо прикрыто жалюзи. В косяке стальной двери — светящийся электронный зрачок. Я поискал глазами кнопку и не нашел. В голове снова мелькнуло: ногой по двери и резким махом гранату… Но ведь сейчас не январь сорок второго и я не под Мценском, а в штате Вирджиния, в городе Арлингтоне, у дома № 2507, на улице Норт Франклин Роуд.
Таким образом, тактическая инициатива оставалась за ними: захотят — откроют дверь, захотят — не откроют. Они ведь здесь дома, а я чужой, война давно закончилась, и через плечо у меня не автомат, а портативный репортерский магнитофон.
Дверь открывается неожиданно. На пороге вырастает эсэсовец. На рукаве — свастика. На ремне — пистолет. Значок со свастикой над нагрудным карманом. Высокий. Голубоглазый. Белокурый…
Какое-то время мы молча смотрим друг на друга. Где я видел его? Под Мценском? Под Моздоком? Или в Донбассе? Фу ты, наваждение! Конечно, я видел не его, он еще слишком молод. Я видел подобных ему.
Он обшаривает меня взглядом своих холодных глаз, поправляет кобуру пистолета на ремне и спрашивает:
— Чем могу быть полезным, сэр?
— Корреспондент «Правды» хотел бы поговорить с кем-нибудь из руководителей партии, — отвечаю я.
В глазах его я улавливаю растерянность. Он нерешительно пропускает меня в комнату. На стене— огромный портрет Гитлера. По бокам — портреты поменьше: Джорджа Рокуэлла, бывшего местного «фюрера», убитого одним из своих же штурмовиков, и нынешнего «фюрера» Мэтта Келя. На другой стене — юбилейный отрывной, календарь с портретом Гитлера.
На диване корчится какой-то парень в разорванной рубахе с пятнами крови. На лбу кровавая рана, глаз заплыл, нос распух. Двое эсэсовцев прикладывают к ране салфетки и кубики льда. Парень подвывает от боли и сучит ногами.
— Так вы из «Правды»? — переспрашивает меня белокурый.
Он снимает трубку телефона, нажимает кнопку и, отвернувшись, вполголоса кому-то докладывает.
Появляется еще один, в штатском. Лет тридцати пяти. В роговых очках. Стрижен под ежик — излюбленный фасон американских военных. Представляется:
— Директор отдела информации и пропаганды доктор Уильям Пирс.
И снова молчаливый поединок. Наши взгляды перекрещиваются, как шпаги. За стеклами его очков я читаю: «Вместо интервью я бы с удовольствием поставил тебя к стенке».
«Ты боишься меня, — отвечаю я ему взглядом. — В конце концов мне наплевать на то, будешь ты со мной разговаривать или не будешь. Я не парламентарий с белым флагом. Но, откровенно говоря, я хотел бы получить интервью, чтобы рассказать б „Правде“ об американских фашистах».
— Есть политические деятели, которые пытаются уверить человечество, что фашизма будто бы больше нет, что фашизм мертв. К сожалению, находятся люди, которые наивно верят этому.
Последние две фразы я говорю вслух. И, кажет-се, я попадаю в точку. Доктор Геббельс (опять наваждение!) — не Геббельс, конечно, а доктор Пирс— возмущен: «Это мы-то мертвы?!»
— Но о вас так редко пишут в американских газетах, — сыплю я соль на рану Пирса.
Он приглашает меня в свой кабинет. Он полон решимости убедить меня в том, что фашизм жив.
Маленькая комната. Окно закрыто тяжелыми зелеными занавесями. Стеллажи с книгами. В глазах рябит от свастик на корешках и обложках. На стене портрет генерала в ушанке и меховой шубе.
— Командир дивизии СС «Адольф Гитлер» генерал Дитрих, — поясняет Пирс. — Снимок сделан на Восточном фронте.
— В России?
— В России.
— Почему именно портрет Дитриха вы избрали для своего кабинета?
— О, у него нам, молодым, есть чему поучиться.
— Чему поучиться? Ведь в России его здорово побили.
Доктор Пирс делает вид, что не расслышал. Он усаживается за стол и начинает лекцию. У него явно профессорские интонации. Еще несколько лет тому назад он читал лекции по физике студентам Орегонского университета.
Я прошу разрешения включить мой магнитофон.
— Пожалуйста, — неожиданно по-русски, хотя и с акцентом, говорит Пирс. И, заметив мое удивление, добавляет: — Простите, но я еще плохо говорить на русскин язык.
Мне кажется, что теперь я окончательно понял, почему в его кабинете висит портрет Дитриха, сделанный на русском фронте.
— Мы прямые наследники Гитлера, — говорит Пирс, — хотя у нас есть свои, чисто американские, национальные цели. В фундаменте нашей философии и практики — философия и практика Адольфа Гитлера.
Все это мне известно, но я терпеливо слушаю. И терпение мое вознаграждается.
— Несколько лет тому назад, — рассказывает Пирс, — на съезде в английском городе Котсуолде было создано всемирное объединение национал-социалистов. На учредительном съезде присутствовали нацисты из США, Англии, ФРГ, Австрии, Франции, Ирландии и Бельгии. Сейчас эта организация объединяет партии и группы фашистов уже из 25 стран. Штаб-квартира объединения — здесь, в штате Вирджиния, в Соединенных Штатах Америки. А доктор Пирс, ваш покорный слуга, — генеральный секретарь этой всемирной организации.
Он показывает мне деловую переписку с неофашистами из ФРГ. Письма на типографских бланках, сверху на бланках два светлых круга.
— Это места для свастики, — объясняет Пирс. — Наши партийные коллеги из Западной Германии в отличие от нас, американцев, пока еще не рискуют официально употреблять свастику в качестве своего символа.
Он дает мне листовку-программу, принятую на съезде в Котсуолде. В третьем параграфе раздела «Цели» записано: «Защищать частную собственность и частное предпринимательство от коммунистической классовой борьбы». В девятнадцатом параграфе раздела «Идеи» сказано: «Идеи классовой борьбы и равноправия наций должны быть уничтожены».
Он достает с полки журнал «Мир национал-социалиста», который издается здесь же, в этом вот домике-бункере. Тычет пальцем в статью «Документы большевистской революции». Торопясь, читает мне фотокопии донесений американских дипломатов и агентов американской разведки из России, охваченной пролетарской революцией. Пирс сам лично разыскал эти документы в архивах государственного департамента США и снабдил соответствующими комментариями.
Вот 5 июля 1918 года некто Гаррис пишет в государственный департамент США из Иркутска, занятого белыми: «Я рекомендую интервенцию против большевиков. Я предлагаю тщательно разработанную союзную интервенцию американских, французских, английских, китайских и, может быть, даже японских войск».
А вот некий дипломат сообщает в октябре 1918 года из Петрограда: «Я считаю, что немедленное подавление большевизма является сейчас самой главной задачей… Если большевизм не будет немедленно задушен в колыбели, он распространится в той или иной форме по всей Европе и даже, возможно, по всему миру».
А вот донесение представителя «Нэйшнэл сити бэнк оф Нью-Йорк» Стивенса, побывавшего в России в 1918 году: «Единственное решение русской проблемы — международная интервенция военной силой». Вот она, идеологическая и политическая платформа, на которой объединились банкир из Нью-Йорка, бесноватый «фюрер» из Мюнхена и бывший преподаватель физики из Орегонского университета.
— То, что не удалось сделать Гитлеру, — торжественно говорит Пирс, — должны сделать мы.
По мнению Пирса, Гитлер не до конца решил в числе прочих и еврейскую проблему. Не дошли у него руки до негритянской проблемы. Как собираются решать эти проблемы современные нацисты? Разумеется, теми же методами, что и Гитлер. Пусть на этот счет ни у кого не будет сомнения, кипятится Пирс. Еще строже будет поступлено с коммунистами и всякими там либералами.
— Мы создаем и тренируем ударные отряды штурмовиков, которым надлежит спасти белую арийскую расу, — еще торжественнее говорит Пирс, и за стеклами его очков зажигаются хищные огоньки.
Партия издает газету «Белая сила». В пяти городах США по телефону можно прослушать пропагандистские лекции, записанные на пленку. Пирс утверждает, что такие телефонные лекции слушают до 15 тысяч человек в неделю.
…Интервью окончено. Я возвращаюсь в комнату, где за столом сидит белокурый эсэсовец с пистолетом на боку. Только теперь замечаю, что пистолет у него не на солдатском ремне, а на широком ковбойском поясе. Эдакая дань американизму, что ли.
На диване корчится парень в разорванной рубашке. Грустно глядит на меня одним глазом — другой скрыт под повязкой.
— Где это тебя так? — спрашиваю.
— В школе имени Вашингтона, — стонет парень.
— За что?
— За Гитлера, нашего любимого фюрера…
— Дурачок ты, — говорю я ему как можно ласковее. — Жалко мне тебя.
Парень взвывает по-волчьи и елозит по полу ногами в белых кедах.
Между прочим, на днях в столичной газете «Пост» была опубликована заметка, которую я приведу здесь полностью: «Арестованы семь антинацистов. Из полиции нам сообщили, что семь человек, в том числе двое подростков, были арестованы вчера за то, что они пытались помешать группе людей, одетых в форму нацистов, распространять литературу по Висконсин-авеню. Эти семеро не подчинились приказу полиции разойтись и продолжали выкрикивать грубости в адрес дюжих мужчин в коричневых рубашках и с нацистской свастикой на рукавах».
Так что этому дурачку, побитому сверстниками в школе имени Вашингтона, просто не повезло. Будь рядом полицейские, они бы схватили за шиворот тех, кто не хотел слушать о «нашем любимом фюрере».
И вот еще что. В те дни, когда я беседовал с доктором Пирсом, я был как бы под «домашним арестом»: американские власти «на неопределенное время» запретили корреспонденту «Правды» выезжать из Вашингтона дальше 25 миль. Во избежание недоразумения мне пришлось довести до сведения государственного департамента и федерального бюро расследований, что штаб-квартира «всемирного объединения национал-социалистов» расположена в 15 минутах езды от центра Вашингтона.
Я начал отсчет от здания министерства юстиции, и спидометр в моей машине показал всего лишь четыре мили с небольшим. Так что запрета я не нарушил.
Фашисты — это только одна из разновидностей американских «ультра». Таких организаций более сотни, и объединяет их всех махровый антикоммунизм.
В основе антикоммунизма лежит страх. Порой он принимает форму умопомешательства, иногда тихого, иногда буйного. Работая в Америке, я знал многих людей, подверженных этой болезни. С некоторыми из них мне довелось жить в одном доме. Я помню, например, мадам Коуртни, в нарядах которой вы не нашли бы ни одной красной нитки.
— Когда я вижу красное, со мной делаются судороги, — откровенничала со мной мадам Коуртни. — Единственное красное, что обрадовало бы мои глаза, это кровь убитого коммуниста.
Я помню господина Крайла, который на автозаправочных станциях всегда требовал «антикоммунистического» бензина. Изумленным заправщикам он пояснял, что ему нужно горючее, «которое бы сожгло коммунистов во всем мире».
Однажды в одном из городских парков в штате Флорида было обнаружено дерево с медной дощечкой на нем: «Это дерево было посажено в честь великого гуманиста Владимира Ленина». Местные ультрапатриоты пришли в ужас. Дощечка была сорвана, расплавлена и под вой бизнесменов, отставных офицеров и полусумасшедших старух утоплена в озере.
Чикагский промышленник Клаус тоже не выносит красного цвета. Он чуть не сошел с ума от ярости, когда обнаружил, что модернистские скульптуры, заказанные им для украшения его особняка, выкрашены в красный и розовый цвета. Одни скульптуры Клаус разбил, другие собственноручно перекрасил в коричневые и зеленые.
Свихнувшиеся на антикоммунизме мадам Коуртни, господа Крайл и Клаус называют себя «первой линией обороны против коммунизма». Народ называет их «пещерными жителями».
Помню, как лет пятнадцать назад 18 тысяч таких вот «пещерных людей» собрались в нью-йоркском зале «Мэдисон-сквер гарден». Участники сборища жаждали крови. В накуренном зале висела тяжелая брань вперемешку с молитвами. Сенаторы Голдуотер, Тауэр и Тормонд последними словами поносили неких «либералов», будто бы ответственных за провалы внешней политики США, и требовали нового, «сокрушительного» наступления на коммунизм. «Мы хотим войны!» — визжали с галерки возбужденные девицы неопределенного возраста.
— Война уже началась! — браво рявкнул им в ответ конгрессмен Дональд Брюс. По его знаку на трибуну взобрался редактор журнала «Нэшнл ревью» Бозелл и громко объявил… приказ:
— Начальникам объединенных штабов: завершить приготовления для высадки на Кубу.
— Командующим войсками США в Германии: прорвать границу между Западным и Восточным Берлином.
— Глазе комиссии по атомной энергии: немедленно начать ядерные испытания в атмосфере.
— Главе Центрального разведывательного управления: ускорить организацию подрывных сил против социалистических стран.
Было очень смешно смотреть, как старенький, тощий редактор, не сходя с места, «уничтожал» коммунизм от Москвы до Гаваны. Не знаю, какие чувства испытывал при этом корреспондент газеты «Крисчен сайенс монитор», но в своем репортаже он написал, что митинг «ультра» был похож на ярмарку скота, в котором приняли участие честолюбивые политиканы, антикоммунистические святоши, расисты и хулиганы.
На этом сборище я впервые увидел Роберта Уэлча — еще одного американского фюрера.
Фотографии этого бледного седого господина с колючими глазами и большими оттопыренными ушами до сих пор то и дело появляются в американских газетах и журналах. Он много путешествует по стране, пользуясь личными самолетами своих богатых друзей. Когда он, опустив очи и безмолвно шевеля губами, сходит с самолета и направляется к ожидающей его машине, его можно принять за баптистского проповедника. Но в кругу единомышленников он преображается. Приподнимаясь на цыпочки, потрясает кулаками и кричит до хрипоты. Речи его длятся иногда пять-шесть часов и посвящены одной и той же проблеме: как спасти Америку от коммунизма?
Когда-то он был совладельцем крупной компании по производству конфет. Теперь руководитель ультраправого «Общества Джона Бэрча».
Рассказывают, что ветреным утром 8 декабря 1958 года к роскошному особняку в пригороде Индианаполиса один за другим подъехали пятнадцать «кадиллаков». Их встречали на улице хозяин особняка и Роберт Уэлч. Когда гости собрались «за круглым столом», Уэлч обратился к ним с речью:
— Джентльмены, вы альфа и омега Америки. Я знаю, вы разделяете мое мнение, что угроза коммунизма велика, как никогда. У нас в запасе лишь несколько лет. Мы еще не погибли, но уже стоим на опасном перекрестке.
Совещание продолжалось два дня. Поздно ночью охрипший Уэлч поднял бокал с шампанским за успех только что созданного «Общества Джона Бэрча».
— Третья мировая война, война против коммунизма, началась в день окончания второй мировой войны. И первой ее жертвой был капитан Джон Бэрч. Его именем мы и назовем нашу организацию, — провозгласил «фюрер».
До этого американцы даже не знали, что существовал когда-то Джон Бэрч. Сперва он был баптистским миссионером в Китае. В 1945 году, к великому изумлению некоторых наивных его друзей, он неожиданно предстал перед ними в военной форме с погонами капитана. Оказалось, что тихий баптист давным-давно служит в американской разведке. В том же году, говорят, он был убит в стычке с китайскими крестьянами.
Журналисты разыскали людей, которые помнят, что в свое время студент Джон Бэрч, будущий американский шпион в Китае, написал донос на своего 75-летнего профессора. В доносе говорилось, что профессор в частной беседе выразил сомнение в существовании Адама и Евы. Несчастного старика разжаловали и уволили из университета. За это студенты хотели вывалять Бэрча в смоле и перьях и пронести его по улицам на шесте, но будущий «герой» предусмотрительно сбежал из родного города под покровом темноты. И вот теперь его имя сияет на знамени американских «ультра».
Общество его имени — полусекретная организация. Но бэрчисты в общем-то не скрывают своих целей и методов.
— Америку нужно взять за шиворот и как следует встряхнуть, — говорит Уэлч. Это расшифровывается так: американских коммунистов — в тюрьму, сторонников политики разрядки — в кандалы, профсоюзы распустить, университеты «почистить».
Я хотел встретиться с Уэлчем, но мне отвечали, что он не желает разговаривать с коммунистом.
В штаб-квартире организации я все-таки побывал. Она размещается в двухэтажном кирпичном здании в городе Бельмонт, В штабе работают около 50 человек. Они целый день печатают на машинках, на ротаторах, беспрерывно звонят по телефонам, встречают и провожают курьеров. У двери одной из комнат стоят Два дюжих верзилы — охрана «фюрера». Друзья предупредили меня, что охранники, если узнают, кто я такой, проломят мне голову.
На этой же улице — здание почты. Начальник почты говорит, что «общество» его самый крупный клиент.
— Три раза в день они приносят по мешку почты, — рассказывает начальник.
Что в конвертах — известно: угрозы и доносы, инструкции и листовки.
Однажды кто-то предложил расследовать деятельность «общества».
— Ну что же, — отозвался сенатор Голдуотер. — Начните с конгресса, и вы увидите, какой будет тарарам!..
Голдуотер просто намекнул, что многие члены конгресса являются активными членами «Общества Джона Бэрча». Расследование не состоялось.
Джордж Ваннесс уже немолодой человек. В свое время он служил в морской пехоте, и уж кто-кто, а он-то знает, как стрелять из снайперской винтовки и метать гранаты. В отличие от обитателей кирпичного домика на 33-й улице он не собирается заманивать в свою организацию молодых людей обещанием борьбы против наркотиков. Подпольная штаб-квартира у него строго засекречена. Где она находится, никто не знает. Когда он решил поговорить с репортерами, то пригласил их в загородный ресторан в штате Мэриленд недалеко от столицы. Я узнал о предстоящей пресс-конференции от коллег из агентства ЮПИ.
Джордж Ваннесс, весьма упитанный мужчина с распахнутым воротом и типичным армейским ежиком на голове, не спеша попивал кока-колу и непринужденно рассказывал:
— Когда красные высадят десант, мы уйдем в горы, леса и болота. Мы будем вести партизанскую войну. Этому мы сейчас и обучаем членов нашей организации «Минитмен». Недавно мы провели маневры в горах под кодовым названием «Варфоломеевская ночь»…
Он подождал, пока мы запишем его слова. Журналистов, кроме меня, было еще трое. Точнее, считалось, что их шесть человек, но после пресс-конференции выяснилось, что двое из присутствовавших лишь прикидывались журналистами, а на самом деле были агентами Федерального бюро расследований (ФБР). Они сидели за отдельным столиком позади Ваннесса и изо всех сил вытягивали шеи, чтобы не пропустить мимо ушей чего-нибудь важного. Один из агентов потом сказал репортерам явную ложь:
— А мы в ФБР думали, что эта организация уже распалась.
Тем временем Ваннесс продолжал свой рассказ:
— Группа, что недавно проводила маневры в горах, имела два полевых передвижных госпиталя, четыре мобильные радиостанции и одно мобильное электронно-вычислительное устройство для нужд разведки и контрразведки.
— Сколько же человек принимало участие в маневрах? — спросил журналист.
— Это военная тайна, — мягко улыбнулся Ваннесс, — но могу сказать, что наша организация насчитывает 163 тысячи бойцов. 86 процентов из них — бывшие морские пехотинцы, бывшие солдаты и офицеры специальных войск «зеленые береты». Много членов ку-клукс-клана.
— Чем вы вооружены? — спросил другой репортер.
— Всем, чем надо, от пистолетов до пушек, — ответил Ваннесс и провел ладошкой по своему армейскому ежику. Потом бывший морской пехотинец разошелся. Отодвинув от себя стакан и тарелку, он постукивал волосатым кулаком по столу и перечислял «внутренних врагов», которых «минитмены» держат на мушке. В этом списке были коммунисты, «мирники», студенты, негры, сенаторы, выступающие за разрядку международной напряженности, либеральные журналисты. И чем больше, чем сердитее он говорил, тем яснее становилось, что не к отражению мифического десанта «красных» готовятся «минитмены», проводя свои маневры в горах и лесах, а к подлинной варфоломеевской ночи, во тьме которой они мечтают залить землю Америки кровью «внутренних врагов».
Страх перед будущим вызывает у крупного капитала США тоску по фашизму. Капиталистов охватывает ужас при виде могучей притягательной силы идей коммунизма. Даже самые твердолобые начинают понимать, что время работает не на них, что будущее за коммунизмом. «Невыносимо видеть, как Америка сползает со своих позиций руководства миром, — пишет журнал бэрчистов „Америкэн опинион“. — Наша неспособность остановить это сползание вызывает горькое отчаяние».
Много огорчений доставляет антикоммунистам американская молодежь, особенно студенты. Юноши и девушки хотят знать, что такое коммунизм. Когда в колледже города Монмаунт был введен обязательный курс антикоммунизма, студенты заявили: «Мы отказываемся обсуждать вопросы, связанные с идеологией коммунизма, без участия в дискуссии самих коммунистов». К ужасу «ультра», студенты почти каждого университета стали приглашать к себе в аудитории коммунистов.
— Университет, который не разрешает коммунисту говорить, рискует превратиться во второразрядное учебное заведение, — признался президент Орегонского университета.
Однажды Институт общественного мнения Гэллапа провел опрос среди молодежи: «Что вы думаете о коммунизме?» Результаты опроса буквально ошеломили «ультра». К своему удивлению, они обнаружили: около 45 процентов опрошенных считают, что коммунизм значительно укрепит свои позиции в мире в течение ближайших 25 лет, в то время как позиции капитализма будут ослабевать.
Вот почему и мечется придурковатый господин Крайл в поисках горючего, которое бы ослепило идеи коммунизма во всем мире. Вот почему замучила бессонница Роберта Уэлча, маленького американского «фюрера» из города Белмонт.
В северном штате
Эскимосская лайка рычала под лавкой, куда хозяин загнал ее лыжной палкой. Нервная дрожь волнами пробегала по собачьему телу, собирала складки у носа, обнажала крупные белые клыки.
— Ненавидит людей, — сказал хозяин. Он разливал кофе в эмалированные кружки. В чугунной печке, стоявшей посредине комнаты, жарко бился огонь. «Чикаго, 1912, Бр. Уайт» — прочитал я отлитые на черном боку слова.
За окном нависали полярные сумерки. Припорошенная снегом тундра сливалась с тусклым небом. У соседнего домика одиноко стоял вертолет, на котором мы прилетели сюда.
— Вы не поверите, — мотнул хозяин головой в сторону собаки, — к волкам относится лучше, чем к людям.
И вдруг собака чего-то испугалась. Она прижала уши, метнулась из-под лавки в угол и заскулила. Прошли секунды, прежде чем мы услышали сперва тихий, затем стремительно нарастающий грохот турбин гигантского транспортного самолета «Геркулес». Он заходил на посадку, и в доме дрожали стекла.
— Оккупанты, — кивнул хозяин в сторону грохота. Сунул полено в печку и пояснил — Нефтяников у нас на Аляске зовут оккупантами. Их легко узнать: стальные каски, высокие ботинки, оклахомский или техасский акцент. Это, так сказать, солдаты. Генералы, как и полагается, далеко отсюда — в офисах нефтяных компаний. Нравы у них жестокие. Сметают все на своем пути. Селение алеутов? Под откос! Рыбный промысел эскимосов? К черту! Охотничьи угодья индейцев? Под бульдозер! А чем тогда жить алеутам, эскимосам и индейцам? До этого никому нет дела. Всем им скоро конец, все они при последнем издыхании. Нефтяные компании их добьют. У меня такое ощущение, что я присутствую на собственных похоронах. Я ведь алеут. Единственный алеут-учитель на сотни миль вокруг…
…Лайка в углу снова тихо заскулила. На посадку шел еще один «Геркулес».
В баре города Анкориджа сосед за стойкой спросил:
— Вы не из нефтяной компании? Ну и хорошо. Не люблю этих сукиных сынов… Давно у нас? Не помешаю своей болтовней? Я в полиции работаю. Зашел, знаете, после работы расслабиться. На четвертой авеню все бары битком набиты. Кругом нефтяники. Они у Полярного круга вкалывают две недели без выходных, а потом их «Геркулесами» везут в Фэрбенкс или к нам на отдых. Все, что заработали там за две недели, все у нас и оставляют. Говорите, хорошо для процветания города? Да уж куда лучше! Настоящий экономический бум. Владельцы баров не нарадуются. Домовладельцы в восторге: теперь дешевле четырехсот долларов в месяц комнату не сыщешь. Лавочники вне себя от счастья: за год цены на все поднялись чуть ли не в два раза. Владельцы поликлиник потирают руки: доходы растут — только больных венерическими болезнями стало в десять раз больше. А уж проституцию и преступность я не знаю какими процентами измерять. Проститутки и бандиты со всех штатов буквально хлынули на Аляску. Вторая золотая лихорадка, да и только! Мы гордились тем, что здесь нравы чище, чем в «нижних штатах», мораль выше, чем в остальной Америке. А нынче— куда там! Не города, а вертепы. Знаете, еще недавно жители сельских районов собирали подписи под петициями, требовали связать их дорогами с городами. Теперь бьют отбой. Просят прекратить строительство дорог там, где оно уже начато… Вот так-то! Кому бум, а кому слезы горькие.
…Этот разговор я записал несколько лет тому назад. А не так давно в журнале «Ньюсуик» прочитал: «Нефтяной бум не искоренил ужасающей бедности в некоторых районах Аляски. Местные жители сожалеют о переменах, происшедших в укладе жизни штата. Продолжают расти преступность и проституция. Свирепствует инфляция: в Валдизе в 1971 году дом на одну семью стоил 40 тысяч долларов, а сейчас 80 тысяч долларов. Цена буханки хлеба подскочила до 1 доллара 13 центов».
Земли, в недрах которых была открыта нефть, когда-то принадлежали эскимосам, алеутам и индейцам. Затем ими завладели власти штата. На торгах в Анкоридже нефтяные компании купили эти земли, заплатив Аляске 900 220 590 долларов. Это было просто сказочное богатство, если учесть, что весь годовой бюджет Аляски составлял тогда 154 миллиона долларов.
На какие цели израсходовать эти деньги? Боже мой, каких только проектов не было! Тогдашний губернатор Кэйт Миллер говорил мне, что «аляскинцы ведут себя, как члены семьи, которая выиграла по лотерее. Каждый предлагает свое. Построить монорельсовую дорогу за Полярный круг и возить туда туристов. Перестроить столицу Аляски Джуно так, чтобы в Техасе и Оклахоме от зависти лопнули».
На этом конкурсе великолепных идей как-то затерялась мольба аборигенов Аляски: помогите нам, спасите нас от вымирания!
Задним числом о них вспомнил журнал «Тайм», который писал: «57 тысяч алеутов, эскимосов и индейцев — одна пятая всего населения Аляски является, пожалуй, самыми бедными и обездоленными гражданами США. Разбросанные по всему штату и проживающие примерно в двухстах грязных, нищих поселках, они, по сути дела, исключены из экономической жизни штата. Для этих коренных жителей Аляски характерны ужасающе низкий уровень жизни и полное отсутствие возможностей для ее улучшения. Средняя продолжительность их жизни — 35 лет».
Подсчитано, что чистая прибыль компаний, начавших получать нефть с Аляски, обещает составить от 5 до 8 миллионов долларов ежедневно.
А что получат простые люди? Журнал «Нэшнл джиогрэфик» пишет: «Казалось, доля Аляски в нефтяном буме — доходы от аренды и отчислений — послужит процветанию штата. Мечтали о школах, больницах, аэропортах и дорогах, о лучшей жизни после стольких лет прозябания в хижинах. Ничего этого не случилось. Остались и хижины, и трущобы».
Не так давно губернатор штата Джей Хэммонд беседовал с журналистами.
Вопрос: Губернатор Хэммонд, как нефтяные богатства меняют Аляску?
Ответ: Трезво оценивая положение, следует ожидать и плюсов, и минусов… Наряду с экономическим развитием наблюдается перенаселение, рост цен и преступности. Надеюсь, что мы когда-нибудь сможем решить проблему безработицы, уровень которой традиционно является на Аляске самым высоким по стране, и повысить жизненный уровень в сельских районах штата, по сравнению с которыми в Аппалачах царит изобилие[3].
Вопрос: Вы хотите сказать, что Аляске не суждено стать нефтяным королевством внутри Америки?
Ответ: На мой взгляд, на Аляске существует трезвое понимание того, что нам не грозит опасность утонуть в роскоши. Нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем поднять многих жителей штата хотя бы до среднего экономического уровня XX века.
Аляскинский нефтепровод строили 8 лет. Это была гигантская работа. Он протянулся на 1300 километров через тундру, леса и болота, через два горных хребта, через 23 большие и 124 малые реки. На строительство его истрачено около 8 миллиардов долларов.
Можно было предположить, что такое большое строительство втянет в свой круговорот сотни коренных жителей, даст им работу, обучит новым профессиям. Но этого не произошло. Аборигены и тут оказались обделенными.
— У нас достаточно и белых рабочих, — сказали мне в одной из контор строительства нефтепровода. — Готовить специалистов из эскимосов? Тратить на это время и деньги? Это же абсурд!
Еще в 1975 году в провинциальных американских газетах появилось объявление: «Мы верим, что вам нужна Аляска. Но поверьте и нам — вы Аляске не нужны. Если вы надеетесь найти на Аляске работу, забудьте об этом. Работы там нет».
В чем дело? В том, оказывается, что, прослышав о строительстве нефтепровода, на Аляску хлынули безработные из «нижних штатов». Но они оказались «лишними людьми», которых и без того немало в этих краях. В Анкоридже и Фэрбенксе тысячи приезжих ночевали на полу в церквах и государственных учреждениях. Маялись неделями, продавали с себя последнее, чтобы не умереть с голоду, и в конце концов, прокляв Аляску, уезжали назад. Для них бум тоже кончился, так и не начавшись.
Серый полярный вечер не спешил уступать окрестную тундру ночи. Пилот вертолета, на котором нам предстояло возвращаться в Анкоридж, прогревал мотор. Ветер от лопастей гнал над озером снежную пыль. Поодаль над лункой во льду сгорбилась на деревянном ящике старуха эскимоска, укутанная в тряпье до самых глаз. Парнишка лет десяти собирал в мешок прихваченную морозцем рыбу и гортанно покрикивал на скачущих здесь же ворон.
— Никогда не видел тебя, — обратился мой спутник к мальчику. — Ты чей?
Тот шмыгнул носом и промолчал.
— Это мой внук, — ответила за него старуха. — Великий дух забрал его родителей, и теперь мальчишка будет жить у меня. Но ты не приставай к нему, учитель. Оставь его в покое.
— Ему надо учиться, — возразил мой спутник. — Ты приведешь его завтра в школу, бабушка Нэн.
— Чему учиться? — насмешливо спросила старуха, поворачиваясь на ящике к учителю. — Все твои ученики возвращаются в тундру и забывают все, чему ты их учил. Ты помнишь моего старшего внука? Он учился у тебя и верил тебе. Он на что-то надеялся, но ничего не случилось, и он остался тем же эскимосом, какими были его дед и отец. И я слышала, как он плакал по ночам. Ты знаешь, почему он плакал? Я скажу тебе, учитель. Он понял, что ты обманул его. Наука белых людей — не для нас. Поэтому оставь в покое моего младшего. У меня еще есть силы, и я сама научу его ловить рыбу и ставить капканы…
Мальчуган шмыгал носом и замахивался рукавичкой на ворон, ждущих, когда старуха кинет им мелкую рыбешку.
Пилот выключил разогревшийся мотор вертолета, и меня оглушила тишина…
Суровая зима
Я стоял у окна в номере гостиницы и смотрел на Коннектикут-авеню. Всегда такая оживленная, улица теперь была пуста, как во время воздушной тревоги. Внезапно начавшийся ветер опрокинул и покатил по тротуару железный мусорный чан. Ветер раскачивал фонари, гнул к крышам телевизионные антенны. На углу топтался сумасшедший старик, которого я видел там еще утром. Ветер раздувал его седые космы, трепал полы старого пальто, забивался в широко раскрытый беззубый рот. Старик что-то кричал, переступая по снегу босыми ногами. Рваные башмаки он тащил за собой на длинной веревочке.
Я не слышал, что кричал старик. У меня в комнате был включен телевизор. Передавали предупреждение бюро погоды. «Не рекомендуем выходить или выезжать из дома… Барометр стремительно падает… В Питсбурге в течение часа температура упала на 8 градусов… Снег идет уже в пригородах столицы… Закрыты для движения дороги № 70, № 123, № 7…»
Потом показали город Буффало. Метель… Сплошная снежная пелена… Силуэты людей, борющихся с ветром… Голос диктора: «Семнадцатый день без перерыва… Свыше четырех метров снега…»
Репортаж из Кливленда. Вертолет с красным крестом садится около больницы. Привезли обмороженных фермеров. Старик на носилках. У него гангрена, будут отнимать ноги. Двое санитаров с трудом отрывают его от плачущей женщины.
Голос диктора: «В одиннадцати штатах кончается топливо. Одно за другим закрываются промышленные предприятия. С января уволено уже около трех миллионов человек…»
Кабинет помощника президента по вопросам энергетики Дж. Шлесинджера. «Если не потеплеет, придется отключить газ от жилищ во многих районах страны, — говорит он репортерам, посасывая потухшую трубочку. — Кто-то правильно заметил, — продолжает Шлесинджер, — что энергетическая политика предыдущего правительства состояла в основном из молитв о теплой погоде. Увы, этой зимой молитвы не были услышаны».
На экране автострада в штате Индиана. Она мертва. До самого горизонта — занесенные снегом, брошенные автомашины, их не меньше четырехсот…
Нефтяные баржи, вмерзшие в лед Чезапикского залива. Голос диктора: «Никто не помнит, чтобы залив замерзал когда-либо в прошлом».
Квартира в Нью-Йорке. Лед на кухонном полу. Сосульки под раковиной… Полицейские выносят трупы старика и старухи. «Они укутались, чем могли, и заснули, — рассказывает репортер, — но это был не сон, это была смерть».
Репортаж из штата Западная Вирджиния. Военные склады оборудуют под «убежища от холода» для тех, у кого уже нечем топить. Раскладушки, серые армейские одеяла. Растерянное лицо губернатора. «У нас есть план на случай ядерной войны, — говорит губернатор, — но никто не знает, что делать, когда кончается топливо…»
Я отрываюсь от телевизора и бросаю взгляд в окно. Темнеет. Снежная крупа стучит по стеклу. Сумасшедший старик привязывает башмаки к столбу и неистово грозит им пальцем…
Ну, а теперь отойдем от окна, приглушим вместе с телевизором эмоции и займем позицию исследователя, для которого факты важнее страстей.
Начнем с того, что в тот тревожный вечер в Вашингтоне ничего страшного не случилось: снежный ураган до столицы не дошел, выдохся в Аппалачских горах. Но Питсбургу досталось здорово. На раскопки города от снега пришлось бросить войска. На следующее утро на вертолете туда слетал президент Дж. Картер. «Никогда в жизни не видел столько снега», — признался президент, выросший на юге-
В тот же день президентским указом 11 штатов, в которых проживает примерно четыре пятых всего населения США, были объявлены «районами бедствия». Губернатор штата Огайо, где из-за нехватки топлива остановились чуть ли не все промышленные предприятия и работу потеряли свыше миллиона человек, воскликнул: «Мы стоим на грани катастрофы. Похоже, Америка буксует на краю пропасти!»
Почему же забуксовало такое мощное и развитое государство? Оттого ли, что где-то в пути застряли цистерны с нефтью и задержались платформы с каменным углем? Но ведь такое бывает и в других странах. Зима везде нелегкое время года. Уж мы-то с вами знаем это. Но вот послушайте, что писал из Москвы корреспондент буржуазного журнала «Тайм»: «На улице мороз. Идет снег. Однако на лицах москвичей нет этого панического, жуткого выражения „боже, спаси нас!“, свойственного парализованным холодом ньюйоркцам и чикагцам».
Разумеется, следует учитывать, что географически Америка, исключая Аляску, лежит южнее параллели, на которой расположен Киев. Следовательно, страна эта сравнительно южная, и морозы в 10–20 градусов по Цельсию, отмеченные в некоторых районах США зимой 1977 года, бывают там раз в сто лет. Но это лишь часть картины. Это, так сказать, внешняя сторона явления. Суть же явления в другом. Суть нужно искать в социальной и экономической сферах.
Два сообщения в февральском выпуске журнала «Тайм». Первое — из Москвы: «Большинство домов здесь получают тепло по трубам центрального парового отопления. Основное горючее в СССР — природный газ. Говорят, что Советский Союз обладает одной четвертой частью всех мировых ресурсов природного газа. И тем не менее в СССР существует широкая и очень строгая государственная программа экономного расхода энергетических запасов».
Второе сообщение из Нью-Йорка: «Самое тяжелое — нехватка топлива, которое, попросту говоря, мы безумно растранжирили. По всей восточной части Америки запасы природного газа, предназначавшиеся на февраль и март, кончились уже в январе».
Помните электрический домик мистера Рипли, описанный И. Ильфом и Е. Петровым в «Одноэтажной Америке»? В нем были такие электрические приборы: сигнальные, отопительные, охладительные, очистительные, осветительные, моющие и приготовляющие пищу, стирающие и еще бог знает какие. В 1935 году казалось, что начавшейся электрической эре не будет конца.
С тех пор много утекло воды. А еще больше — электричества. Последние сорок лет Америка жила «не оглядываясь на счетчик», хотя и электрический, и газовый, и другие счетчики стоят в каждом жилом доме и в каждом учреждении. Частные компании, производящие энергию, в погоне за прибылями буквально навязывали ее потребителям. Колодец, из которого черпали энергию, казался бездонным. Исходили из принципа: «На наш век хватит, а там хоть трава не расти!»
Первые признаки тяжелой болезни проявились раньше, чем ожидали. Зимой 1974 года Америка испытала судороги «нефтяного голода». Едва-едва справились с бедой, и вот — «газовая гангрена» зимы 1977 года.
Подсчитано, что шесть американских домов из каждых десяти обогреваются природным газом. Половина промышленных предприятий США работают на природном газе. Газа требуется все больше и больше, а что-то не слышно, чтобы в строй входили новые скважины, строились новые газопроводы. С 1967 года запасы газа в стране сократились на 25 процентов. Американские экономисты, предчувствуя беду, бросали встревоженные взгляды в сторону офисов газовых компаний, но оттуда слышалось одно и то же: «Пусть конгресс сначала отменит контроль над ценами на газ. Не отменит — пожалеет».
Хозяева компаний утверждали, что контроль над ценами, ограничивающий их аппетиты, якобы лишает их средств, необходимых для разведки и ввода в эксплуатацию новых месторождений газа. Одновременно в офисах газовых компаний внимательно изучали долгосрочные прогнозы погоды: ждали зимы, когда Америка встанет перед ними на колени. И — дождались.
Уже в начале января, израсходовав запасы топлива, стали закрываться школы. За ними пришла очередь больниц. Перестали отапливаться магазины. Не снимали пальто в учреждениях. Но это были только цветочки. В конце января стали закрываться заводы и фабрики. Бедняки, особенно старики, стали замерзать в нетопленных домах.
И Америка приняла ультиматум «газовых баронов». Они добились своего: конгресс «на время» отменил контроль над ценами, санкционировав таким образом ограбление населения.
Я был в те дни в Атланте (штат Джорджия). Хотел повидаться с губернатором Дж. Басби, он обещал принять, но встречу все время откладывали: губернатор был занят 18 часов в сутки. Губернаторские помещения в капитолии были похожи на штаб армии, попавшей в окружение. Помощник губернатора Норман Андервуд, в кабинете которого я коротал время, то и дело принимал по телефону сообщения о прекращении поставок газа в те или иные районы штата, о закрывающихся предприятиях, о новых увольнениях рабочих. «Около тысячи ферм вокруг Атланты остались без топлива, — говорит он мне. — Нужно разместить где-то 2700 человек, иначе они замерзнут».
Мы заговорили с мистером Андервудом об отмене контроля над ценами. «Ну, теперь они попьют крови как следует, — сказал он о хозяевах газовых монополий. — Чем холоднее будет, тем больше они наживутся».
Принесли газеты и журналы. Я развернул столичную «Вашингтон пост». Заголовки на первой странице: «Газовый кризис закрыл фабрики до апреля». «5000 новых безработных в штате Вирджиния в день». «Сотни тысяч подтягивают пояса». Последний заголовок — в репортаже из Балтимора. Репортер Билл Петерсон писал: На бирже труда — 15 огромных очередей. Чарльз Ньюлин, 36 лет, сказал мне: «Не знаю, когда нас снова возьмут на работу. Они говорят, что увольняют из-за нехватки газа. Но хозяину дома, где я снимаю квартиру, все равно, есть у нас на заводе газ или нет. Ему гони деньги за квартиру. А где я их возьму?»
Листаю местную газету «Атланта конститьюшн». Заголовок: «Прежде чем взглянуть на счет за газ, присядьте». Репортаж начинается так: «Глэдис Пауэл прислали счет на 86 долларов. Ларри Вудспигу — на 127,50 доллара. Джорджу Басби, нашему губернатору, — на 256 долларов. Это за январь. А что будет в феврале? Страшно подумать. Никогда еще плата за тепло не была так высока».
Беру журнал «Ньюсуик»: «Нехватка топлива чревата очень неприятными экономическими последствиями. Безработица растет так быстро, что власти штатов уже потеряли счет уволенным. Кризис резко снизил покупательную способность сотен тысяч американцев, и это объясняется не только потерей работы, но и ростом цен на сам природный газ… Многие экономисты считают, что из-за „газового кризиса“ прирост валового национального продукта сократился за две недели примерно на 2 процента. Если такое сокращение будет продолжаться, мы недосчитаемся в валовом национальном продукте нынешнего года 35 миллиардов долларов».
Я вернулся в Вашингтон. Здесь тепло. Но беды американцев не кончились. Возможно, они только начинаются. Газеты пишут, что предстоящее таяние снегов может вызвать невиданное доселе наводнение. Это на востоке страны. К западу же от Миссисипи в плодородных прериях ожидают засуху. Оказывается, там выпало рекордно малое количество снега.
По телевидению передавали репортаж из Флориды. Там погибли плантации овощей и до двух третей всех цитрусовых. Мелкие фермеры в панике.
Странный мир! Что плохо для одного — «божий дар» для другого. Ожидали рекордный урожай апельсинов — на 18 процентов больше, чем в прошлом году. Монополисты боялись, что придется снижать цены. Не пришлось. Помогла беда. Теперь цены, как объяснили в репортаже из Флориды, подскочат, по крайней мере, на 30 процентов.
Я беседовал со многими американцами и чувствовал, что они встревожены и смущены. Вспоминается разговор в Атланте с банковским служащим Робертом Ширером:
— Мы были такими гордыми, такими самоуверенными. Ну, еще бы — Америка! А вот поскользнулись, забуксовали — побелели от страха. Могучая Америка. И такая неожиданно уязвимая и беспомощная в пору испытаний…
Тем не менее Америка постепенно привыкает жить по-новому. Американцы привыкают запирать на ключ бензобаки своих автомашин от воров нового вида — похитителей бензина. Привыкают держать температуру в квартирах не выше предписанных 68 градусов по Фаренгейту. Кое-где школьники привыкают сидеть в классе в пальто и шапках. Кое-где машинистки привыкают печатать в перчатках.
Американцы привыкают по-новому смотреть на автомобиль — свою любимую игрушку и главный пожиратель бензина. Еще недавно здесь была привычной такая статистика: в восьми автомобилях из каждых десяти ехал лишь один человек — владелец. Теперь по утрам и вечерам, на работу и с работы, многие американцы предпочитают ездить «кооперативами» — по четверо-пятеро в одной машине. Таким «кооперативам» дорожная полиция обеспечивает специальную «экспрессную» линию на шоссе. Все больше американцев вообще отказываются от автомобиля. Подавая пример согражданам, некоторые губернаторы штатов первыми сменили четыре автомобильных колеса на два велосипедных.
На автострадах, где еще недавно машины неслись со скоростью 70–80 миль в час, пришлось поставить новые указатели: 55 миль в час. Оказалось, что оправдывает себя старая поговорка «Тише едешь — дальше будешь», ибо подсчитано, что чем ниже скорость, тем больше остается в баке бензина. Однако резкое ограничение скорости на дорогах не всем нравится, и в первую очередь водителям и владельцам тяжелых грузовиков, заработок которых зависит от трех главных факторов: веса в кузове, расстояния и скорости. Если раньше грузовик пересекал страну с востока на запад за 20 дней, то теперь ему нужно уже 28.
Ярость шоферов достигает точки кипения на заправочных станциях, где они узнают, что цена на горючее подскочила вдвое. Если учесть, что грузовики пробегают из конца в конец страны тысячи миль, получается внушительная арифметика. Но это еще не все. Тут же, на заправочной станции, шоферы узнают, что горючего просто-напросто нет и неизвестно, когда его подвезут. Когда две-три сотни взбешенных водителей в знак протеста ставят свои огромные, размером с пульмановский вагон, грузовики поперек дороги, — на автострадах возникают столпотворения.
На Коннектикут-авеню снова видел сумасшедшего старика. Теперь он был в башмаках. Зато снял пальто и тащил его за собой на веревке по мокрому тротуару.
Малолетние рабы
Мы были в южной части штата Флорида. Неподалеку от мыса Кеннеди, откуда американские астронавты совершали путешествие на Луну. Вокруг — безбрежные рощи цитрусовых деревьев. Зелеными волнами они сбегают с далеких холмов в долину. Деревья гнутся от тяжести золотистых плодов.
Мы ехали по Флориде день, второй и никак не могли пересечь зеленый океан. В одном месте мы нагнали странную автоколонну. Один за другим тянулись старенькие грузовики, держа путь куда-то на север. Некоторые машины были накрыты рваным брезентом. К бортам привязаны ведра, тазы, закопченные чайники. В кузовах, прижавшись друг к другу, сидели люди. Здесь были мужчины и женщины, пожилые и старые. Много здесь было подростков и детей.
Колонну замыкал маленький «пикап». Еще издали через заднее окошечко его кабины мы разглядели широкополую ковбойскую шляпу водителя. Какой-то длинный и узкий предмет перечеркивал квадратное окошечко и шляпу. Нагнав «пикап», Мы увидели, что это карабин, висящий на задней стенке кабины.
Мы обогнали автоколонну. Ее возглавляла полицейская автомашина, в которой сидели двое разморенных жарой полицейских. На борту машины была изображена шерифская звезда и изогнувшаяся дугой надпись: «Графство Палм-бич».
Кто в Америке не знает графства Палм-бич? Голубые волны Атлантики с мягким шорохом набегают на его песчаные пляжи. В тени широколистых пальм прячутся особняки. Это зимние дачи миллионеров.
Люди в грузовиках никогда не видели ни этих особняков, ни их хозяев. И хозяева особняков никогда не видели людей в грузовиках. А между тем они зависят друг от друга. Между ними существует невидимая связь. Ибо апельсины, грейпфруты и ананасы в хрустальных вазах, стоящие на коктейльных столиках в этих особняках, все эти цитрусовые, принесшие Флориде славу, а ее хозяевам — миллионы, выращены и собраны людьми, которые под конвоем полиции трясутся в стареньких грузовиках.
Люди в грузовиках — кочующие сельскохозяйственные рабочие. С наступлением уборочной поры они начинают кочевать «вслед за осенью». Они медленно движутся с юга на север вслед за урожаем, предлагая свои руки для сбора фруктов, ягод, бобов, лука, моркови, хлеба. В стареньких грузовиках их перевозят с плантации на плантацию, из одного района в другой. Их много, хотя никто точно не знает, сколько их. Говорят, что по всей стране их не менее двух с половиной миллионов человек.
Они живут в хлевах и пустых курятниках. Их лагеря спрятаны от посторонних глаз в глубине садов и на отдаленных фермах. Они отделены от внешнего мира колючей проволокой и вооруженной охраной. Многие американцы даже не знают об их существовании. И когда телевизионная компания Эн-Би-Си показала репортаж о жизни этих «забытых людей», это была сенсация. Сытая Америка была шокирована.
Снять этот репортаж было нелегким делом.
— Никогда не знаешь, что произойдет, когда в грудь тебе упирается ствол пистолета, — рассказывал режиссер телефильма Мартин Кэрр. — Человек, который угрожал убить меня, был хозяином лагеря кочующих рабочих в графстве Палм-бич. Он появился в тот момент, когда я разговаривал с одиннадцатилетним мальчиком о жизни в лагере. Хозяин сразу выхватил из кармана пистолет и закричал: «Убирайся к дьяволу, да поживей, если хочешь остаться живым!»
И все-таки телевизионным репортерам удалось многое узнать и многое показать телезрителям. Больше всего потрясают сцены с детьми.
Вот шестилетний мальчуган, работающий рядом со взрослыми на уборке урожая. Репортер беседует с матерью малыша. Она рассказывает, что вместе с ней работают трое ее детей, старшему из которых десять лет.
— По данным министерства труда, — говорит репортер, — на полях страны трудятся сейчас около 600 тысяч детей кочующих рабочих.
На экране хозяин плантации.
— Разве вреден ребенку свежий воздух? — притворно удивляется миллионер. — Разве плохо, что ребенок рядом с матерью?
Вот репортер старается «разговорить» угрюмого подростка. Тот хмурится, отворачивается от телекамеры. На вопросы отвечает неохотно. Школу бросил. Учиться некогда, надо работать. И вообще он школу ненавидит.
— Почему? — не отстает от паренька репортер.
Тот еле сдерживает слезы. Оказывается, в школе смеются над его одеждой, а другой у него нет.
— И вообще я законченный бродяга, вот кто я! — неожиданно зло говорит парнишка. Глаза его сверкают. Но это на одно мгновение. Губы его снова предательски дрожат, и он отворачивается.
Конец фильма потрясает. Репортер беседует с матерью, которой не хватает заработанных денег, чтобы накормить детей. Это тяжелый разговор. Но мать держится. Лишь время от времени смахивает ладонью слезы.
— Что чувствует мать, когда ее дети плачут от голода? — «дожимает» репортер.
Пауза. Долгая пауза. Мать сидит с каменным лицом. Кажется, что ее покинули все чувства. Но вот голова ее начинает клониться к столу. Она закрывает лицо руками и плачет в голос. Рыдания сотрясают ее…
— Мы могли сделать этот фильм в любом штате, — заканчивает ведущий, — но мы остановили свой выбор на Флориде, потому что сельскохозяйственный сезон там длится девять месяцев в году…
Однажды общественные организации штатов Огайо, Мэн, Калифорния, Орегон и Вашингтон предприняли расследование о детском труде в сельском хозяйстве США. Результаты этого расследования в форме доклада были переданы в конгресс. Главный вывод звучит так: «Эксплуатация детского труда в семидесятых годах XX века почти ничем не отличается от эксплуатации в прошлом столетии».
Четвертая часть всех наемных рабочих рук в сельском хозяйстве США — детские руки, говорится в докладе. В сезон сбора урожая клубники и бобов в штате Орегон детский труд достигает 75 процентов всей рабочей силы.
«Наемные сельскохозяйственные рабочие настолько бедны, — подчеркивают авторы доклада, — что им не остается ничего другого, как брать на поля вместе с собой даже малолетних детей. В сезон уборки урожая дети наравне со взрослыми работают от 10 до 12 часов в сутки».
Америка — богатая страна. И вот среди этого богатства вы вдруг слышите плач голодного ребенка. Но все ли слышат?
Однажды в корпункт «Правды» в Вашингтоне пришло письмо, подписанное известной американской актрисой Линой Хорн. От имени Национального комитета негритянских женщин она просила принять участие в сборе пожертвований для голодающих американских детей. По-видимому, комитет отправил тысячи таких писем в самые различные адреса. «Пожалуйста, — говорилось в письме, — пожертвуйте что-нибудь, сделайте ваш взнос сегодня. Голодные дети ждут вашего ответа».
«Я одна из тех, — писала Лина Хорн, — кто чувствует на себе вину за то, что в самой богатой стране мира миллионы детей, белых и черных, ежедневно страдают от голода».
Вместе с письмом в конверт была вложена брошюра, изданная Национальным комитетом негритянских женщин. Брошюра озаглавлена: «США, голод». Члены комиссии, составленной из врачей, учителей и женщин-активисток, рассказывали в брошюре о том, что они увидели в штатах Миссисипи, Алабама, Джорджия, Техас, Южная Каролина, Кентукки.
«Дети просыпаются голодными и ложатся спать голодными, — свидетельствуют члены комиссии. — Они плачут от голода. Вот что мы постоянно слышали, куда бы мы ни приезжали… Мы видели детей, потерявших в результате анемии всякую энергию и способность жить нормальной активной жизнью… В каждом штате, который мы посетили, мы встречали у детей явные признаки хронического недоедания, которое уже нанесло непоправимый ущерб детскому организму».
В брошюре приводится отрывок из репортажа журналиста Тома Тэйда, пишущего для газетного синдиката «Скриппс Говард». Репортер побывал в одном из уголков штата Джорджия и написал о том, что он там увидел.
«Консервные банки с пищей для собак очень популярны у многих покупателей из местечка Ноксвилл, — пишет журналист.
— Не подумайте только, что у нас много собак, — сказал мне хозяин одной из продуктовых лавочек. — Негры кормят этой собачьей пищей своих детей. Они смешивают ее с овсяной мукой. Это может показаться не очень вкусным блюдом, но, поверьте мне, это все же лучше, чем голодать».
…Я читал брошюру, и мне вспомнился один из залов американского конгресса, экран на стене, проекционный аппарат у противоположной стены. Здесь заседает сенатская комиссия, изучающая вопрос о голодающих в Соединенных Штатах Америки.
Сенатор Макговерн — председатель комиссии — ждет, когда рассядутся сенаторы.
— Начинайте, доктор, — обращается он к молодому человеку в роговых очках, который стоит у проекционного аппарата. Рядом с аппаратом на столе лежат стопки цветных слайдов.
Человек у проекционного аппарата — доктор Питер Чейз из Колорадского университета. По заданию сенатской комиссии он расследовал положение детей кочующих сельскохозяйственных рабочих в штате Колорадо.
— Я обследовал триста детей, — начинает свой доклад доктор Чейз, — и сделал триста снимков. Посмотрите на них, пожалуйста.
В зале гаснет свет. На экране появляется увеличенная цветная фотография малыша двух лет. И сенаторы ахают от неожиданности. Перед ними обтянутый кожей скелетик. Вздутый живот. Кривые ножки. Головка не держится на тонкой шее…
Меняется слайд. На экране девочка с заострившимся носом, с большими глазами и беззубым, как у старухи, ртом.
Снова меняется слайд в аппарате… И снова ахают сенаторы.
— Этому малышу четыре с половиной месяца, а весит он меньше, чем при рождении, — объясняет доктор Чейз. — У его родителей еще пятеро детей и нет денег на молоко даже для этого малыша. Обследовав его, я обратился в местную больницу. Произошел такой диалог:
— Спасите ребенка, — сказал я.
— Кто будет платить за лечение? — спросил меня администратор больницы. Я настаивал:
— Возьмите в виде исключения бесплатно.
— Не могу, — вздохнул администратор. — Если я возьму одного, завтра меня будет осаждать толпа матерей вот с такими же на руках.
Снова и снова доктор Чейз показывает сенаторам страшные слайды. Меняются лишь штаты, где они были сняты. Миссисипи… Огайо… Калифорния…
Чтобы сын не упрекнул отца
Судьба свела меня с ним в штате Нью-Гэмпшир. В мотеле наши комнаты оказались рядом. У него не работал телефон, он постучал в мою дверь, попросил разрешения позвонить, да так и остался у меня до полуночи.
Комната в мотеле маленькая. Я сижу на кровати, а он за столом. Время от времени осторожно гладит простреленную во Вьетнаме ногу. Над столом висит зеркало, и он то и дело поглядывает на себя в него. Много курит. Прикурив сигарету, спичку не гасит, а аккуратно пристраивает к бортику пепельницы и смотрит, как она корчится в пламени.
— Они появились, как всегда, неожиданно, — продолжает он свой рассказ. — Сперва я увидел, как мои парни улепетывают к опушке джунглей, а уж потом, оглянувшись, заметил партизан. Винтовка моя висела за спиной, а в руках у меня была зажигалка и ведерко с бензином. Я замешкался потому, что крестьянка вцепилась в меня и мешала поджечь ее хижину. Она плакала, кричала, и я никак не мог оторвать ее от себя. Рядом вопил ее сынишка лет восьми. Вот из-за них я и очутился под дулами партизан.
Все-таки мне удалось оттолкнуть ее. Она закричала еще страшнее, когда увидела, что я схватил ее сына и загородился им от пуль партизан. Я прижал его к себе рукой, в которой была зажигалка. Я пятился к опушке и плескал на мальчишку бензин из ведерка. Я плескал ему в лицо, на голову, он задыхался, а я кричал, что подожгу его, если они будут стрелять. Они не стреляли. Я пятился и пятился, а женщина ползла по земле за мной. Она больше не плакала, она молчала, но если бы вы видели ее глаза…
Он прикуривает и долго молча смотрит, как спичка в пепельнице превращается в согнутый обугленный скелетик.
— На опушке я отшвырнул ребенка и ринулся в джунгли. Только тогда они начали стрелять. Попали в ногу. Слава богу, наши парни были близко. На следующий день я уже был в госпитале на Гуаме.
В госпитале я много размышлял о жизни. Было время помыслить. О чем думал? Ну, прежде всего о том, за что я чуть не отдал свою жизнь во Вьетнаме. Признаться, я еще до ранения понял, что мы ничего там не добьемся. Нам внушали, что мы воюем против коммунистической агрессии, но ведь воевали-то мы против народа, а народ ненавидел нас как оккупантов. Они знали, что мы их людьми второго сорта считаем. Грязная, опасная и бессмысленная авантюра — вот что это было, а вовсе не «защита демократии». Знаете, я летчикам завидовал: бомбят из облаков и не ведают, что на земле творят, жертв своих не видят, совесть их не мучает.
Мне было восемнадцать лет, когда я во Вьетнам угодил. Что я понимал тогда? Ровным счетом ничего. До Вьетнама полгода наш батальон стоял на базе в Эфиопии. Как-то я спросил капрала: какого черта нам, американцам, нужно в Эфиопии? Капрал окрысился: «Не твоего ума дело, сосунок! Мы здесь мировой порядок охраняем. Полицейский не спрашивает, почему его посылают ходить с дубинкой по улицам Гарлема, хотя сам он живет в Бронксе». — «Значит, мы — международные полицейские?» — спросил я капрала. «А ты думал, что нас отправили за океан розы выращивать?» — передразнил меня капрал.
Ну, розы не розы, но должен же быть какой-то смысл в том, что увезли нас, сосунков, в чужие земли и вручили оружие? Вот до этого смысла я и пытался добраться, когда лежал в госпитале с простреленной ногой. И не один я. Были у меня об этом разговоры с соседями по койке, хотя не скажу, что все они разделяли мои взгляды.
Спрашиваете, были ли у меня друзья в морской пехоте? Были, конечно. Есть в морской пехоте хорошие ребята, но, откровенно говоря, сброда больше. Вы, конечно, знаете, что вооруженные силы США строятся по принципу добровольности. По существу, это армия наемников. Если уж не хватает добровольцев, тогда объявляется призыв. А кто добровольцы — известно: те, кто дома лишний. Безработные, малограмотные, не имеющие специальности. Не все, конечно, но большинство. Патриоты, вы спрашиваете? Ха-ха! Да они и слова-то такого не слышали. Они пришли в морскую пехоту работать. Понимаете? Работать. И за эту работу их кормят, одевают и неплохо платят. Вам сколько ваша редакция положила? Так вот наш капрал после десяти лет службы получал побольше, чем вы.
Я, между прочим, тоже добровольцем в морскую пехоту попал. Как бы вам объяснить? Я ходил в школу и хотел поступить в колледж. Но у отца были другие планы насчет меня. Он у меня бакалейщик, маленькую лавочку держит. Как у нас про таких говорят — «средний класс», «опора общества». В тот год отца круто прижала жизнь, и он хотел заслониться мной, как я заслонился тем мальчишкой во Вьетнаме. Не буду рассказывать подробно, скажу только, что уволил он продавцов и заставил нас с сестрой и матерью работать в лавке. А я не хотел. Не по мне эта жизнь. Вот и поругались мы с отцом. Слово за слово, а потом — в драку. Он первый меня ударил… Ушел я из дому.
После Вьетнама я домой уже не вернулся, хотя с отцом мы помирились. Не по мне эта жизнь. Отец удивляется: чего тебе, мол, надо? Автомобиль, говорит, я тебе купил, захочешь — домик помогу купить, цветной телевизор с дистанционным управлением… Ну чем не жизнь? Я, говорит, для тебя же стараюсь, хочу хорошее наследство тебе оставить.
Наследство! Я ему отвечаю: наследство, отец, это — не только чековая книжка да цветной телевизор с дистанционным управлением. Наследство, если уж по-серьезному говорить, это — вся страна, весь мир, в котором мне жить после тебя. Какой же ты мне передаешь страну? Каким я от тебя получаю мир? Я еще не родился, а мне подарили Хиросиму. Я в колыбельке лежал, а мне корейскую войну преподнесли. Исполнилось мне восемнадцать лет — получай, сынок, войну в джунглях Вьетнама. И сколько я себя помню — «холодная война». Ничего себе наследство, спасибо!
Вы, конечно, слыхали про «конфликт поколений»? У нас по-разному этот конфликт изображают. Чаще всего нас, молодых, ругают. Дескать, нигилисты мы, не ценим старших, отрицаем все, что они сделали в жизни. Чепуха! Не все мы отрицаем. Мой дед в 1944 году был ранен при освобождении Франции от нацистов. Я его медалями еще в школе гордился и сейчас горжусь. А вот ту жизнь, которую отец мне хочет в наследство передать, я отрицаю. Деньги, деньги, еще раз деньги, ничего, кроме денег. Не жизнь, а бег без остановки в погоне за деньгами. Где уж тут о других ценностях думать? Человечность, благородство, любовь, сострадание, все это к чертям собачьим, если они не приносят денег.
Нет, я не все отрицаю. Я горжусь тем, что американцы на Луне побывали. Но дома-то, на земле-то американской, что творится? Я вот хочу сделать доброе дело одному человеку, а не могу. Есть у меня один хороший друг. Во Вьетнаме подружились. Негр. Рядовой. Жизнь мне спас, из-под огня меня вынес, когда мне ногу прострелили. Демобилизовался он. Возвращаться в Миссисипи, где он батрачил на хлопковых плантациях, не хочет. Написал я ему, чтобы ехал ко мне. Обещал ему работу подыскать. Он одно время в транспортном батальоне служил, научился автомашины ремонтировать.
Так вот, обещал я ему работу подыскать, да не тут-то было. Как раз сегодня имел я один любопытный разговор в здешней авторемонтной мастерской.
— Нет ли работы, отец? — спрашиваю мастера.
— Нет, — отвечает из-под машины. Но, видимо, любопытно ему стало, высунулся. Покосился на мои начищенные ботинки, на городское пальто, спрашивает:
— Для себя, что ли, ищешь?
— Для друга, — отвечаю. — Есть один хороший человек — негр, дружок мой по службе в морской пехоте, вот для него и ищу.
— Чудак ты, — сказал старик и снова полез под машину. — Для негра работы нет.
Досадно мне стало.
— Вы что, не любите негров? — спрашиваю.
— Не люблю, — отвечает и еще дальше на спине под машину ползет.
— Они вам сделали что-нибудь плохое, отец?
— Нет, — доносится из-под машины, — они мне ничего плохого не сделали.
— За что же вы их не любите, папаша?
Не отвечает.
— Эй, старик, — кричу я ему под машину, — за что?
Заелозил он по асфальту спиной, вылез на солнышко.
— Я, — говорит, — пошутил, будто негров не люблю. Мне все равно, есть они или нет их. Но ведь вот какая закавыка, парень. Есть у меня сын. И этому сыну скоро к делу предстоит определяться, работу начинать. Мне пора на отдых, а ему пора вот этот гаечный ключ в руки взять. Так вот я хочу, чтобы этот ключ к сыну моему в руки попал, а не к твоему дружку-негру. Ключ-то один, а рук-то к нему много тянется. Понял теперь?
— Не понимаю, — отвечаю, хотя, конечно, я давно все понял. Вот ведь как жизнь устроена! Человек человека никогда в лицо не видел, а уже ненавидит его. Как волки в голодную зиму.
— Не понимаю, отец, — твержу, — не понимаю. Выходит, мой друг — человек второго сорта? Только потому, что у него кожа черная? Не понимаю…
Старик даже плюнул с досады.
— Дурак ты, — говорит, — хоть и в морской пехоте служил. Проваливай отсюда, некогда мне тебя жизни учить.
Так и ушел я ни с чем…
…Мы долго молчим. За окном шелестят шинами автомашины. Он снова курит.
— Или вот еще был у меня разговор, — нарушает он молчание. — Был я в гостях у дяди в Калифорнии. Он на авиационном заводе работает. Заговорили как-то мы с ним о том, что в мире происходит. О разрядке, о России, о разоружении. Он мне говорит:
— Разоружение хорошее дело. Ведь сколько денег народных на оружие идет, трудно даже представить. Сколько больниц можно было бы построить, сколько школ! Но ведь вот загвоздка: наступит день, когда будет подписано соглашение о разоружении, а не все будут радоваться, многие будут плакать, и я в их числе.
— Это почему?
— Да потому, что я работу потеряю. Ведь наш завод истребители строит.
Начал я выяснять, кто ему эту мысль внушил. Оказывается, в каком-то журнале прочитал. Вы, наверное, тоже заметили, что в последнее время у нас сильные атаки на разрядку начались. Я бы сказал даже не атаки, контратаки. Те, кто хочет мира, разрядки напряженности, разоружения, в последние годы сильно потеснили «ястребов» из военно-промышленного комплекса. Вот военно-промышленный комплекс и встревожился. Теперь вот начали пугать тем, что разоружение, дескать, безработицу увеличит.
Должен вам признаться, что когда-то и я всем этим басням о «красной угрозе» верил. Вьетнам просветил меня. И не одного меня. Хорошая была школа. Но школа эта была, так сказать, первой ступени. Дальше — сама жизнь учит. Теперь я понял, что «холодная война» — самое плохое «наследство», которое пытаются навязать нам, молодым американцам. Я отказываюсь от такого наследства. Так и напишите: Джон Джентри из Нью-Гэмпшира отвергает «холодную войну».
Я не политик, я простой рабочий, но пусть политики не считают меня дураком! Я понимаю, что, если ваши и наши ученые договорились вместе атаковать рак и болезни сердца, это — хорошо. Это на пользу всему миру. Если ваши и наши экологи договорились вместе работать, чтобы у вас и у нас, чтобы всюду воздух стал чище, а реки прозрачней, это — хорошо. Если ваши и наши космонавты вместе штурмуют космос, это — хорошо. Если ваши и наши эксперты договорились встретиться, чтобы обсудить, с какого края подступиться к разоружению, это — хорошо. Это называется разрядкой. И я — за разрядку!
У меня есть маленький сынишка. Ему я хочу оставить доброе наследство. Мне даже страшно подумать, что он когда-нибудь сможет упрекнуть меня, как я своего старика. Надо жить так, чтобы сын никогда не мог упрекнуть отца.
Нет, меня он не упрекнет. Верю, что не упрекнет!
Из камня и цветов
Двадцать пятый день нет дождя. Ньюйоркцы не помнят, чтобы был когда-нибудь такой октябрь. Жарко, как в июне. Говорят, что скоро введут ограничения на воду: городские резервуары иссякают. За Гудзоном горят леса, и фиолетовая дымка день и ночь висит над небоскребами.
Мы сидим с Грегори в Сэнтрал-парке и слушаем, как белки шуршат в ворохах опавших листьев. Сэнтрал-парк — чудо Нью-Йорка. Прямоугольной зеленой заплатой лежит он на каменной груди города-гиганта. Четыре километра в длину, около километра в ширину.
— Когда-то это место называлось Золотой Ряд, — кивает Грегори в сторону белых многоэтажных домов, вытянувшихся вдоль парка по 5-й авеню. — Я мальчишкой работал на строительстве дворца Эндрю Карнеги. Слышал о таком? Король стали, богатейший человек… Вон там, на 65-й улице, жил владелец медных компаний Кларк, а вот здесь я строил дом табачного короля Дюка. Постой, в каком же это было году?
Душно. Разомлела от духоты и дремлет на соседней скамейке молодая черная няня. Задремал дряхлый паралитик в кресле на колесах. Из его перекошенного рта к коленям, покрытым пледом, тянется ниточка слюны.
Грегори достает платок и вытирает влажный лоб. Грегори уже больше семидесяти лет. Он задумчиво складывает платок на коленях, и руки его трясутся. На правой руке нет двух пальцев: оторвало осколком гранаты в Испании.
— Кризис двадцать девятого года вытряхнул кое-кого из Золотого Ряда, — продолжает Грегори.— Новые хозяева построили новые дома. Но старая слава Золотого Ряда не умерла. Сейчас здесь живут братья Рокфеллеры, банкиры с Уолл-стрита. Одним словом, это район преуспевающих людей, обладающих высокой привилегией указывать на конвертах знаменитый обратный адрес: «Нью-Йорк, почтовая зона 21»…
…Двадцать пять дней жары, а трава в парке зеленая, как в августе. Ребятишки играют на лужайке в бейсбол. Нет-нет да и подбежит один такой бейсболист к питьевой колонке, жмет изо всех сил кнопку, а воды-то нет: выключена. Экономят.
Да, Сэнтрал-парк поистине чудо Нью-Йорка. Я часто бываю здесь. Однажды я шел вот по этой дорожке и остановился, потрясенный. Сперва я не поверил своим глазам. На каменной плите дорожки были вырублены Серп и Молот.
Это было так неожиданно, что я невольно огляделся вокруг. Нет, это не Париж, не Рим, где Серп и Молот можно встретить нередко. Это Нью-Йорк. Вот дом, где живет Рокфеллер, вон верхушки небоскребов Рокфеллер-центра, вот черные «кадиллаки» у тротуара на 5-й авеню.
Над Серпом и Молотом белесое нью-йоркское небо. Над ними ветви могучего столетнего дуба. Золотые листья неслышно падают с дерева на Серп и Молот.
Кто вырубил на груди Нью-Йорка эту бессмертную эмблему? Когда? Долго я не мог найти ответа на эти вопросы. Сейчас я с надеждой смотрю на Грегори.
— Я знал этих людей, — говорит Грегори. — Это было в 1930 году. Мы работали тогда на строительстве вот этого дома, что стоит через улицу. В ночь с шестого на седьмое ноября мы собрались в парке, чтобы отметить тринадцатую годовщину русской революции. Мелом нарисовали на плите дорожки Серп и Молот. Над ними мы поклялись до конца своих дней быть верными Ленину…
Грегори не спеша набивает табаком свою трубку и задумывается. Наверное, он вспоминает ту далекую ночь, когда двое молодых каменщиков выбивали на плите Серп и Молот.
— Ребята работали до самой зари, — вспоминает Грегори. — Тюкнут раз молотком и минуту слушают: не идет ли полицейский? Еще раз тюкнут — и опять тишина… Утром засыпали Серп и Молот листьями… Каждый день приходили сюда. Как к святыне! Спешишь утром на работу — сюда завернешь на минутку. В обеденный перерыв — всей артелью здесь. С работы идешь — постоишь здесь, покуришь, подумаешь.
Весной начальство парка обнаружило крамолу. Велели своим рабочим плиту из дорожки вынуть. Разбить на мелкие куски. Заменить другой. Как будто так и сделали рабочие. Исчезли Серп и Молот. На самом же деле рабочие просто перевернули плиту и положили на то же место, только другой стороной. Через пятнадцать лет, когда пришло время чинить дорожку, рабочие снова повернули плиту Серпом и Молотом кверху. Властям пришлось смириться. В те дни во всех американских газетах были снимки: рейхстаг, а над ним победное знамя с Серпом и Молотом.
…Со стороны 5-й авеню до нас долетает цоканье лошадиных подков. Мимо проплывает старинная карета. Лошадью правит согбенный старик в черном. На его голове высокий черный цилиндр, в руках длинный хлыст. В карете сидят двое молодых туристов: он и она. На их лицах смущенные улыбки.
— Говорят, что среди извозчиков есть русский князь, — говорит Грегори. — Ты не слышал о таком? Поищи его. Это же очень интересно!
Грегори выбивает свою трубку о скамейку. Паралитик просыпается в кресле-коляске и испуганно мычит. Негритянка вскакивает, смотрит на часы и везет его к выходу из парка. Навстречу им через дорогу спешит швейцар с витыми золотыми погончиками на сером мундире.
— А как найти тех, кто вырубил Серп и Молот? — спрашиваю я.
Грегори вздыхает и молчит. Разглядывает свою трехпалую ладонь, шевелит пальцами.
— Не ищи. Их не найдешь, — наконец говорит он. — Один погиб в Испании в бригаде Линкольна. Другой — во Франции в сорок четвертом году в партизанском отряде. Во время второй мировой войны почти все американские коммунисты ушли на фронт. Тех, кто уже имел опыт борьбы с фашистами, командование зачислило в Стратиджик сэр-вис (Стратегическая служба) и отправило в тыл к гитлеровцам. Одни сложили там головы, другие вернулись героями. Героями, да ненадолго.
Прикурив трубку, попыхивая голубым дымом, Грегори продолжает:
— После войны, уже не помню, в каком году, помню только, что дело было осенью, большая группа бывших солдат бригады Линкольна была арестована за «нарушение тишины» у здания испанского консульства. Попал за решетку и я. Держали нас в городской тюрьме на острове Райкерс. Знаешь, есть такая тюрьма на Ист-ривер, между Квинсом и Бронксом? Условия нам такие создали, что трудно и рассказать. На прогулку не выводили, кормили какой-то бурдой. Товарищи на воле начали кампанию в нашу защиту. Сообщение об издевательствах над нами попало в газеты.
Почувствовав, что дело пахнет скандалом, начальник тюрьмы начал раздумывать: куда бы отправить нас на работу? Думал-думал и решил: пусть эти комми (коммунисты) разобьют у стен тюрьмы цветник. Привезли несколько грузовиков саженцев, клубней, семян, земли, удобрений. Выдали нам лопаты, носилки, тачки, лейки. Закипела работа! Приезжали фотокорреспонденты, снимали нас для газет. Дескать, как мило! Коммунисты сажают в тюрьме цветочки!
Работали мы действительно с энтузиазмом. Руководил нами один садовод-любитель, не буду называть его фамилии. Огромный цветник разбили. Замысловатые клумбы из осенних цветов соорудили и кое-что для весны посеяли.
Зимой линкольновцев выпустили из тюрьмы. Уходя, мы все оглядывались на свой цветник. Дорог он нам был.
Прошла зима, наступила весна. От товарищей, которые остались в тюрьме, получили весточку: зазеленели наши посевы, дружно взошли. Потом еще одна весточка: расцвели! Мы ходили, как на празднике. При встрече говорили друг другу: «Слышал? Расцвели!»
Пролетел однажды над островом Райкерс самолет. Посмотрели летчики вниз — и обалдели. Что за наваждение?! Пресвятая дева Мария, спаси и помилуй нас! На острове среди белых, желтых, бордовых, малиновых цветов алеет Серп и Молот! Скандал! Скандал ужасный!
Грегори хохочет и вытирает платком слезящиеся глаза, потом откидывается на спинку скамейки и задумчиво посасывает потухшую трубку.
— Хочешь, я познакомлю тебя с молодыми коммунистами? — неожиданно спрашивает он. — Совсем недавно вступили в нашу партию. Молодые, сильные всходы… За ними будущее!
— А русского князя-кучера ты зря отказываешься разыскать, — говорит он убежденно. — Все-таки князь! Наверное, жил в московском Золотом Ряду… Был в Москве Золотой Ряд, а?
— Только когда разыщешь, не садись к нему в карету, — предупреждает меня Грегори на прощание. — Говорят, в этих каретах много блох.
Текст задней обложки
Борис Георгиевич Стрельников родился в 1923 году на Волге в семье сельских учителей, детство провел в сибирской деревне, юность — на Северном Кавказе.
В 1941 году по окончании школы ушел на войну. Был ранен.
После демобилизации работал, а затем учился в Пятигорском педагогическом институте. В 1948 году окончил отделение журналистики Центральной комсомольской школы, работал в газете «Комсомольская правда», был членом редколлегии, ответственным секретарем. Длительное время Б. Стрельников был собственным корреспондентом «Правды» в Соединенных Штатах Америки. Член КПСС. Член Союза писателей СССР.
Труд Б. Стрельникова в журналистике отмечен орденом Ленина и премией имени Воровского.
Примечания
1
Оскорбительная кличка негров.
(обратно)2
Хозяин.
(обратно)3
Аппалачский угольный бассейн — один из районов постоянной безработицы и нищеты.
(обратно)

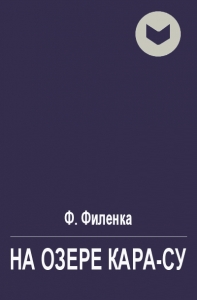





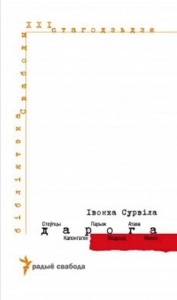


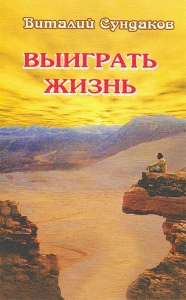
Комментарии к книге «Путешествие будет опасным», Борис Георгиевич Стрельников
Всего 0 комментариев