Вольдемар Петрович Смилга Очевидное? Нет, еще неизведанное…
Художник Б. Жутовский
Введение,
в котором автор откровенничает с благосклонным читателем, а также пробует весьма назидательно объяснить, почему и зачем он написал все, что следует далее
Не знаю, каким я могу казаться миру, но самому себе я представляюсь ребенком, который играет на берегу и развлекается тем, что иногда отыскивает красивую раковину или камешек, более яркий, чем обычно, в то время как великий океан истины неисследованной расстилается передо мной.
НьютонЭта книга в конечном итоге посвящена специальной теории относительности. Чтобы понять ее содержание с чисто формальной точки зрения, достаточны знания в объеме восьми-девяти классов средней школы. Но фактически для чтения необходимы и известная привычка к абстракции и довольно напряженное внимание. Поэтому книга, возможно, покажется трудной и утомительной и для человека со средним образованием.
Однако поскольку изложение неоднократно прерывается общими рассуждениями, различными примерами и аналогиями, поскольку почти все утверждения декларируются, но не доказываются, — очевидно, получилось нечто, что следует отнести к научно-популярному произведению.
В мировой литературе есть немало популярных книг, посвященных теории Эйнштейна. Некоторые из них написаны крупнейшими учеными. Автор же должен с законным сожалением заметить, что не принадлежит к их числу. И неужели он надеется, что этот его очерк кое в чем выгодно отличается от остальных популярных изложений теории относительности?
Ведь в нем нет почти ни одного примера, соображения, факта или обобщения, которые не были бы целиком взяты у других.
Мало того, план рассказа, основная идея его построения также заимствованы.
Все же одно обстоятельство, может быть, можно рассматривать как достоинство книги: автор использовал много различных источников, попытавшись отобрать то лучшее, что есть в различных работах, и «творческое лицо автора» проявилось только в оценке уже написанных книг.
Таким образом, как принято говорить в подобных случаях, личной собственностью автора являются только ошибки.
Такой метод творчества, вообще говоря, не нов, однако автор проводил его исключительно последовательно и неуклонно.
Впрочем, суметь выбрать из разных источников лучшее — весьма почетная и благородная задача, и я буду по-настоящему рад, если читатель признает, что в какой-то мере она выполнена.
Остается сказать, ради какой цели написано все дальнейшее.
Стиль и характер любого рассказа (даже если вы просто пересказываете чужие мысли), естественно, во многом зависят от личного отношения к нему рассказчика.
Этот очерк целиком продиктован восхищенным удивлением. И это чувство, чувство преклонения перед настоящей наукой и настоящими учеными, восхищенное удивление перед силой человеческого разума мне и хотелось передать.
Я очень боюсь показаться сентиментальным и меньше всего хотел бы оказаться в позе поучающего, но, по-моему, это хорошее чувство.
Если вы наберетесь терпения и прочитаете все дальнейшее, может быть, вам станет несколько ближе психология ученого, и вы почувствуете в какой-то мере, какая замечательная вещь физика! И тогда, надеюсь, вы простите автору все недостатки, которых, смею уверить, найдется немало.
Вполне естественно поинтересоваться: какое отношение все только что сказанное имеет к теории Эйнштейна?
Самое непосредственное. Теория относительности, пожалуй, самый красивый пример работы физиков. А поскольку автор несколько связан именно с физикой, он, естественно, считает, что физика самая замечательная из наук. И поэтому понятно, почему мне хотелось рассказать именно о теории относительности.
Есть, впрочем, еще одна причина.
Теории Эйнштейна парадоксальным образом «не повезло». Революционна роль ее не только в коренном изменении чисто физических взглядов. Не менее важная сторона дела в том, что после Эйнштейна в физике совершенно немыслимо использование «самоочевидных» понятий, терминов и утверждений, которые так часто при непосредственном анализе оказываются бессодержательными. А завораживающая магия красивых словосочетаний настолько сильна, что в известной степени гипнотизировала даже физиков, пока не пришел Эйнштейн.
И вместе с тем нет другой такой физической теории, вокруг которой нагромождалось бы столько бессмысленных слов. Особенно это относится к представлению о ней в широких кругах нефизиков.
Теория Эйнштейна окутана тяжелым туманом вздорных философских построений, сенсационных выводов, нелепыми возражениями и столь же нелепыми восхищенными толкованиями. Короче — всем тем, что Л. И. Мандельштам классически четко определил, как «непонятное философствование о непонятных вещах».
И наша непосредственная задача — по возможности строго разобраться в чисто физическом содержании теории, не занимаясь обсуждением тех проблем, ясное объяснение которым в нашей беседе дать нельзя.
В частности, я с тяжелым сердцем отказался от возможности поговорить об общей теории относительности.
Прошу оценить эту жертву, ибо нет ничего приятней, чем порассуждать о непонятном и тем «свою образованность показать».
Но непонимание теории Эйнштейна широкими кругами нефизиков, по моему подозрению, в основном связано даже не с трудностью самой теории. Главная причина в том, что основы классической механики Ньютона (не говоря уже о классической теории электромагнетизма) так же загадочны для неспециалистов, как самые сложные и абстрактные построения современной науки. Причем самое печальное, что, когда речь заходит о механике Ньютона, есть иллюзия понимания, поскольку механика включена в курс средней школы. Эта иллюзия, вероятно, и приводит к очень распространенному мнению, что современная физика в отличие от физики XIX века недоступна непосвященным. И отсюда естественный вывод: «Наука в наши дни сложнее, чем раньше».
Но идейная сторона физики Ньютона не проще (если не сложнее) теории Эйнштейна. Автору кажется, что во все времена физика была достаточно сложна. И поэтому, прежде чем говорить об Эйнштейне, необходимо проследить тот путь, который привел к теории относительности. А с другой стороны, настоящее уважение к ученым может появиться только в том случае, если хоть в малой степени представить, как тяжелы их поиски.
Наконец, последнее замечание. В физике нельзя принимать на веру ничьи слова, даже слова Эйнштейна или Ньютона. Утверждая, что вы убеждены в справедливости какого-нибудь положения только потому, что оно принадлежит величайшему физику нашего времени — Эйнштейну, вы нанесете, пожалуй, худшее оскорбление его памяти. Поэтому любое замечание в нашей беседе, а, вероятно, встретится много непривычного и нового даже в тех вопросах, которые обычно считают совершенно ясными, следует принимать очень осторожно.
Вообще при более основательном знакомстве с физикой, естественно, может возникнуть чувство некоторой подавленности.
Вы видите, как изящны, законченны физические теории, вас увлекает безукоризненная и строгая логика авторов этих теорий, вы невольно попадаете под влияние чужой мысли или, что значительно печальней, чужого авторитета.
Вы перестаете думать и начинаете цитировать. Очень часто этому процессу сопутствует бессознательное убеждение, что все существенное в науке уже сделано, даже если на словах вы признаете обратное. Мысль перестает работать, и со временем привычное все более охотно принимается за истинное.
Поучения вряд ли могут рассеять подобные настроения. Предмет нашего разговора — теория относительности — лучший пример вечной незаконченности науки. И может быть, к концу вы увидите, что исполненные гордого смирения слова Ньютона, взятые эпиграфом, не просто красивая фраза.
В своей работе автор в наибольшей степени использовал труды и идеи замечательных советских ученых Л. И. Мандельштама и С. И. Вавилова.
Мне очень хочется верить, что не будет дерзостью посвятить этот скромный очерк их памяти.
Глава I,
всецело посвященная тому, кто начинал
Мы даем здесь основания учения совершенно нового о предмете, столь же древнем, как мир. Движение есть явление, по-видимому, всем знакомое, но, между тем, несмотря на то, что философы написали об этом предмете большое количество толстых томов, важнейшие свойства движения остаются неизвестными… Мы покажем все это, и наша работа послужит основанием науки, которую великие умы разработают обширнее.
ГалилейГалилей. Принцип относительности
«Я склоняю свои колени перед достопочтенными генерал-инквизиторами, прикасаюсь к святому евангелию и заявляю, что я верю и буду впредь верить всему тому, что признает истинным и чему учит церковь.
Мне запрещено было святой инквизицией верить или учить ложному учению о движении Земли и покое Солнца, потому что оно противоречит священному писанию. Несмотря на это, я написал и даже издал книгу, в которой я излагаю это проклятое учение и привожу сильные доводы в его пользу. Потому меня заподозрили в ереси.
Дабы рассеять у каждого христианина-католика это справедливое подозрение, я отрекаюсь и проклинаю упомянутые заблуждения и ереси, а также вообще всякое другое заблуждение и мнение, идущее вразрез с учением церкви. В то же время я клянусь в будущем никогда не высказывать ни устно, ни письменно чего-нибудь такого, что могло бы вызвать против меня подобное подозрение. И наоборот, я обязуюсь немедленно сообщить святому судилищу, если я где-нибудь встречу ересь или буду предполагать ее наличие».
Эти покаянные и благонамеренные слова, произнесенные Галилео Галилеем 22 июня 1633 года, в приличествующей случаю обстановке, на коленях и в рубище, с внешней стороны явились как бы итогом его жизненного пути.
Оставшиеся ему девять лет он проводил почти в полном уединении (причем на всякий случай под домашним арестом), и специальный интердикт «раба рабов божьих» — святейшего Урбана VIII запрещал ему печатать какие-либо труды.
К сожалению «власть предержащих», интердикт был нарушен. В 1638 году в Нидерландах, где, как известно, процветала проклятая богом и людьми протестантская ересь, издается основной труд Галилея, действительный итог его жизни — «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых областей науки…»
Несколько растянутое описание времен Галилея — эпохи Возрождения.Галилео Галилей — продолжатель обедневшего, но знатного дворянского рода флорентийских нобилей — родился в Пизе в 1564 году.
Уже примерно столетие, как тесный мир средневековья удивительным образом расширился. Португальские, испанские, а теперь английские и голландские корабли бродят по Mare incognitum[1] в поисках золота, пряностей, слоновой кости, рабов, эльдорадо — источника вечной жизни и всех мыслимых и немыслимых возможностей молниеносного обогащения. Каждое плавание — прыжок в неизвестность. А потому вторым, а иногда и первым лицом на корабле является штурман («пилот»). Он обязан разбираться в «портуланах» и «периплах»[2], вести счисление пути и по звездам (ибо другого выхода нет) определять место корабля. Каждый моряк и, что еще важнее, снарядивший его корабль купец (а купцов становится все больше) заинтересованы в том, чтобы его снабдили наилучшими картами и инструментами, ибо все уже понимают: от них успех плавания зависит не меньше, чем от мореходных качеств корабля. Отчасти поэтому математики и астрологи (астрономы) считаются уважаемыми и достойнейшими мужами.
Моряки в случае успеха иногда получают деньги, славу и титулы. Иногда не получают ничего. Но торговые дома в итоге всегда получают прибыль.
Возникает торговый, а затем мало-помалу и промышленный капитал, — возникает буржуазия, и все более расшатываются сонные уклады феодальной Европы.
Перемен не смогла избегнуть и церковь. Католические обряды и молитвы чересчур сложны и, главное, слишком дороги. Нужна «дешевая церковь».
И вот торжествует лютеранство в Германии и в Скандинавии, кальвинизм — в Швейцарии, в Голландии, в Англии. Религиозные войны сотрясают Францию.
Новому классу необходимы и новые идеи и новая наука, которая давала бы практические результаты. Вера в авторитеты подорвана — ведь многие утверждения ученейших мужей, даже освященные авторитетом Рима, оказались на поверку чистейшим вздором. Воистину наступает на редкость «смутное и проклятое время», кое-кто (таких, правда, страшно мало) начинает сомневаться даже в самом бытии всевышнего.
Как в старой сказке про ученика чародея, погибшего от им же вызванных духов, новая эпоха порождает идеи куда более революционные, чем ей по плечу. И надо сказать, что католическая церковь — а власть ее все еще беспредельно велика — очень быстро и резко реагирует на новую ситуацию.
Несколько слов о церкви и ее «научных» методах.Впрочем, когда речь идет о ереси, реформаторы вполне солидарны с католиками, и костры в Риме и Женеве складываются из одинаковых поленьев. Особенно часто они пылают в «любимых чадах» Рима — Испании, Португалии и Италии.
И всякий христианин-католик слишком хорошо осведомлен об этом.
Но дело не только в том, что, восставая против общепринятых взглядов, ученый должен иметь в виду и такой неопровержимый научный аргумент, как «очищающее душу, по возможности кроткое, без пролития крови» отправление к предвечному.
Отшлифованная веками, продуманная и отточенная, всецело подчиненная Риму, система воспитания с детских лет прививает слепое поклонение авторитету и цитате. Метод изучения любого нового явления изумительно ясен: следует отыскать в текстах отцов церкви соответствующее место. Если же явление противоречит текстам — его не существует.
«Этот род людей полагает, — раздраженно пишет Кеплеру Галилей, — что философия — какая-то книга, как „Энеида“ или „Одиссея“; истину же надо искать не в природе, а путем сличения текстов… Они пытались логическими аргументами, как бы магическими прельщениями, отозвать и удалить с неба новые планеты».
И подобная система давала свои результаты. Страшно подумать, сколько талантливых людей растратило свою жизнь на толкование какого-либо туманного места Фомы Аквинского (а у святейших отцов подобных мест было предостаточно) или изучение такой, скажем, актуальной проблемы: каким образом произошло непорочное зачатие? Чтобы вырваться из цитатного плена схоластики, нужно обладать исключительно ярким умом. Но тогда…
Томмазо Кампанелла (1568–1639) — социолог, философ и астролог — «более страшная змея, чем Лютер и Кальвин», по категорическому заключению отцов-иезуитов, 27 лет провел в 50 различных тюрьмах, где его семь раз подвергали жесточайшим пыткам.
…Джордано Бруно — философ (1548–1600) — сожжен в Риме.
…Луиджи Ванини — философ (1585–1619) — злостнейший еретик, отрицавший, в частности, божественность Христа, повешен в Тулузе. Перед казнью ему вырвали язык; тело казненного сожгли, а прах развеяли по ветру.
…Нидерландский врач Везалий (1514–1564) — основатель научной анатомии — присужден к смерти испанской инквизицией.
…Испанский врач Сервет сожжен Кальвином в Женеве в 1553 году.
Можно долго продолжать этот жуткий реестр.
Мало кому из отступников суждено умереть своей смертью. Особенно тщательно за этим следит специально созданный для борьбы с ересью орден «Псов господних» — иезуитов.
Новый путь в науке, пожалуй, опаснее, чем дороги конквистадоров, ибо нет надежды на счастливый конец.
Казнь еретиков настолько обычное явление, что, например, смерть такого крупнейшего философа, как Джордано Бруно, сожженного при колоссальном стечении народа, почти не замечена современниками. Документальных свидетельств о его гибели крайне мало, и, как ни удивительно, существовала версия, что было сожжено его изображение, а сам Бруно остался жив.
Основная масса народа и даже просвещенные круги все еще полностью преданы церкви и находятся во власти самых диких суеверий. Ученые не составляют исключения. Нам почти невозможно представить, как в те времена причудливо уживались гениальные идеи рядом с поразительными нелепостями.
Многие все еще рассчитывают найти страну людей с песьими головами и остров Сирен. Во всяком случае, их существование охотно допускается.
Впрочем, вряд ли стоит активно иронизировать по этому поводу. Не зная ничего, ученые были готовы проверять все. Но перед нами — пусть предельно наивный, однако научный эксперимент.Еще в конце XVII века на заседании Королевского общества в Лондоне серьезно проверяли, может ли паук выбраться из круга, сделанного из толченого рога носорога. Паук убегал, что и заносилось в протокол. А быть может, на следующем заседании Ньютон докладывал о своих работах.
Новой науки еще нет, и, пожалуй, основное — нет и нового метода, он только-только создается.
В науке же официальной все еще безраздельно царит Аристотель. Из его учения давно уже вычищено все, что может пробуждать самостоятельную мысль. Труды его тысячу раз прокомментированы и истолкованы.
Сам Аристотель, как совершенно «точно» известно, посмертно удостоен высшей награды — всевышний специальным указом избавил его от адских мук, которые были ему уготованы, как явному язычнику.
Почти приравнены к творениям отцов церкви его труды, и сомневаться в них (даже признавая истинным все священное писание) — очень и очень смахивает на ересь. А лавры еретика, напомним еще раз, слишком хорошо известны каждому христианину.
В этой приятной атмосфере и начинает Галилей.
Далее следует очень краткая история жизни Галилео Галилея.Начало образования, конечно, монастырь. Он даже принят послушником в монашеский орден. Но, на счастье, отец забирает его домой, и духовная карьера Галилея прерывается. Надо думать, что его отец — обедневший флорентийский дворянин Винченцо Галилей — был, по существу, первым воспитателем ученого. Широко образованный, страстный поклонник музыки и математики, безусловно талантливый и интересный человек, он передал сыну свою любовь к науке и свой скептицизм по отношению к авторитетам.
Любопытная деталь — отцу принадлежит трактат о старой и новой музыке, написанный в форме диалога (в будущем — любимая литературная форма сына), в котором он, между прочим, весьма скептически характеризует цитирование авторитетов как высший довод в научных спорах. Подобные соображения по тем временем близки к крамоле.
По настоянию отца юноша начинает изучать медицину в Пизанском университете. Но дело не ладится, а физика Аристотеля, которую приходится скрупулезно штудировать, вызывает все более серьезные сомнения. И вообще Галилей не собирается быть медиком или физиком — он мечтает о карьере художника.
Снова вмешивается отец. По его совету сын изучает работы Архимеда и Эвклида. И Галилей быстро забывает о своем «призвании»: отныне и до конца дней своих он будет принадлежать физике.
Есть великолепный портрет Галилея в старости. С него глядит на нас не хрестоматийный старец, мученик инквизиции, терзаемый последние годы угрызениями совести. Умное, властное, суровое лицо человека, который прожил нелегкую и сложную жизнь, подчиненную одной идее.
С юных лет — покровители, без которых ученый той эпохи подобен моряку без компаса. Первый — маркиз дель-Монте, сам крупный ученый, бескорыстно восхищавшийся талантом юноши. В дальнейшем покровителей придется добывать при помощи интриг и унизительной лести.
Еще молодым он привыкнет держать свои мысли при себе. Слишком памятна история в Пизе… Сначала всеобщее возмущение «научных кругов» его критикой Аристотеля. Потом повод — резкий отзыв о нелепом проекте одного из многочисленных побочных сыновей его законного государя Козимо Медичи I — и его выгоняют с кафедры.
После этого восемнадцать лет Галилей ведет кафедру в Падуе. Его взгляды уже определились. Он давно знает, что физика Аристотеля несостоятельна; он знает и то, что учение Коперника истинно. Почти все, что появится через тридцать лет в «Диалоге о двух главнейших системах мира», уже готово. Но он продолжает читать лекции, придерживаясь Птолемея, а результаты своих трудов сообщает только друзьям. Он пишет Кеплеру (1597 год!):
Письмо, которое стоит прочесть.«Я счастлив, что в поисках истины нашел столь великого союзника. Действительно, больно видеть, что есть так мало людей, которые стремятся к истине и готовы отказаться от превратного способа философствования. Но здесь не место жаловаться на печальное состояние нашего времени, я хочу лишь пожелать тебе удачи в твоих замечательных исследованиях. Я делаю это тем охотнее, что уже много лет являюсь приверженцем учения Коперника. Оно объяснило мне причину многих явлений, совершенно непонятных с точки зрения общепринятых взглядов. Я собрал множество аргументов для опровержения последних, но я не решаюсь их опубликовать. Конечно, я сделал бы это, будь больше таких людей, как ты. Но так как этого нет, я держу себя осторожно».
И все же временами он срывается. В 1604 году резкая стычка со схоластами по поводу новой звезды, появление которой противоречило учению Аристотеля о неизменности сферы неподвижных звезд. Настораживают и его отдельные сомнительные высказывания. Подозрительны и лекции, читаемые не на традиционной латыни, а на родном итальянском.
Репутация Галилея как благонамеренного католика явно не на высоте. И он предусмотрительно запасается высокими покровителями. Светлейший великий герцог Тосканский — его признательный ученик (а он его «первый философ и математик», «почтительнейший и преданнейший слуга и вассал»). Будущий папа Урбан VIII — кардинал Барберини — его личный друг, которому он посвящает свои работы.
Он живет среди интриг, споров о приоритете, нелепых возражений, чаще всего среди полного равнодушия и непонимания.
«Когда я через мою трубу хотел показать профессорам Флорентийской гимназии спутников Юпитера, то они отказались посмотреть и на них и на трубу…»
Все время приходится быть настороже. И все время он напряженно работает, работает до последних дней.
Тяжко больной, разбитый физически и морально, отрекшийся и осужденный, он заканчивает труд своей жизни «Беседы» и почти ослепший (!) ведет астрономические наблюдения. «Я хоть и молчу, но провожу время не совсем праздно», — как всегда, очень сдержанно напишет он в эти годы.
Десятилетия унизительной борьбы с невеждами наложили на Галилея свою печать. Он резок, замкнут, пожалуй, даже угрюм. Часто цинично насмешлив. Он уважает и ценит очень немногих и весьма нелестно отзывается о роде человеческом: «Число дураков бесконечно».
С годами он привык умело уклоняться и от светской болтовни о науке с титулованными «любителями» и от дискуссий с окружающими его бесчисленными «докторами зубрежки» (его собственное определение).
Но он не совсем одинок. Узкий круг друзей и ученики, которые боготворят своего учителя, — обетованный островок в море невежества. В этом обществе он не брюзгливый старец, не льстивый и искушенный царедворец, он тот, кто он есть, — гуманист, смелый тонкий мыслитель и всегда и прежде всего гениальный физик, влюбленный в свою науку.
Ученики, кстати, окажут ему позднее плохую услугу. Преклонение их так велико, что они сильно приукрасят его биографию, и многому, о чем они сообщат, попросту нельзя верить.
Его интересы широки. Он блестящий знаток античного и современного искусства и сам в часы отдыха слагает сонеты. В его книгах рассыпаны ссылки на поэтов, остроумные примеры, и, помимо всего, он создает новый жанр — научно-популярную литературу.
Но когда речь идет о работе, в нем нет ничего от поэта: точно, сухо и непредвзято он исследует факты и только факты, сдерживая полет фантазии. Проходят годы, прежде чем он сформулирует выводы.
Являя собой полную противоположность сверкающему фантазеру Джордано Бруно, которого так любят с ним сравнивать, исповедовавший одну религию — истину, Галилей обладал, на мой взгляд, не меньшим личным мужеством.
Вот таким представляется человек, о котором лучше всего сказал Лагранж:
«Открытие спутников Юпитера, фаз Венеры, солнечных пятен и т. д. потребовало лишь наличия телескопа и некоторого трудолюбия, но нужен был необыкновенный гений, чтобы открыть законы природы в таких явлениях, которые всегда пребывали перед глазами, но объяснение которых тем не менее всегда ускользало от изысканий философов».
Нечто вроде предисловия ко второй половине этой главы.У нас нет возможности, да это и не входит в наши задачи, сколько-нибудь подробно исследовать творчество Галилея, и дальнейшие страницы никоим образом не нужно расценивать как творческую биографию.
Даже простое перечисление работ Галилея заняло бы слишком много места, и о подавляющем числе научных результатов не будет даже упомянуто. Очень кратко мы коснемся только одной, правда, самой важной стороны творчества Галилея — анализа законов движения. Той работы, которая и поныне заставляет ученых поражаться его необыкновенным гением.
Еще одно маленькое отступление, и мы перейдем к сути дела.
Лучше всего понять гений Галилея можно, сопоставив его с Эйнштейном. Основные идеи Эйнштейна ничуть не сложнее и не парадоксальнее тех, которые выдвинул Галилей.
Кстати, о привычных представлениях. Разве легко поверить (именно поверить!), что на каждый квадратный сантиметр нашего тела воздух (?!) давит с силой в 1 килограмм?Но если идеи Галилея кажутся большинству людей нашего времени понятными и простыми, то взгляды Эйнштейна требуют известного напряжения мысли. Это естественно. С детских лет мы воспитываемся в духе классической физики, а люди с большим трудом изменяют привычные представления.
Поэтому лучше всего постараться как бы забыть все, что мы знаем, и спокойно делать выводы из тех фактов, которые мы находим в «самой великой книге — природе», как любил говорить Галилео Галилей.
Итак, движение. Причина движения, безусловно, сила. Телега не едет, если в нее не впряжены лошади.
Внимание! Небольшая мистификация.Если в телегу впрячь четырех лошадей, то они повезут ее быстрее, чем две. Отсюда вывод: чем большая действует сила, тем больше скорость.
Далее, если выпрячь лошадей, телега остановится. В этом нас убеждает повседневный опыт. Следовательно, для поддержания скорости всегда требуется сила. А чтобы тело двигалось равномерно и прямолинейно, к нему должна быть приложена постоянная по величине и направлению сила.
Не стоит торопиться с улыбками. Вы сразу увидели ошибочность теории движения Аристотеля только потому, что с шестого класса помните законы механики, которые получили, что называется, даром.
И все же позволю себе предположить, что вы тем не менее обмануты. Вряд ли кто-либо обратил внимание на то, что были использованы такие понятия, как «равномерное и прямолинейное движение» и «постоянная по величине и направлению сила». А ведь, употребив эти слова, мы сказали либо очень многое, либо ничего. По существу, анализ этих понятий должен привести к вполне определенному взгляду на пространство и время. Можно возразить, что такие вещи, как пространство, время и сила, определять незачем — это самоочевидные категории и понятия. Но… самые глубокие заблуждения в науке возникают обычно тогда, когда что-либо считается самоочевидным.
Несколько забегая вперед, скажем: великая заслуга Эйнштейна именно в том, что он показал, что даже в конце XIX столетия у физиков не было ясного представления о таких «очевидных» понятиях, как время.
Довольно существенное назидательное замечание.Однако оставим пока вопрос о времени.
Как опровергнуть Аристотеля? Как нельзя оценить обед, не пообедав, точно так же нельзя опровергнуть (или утвердить) физическую теорию, не прибегнув к эксперименту. И Галилей первый в средневековой Европе понял это с предельной ясностью и глубиной.
Конечно, не стоит преувеличивать — подобные взгляды высказывались и до него. Уже легендарный Парацельс[3] чеканно сформулировал: «Теория, не подтвержденная фактами, — все равно, что святой, не сотворивший чуда». Но Галилей был первым, во всяком случае в физике, кто незыблемым принципом своего творчества положил изучение и анализ эксперимента, практики. И на этом пути он обнаружил ошибку Аристотеля. Галилей не доверяет словам. Он ставит опыты.
Сравнительно легко он находит, что за равные отрезки времени свободно падающее тело проходит все возрастающие отрезки пути и что постоянная сила — вес тела (хотя ясного представления о силе у Галилея нет) приводит к равноускоренному движению.
Правда, чтобы точно измерять малые отрезки времени (доли секунды), ему понадобилось создать совершенно новый для того времени вариант водяных часов, что он и делает с замечательным остроумием. Да и вообще ему не раз приходилось преодолевать чисто экспериментальные трудности подобного рода. Предшественников нет: первооткрывателем приходится быть во всем. Но в конце концов эта часть работы требовала всего лишь исключительного упорства и замечательной изобретательности.
Значительно труднее сделать совершенно неожиданное и неочевидное обобщение: если бы отсутствовало сопротивление воздуха, «то все тела падали бы одинаково, то есть с одинаковой скоростью при равных высотах падения… двигаясь при этом равномерно ускоренно так, что в равные промежутки времени скорость возрастает на равные величины». Иначе говоря, Галилей подмечает, что полученные цифры приводят к так хорошо известному в наши дни каждому восьмикласснику закону изменения скорости падения, как функции времени падения, V = g · t.
Говоря о Галилее как о физике-теоретике, стоит отметить два момента.
Во-первых, он не блуждает в бесконечных поисках причины явления, что было характерно для школы Аристотеля. (По существу, он принимает метод принципов Ньютона, речь о котором впереди.)
Действительно, Галилею не известно ничего о законе тяготения, он не владеет, по существу, понятием силы, он не знает, почему Земля притягивает все тела, сообщая им одинаковое ускорение. Галилей прежде всего ставит вопрос: как происходит явление? И ответ ищет в анализе опытов.
И во-вторых, гениальная интуиция позволяет Галилею учесть и отбросить все побочное, нехарактерное и выхватить основное при анализе наблюдаемого явления.
Так, изучая падение тел, он учитывает не только сопротивление воздуха, но и эффекты, обусловленные законом Архимеда. Он прямо указывает: «При падении тела в какой-нибудь среде надо иметь в виду, что на тело действует не полный его вес, а лишь избыток веса над весом вытесненной жидкости или среды».
Переход от опыта к теоретическому обобщению — обычно самый трудный этап. Физику никогда не доводится изучать явление в «чистом виде». Можно сказать, что он обычно оказывается в положении фотографа, рассматривающего снимок, на котором отпечатано сразу несколько негативов. История науки знает сотни примеров, когда ученые пропускали открытия только потому, что не понимали, что они наблюдают. И именно в анализе результатов проявляется полностью талант Галилея.
А как тяжело было разобраться в законах движения, можно судить уже по тому, что представления Аристотеля оставались незыблемыми около 2 тысяч лет.
Некоторые результаты исследований Галилея.Изучая законы падения тел и рассмотрев вертикальное отвесное падение, Галилей, естественно, переходит к движению по наклонной плоскости. Он находит, что ускорение при падении постоянно во времени и тем меньше, чем меньше угол наклона. В предельном случае горизонтальной плоскости, утверждает Галилей, тело будет двигаться вообще без ускорения. И причиной движения тела по наклонной плоскости оказывается сила тяжести. При этом Галилей понимает, что когда тело находится на наклонной плоскости, то движение вызывается не всем весом, а лишь его частью, тем меньшей, чем меньше наклон.
Еще раз следует напомнить: Галилей не знает, почему тело падает на Землю. Более того, у него нет ясного понятия о силе, нет формулы, связывающей силу и ускорение, он не читал «Начал» Ньютона: они выйдут в свет лишь спустя 35 лет после его смерти.
Но его интуиция позволяет заключить: «Когда тело движется в горизонтальной плоскости, не встречая сопротивления своему движению… то движение его является равномерным и продолжалось бы бесконечно, если бы плоскость простиралась в пространстве без конца».
Итак, если отсутствует сила — скорость остается постоянной.
«Скорость, однажды сообщенная движущемуся телу, строго сохраняется, если устранены внешние причины ускорения или замедления».
Образно говоря, это утверждение ставит с головы на ноги всю механику.
Стоит обратить особое внимание на соотношение теорий Галилея и Аристотеля. Как уже упоминалось, Аристотель считал, что для поддержания постоянной скорости необходимо воздействие постоянной силы. Взгляды Галилея диаметрально противоположны.
Впервые формулируется положение, похожее на закон инерции.Только в том случае, когда на тело не действуют никакие силы, скорость остается неизменной. Речь идет не об уточнении старой теории, не об ее развитии или ограничении области ее применения. Отнюдь нет! Вся механика Аристотеля начисто зачеркивается.
Подобные ситуации очень редки в истории наук и обычно встречаются в годы их юности. Чаще всего у открывателей есть точка отправления, есть отметки на том пути, по которому они идут. Лишь пионерам нечего взять от предшественников и приходится начинать на пустом месте.
Таким основоположником в физике был Галилео Галилей. Он заложил фундамент той механики, создать которую было суждено Ньютону.
Очень многое ему оставалось неясным. Часто он ошибался и сворачивал с правильного пути.
Трудно и ожидать чего-либо другого; сам Галилей лучше всех сознавал и значение и недостатки своих работ (вспомните его слова в эпиграфе).
И хотя в его трудах часто встречаются утверждения, прочитав которые можно подумать, что не только первый, но и второй закон механики были ему известны и, следовательно, Ньютон в известной мере был лишь популяризатором его идей, пожалуй, не стоит увлекаться переоценкой работ Галилея. Даже первый закон механики, тот самый закон инерции, который Галилей сформулировал, казалось бы, предельно четко, ни он, ни все остальные предшественники Ньютона не понимали до конца. И только у Ньютона законы механики принимают ту ясную, законченную форму, в которой они известны нам. (Впрочем, мы увидим в дальнейшем, что даже сам Ньютон не избежал ошибок.)
Возможно, подобная оценка творчества Галилея излишне сдержанна, однако детальный анализ его работ, к сожалению, увел бы нас слишком далеко в сторону, и потому… Пойдем далее.
Если следовать Галилею, между покоящимся и равномерно движущимся телом в известном смысле устанавливается равноправие. Равномерно двигающийся по поверхности моря корабль и корабль, мирно стоящий на якоре, в равной степени не подвержены «воздействию внешних причин, вызывающих ускорение или замедление». Более того, наша Земля может покоиться в пространстве или равномерно двигаться — в обоих случаях отсутствуют «внешние причины».
Но если это так, то, может быть (может быть!), все физические процессы, протекающие на равномерно движущемся теле, в частности на Земле (если она равномерно двигается, конечно), должны протекать так же, как на покоящемся?
И (внимание!) Галилей высказывает эту мысль.
Да, он полагает, что с точки зрения механики совершенно равноправны тело, находящееся в покое, и тело, которое равномерно движется.
Любой механической опыт, поставленный на равномерно и прямолинейно движущемся теле, будет протекать точно так же, как если бы оно покоилось.
Вот он — принцип относительности Галилея!Это положение — принцип относительности Галилея — один из самых замечательных и удивительных законов природы.
Однако уже сейчас необходимо сделать несколько замечаний.
Во-первых, внимательный читатель, вероятно, обратил внимание, что мы еще не объяснили, что такое движение, а следовательно, наши рассуждения о движущихся и покоящихся телах пока, строго говоря, бессодержательны. В дальнейших главах подробно разбирается понятие движения в механике — вопрос не такой простой и очевидный, как может казаться. Пока же мы следуем за Галилеем, а у него (как ни странно!) не было четкого представления о понятии механического движения.
Во-вторых, позже, когда будут сформулированы законы Ньютона, мы увидим, как принцип относительности Галилея можно вывести из этих законов. Сейчас же заметим, что одного закона инерции еще недостаточно, чтобы утвердить принцип относительности. И хотя несколько выше мы как бы связывали в сознании Галилея закон инерции и принцип относительности, следует признаться, что это не более чем литературная вольность.
Между законом инерции и принципом относительности действительно очень тесная связь, но Галилей скорее всего просто гениально угадал свой принцип, «подглядел» его в природе, не связывая с законом инерции. В это можно поверить, прочитав те страницы «Диалога о двух главнейших системах мира», где, по существу, утверждается принцип относительности. (Вероятно, излишне пояснять, что в современном виде сам Галилей никогда не формулировал «принцип относительности Галилея».)
«Диалог» Галилея — работа, окончательно уничтожившая систему Птолемея, — замечателен не только содержанием, но и формой. Прямо проповедовать учение Коперника нельзя — это запрещено. Но при обширных связях Галилея можно добиться появления книги, где всего лишь обсуждается эта «еретическая» система. Такая книга и написана. Он не защищает Коперника. Нет! С внешней стороны абсолютно беспристрастно анализируется спор «Птолемей — Коперник». Автор со своим отношением к предмету как будто отсутствует. Никаких выводов вроде бы не сделано. Два ученых — сторонник Коперника и защитник Птолемея — спорят между собой, а он, Галилео Галилей, просто пересказывает их дискуссию. Читатель же волен судить, чьи доводы убедительней. И вот, как беспристрастный судья, Галилей разбирает попытки опровергнуть Коперника, использовав законы аристотелевой механики.
Ведь если какие-либо механические опыты, произведенные на Земле, дали бы возможность установить, что Земля не движется вокруг Солнца, а находится в покое, то спор бы был разрешен.
И Галилей в «Диалоге» прямо приводит, казалось бы, очень веские возражения против Коперника.
Если Земля движется, то камень, падающий с башни, должен отклониться в сторону, поскольку он стремится двигаться только к центру Земли, а за время падения камня Земля «проезжает» под ним. Снаряд, выпущенный из орудия вертикально вверх, по той же причине должен упасть далеко в стороне от жерла пушки. Ядро, пущенное на запад, пролетит значительно дальше, чем на восток, так как суточное движение Земли, если оно существует, увлекает орудие к востоку, и в первом случае пушка «уезжает» от ядра, а во втором «догоняет» его. Облака и птицы должны отставать от Земли и т. д. Но повседневный опыт убеждает нас в обратном. Следовательно, Земля покоится?!
Между прочим, в «Диалоге» используется очень изящный прием спора. Все эти доводы против гипотезы о движении Земли высказывает и убедительно развивает Сальвиати — убежденный сторонник Коперника, а Симпличио — защитник Аристотеля — восхищенно слушает и поддакивает. И вот, продемонстрировав более глубокое понимание Аристотеля, чем его поклонники, использовав, казалось бы, неопровержимые аргументы в его пользу, Сальвиати — Галилей резко меняет фронт.
Провозглашая принцип относительности, он проводит аналогию между Землей и равномерно плывущим кораблем. Все тела на корабле ведут себя так, как будто он покоится: камень, падающий с мачты, всегда опускается у ее подножия; мяч, брошенный по движению или против движения корабля, полетит одинаково далеко. Ни один опыт на равномерно движущемся корабле не дает возможности установить: плывет корабль или покоится. А следовательно, ни один опыт на Земле не может сказать нам, покоится она или мчится в пространстве с колоссальной скоростью, вращаясь при этом вокруг оси.
Это утверждение Галилея, конечно, ошибочно.Возможно, многие из вас с трудом сдерживают возмущение или, в лучшем случае, недоумение — ведь хорошо известны десятки опытов, проделанных на Земле и позволяющих установить ее суточное движение. Достаточно вспомнить о маятнике Фуко, о том, что камень, брошенный с вершины башни, отклонится к востоку[4] и т. д. В наши дни проявлять подобную безграмотность, безусловно, неловко — эти факты известны любому десятикласснику. Эти факты известны и автору. Но Галилею они известны не были.
Ирония судьбы. Предлагая принцип относительности, Галилей не понимает, что он верен только для равномерного прямолинейного движения, и использует его для равномерного вращательного движения.
О принципе относительности подробно рассказывается в V главе.Мы-то знаем, что механические явления на вращающемся теле будут протекать по-другому, чем на неподвижном или равномерно и прямолинейно движущемся.
Равномерное движение по окружности можно обнаружить благодаря центробежным силам и легко отличить от состояния покоя или равномерного прямолинейного движения. Но все эти азбучные для нас истины Галилею неведомы. Однако и в своих ошибках он значительно ближе к истине, чем Аристотель.
Уже сейчас уместно спросить, что означают слова: «тело равномерно движется»? Что значит: «тело вращается»? Ответ можно найти в IV и V главах.Человек со средним образованием может легко увидеть ошибки и путаные места в его трудах. Но чтобы получить новые результаты такого же масштаба, необходим такой же «необыкновенный гений».
Вот и все о Галилее. В дальнейшем, вооруженные законами Ньютона, мы вернемся ко всем вопросам, которые нами разбирались. Мы четко сформулируем основные принципы механики, достигнем как будто предельной ясности и… особо остановимся на тех местах, которые остались неясными и Ньютону, — на его ошибках.
И далее мы увидим, как исследование, казалось бы, совсем другой области физики — учения об электромагнитных волнах — привело к необходимости полностью изменить все наши представления о пространстве и времени или, говоря точнее, заставить физиков задуматься над вопросом: «Что же такое время и пространство?»
Вероятно, через некоторое время произойдут новые революции в физике. Возможно, через несколько поколений взгляды нашего поколения будут казаться такими же наивными, какими представляются нам некоторые идеи Галилея, но физик любой эпохи будет с преклонением вспоминать Галилея — первого, который понял во всей глубине, что новые идеи надо искать в «великой книге — природе», опираясь только на факты.
В заключение стоит привести один пример, очень четко характеризующий строгий и честный стиль научного мышления Галилея. Многие слыхали, конечно, что гипотеза о бесконечности вселенной впервые выдвинута Джордано Бруно. Но это не совсем точно. Эта проблема, видимо, очень занимала Галилея, он неоднократно к ней возвращался. И пожалуй, пошел дальше Бруно.
Несколько сентиментальные выводы.Поскольку еще нет никаких опытных данных в пользу конечности или бесконечности вселенной, Галилей заключает: «Я остаюсь в нерешимости, какое из этих двух положений правильно, хотя мои личные доводы заставляют меня склоняться скорее к идее бесконечности мира…»
Глава II,
содержащая очень краткие сведения о жизни и характере Ньютона. В заключение читатель может узнать, что такое метод принципов
Вывести два или три общих начала движения из явлений и после этого изложить, каким образом свойства и действия всех телесных вещей вытекают из этих явных начал, — было бы очень важным шагом в философии, хотя бы причины этих начал и не были открыты.
НьютонНьютон. Механика (метод)
Восхищение Ньютоном освящено традицией.
Еще его современники полностью исчерпали весь арсенал восторженных эпитетов, сравнений и гипербол, и потомкам оставалось только повторяться, что, впрочем, и делалось без опасения утомить человечество.
Вступление, ценное главным образом потому, что упомянута книга С. И. Вавилова «Ньютон» — может быть, лучшая работа по истории физики на русском языке.Ньютоном восхищаются все: и ученые, по-настоящему понимающие подлинное значение его работ, и те, кто не очень представляет, что он, собственно, сделал, но, впрочем, твердо уверен, что восторгаться Ньютоном следует, — это признак хорошего тона.
Чтобы понять всю исключительность, аномальность личности Ньютона, следует прочитать блестящую книгу С. И. Вавилова. И после этой книги, вероятно, на всю жизнь вы не сможете отделаться не столько от чувства восторга, сколько от самого наивного удивления. На мой взгляд, восхищаться можно только понятными вещами, а творческий потенциал Ньютона, по-видимому, немыслимо воспринять человеческим разумом.
Жизнь и карьера Ньютона очень бедны внешними событиями и очень похожи (опять же с внешней стороны) на судьбы десятков добропорядочных английских джентльменов, упорных и часто довольно даровитых, добивавшихся всего своими руками, чтивших бога и короля («Да хранит его бог!») и глубоко убежденных, что нет страны лучше, чем старая добрая Англия с ее старыми добрыми традициями, и что не было, нет и не будет дела важней, чем обеспечить ее (и конечно, попутно свое) процветание.
Краткие сведения об Исааке Ньютоне.Исаак Ньютон родился в 1643 году (через год после смерти Галилея) в семье с весьма средним достатком. Очевидно, ему повезло со школьным учителем. Судя по сохранившимся данным, это был культурный и умный человек. Сразу после школы — Кембриджский университет (точнее, Тринити колледж). Английские университеты того времени представляли собой сумму колледжей — почти независимых друг от друга учебных заведений. (Впрочем, в Кембридже и Оксфорде эта система сохранилась до наших дней.)
За восемь университетских лет (1661–1669) Ньютон прошел всю лестницу от студента до заведующего кафедрой. (Не надо думать, что это исключительная карьера: в ту эпоху на такой путь требовалось значительно меньше времени, чем сейчас.) Юноша очень серьезен, замкнут, пользуется всеобщим уважением, но вряд ли даже ближайшие друзья — их, кстати, очень мало — подозревают, что он уже создал анализ бесконечно малых величин, наметил невиданную программу дальнейших исследований и обладает рядом совершенно революционных идей и результатов в механике, оптике и теории тяготения.
Известные теперь каждому школьнику опыты по разложению солнечного света уже закончены, и получен закон убывания силы тяготения с расстоянием.
Все это было сделано за два года (1665–1667), не говоря о том, что одновременно он овладел экспериментальной техникой, в частности техникой изготовления телескопов — самых тонких приборов того века.
Ньютон не печатает своих работ. Еще больше, чем Галилей, больше, пожалуй, чем кто-либо из известных ученых, он придирчив к своим результатам, и работа не появляется на свет, пока он не убеждается до конца в ее полной и безоговорочной точности и законченности.
Карьеру Ньютона, как и Галилею, создает телескоп. Совершенно новый по своей идее телескоп-рефлектор приносит Ньютону звание члена Королевского общества, президентом которого он будет впоследствии. Это происходит 11 января 1672 года. А уже 6 февраля этого же года Ньютон докладывает на заседании общества свой мемуар «Новая теория света и цветов» — мемуар, который, по словам С. И. Вавилова, «впервые показал миру, что может сделать и какой должна быть экспериментальная физика».
С этого времени Ньютон непрестанно поражает мир обилием и качеством своих работ.
Его общественное положение делается все более блестящим. В частности, в 1686–1689 годах он — депутат парламента от университета. Правда, злые языки утверждают, что в парламенте он выступал всего один раз — с просьбой закрыть окно, «ибо с Темзы дурно пахнет», но, очевидно, Ньютон не был таким ученым «не от мира сего», каким часто принято его представлять. Во всяком случае, получив должность хранителя Монетного двора (1696 год), он великолепно справился с весьма тяжелыми задачами (перечеканка всей английской монеты), которые требовали больших административных способностей.
В 1705 году Ньютон получает дворянство, он принят при дворе; официально и неофициально, друзьями и врагами признан первым натурфилософом мира. Его богословские работы также получают восторженные оценки, хотя сэр Исаак и отклоняется в них очень часто от канонизированных взглядов. Нам, конечно, трудно представить, что Ньютон тратил массу времени и сил на исследования различных богословских проблем. Но факт остается фактом: сэр Исаак Ньютон был глубоко религиозен и, пожалуй, склонен был рассматривать всю свою научную работу как посильный вклад в познание божьего провидения. Правда, тогда подобное совмещение профессии — физик и богослов — было в порядке вещей, но в наши дни его богословские увлечения вызывают только чувство недоуменного и горького сожаления.
Забавно, что и в области теологии взгляды Ньютона оказали большое влияние на последующие поколения.В последние годы жизни Ньютона часто отвлекают от работы административные и общественные обязанности; да и, самое главное, возраст начинает брать свое. Сказывается переутомление от исключительных по интенсивности трудов прежних лет. Однако старик не бросает науку и даже продолжает экспериментировать. Но в основном он занимается шлифовкой своих прежних результатов и прежде всего труда его жизни — «Математических начал натуральной философии».
Эта книга вышла в свет в 1687 году. В ней дана теория тяготения и движения небесных светил и сформулированы все основные законы механики, которые оставались незыблемыми до Эйнштейна.
Итак, механика. Прежде всего — о методе.
Эта и несколько следующих страниц посвящены методу Ньютона. Их можно опустить без вреда для читателя. Но можно и прочитать, тоже, надеюсь, без вреда.«Я не измышляю гипотез, — любил повторять на склоне лет Ньютон. — Все, что не выводится из явлений, должно называться гипотезою, гипотезам же метафизическим, физическим, механическим, скрытым свойствам не место в экспериментальной философии».
Следовательно, гипотеза не вытекает непосредственно из опыта. Гипотезу выдвигают по интуиции, используя какие-то аналогии, а потом уже пытаются согласовать с известными фактами. Так, например, атомистическая структура материи до недавнего времени оставалась гипотезой.
Часто гипотеза полностью рушится под давлением фактов; причем иногда проходит не одна сотня лет, прежде чем эти факты появятся. (Вспомним о гипотезе Канта — Лапласа.)
Иное дело принципы. Они создаются на основе опытных данных, в результате их тщательного анализа.
Принципы недоказуемы логически, но обязательно имеют в основе прочную базу эксперимента. Поэтому в той или иной форме они остаются в науке навсегда. Хотя, конечно, дальнейшие исследования могут ограничить область их применения, обнаружить, что принципы носят не абсолютный, а имеют приближенный характер.
Примеры принципов: аксиомы геометрии Эвклида, ньютоновские законы механики, закон всемирного тяготения, законы сохранения…
Итак, выдвигая гипотезу, мы должны допускать, что новые факты могут полностью ее опровергнуть.
Формулируя принцип, мы уверены, что хотя в дальнейшем он, возможно, окажется верен лишь приближенно и область его применения значительно ýже, чем мы полагали, тем не менее в какой-то форме в науке он останется.
Однако, если вдуматься, разница между принципом и гипотезой представится несколько условной — ведь гипотеза также должна быть согласована с опытными данными и опираться прежде всего на опыт. С другой стороны, никто не гарантирован от неправильного вывода при анализе опыта — от формулировки неправильного принципа, который будет опровергнут новыми фактами.
Впрочем, наша задача не давать идеальные определения (занятие вообще весьма неблагодарное), а разобраться, в чем существо метода Ньютона — метода, которому он сам дал название «метода принципов».
Попробуем подойти к вопросу с иной стороны. Обратимся к словам Ньютона, взятым в качестве эпиграфа: «Вывести два или три общих начала движения из явлений и после этого изложить, каким образом свойства и действия всех телесных вещей вытекают из этих явных начал, — было бы очень важным шагом в философии, хотя бы причины этих начал и не были открыты».
Мне кажется, что в последних словах этой фразы скрыта суть метода принципов, основное его отличие от метода гипотез. Ньютон в своих исследованиях совершенно сознательно отказывается объяснить, почему явления происходят именно так, а не иначе, какова их природа, какие свойства материи приводят к тем общим закономерностям, которые можно извлечь из наблюдений. Он удовлетворяется тем, что формулирует общие законы.
Великолепная иллюстрация — закон тяготения. Что говорит теория Ньютона о природе тяготения? Какие теоретические соображения подтверждают, что сила взаимодействия двух тел пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними? Абсолютно никаких. Ньютон не знает и, более того, не желает знать, почему закон тяготения имеет именно такой вид. Ньютону достаточно на основе наблюдений сформулировать сам закон.
Но есть и другой путь научного исследования. Установив, например, закон тяготения, можно выдвигать различные предположения о природе гравитации, предлагать теоретические схемы, из которых вытекал бы этот закон. Можно пойти еще дальше и, даже не зная самого закона, строить различные гипотезы о природе тяготения.
Физика гипотез, метод гипотез состоит как раз в том, что ученый стремится проникнуть в природу явления глубже, чем позволяют накопленные опытные факты; причем ему, естественно, приходится делать смелые и часто ошибочные предположения.
Невольно закрадывается мысль, что метод гипотез привлекательнее, изящнее, чем метод принципов, и что большая наука должна идти именно таким путем. Впрочем, это риторический вопрос. Оба метода равно используются в научной работе. Вообще говоря, и сам Ньютон, как мы увидим в дальнейшем, часто прибегал к методу гипотез. Но его нелюбовь к ним вполне объяснима и имеет совершенно реальную основу.
До Ньютона в ясной форме метод принципов, или, как часто говорят, индуктивный метод, не существовал[5]. В научном мире бушевали гипотезы. Крупнейшие ученые века, посредственности от науки, полуграмотные невежды — все создавали системы; при этом каждый стремился объяснить ни много ни мало, как все известные явления природы. Физика гипотез осталась в наследство от греков, страстных любителей абстрактных рассуждений и домыслов. И лишь работа предшествующего Ньютону поколения отчасти подготовила почву для новых методов работы.
Нужна была удивительная смелость и трезвость мысли, чтобы выскользнуть из плена очень привлекательной внешне физики гипотез и в основу творчества положить метод принципов, сухой, трезвый и сдерживающий полет фантазии.
Но, может быть, прав С. И. Вавилов, считавший, что именно в выборе метода скрыт секрет вечного значения наследия Ньютона.
Зная стиль строителя, рассмотрим само здание.
Глава III,
самая длинная во всей книге и, вероятно, самая трудная; в ней обсуждается теория измерений в физике
Смотри в корень!
Козьма ПрутковНьютон. Механика
(анализ основных понятий: длина, время)
Законы механики для человека нашего времени так же привычны и обыденны, как, например, электрическое освещение. Со школьной скамьи мы выносим непоколебимую уверенность в их идеальной строгости и безукоризненной понятости. И каждый школьник считает, что уж законы-то Ньютона ему известны и абсолютно ясны. Так ли это?
Совершенно антипедагогичное замечание, которое молодым читателям не стоит принимать всерьез.Первая попытка более пристального рассмотрения убеждает, что эти радужные представления — результат милой детской непосредственности и невинности. Это, может быть, и не очень странно. В конце концов много ли можно требовать от школьника?
Удивительным может показаться другое. До конца XIX столетия крупнейшие ученые, имена которых заслуженно блистают в золотой книге науки, не замечали, что среди основных положений ньютоновой механики есть, мягко говоря, довольно неясные утверждения.
Это весьма поразительное обстоятельство оказывается вполне понятным, если вспомнить, что за двести с лишним лет, которые разделяют «Начала» Ньютона и теорию относительности Эйнштейна, механика так великолепно оправдывалась на практике, выросла в такое стройное грандиозное здание, что для физиков даже отдаленный намек на некоторую шаткость фундамента — законов Ньютона — выглядел как вздорная, вредная и опасная ересь.
И в результате научный анализ подменила наивная и слепая вера — «вначале была механика, и Ньютон — творец ее». Можно повторить в оправдание, что в отличие от веры в дьявола вера в Ньютона каждый день подкреплялась реальными доказательствами. Но как бы то ни было, многие забыли, что основные положения механики сформулированы Ньютоном довольно нечетко. Математики не потерпели бы неясности в основах своей науки, а физики, грубо говоря, махнули на это рукой.
Не стоит в связи с этим заключать, что физики «глупее» математиков. Просто по складу своего мышления математик прежде всего стремится к безупречной логической строгости, а физик обычно полностью удовлетворяется, если его теория хорошо описывает реальные явления, и, как правило, мало заботится о строгом определении «самоочевидных» вещей. Для физика XIX столетия, например, понятия длины и времени казались совершенно ясными. Для Ньютона тоже. Но Эйнштейн показал, что как раз в этих «простых», «очевидных» вещах совершенно отсутствовала ясность.
После сказанного, естественно, возникают по меньшей мере два вопроса.
Во-первых, каким образом вообще могли работать с законами Ньютона, если они, как мы утверждали, сформулированы довольно нечетко?
Во-вторых, трудно все же поверить, что Ньютон — величайший Ньютон! — был так «наивен», как утверждалось выше. Не искажаем ли мы истину?
Ответы на эти вопросы легко получить, если вспомнить о методе Ньютона. Он прежде всего стремился установить принципы, уловить, анализируя опытные данные, общий закон. Принципы нужны ему, чтобы в дальнейшем с их помощью исследовать явления природы. Как физик, он весьма недолюбливал рассуждения общего характера. Прежде всего его интересовали практические применения законов. Может быть, поэтому Ньютон сравнительно легко относился к проблеме логически безупречного определения основных понятий. Очевидно, это его просто не очень занимало.
Главное — сформулировать законы настолько ясно, чтобы с ними можно было работать. Пусть принципы движения введены не идеально строго. Ньютона не очень заботит, что, например, понятие «масса тела» осталось, по существу, не определено, что ни слова не сказано о понятии «длина». Все равно каждому — не только физику, но любому смертному — ясно, что это такое.
Он небрежно формулирует понятие «сила», как будто не замечая, что просто несколько другими словами перефразирует свой первый закон: «Приложенная сила есть действующее на тело стремление изменить его состояние, состояние покоя или равномерного прямолинейного движения».
У него просто нет времени заниматься деталями. Ему нужно создавать механику, решать конкретные проблемы.
Здесь автор высказал свое собственное мнение, и потому к этому отрывку следует отнестись с сугубой осторожностью.Невольно складывается впечатление, что он стремится как можно скорее отделаться от докучливой работы по определению основных физических величин и перейти к делу. А систему аксиом механики пусть дополняют потомки.
В одном он уверен: его законы дают возможность изучать и описывать все движения, известные человечеству, а для этой цели они сформулированы достаточно ясно.
Можно высказывать различные мнения по поводу строгости обоснования механики. Можно считать, как думали до конца XIX века, что систематика Ньютона — лучшее из того, что может дать человечество. Можно, как мы убедимся далее, подвергнуть ее жестокой критике.
Но одно несомненно. Более двухсот лет ни один опыт, проделанный физиками, не давал повода сомневаться в законах Ньютона. И что бы ни говорилось в дальнейшем, ни на минуту не следует забывать, что «вначале была механика, и Ньютон — творец ее».
Прежде чем начать рассказ «без гнева и пристрастия», нужно сделать честное предупреждение.
Последующие страницы с идейной стороны, пожалуй, самый сложный раздел нашей беседы. Они могут показаться и утомительными и скучными. Но, к сожалению, чтобы понимать дальнейшее и главное, чтобы понять идеи Эйнштейна, их необходимо прочесть.
Сначала взглянем на сами законы — аксиомы механики Ньютона.
1. Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку оно не принуждается приложенными силами изменить это состояние.
2. Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.
3. Действие всегда равно противодействию, или иначе — действия двух тел друг на друга равны и противоположно направлены.
Так их сформулировал Ньютон, такими мы узнаем их в школе. Впрочем, пока не определены основные физические понятия, использованные в них, законы механики так же содержательны и ясны, как, скажем, загадочные письмена индейцев племени майя.
Было бы наивно думать, что Ньютон не сознавал этого. Системе аксиом (своим законам) он предпосылает систему определений основных понятий. Но… уже упоминалось — систематика Ньютона неудачна. В ней кое-что лишнее, кое-чего недостает, а есть и неправильные или бессодержательные утверждения. К сожалению, впереди так много работы, что взгляды самого Ньютона мы рассмотрим только попутно, не останавливаясь на их детальном разборе.
Итак, какие основные понятия, используемые в аксиомах механики, подлежат определению и анализу?
Прежде всего понятия длины и времени. Далее — понятие движения. Затем — понятие силы. И наконец, понятие массы.
Намечается программа, выполнение которой займет три главы.Кроме того, будет дано определение скорости и ускорения. А после этого мы проанализируем законы механики и попытаемся возможно более четко определить их физическое содержание. Такова программа.
Но прежде чем перейти к ее выполнению, необходимо сделать последнее замечание. Наша задача — не давать идеальные и общие определения, отнюдь нет! Мы просто стремимся понять физический смысл принципов Ньютона и по возможности ясно представлять себе, какое физическое содержание скрыто за теми символами и понятиями, которые мы используем.
Начнем с длины (расстояния).
Первая «неожиданность» — определение длины.Вопрос «Что такое длина?» Ньютон обходит молчанием. И напрасно. Этот вопрос продиктован не праздными выдумками хитроумного схоласта. Это вполне реальная физическая задача. Причем мы рассмотрим проблему чисто утилитарно. Мы хотим знать, как на практике определять расстояние между двумя точками или длину физического тела.
К счастью, вопрос об определении длины столь же касается геометров, как и физиков, и потому строгое математическое определение существует. (Математики не терпят никакой неопределенности.)
Определение. Длиной отрезка называется число, которое сопоставляется с каждым отрезком посредством процесса измерения.
Рецепт же для процесса измерения таков.
Чтобы измерить отрезок AB, нужно:
1) выбрать масштабный отрезок, обозначим его M (скажем, метр);
2) разбить этот отрезок на n равных между собой отрезков (допустим, 10 дециметров) — обозначим их M/n[6];
3) откладывать отрезки AC1 = C1C2 = … = Cm–1Cm = M/n от точки А на отрезке AB, пока это возможно. Обозначим номер последнего m (например, 18);
4) увеличить неограниченно число n (разбивать масштабный метр на сантиметры, миллиметры и т. д.), находя каждый раз соответствующее число m (может быть, 183 см, 1834 мм…).
Это определение длины (или расстояния) остается и в специальной теории относительности.Предел, к которому стремится отношение m/n(18/10; 183/100; 1834/1000…), и называется длиной отрезка AB, измеренного с помощью масштабного отрезка M[7].
Приведенное определение — типичный пример дедуктивной системы изложения — основного метода построения математики. Некоторым оно может показаться скучным и длинным, но другие, возможно, увидят в нем строгую и великолепную красоту математического мышления.
Попросту говоря, определение длины состоит в следующем.
Дайте нам масштабный отрезок, длина которого, по определению, равна единице. Откладывая его на измеряемом отрезке, мы увидим, сколько раз он уложился. Это число и есть длина измеряемого отрезка. Чтобы точно найти, сколько раз уложился масштабный отрезок на измеряемом, надо уметь откладывать и дробные доли масштаба, а значит, уметь делить масштабный отрезок на сколь угодно малые равные части. Вот и все.
Довольно существенное добавление. Математическое определение переводится на обыденный житейский язык.Так решают вопрос математики. Но для физика и этого строгого определения недостаточно. И вот почему.
Дайте нам масштабный отрезок, говорите вы, мы его отложим вдоль измеряемого отрезка и скажем, чему равна длина. Ну, а если из-за физических условий задачи нельзя приложить масштаб? Скажем, требуется, не выезжая из Москвы, определить расстояние от Шаболовской башни до водокачки в Люберцах. Или, находясь у полотна железной дороги, не сходя с места, измерить длину проезжающего поезда. Ведь к нему масштаба не приложить. Он попросту уедет.
Далее, в процессе определения длины незримо присутствует понятие «движение». Если обратиться к геометрии, то мы будем приятно поражены, узнав, что математики считают движение понятием первичным и никак его не определяют. Физиков же это не очень устраивает.
И наконец, последнее. Математикам хорошо. Они оперируют с идеальными геометрическими отрезками. Их масштабный отрезок M не расширится при нагревании, не сократится под давлением — он обладает только геометрическими, а не физическими свойствами.
Если же мы хотим иметь строгое определение длины, пригодное для физиков, необходимо учитывать реальные свойства масштабного отрезка, а значит, сформулировать какие-то добавочные постулаты, описывающие эти свойства.
После только что сказанного может сложиться впечатление, что попытка четко определить длину и процесс ее измерения в достаточной степени безнадежна.
Впрочем, в науке, как и в жизни, можно примириться с любыми тяготами избранного пути, если знать, к чему мы стремимся, видеть перспективу. А пока вообще не очевидно, следует ли физикам заниматься такими вопросами, как скрупулезный анализ понятий длины времени и т. п. Или же решение подобных проблем, говоря грубо, досужая, никому не нужная болтовня?
«Может быть, оставим, господа, все эти вопросы математикам? Им и карты в руки. Пусть они дают строгие определения. А мы и без определений знаем, что такое длина. Это, изволите видеть, понятно каждому. И длину движущегося поезда без всяких рецептов и прикладывания масштабов прекрасно измерим. Отметим, знаете ли, просто точку на полотне и одновременно точку, против которой начало паровоза имелось. И все. Потом можете прикладывать к поезду ваш масштаб — сойдется. И вообще, господа, сводить все к прикладыванию масштаба, извините, глупость! Извольте вашим способом измерить расстояние между вершинами двух гор. Не выйдет-с! Без триангуляции не обойдетесь. А в триангуляции, изволите видеть, измерение углов присутствует, в определение ваше не входящее.
Некие сомнения. Попутно автор проявляет юмор.Жили мы, милостивые государи, без этих определений, слава те господи, почитай с Ньютона, и ничего, неплохо жили-с. Измеряем и расстояние до звезд и длину микроорганизмов. И все без прикладывания.
Конечно, не отрицаю, нечто разумное в определении сем присутствует. К примеру-с, масштабный отрезок. Эталон длины иметь нужно, согласны? Но об эталоне длины, позвольте сказать, мы не менее вашего наслышаны. Без малого сто лет за семью замками храним. В подвалах-с.
А в целом все это не то. Натуру изучайте. Феномены-с. А основ механики не касайтесь. Здесь не вам чета люди трудились. Ньютон-с, к вашему сведению!»
Можно представить, что примерно такую отповедь пришлось бы нам выслушать от какого-либо ординарного профессора физики середины XIX века.
И с горечью приходится признать, что пока нечего возразить. Опыт, весь опыт классической физики свидетельствует против нас. Действительно, ведь обходились раньше без определений.
Тем не менее в данном случае физики основательно просчитались. Лишь Эйнштейн показал, что до теории относительности они, по существу, не знали, с какими представлениями о природе мира, о природе времени и пространства связана их наука.
Сейчас всем ясно, что такие понятия, как время или длина, нуждаются в совершенно четком определении, что в физике нет и не может быть места для самоочевидных утверждений.
Однако необходим был Эйнштейн, чтобы эти замечания, столь убедительные, когда их высказывают в общей форме, на деле стали достоянием ученых.
Физик XIX столетия не интересовался основами основ своей науки в первую очередь потому, что был убежден в невозможности появления каких-либо принципиально новых теорий.
Можно повторить, что в аналогичном случае математики оказались принципиальнее. Примерно два тысячелетия геометры мучились над доказательством пятого постулата Эвклида (постулата параллельности), руководствуясь при этом, пожалуй, только чисто эстетическими соображениями. Постулат о параллельных прямых выделялся среди остальных аксиом геометрии своей сравнительной неочевидностью и обособленностью. Именно это очень не нравилось математикам. Никакой другой причины для объяснения настойчивых попыток доказать пятый постулат не видно.
И авторы неэвклидовой геометрии (Лобачевский, Бояи, Гаусс) пришли к своим представлениям не потому, что геометрия Эвклида не соблюдалась на практике, а на основе чисто умозрительных построений.
Но если математики могли чисто логически прийти к идее, что возможны различные системы аксиом, что пространство может описываться различными геометриями, то физикам такой путь не был доступен. Во-первых, основы физики (ее аксиомы) тогда, по существу, не были разработаны. А во-вторых, сам характер исследовательской работы воспитывал предубеждение против скрупулезных логических, излишне абстрактных рассуждений. И только гений Эйнштейна помог физикам синтезировать оба метода.
Поэтому, зная, что детальный анализ основных положений классической физики необходим для понимания теории относительности, мы можем спокойно продолжать.
Посмотрим, как еще следует дополнить математическое определение длины. Мы оперировали с масштабными отрезками и с реальными физическими свойствами. Но эти свойства изменяются в зависимости от температуры, давления и прочих условий. И может оказаться, что эти свойства всегда изменяются даже в результате движения. Ну, скажем, так. У вас есть два стальных стержня — один в Москве, другой в Ленинграде. Если вы привезете ленинградский стержень в Москву и сравните с московским, они окажутся равны (то есть совпадут). А если заставить ленинградский стержень проделать более длинный путь, он может оказаться короче. Это предположение звучит дико, но оно не исключено.
Очень непривычные и потому очень трудные рассуждения.А возможно, решает не расстояние, а время, которое стержень находится в пути. То есть чем дольше он будет в движении, тем короче (или длиннее) станет.
Тоже звучит дико. Не правда ли? Но если подумать, то придется признать, что эти предположения кажутся нам нелепыми единственно потому, что мы бессознательно, интуитивно привлекаем наш опыт. А опыт говорит, что ничего подобного не происходит.
Еще раз подчеркнем. Подобные вопросы нельзя отбрасывать на основании общих рассуждений, их можно разрешать только путем анализа опытных данных.
А всю совокупность фактов, накопленных физикой, можно выразить таким постулатом.
Постулат № 1. Всегда можно провести движение реального физического стержня относительно масштабного отрезка по любому, наперед заданному пути таким образом, что по окончании движения его длина останется такой же, как и до начала движения, при этом, конечно, предполагается, что прочие физические условия (например, температура) оставались неизменными в процессах движения.
Постулат, который по крайней мере иллюстрирует, насколько хитро строгое аксиоматическое определение длины.Формулируя этот постулат, мы снова не стремились к безупречной строгости. Мы просто пытались, пусть грубо и неполно, отметить опытный факт: «Если в Москве имелось два равных стержня, то один из них можно провезти по всему свету так осторожно, что, вернувшись в Москву, мы найдем после окончания движения, что стержни остались равными».
Используя определение длины и этот постулат, можно утверждать, что если стержень A тождественно равен стержню B, а стержень B — стержню C, то A = C, то есть можно сравнивать длины тел, пребывающих в покое относительно друг друга, но удаленных один от другого на большое расстояние. Это, впрочем, уже тонкости.
Пожалуй, стоит отметить вот какую сторону вопроса. Несколько раньше мы уже сетовали, что в отличие от математиков физики имеют дело с реальными объектами и должны помнить о реальных физических свойствах. Так вот, постулат, по существу, утверждает, что длина физического стержня, участвующего по крайней мере в некоторых видах движения, остается постоянной (и в этом он ничем не отличается от масштабного отрезка), то есть после окончания движения он остается таким же, как и до начала.
Значит, имея определение длины, дополненное постулатом № 1, можно совершенно точно измерять и сравнивать длины неподвижных относительно друг друга предметов[8].
Но пока мы не владеем никаким другим методом определения длины, кроме прикладывания к измеряемому предмету масштаба, и не знаем по-прежнему, как определять длину предмета, который двигается относительно масштабного стержня.
С первой трудностью можно разделаться сразу.
Чтобы измерить длину предмета, неподвижного относительно эталона длины, мы можем воспользоваться любым методом определения длины, разрешенным геометрией, например методом триангуляции, без которого были бы совершенно немыслимы точные геодезические измерения. Идея триангуляции очень проста и, конечно, многим знакома.
Обобщение рецепта измерения. На помощь приходит геометрия.Допустим, нужно измерить отрезок AB. Тогда под произвольным углом к AB строим отрезок AC — базу, — длину которого точно определяем, откладывая масштаб. После этого измеряем угол A и угол C. Узнав их, мы однозначно определим ABC и, использовав формулы тригонометрии, можем вычислить длину AB.
Таким путем, имея базу АС, скажем, зная расстояние между двумя кремлевскими башнями, можно совершенно точно определить расстояние до шпиля университета (AB), не занимаясь утомительным, а часто и невозможным откладыванием масштаба. Полезно помнить, между прочим, что геодезические измерения вообще немыслимы без применения триангуляции.
Но для нас интересно другое. Для измерения длины AB использовался физический процесс, совершенно отличный от процесса измерения длины, данного в определении. Мы не откладывали вдоль AB масштаб, а привлекли измерение углов. Можно ли было утверждать заранее, что длина AB, полученная методом триангуляции, совпадает с длиной AB, измеренной откладыванием масштаба? Не есть ли «триангуляционная длина» AB нечто отличное от «нормальной длины»? Ведь мы использовали два совершенно различных рецепта измерения. Заранее, конечно, мы не могли ожидать такого совпадения.
Однако, вспомнив, что теоремы геометрии доказывают равенство результатов измерения длины путем триангуляции и откладыванием масштаба, а также зная, что в окружающем мире соблюдается наша геометрия[9], мы заключаем, что «нормальная» и «триангуляционная» длины совпадают.
Описывает ли наша геометрия окружающий мир или нет — решает опыт. Если, используя в расчетах геометрию Эвклида, мы получили бы при триангуляции другие результаты, чем при откладывании масштаба вдоль прямой AB, то должны были бы заключить, что в мире осуществляется какая-то другая, неэвклидова геометрия.
Конечно, во всех практических задачах считают, что мир описывается геометрией Эвклида.Все, что сказано о методе триангуляции, конечно, относится и к любому другому процессу определения длины, опирающемуся на геометрию.
Итак, зная геометрию мира (и сведя к ней вопрос об измерении длины), мы сразу овладеваем бесчисленным числом рецептов измерения длины, ибо геометрические теоремы доказывают, что все они тождественны основному рецепту — «откладыванию масштаба».
Приведем теперь краткое резюме. Вот что сделано.
Дано определение понятия длины, заимствованное у математиков. Из определения вытекает, что для измерения длины необходимо иметь выбранный по соглашению вполне реальный эталон длины — масштабный стержень.
Введен постулат, который мог показаться весьма туманным. Но он был необходим, чтобы в вопросах измерения длины неподвижных относительно измерителя тел полностью опираться на геометрию.
Вскользь отмечено, что только опыт показывает, какая геометрия описывает наш мир.
Было установлено, что все рецепты измерения длины неподвижных тел сводятся благодаря геометрии к основному рецепту — откладыванию масштаба.
И в результате… не получено как будто ничего нового.
Мало того, предложенный рецепт измерения не подходит для измерения длины тел, движущихся относительно наблюдателя. Довольно точно, хотя несколько вульгарно, это можно пояснить так: «К движущемуся предмету масштаб не приложить: измеряемый предмет просто-напросто уедет».
Казалось бы, возможно использовать многочисленные косвенные способы измерения, подобные, например, триангуляции. Однако если детально проанализировать все мысленные возможности, окажется, что все способы определения длины движущегося тела в конечном итоге сводятся к следующему рецепту-определению:
Чтобы измерить длину стержня, двигающегося относительно наблюдателя, необходимо одновременно зафиксировать начальную и конечную точки измеряемого стержня на предмете, неподвижном относительно наблюдателя.
После этого откладыванием масштаба измерить расстояние, которое получилось на нашем «неподвижном предмете». Эта длина и есть длина движущегося стержня.
Важнейшее определение. Длина движущихся тел. К этому месту стоит вернуться тем читателям, которые доберутся до главы XII.Если выражаться не так учено, то все сводится к следующему.
Вы стоите, скажем, на платформе железнодорожной станции, снабженные всеми мыслимыми измерительными приборами. Мимо вас едет поезд, длину которого необходимо измерить. Тогда вы:
а) отмечаете на платформе две точки, против которых одновременно находились конец и начало поезда;
б) затем измеряете расстояние между этими точками и говорите, что это и есть длина поезда.
Именно такое определение длины движущихся тел бессознательно принималось в классической физике.
Возможно, многие не убеждены в том, что все применяемые физиками способы измерения длины движущихся относительно наблюдателя тел сводятся только к одновременному фиксированию начальной и конечной точек. Но это утверждение придется принять на веру. А сейчас важно отметить другое.
Если поверить, что действительно с принципиальной точки зрения нет другого рецепта измерения длины движущихся относительно наблюдателя тел, кроме указанного, то:
во-первых, необходимо определить, что такое одновременность событий и как вообще измеряют время;
во-вторых, где уверенность, что новый рецепт измерения даст тот же результат, что и старый — откладывание масштаба?
Но прежде чем отвечать на эти вопросы, подчеркнем одно важное обстоятельство, с непониманием которого очень часто связано непринятие теории Эйнштейна.
Так как старое определение длины (откладывание масштаба) не годится для движущихся тел, мы вынуждены были заново определять, что такое «длина стержня, движущегося относительно масштабного отрезка», вводя тем самым новое физическое понятие.
Это понятие определяется новым процессом измерения. И очень важно уяснить, что мы не можем, не имеем права считать, что длина движущегося тела обязательно совпадет с длиной неподвижного тела, которую мы уже определили ранее. И только опыт скажет, будут ли эти длины совпадать или нет[10].
Но определение длины движущихся тел таково, что никакими логическими доводами не докажешь: «Длина движущегося тела — то же самое, что длина неподвижного тела». По существу, это два различных физических понятия.
Конечно, в классической физике (физике малых скоростей) длину движущихся тел определяли (точнее, бессознательно определили) так, чтобы она совпадала с длиной неподвижного тела. Опыты показывали, что совпадение было. Но когда добрались до скоростей, близких к световой, те же опыты показали уже другое. Оказалось, что на самом деле совпадения нет. Это было очень непривычно, но и не более…
Чтобы разобраться в понятии «длина движущегося тела», необходимо выяснить:
1. Что такое время?
2. Что такое одновременность?
Но перед этим полезно уделить немного внимания эталонам.
Эталоны. Их значение и чуть-чуть истории.Вероятно, все слышали, что в каждом солидном государстве существует Палата мер и весов, где исключительно бережно хранятся эталоны длины, веса, времени и всех прочих физических величин.
Но, возможно, далеко не все задавались вопросом: имеют ли эти палаты какой-либо практический смысл, или они просто являют собой торжество чистой науки?
Любопытно, что иногда по этому поводу можно услышать, что точные часы в Палате мер и весов, безусловно, необходимы, а вот эталон метра спокойно можно выкинуть. Все равно никто его не использует.
Опять поучения.Подобные замечания прекрасно иллюстрируют, как мы склонны, сознательно или несознательно, обобщать свой личный опыт, создавать правила, используя привычные, обыденные факты (в данном случае ежедневную проверку своих часов по сигналам точного времени).
Однако поскольку довольно ясно, как практически важны эталоны длины (так же, конечно, как и эталоны других физических величин), вряд ли стоит тратить время на опровержение подобных взглядов.
Наш современный эталон длины — метр — и, соответственно, вся метрическая система измерения введены в годы Великой французской революции. Метр был определен несколько необычно — как «одна сорокамиллионная (1/40 000 000) часть земного меридиана». Иными словами, за основной реальный объект, который предъявляет физик при измерении длины, был взят довольно неудобный предмет — Земля.
С таким странным выбором эталона связана любопытная история.
Председателю комиссии по введению метрической системы и автору этой системы замечательному французскому математику Лапласу для своих работ необходимо было точно измерить земной меридиан. Но в те годы Франция вела непрестанные тяжелые войны, и никто, конечно, не дал бы ему средств на организацию экспедиции, посвященной столь абстрактной проблеме.
Иное дело — решение такой практически важной задачи, как введение новой удобной и простой системы мер. До введения метрической системы во Франции, да и во всем мире, с измерениями царила жуткая неразбериха: чуть ли не в каждой провинции была своя система, причем все они были исключительно неудобны.
Лаплас (который, кстати, был недурным политиком, хотя, мягко говоря, не очень щепетильным и принципиальным государственным деятелем) запросто убедил всех, что измерение земного меридиана необходимо для введения новой системы мер.
Меридиан (точнее, дуга меридиана) был измерен. Наука получила очень важные данные, а человечество — очень удобную систему мер, быстро распространившуюся по всей Европе, исключая Британскую империю.
Англичане, как известно, весьма уважают традиции и старину и остались верны футам, дюймам и ярдам (хотя Кельвин как-то ехидно заметил, что английская система мер была бы самой нелепой в мире, если бы не существовало английской денежной системы).
Различные сведения об эталонах длины. Рассуждения.После измерения меридиана был изготовлен металлический стержень — метр. Он и есть наш масштабный стержень — эталон.
Представители многих стран договорились расстояние между штрихами на этом стержне считать единицей длины. Все линейки, все шкалы измерительных приборов в конечном итоге скопированы с этого метра.
Дальнейшие более точные измерения показали, что архивный метр только приблизительно равен одной сорокамиллионной доле земного меридиана, но эталон из-за этого менять не стали. С парижского метра сняли точнейшие копии и разослали их во все государства. У нас в Советском Союзе за государственный эталон принята копия № 28 — стержень, изготовленный из платино-иридиевого сплава.
Непосредственно с этой копии градуируют шкалы наиболее точных измерительных приборов. С их шкал, в свою очередь, копируют шкалы менее точных и так далее, до школьной сосновой линейки, находящейся, пожалуй, на низшей ступеньке феодальной лестницы, на вершине которой царит парижский метр.
В общем вспоминается та незримая нить, которая, по авторитетному свидетельству горьковского жандарма, связывала государя императора с каждым дворником Российской империи.
А что будет, если парижский метр погибнет или, еще проще, изменит свои свойства?
Поскольку есть его точнейшие копии, реально — ничего страшного: «небольшой дворцовый переворот».
За эталон длины по международному соглашению примут, например, лондонский или московский метр. И так как новый эталон с высочайшей степенью точности совпадает с парижским метром, то перемена правления (эталона) не затронет «народ» — измерительные приборы. Все останется по-прежнему. В самом крайнем случае, если испортились и эталон и все его точные копии, можно будет восстановить эталон длины, опять измерив меридиан Земли. Впрочем, подобные предположения относятся к той фантастике, которая допустима только в детективно-фантастических романах.
Но если бы (что сравнительно реально) московский метр слегка удлинился от повышения температуры, в Советском Союзе была бы порядочная неразбериха и путаница, пока не установили бы, что копия испортилась. Поэтому эталоны длины хранят в глубоких подвалах, где все время поддерживается постоянная температура, исключены малейшие сотрясения и т. д. (Кстати, поэтому же эталоны готовят из сплавов с минимальным коэффициентом теплового расширения.) Короче, эталоны хранят в таких условиях, чтобы быть уверенными в неизменности их свойств.
Кажется, в Париже помещение, где находятся эталоны физических величин, заперто на три замка. Ключи от этих замков хранят три руководящих сотрудника Палаты, не передавая их никому другому. Чтобы проникнуть в хранилище, необходимо их одновременное согласие и присутствие. Пожалуй, это один из немногих случаев, когда можно приветствовать бюрократические методы.
Естественно, все, что сказано об эталоне длины, относится и к эталонам любой физической величины. Суть одна. Физики берут какой-то реальный предмет (или реальный физический процесс), свойства которого сохраняются неизменными, и говорят: «Вот единица длины (или единица массы, электрического сопротивления, времени и т. д.). Мы так условились, и теперь извольте все измерения производить нашей единицей». Понятно, что если свойства эталона нестабильны, то с измерениями произойдет такая путаница, что измерителя выгонят вон вместе с эталоном.
Об эталоне длины можно рассуждать еще весьма долго. Мы, например, совершенно умолчали, что в наши дни в качестве эталона длины следует выбрать длину волны какой-либо линии испускания или поглощения в спектре атома[11]. Такой эталон хорош, поскольку весь опыт физиков показывает, что его свойства остаются неизменными.
Например, длина волны желтой линии натрия (желтого дублета натрия) неизменна для всех атомов натрия на Земле. Главное достоинство такого эталона в том, что он всегда под руками. Впрочем, есть и существенный недостаток — эталон очень мал (порядка микрона — 10-4 см).
У нас нет возможности рассказывать обо всем этом более подробно. Но стоит упомянуть об истории системы мер.
Представьте, что историк прочел в древнегреческой книге: «Высота Александрийского маяка была 0,8 стадия». Не надо читать все предыдущее, чтобы понять, что этим мало что сказано. Чему равен стадий? Что это за единица длины?
Вы можете встретить и в других местах упоминание о стадии, можете узнать, сколько локтей (другая единица длины) содержит стадий, но пока вам не предъявят реальный предмет и не скажут: «Вот этот меч имеет длину один локоть, а в стадии 360 локтей», — вы ровно ничего не узнаете.
Мало того, вы еще должны быть уверены, что эталон сохранился неизменным.
Но и этого недостаточно. Допустим, в другой книге есть указание, что наименьшая ширина Геллеспонта — 4 стадия. Геллеспонт (Дарданеллы) существует и сейчас, и вряд ли изменилась ширина пролива. Но кто знает, с какой точностью измерили его греки? Этот пример перекликается с забавной историей определения длины земного меридиана. С детских лет мы слышим, что Эратосфен Киренский определил окружность Земли с удивительной точностью. Он получил 39 681 километр. Однако не очень ясно: как это стало известно? Ведь у Эратосфена длина меридиана определена в стадиях — 252 тысячи стадий. Очевидно, как-то определили, чему равен стадий. Изумительное по четкости сообщение можно найти в энциклопедическом словаре.
На число 39 681 следует обратить внимание, как на пример бессмысленного стремления к точности.Стадий — древнегреческая мера длины: 174–230 метров!
Удивленный подобной точностью, я обратился к специалисту по древнегреческой истории. Он перерыл довольно много книг, прежде чем сообщил результаты. И увы! Создалось впечатление, что о системе мер у греков нам почти ничего не известно. Неясно, была ли вообще в эллинском мире единая система мер. Имели ли греки эталон длины? Чему равен стадий? И наконец, с какой точностью Эратосфен вычислил земной меридиан? Правда, на египетских гробницах высечены эталоны локтя, но никто, кажется, не знает, был ли этот локоть принят во всей Элладе. Вообще историки как будто не слишком интересуются историей системы мер, считая, что это частный вопрос. А, между прочим, по качеству системы мер можно очень много сказать о развитии, например, торговых связей. Широкая торговля, особенно денежная, немыслима без существования эталонов длины и веса.
Любопытные сведения имеем мы об эталоне длины у арабов. Там эталоном считалась толщина волоса с морды осла. Вряд ли имеет смысл объяснять, как нестабилен эталон, целиком определяемый личными качествами осла, которые, как показал многовековой опыт человечества, весьма разнообразны.
Еще более анекдотичен с нашей точки зрения эталон древних монголов — дневной конский переход. Тут уж ни о какой стабильности говорить не приходится, хотя соратников Чингисхана подобное измерение расстояний, очевидно, вполне устраивало.
Интересно также отметить, как практика диктует выбор эталона длины. Единица длины обычно выбиралась соразмерно с человеческим телом.
Ярд, как гласит предание, — это расстояние от кончика носа короля Генриха II до концов пальцев его вытянутой в сторону руки. Фут выдает само название (ступня). Локоть древних — тоже. Русская сажень — расстояние между пальцами раскинутых рук. И наконец, хитроумный Лаплас за единицу длины выбрал — 1/40 000 000 земного меридиана просто потому, что метр — длина того же порядка, что и рост человека.
На этом с длиной закончим…
Здесь начинается обсуждение понятия времени в физике. Это важнейший вопрос, но многое для читателя, вероятно, окажется неожиданным, а потому и сложным.Пожалуй, до Эйнштейна почти никто не задумывался над вопросом: что же такое время? Практически физики удовлетворялись загадочным определением Ньютона.
Впрочем, надо заметить следующее.
Развернутую критику основных положений механики Ньютона провел Эрнст Мах. Это имя хорошо известно как имя автора реакционной идеалистической философской системы — махизма.
Что касается его философских взглядов, а также физических выводов общего характера, сделанных им на основе своей философской системы (например, отрицание существования атомов), тут, мягко говоря, ничего хорошего не скажешь.
Но его критика Ньютона, безусловно, в целом была прогрессивна, и Эйнштейн не раз упоминал, что эти работы Маха оказали на него большое влияние.
В работе Маха существенна негативная часть — фиксирование ошибок или бессодержательных положений Ньютона. Полной ясности в основные положения механики Мах, конечно, не внес. Его положительные утверждения также во многом ошибочны или бессодержательны. Но заслуга Маха в том, что он первый пробил брешь в стене слепого преклонения перед Ньютоном.
Ньютон о времени. Абсолютное время — образец бессодержательного определения.Вот что писал о времени Ньютон: «Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по своей сущности без всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно и иначе называется длительностью».
«Относительное, кажущееся или обыденное время есть или точная, или изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо движения мера продолжительности, употребляемая в обыденной жизни вместо истинного математического времени, как-то: час, день, месяц, год».
И еще очень интересное для нас замечание:
«Дело в том, что естественные солнечные сутки, которые мы обыкновенно как меры времени считаем равными, в действительности не равны».
Это определение абсолютного времени великолепно иллюстрирует, как Ньютон-философ противоречит Ньютону-физику.
Ньютон-физик признает только те физические понятия, которые можно реально исследовать. Ньютон-философ навязывает Ньютону-физику совершенно бессодержательное понятие абсолютного времени, причем само определение исключает возможность сказать что-либо об этом времени. Та же самая история повторяется при определении понятия пространства.
Ньютон-физик в таких вопросах безмолвствует и утешается только тем, что эти понятия он, по существу, не использует при решении конкретных задач. Впрочем, иногда физик позволяет себе скептические замечания, которые совсем не вяжутся со взглядами философа, но философ быстро призывает его к порядку.
Надо заметить, что ньютоновское абсолютное время введено крайне неудачно и с философской точки зрения, поскольку, если верить Ньютону, время никак не связано с материей.
Используя опыт определения понятия длины, мы сравнительно просто расправимся и с временем. Будем действовать по аналогии.
Прежде всего нам необходим эталон времени, аналог масштабного стержня.
Чтобы иметь эталон времени, мы должны взять какой-либо физический процесс (например, вращение Земли вокруг своей оси) и объявить: «Длительность этого процесса и есть единица времени».
Стоит еще раз напомнить, что речь идет о, так сказать, «физическом», а не о философском определении времени.Так мы создаем часы — эталон. Причем эталон времени, так же как эталон длины, обязан сохранять постоянными свои свойства, должен оставаться неизменным.
Иными словами, чтобы создать часы, мы должны взять за основу такой физический процесс, который можно тождественно повторить сколь угодно большое число раз. И безразлично, повторяется ли этот процесс сам по себе, по своей природе (как вращение Земли вокруг своей оси), или мы искусственно можем создать условия повторяемости (часы с маятником).
Как видите, определение эталона времени очень сходно с определением эталона длины.
Имея эталон времени, мы, естественно, должны сформулировать рецепт измерения времени. И уж после этого можно облегченно вздохнуть.
Но прежде чем давать рецепт, вспомним замечание Ньютона:
«Естественные солнечные сутки[12], которые мы считаем равными, в действительности не равны».
Начинается детальный и кропотливый анализ, казалось бы, совершенно ясного вопроса, и, естественно, все усложняется.После сказанного выше эти слова не очень понятны — ведь если за эталон времени мы взяли солнечные сутки, то тем самым мы решили, что они равны между собой по определению.
Тогда бессмысленно как будто ставить так вопрос: «Равны между собой сутки в действительности или нет?»
Но не будем торопиться с выводом. Уже несколько раз упоминалось, что существеннейшее требование, предъявляемое к эталону, — неизменность его свойств. И пожалуй, давно пора ответить на вопрос, который, вероятно, возник у многих.
Как установить, что свойства эталона (например, длина эталона длины) изменились или остались неизменными? И вообще какой смысл вкладываем мы в эти слова? Что значит «остались неизменными»? По отношению к чему?
Ставится, вероятно, неожиданный, но существенный вопрос.Ведь эталон сам определяет единицу измерения той или иной физической величины, и ему мы обязаны верить в первую очередь. Предъявив реальный предмет — единицу измерения, мы тем самым кладем конец всяким разговорам. Можно считать, что парижский метр, по определению, останется единицей длины, даже если он, например, расширится от нагревания.
И такое решение будет совершенно логично.
Однако часто построения, безукоризненные с точки зрения логики, могут не иметь ничего общего с реальным миром. Самые яркие тому примеры дает математика. Можно построить очень много логически безупречных геометрий, но в реальном мире осуществляется какая-то одна-единственная.
Поэтому если эталон длины — метр — вдруг перестанет совпадать со всеми своими копиями, а между копиями по-прежнему будет царить полное согласие, физик скажет, что его эталон в действительности испортился, и выберет новый.
Но заметить, что свойства эталона изменились, можно только одним путем — сверить эталон по объектам, в неизменности свойств которых нет оснований сомневаться. Если будет получен новый результат — значит эталон изменился. Поясним примером.
Если представить себе десяток трехлетних ребятишек, выбравших за неизменный эталон длины рост одного из своих сверстников, то с их точки зрения может оказаться, что рост любого члена компании остается почти неизменным. Более того, если выбранный ими «эталон» станет опережать остальных в росте, они будут горестно утверждать, что их рост уменьшается.
Но довольно скоро они заметят, что все окружающие предметы: стулья, столы, родители, комната, собаки — становятся как бы меньше (точнее, не такими большими). Тогда наиболее толковый заключит и, вероятно, быстро убедит остальных, что «на самом деле» все они растут. Старый «эталон» будет свергнут, и они выберут новый: например, за эталон возьмут отметку на двери, сделанную отцом.
Причем расстояние от пола до этой отметки они будут считать строго неизменным, поскольку соотношение между этим расстоянием и окружающими предметами не будет нарушаться.
В принципе точно так же рассуждают и ученые.
Под руками у физика сотни самых разнообразных предметов, соотношения между которыми ему известны. Если говорить о длине, то ученые располагают парижским метром, десятками его копий и сотнями и тысячами объектов, длина которых измерена эталоном. Например, длина земного меридиана приблизительно равна 40 000 000 эталонов длины. И это соотношение изменится только в том случае, если изменит свои свойства либо Земля, либо метр.
Пусть прямыми измерениями когда-то были установлены соотношения между эталоном длины и самыми разнообразными по своим свойствам объектами (длины волн в спектре атомов, длина земного меридиана, копии метра и т. д.).
Если эти соотношения между всеми объектами остаются неизменными, можно утверждать, что длина каждого объекта неизменна.
Действительно, все соотношения остаются неизменными, поэтому если длина и изменяется, то совершенно идентично у всех изучаемых предметов. А нет никаких оснований думать, что есть какая-то скрытая причина, которая совершенно единообразно (пропорционально) изменяет длину самых разнородных по своей природе объектов.
Уместно вспомнить слова Ньютона: «Скрытым свойствам нет места в натуральной философии!»
Напротив, если нарушится соотношение между одной из копий эталона со всеми остальными, мы говорим, что данная копия эталона изменила свои свойства.
В целях удобства один из таких объектов объявляется «главным» эталоном, а остальные — его копиями.
Но если нарушатся соотношения между «главным» эталоном и его копиями, мы скажем, что его свойства изменились, и поступим так же, как мальчишки, о которых шел разговор, — за эталон длины выберем какую-нибудь из копий.
Конечно, все только что сказанное относится не только к длине, но и ко времени и вообще ко всем основным физическим величинам.
Итак, по существу, физик имеет не один эталон длины, времени и т. п., а целое семейство эталонов. Причем замечательно, что его члены должны иметь как можно меньше физического родства. Пока в «семье» царит согласие, мы говорим, что свойства каждого члена остаются неизменными. Если мы, исследуя новый физический объект, замечаем, что соотношения между ним и каждым членом семьи эталонов остаются неизменными, эталоны принимают его в свою фамилию.
Но как только один из «родственников» нарушает согласие, его безжалостно выкидывают на улицу.
Поэтому можно сказать: «Длина предмета изменилась в действительности, если изменились соотношения между каким-либо предметом и всем семейством эталонов длины».
Точно так же, установив изменение соотношения между солнечными сутками и всем семейством эталонов времени (звездными сутками, периодами полураспада радиоактивных элементов, периодами колебаний пьезокварцевой пластинки и т. д.), мы говорим, что в действительности изменяется продолжительность солнечных суток.
Но в эти слова мы вкладываем совсем другой смысл, чем Ньютон. Он говорил об изменении продолжительности суток по отношению к некоему неведомому «абсолютному времени». Мы же говорим об изменении продолжительности суток по отношению к семейству эталонов времени. Этот и только этот смысл имеют слова «в действительности».
Очень существенно отметить вот что.
Уточнив понятие эталона, введя понятие семейства эталонов, мы уже не субъективно рассуждаем о неизменности свойств эталона, а используем объективные свойства реального мира. Неизменность соотношений между эталонами — совершенно реальный факт реального мира, и поэтому утверждение, что свойства семейства остаются неизменными, совершенно объективно.
Можно, однако, предложить неприятный, хотя и достаточно странный вопрос.
Разбирается некий пример, принадлежащий, очевидно, какому-либо агностику.Представьте себе, что жители туманности Андромеды (если верить И. А. Ефремову, они значительно опередили в своем развитии жителей нашей планеты), обладая значительно более мощными, чем мы, телескопами, установили, что с их точки зрения доступная нашему обозрению часть вселенной непрерывно пульсирует. Измеряя своими эталонами, они убедились, что все наши предметы и расстояния между предметами совершенно единообразно увеличиваются и уменьшаются.
Допустим, «с их точки зрения» все линейные размеры, и в том числе, конечно, линейные размеры семейства эталонов длины, абсолютно единообразно периодически уменьшаются и возрастают в 100 раз.
Для жителей туманности Андромеды этот факт будет таким же объективным и реальным, как для нас утверждение, что линейные размеры семейства эталонов длины остаются неизменными.
Действительно, поскольку согласие внутри семейства эталонов не нарушилось, мы не заметили бы, что все линейные размеры периодически изменяются.
Что происходило бы «в действительности»? Не с нашей точки зрения, не с точки зрения гипотетических жителей этой самой туманности Андромеды, а в реальном, объективном мире, который, как известно, не зависит ни от каких точек зрения?
Может быть, ответ мы получим, вспомнив, что есть физические законы, связанные с расстоянием и с другими физическими свойствами. Это, например, законы взаимодействия частиц, закон всемирного тяготения, закон Кулона, законы межмолекулярных взаимодействий. Ведь поскольку с нашей точки зрения все физические законы и свойства остаются неизменными, жители туманности Андромеды увидели бы, как периодически меняется масса тел, закон всемирного тяготения, законы межатомных взаимодействий — словом, все физические свойства и законы нашей части вселенной. Они говорили бы, что эта часть вселенной — удивительный мир, законы которого поразительно странны.
А мы были бы уверены, что все законы природы остаются неизменными. Может ли так случиться? Ну что ж, такое предположение еще более странно, но чем черт не шутит…
Возможно, ученые двух миров, встретившись между собой где-нибудь на нейтральной почве — скажем, в районе туманности Лиры, — увидели бы что-то совершенно, новое (допустим, пульсировали бы оба мира).
Так что же все-таки происходило бы в действительности в реальном, совершенно не зависящем от любого из наблюдателей едином мире?
А в мире совершенно реально, совершенно независимо от наблюдателей происходило бы вот что: изменялись бы вполне определенным образом все физические соотношения между частями вселенной. И каждый из наблюдателей описывал бы эти изменения, используя те понятия и законы, которые он установил, изучая свою часть вселенной.
Все наблюдатели опирались бы на вполне объективные факты, на свои совершенно объективные определения основных физических понятий. И каждый рассказал бы, что происходит в действительности, на своем языке, потому что физические понятия и физические законы — это наш язык для описания реального мира.
Таким образом, в рассматриваемом совершенно невероятном случае были бы правы и жители туманности Андромеды и мы, жители Земли.
Почему мы склонны считать, что рассмотренный пример абсолютно фантастичен? Только поэтому, и никаких других оснований нет, что ни один опыт не заставляет нас предположить что-либо подобное.
И мы уверенно говорим, что звездные сутки неизменны в действительности. Хотя твердо помним, какой смысл имеют эти слова, и не будем слишком поражены, узнав, что с точки зрения наблюдателя, находящегося в других физических условиях, это неправильно. Мы быстро договоримся с этим наблюдателем, с какой точки зрения описывать реальный мир. Вероятно, будет избрана наиболее простая и логически более стройная система законов. Но это уже другой вопрос. Важно, чтобы оба описания отражали реальность.
Впрочем, и звездные сутки сейчас «скомпрометированы». Самые надежные эталоны — кварцевые, молекулярные и атомные часы.Как видите, для выяснения, казалось бы, абсолютно четких слов «в действительности» потребовался сложный анализ.
Почему стоило потратить на это время?
Только для того, чтобы по возможности ясно представить природу физических понятий. После этого идеи и выводы Эйнштейна не должны особенно смущать. Так что сейчас мы страдаем для будущего.
…Теперь дадим рецепт измерения времени и покончим с этим понятием.
Чтобы измерить длину, необходимо было уметь делить эталон длины на сколь угодно малые равные части. Аналогично, чтобы измерить время, необходимо уметь делить на малые равные части эталон времени.
Возвращение к рецепту измерения времени. Этот отрывок имеет особое значение для понимания теории Эйнштейна.С длиной было сравнительно просто — нас выручила геометрия. Но понятие времени в геометрии отсутствует, и придется обойтись без помощи математиков.
Разбить эталон любой физической величины на равные отрезки — значит ввести, по существу, в семейство эталонов новый, меньший эталон. Мы всегда сможем его найти среди бесчисленного числа физических процессов, нас окружающих[13].
Если есть эталон — часы, то, чтобы измерить продолжительность любого физического процесса, достаточно засечь показания часов одновременно с его начальным и конечным моментами. Интервал времени, прошедший на часах, и определяет продолжительность исследуемого явления.
Но что значит, что два физических события произошли в одной точке пространства одновременно? Кажется, это довольно очевидно. Однако, чтобы читатель знал, что его страдания не напрасны, заметим: это «очевидное» понятие — центральный пункт теории Эйнштейна.
Дадим строгое определение:
Определение 1. Два события, происшедших в одной и той же точке пространства, и таких, что, вообще говоря, любое из них может быть причиной или следствием другого, называются одновременными в том единственном случае, когда ни одно из них не может быть причиной или следствием другого.
Это определение остается и в теории Эйнштейна.Ясно и логично. Не так ли? После такого определения нам не составит никакого труда сравнить, например, ход двух часов, находящихся в одной точке пространства.
А как это сделать с часами, находящимися в разных точках?
Кажется, тоже ясно. Надо одновременно засечь показания обоих часов.
Но как это сделать? Ведь мы определили понятие «одновременности двух событий, происшедших в одной точке». А что означает: «два события произошли одновременно в разных точках пространства»?
Приходится дать еще одно определение.
Определение 2. Два события, происшедших в разных точках пространства, называются одновременными в том единственном случае, когда ни одно из них не может быть причиной или следствием другого.
А вот это определение пришлось существенно изменить.Итак, определение дано. Но вот что осталось неясным. Пусть в одной точке пространства X1 произошло событие A. Вообще говоря, пройдет некоторое время, прежде чем в другой точке — X2 — смогут узнать, что это событие произошло.
Пожалуй, стоит пояснить эти несколько абстрактные рассуждения примером.
Совсем недавно в газете появилась заметка «Секундомеры щелкают одновременно». Речь шла о том, что раньше судья на финише беговой дорожки не мог точно зафиксировать момент стартового выстрела. Пока звук доходил от старта к финишу, терялись десятые доли секунды (для стометровой дорожки — больше 0,2 сек.). Теперь к пистолету судьи-стартера приделана лампа-вспышка, синхронно срабатывающая с выстрелом, и судья на финише пускает секундомер, как только увидит свет[14]. Считается, что эти события (выстрел и пуск секундомера) происходят одновременно. Но если рассуждать строго, придется признать, что выстрел на старте (точка X1 и событие А) и пуск секундомера (точка Х2 и событие В) по-прежнему неодновременны. Ведь свету потребовалось время, чтобы добраться до финиша, хоть и ничтожно малое, но все же потребовалось. И то, что судья на финише нажимает секундомер, как раз вызвано вспышкой на старте (событие В причинно связано с А).
Слегка нарушим «детективный» стиль и признаемся, что именно это предположение лежит в основе теории относительности.Однако самые любопытные выводы получатся, если допустить, что существует максимально возможная конечная скорость передачи сигналов (может быть, скорость света?). Тогда есть и какое-то минимальное время tинф, за которое сигнал от Х1 дойдет в Х2 (от старта к финишу).
Но если так, то любая пара событий в точках Х1 и Х2, разделенных интервалом времени, меньшим времени информации, не может быть связана соотношениями причины и следствия. (Нельзя сообщить на финиш о выстреле судьи стартера быстрее, чем световым лучом. А пока луч идет…)
Значит, если следовать нашему определению, то событию А в точке Х1 будет соответствовать сколь угодно большое число одновременных с ним событий в точке Х2. И раз так — определение не однозначно.
Как видите, приходится обсуждать и такое «очевидное» понятие, как одновременность. Странно, но, по-видимому, одновременность двух физических событий в разных точках пространства отнюдь не самоочевидное понятие.
В общем такой докучливый анализ может порядком утомить.
Поэтому давайте введем гипотезу: «Имеются, по крайней мере принципиально, сигналы, которые распространяются с бесконечно большой скоростью».
Вот эта гипотеза оказывается как раз и неверной.Теперь можно однозначно определить два одновременных события в разных точках пространства. А значит, можно сравнить ход часов, расположенных в двух различных точках, и установить, в частности, синхронны они или нет.
Неправильное доказательство. Законы тяготения Ньютона справедливы только приближенно.Откуда взята наша гипотеза? Строго говоря, у физиков не было почти никаких доводов в ее пользу. Впрочем, один был. Дальше мы увидим, что вся теория тяготения основана на предположении, что тяготение распространяется с бесконечно большой скоростью. А теория тяготения Ньютона соблюдается идеально точно. Это опытный факт. Тяготение и есть пример сигнала с бесконечной скоростью. Следовательно, постулат о распространении сигнала с бесконечной скоростью тоже результат опыта.
На этом с определением понятия времени и одновременности покончим и сделаем выводы.
Нет никаких оснований считать, что вся наша система понятий длины и времени справедлива сама по себе. Все положения, все постулаты опираются на опыт и только на опыт. Поэтому можно быть уверенными, что хотя бы приближенно они верны. Но если новые опыты покажут, что, строго говоря, наши выводы несправедливы, мы их изменим. И при этом никакой трагедии не произойдет. Мы просто еще раз отметим, что наши постулаты лишь приближенно описывают реальный мир. И порадуемся тому, как убедительно доказывает нам это «верховный судья физики — эксперимент»[15].
Глава IV,
недостатки которой отчасти искупает эпиграф. В этой главе довольно сухо и многословно объясняется, что такое система отсчета, а также неоднократно повторяется очень существенная мысль: «Пока не указана система отсчета, всякие разговоры о механическом движении совершенно лишены содержания»
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.
ПушкинНьютон. Механика
(анализ основных понятий: движение)
Начнем с цитат. Исаак Ньютон — «Математические начала натурфилософии» (из основных определений):
«Абсолютное пространство, благодаря своей природе безотносительно к чему-либо внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным».
«Относительное пространство есть мера или подвижная часть абсолютного пространства; наши чувства обозначают относительное пространство положением относительно каких-либо тел и обыкновенно принимают за пространство неподвижное».
Взгляды Ньютона на пространство и движение.«Место есть часть пространства, занимаемая телом, и по отношению к пространству бывает или относительным, или абсолютным».
«Абсолютное движение есть перенесение тела из одного абсолютного места в другое. Относительное — из одного относительного места в другое… Мы не без удобства пользуемся в делах житейских относительными местами и движениями вместо абсолютных; в философских же вопросах необходимо отвлечение от чувств. Может оказаться, что в действительности не существует покоящегося тела, к которому можно было бы относить места и движения прочих».
Все это говорит Ньютон-философ. Он, а не физик вводит абсолютное пространство и абсолютное движение.
Абсолютное пространство находится вне связи с материей, вне связи с чем-либо внешним. Это чисто абстрактное, умозрительное понятие. Некое загадочное вместилище божественного начала.
Но Ньютон-философ, Ньютон-богослов верует. Он верует в господа и в абсолютное пространство. Он удивительным образом забыл свое собственное правило: «Не должно требовать в природе других причин сверх тех, которые истинны и достаточны для объяснения явлений».
Да простит тень великого Ньютона столь непочтительные слова, но факт остается фактом — физического содержания в определении абсолютного пространства нет!
Но вот звучит голос физика: «Впрочем, узнавать истинные движения отдельных тел и отличать их от мнимых очень трудно, потому что части того неподвижного пространства, в которых тела действительно движутся, не могут быть чувственно познаны… Дело, однако, не вполне безнадежно».
Ньютон об абсолютном и относительном движении.И на поле боя в защиту философа выступает Ньютон-физик, как всегда во всеоружии своего поразительного таланта. Он предлагает способ определения абсолютного пространства. Он полагает, что может найти «истинное движение» — движение относительно абсолютного пространства. И тем не менее…
Впрочем, не стоит преждевременно навязывать выводы; послушаем лучше самого Ньютона:
«Действующими причинами, из-за которых абсолютные и относительные движения различны между собой, являются центробежные силы, направленные от оси движения. При движении в круге только относительном эти силы не существуют. Но они бывают больше или меньше в зависимости от величины абсолютного движения.
Знаменитый ньютоновский опыт с вращающимся ведром!Подвесим, например, сосуд на очень длинной нити и будем вращать его до тех пор, пока нить не закрутится очень сильно. Потом наполним этот сосуд водой. Если теперь под действием мгновенной силы сосуд станет вращаться в противоположном направлении и это движение будет продолжаться долго, поверхность воды будет сначала плоской, как до движения сосуда[16], но потом, когда сила[17] начнет постепенно действовать на воду, стенки сосуда увлекут воду в своем движении, и она начнет вращаться. Постепенно жидкость отдалится от середины (оси вращения), подымется у стенок сосуда, и в результате образуется некоторое углубление в виде воронки (этот опыт я проделал сам).
Вначале, когда движение воды в сосуде относительно стенок сосуда было наибольшим, вода не обнаруживала ни малейшего стремления удалиться от оси. Она не стремилась приблизиться к краю, поднимаясь вдоль стенок, а оставалась плоской, и истинное кругообразное движение жидкости еще не начиналось.
Но потом, когда относительное движение воды стало уменьшаться, ее поднятие по стенкам сосуда стало указывать на стремление удалиться от оси.
Это стремление указывало на все возрастающее истинное круговое движение воды. Когда, наконец, это движение стало наибольшим, вода относительно сосуда находилась в состоянии покоя».
Итак, появляется критерий абсолютного движения — центробежные силы. Наличие центробежных сил всегда можно установить либо по форме движущегося тела, либо по внутренним напряжениям, которые возникают в теле, — словом, их легко обнаружить.
Может быть, Ньютон действительно нашел способ определения абсолютного движения, а следовательно, и абсолютного пространства?
Может быть, его определение абсолютного пространства просто не очень удачно сформулировано, но им указан реальный путь для определения абсолютного пространства и движения?
Опыт показывает, что центробежные силы возникают в теле в том случае, если оно вращается относительно неподвижных звезд.
Может быть, имеет смысл говорить, что движение абсолютно, если оно происходит относительно звезд?
Может быть, неподвижные звезды и определяют абсолютное пространство?
Итак, существует ли такое движение, о котором можно говорить, как об абсолютном? Или всякое механическое движение относительно?
Внимание! Это центральный, важнейший вопрос.Не предрешая ответа, мы перейдем к анализу, «по-видимому, всем знакомого» понятия движения.
Прежде всего — главнейшее. «О движении механическом имеет смысл говорить, только указав систему отсчета или в конечном счете какие-то реальные физические объекты, которые считаются неподвижными. Пока система отсчета („неподвижные тела“) не указана, слова „тело движется“ лишены всякого содержания».
И, как видно из предыдущих страниц, Ньютон это великолепно понимал. Говоря об относительном движении, он, собственно, и вводит понятие системы отсчета. Причем именно Ньютон первый из физиков осознал, какую решающую роль имеет система отсчета. Даже сам Галилей не имел о ней ясного представления, а значит, не имел четкого понятия и о механическом движении. Он обрывает свой анализ как раз тогда, когда надо ответить: «Что же такое движение?»
И снова внимание!И это не удивительно.
Несмотря на свою кажущуюся очевидность, понятие системы отсчета настолько абстрактно, что могло возникнуть лишь на довольно высокой стадии развития науки.
Этот тезис подтверждает, в частности, хотя бы такое несколько неожиданное обстоятельство. Даже в наши дни многие люди, знакомые с механикой и способные решать задачи, недоступные Ньютону, теряются при вопросе: что же происходит «на самом деле» — паровоз движется относительно Земли или Земля относительно паровоза?
Так чем же определяется выбор системы отсчета? Какие конкретные тела следует считать неподвижными?
Тела, которые надо считать неподвижными — систему отсчета, — мы выбираем по своему произволу. Точнее, выбор системы отсчета определяется соображениями простоты и удобства.
Сегодня, рассматривая полет снаряда, мы выбираем систему отсчета, жестко связанную с Землей. Завтра, рассматривая движение Земли, мы выбираем систему, связанную с Солнцем. А изучая Солнце, мы относим его движение к системе, связанной со звездами.
Поскольку выбор системы отсчета (координатной системы) произволен, пассажир поезда Москва — Ленинград и провожающие его на вокзале родственники имеют равные основания утверждать, что они находятся в состоянии покоя.
Пассажир может ввести систему отсчета, жестко связанную с вагоном, и в этой системе Ленинградский вокзал в Москве (вместе с родственниками, конечно) будет двигаться, удаляясь от начала координат.
А в системе отсчета, жестко связанной с Землей, естественно, движется поезд.
Если в обыденной жизни любой человек скажет, что «на самом деле», конечно, двигается поезд, то объясняется это очень просто. Интуитивно, используя повседневный опыт, мы всегда выбираем систему отсчета, связанную с Землей.
Пример геоцентрической[18] системы Птолемея лучше всего показывает, как может подвести такая интуиция.
Но, может быть, среди всех бесчисленных возможных систем есть одна (одна!) особая и неповторимая, такая, физические свойства которой столь резко отличаются от свойств любой из бесчисленного множества возможных систем отсчета, что есть основания считать ее абсолютной?
Стоит напомнить, что вопрос о существовании абсолютной системы и абсолютного движения пока по-прежнему остается открытым.А если есть абсолютная система, то можно говорить и об истинном (абсолютном) движении, можно говорить об абсолютном пространстве.
Мы вернулись к вопросу, поставленному выше. Ньютон, как помните, предложил способ определения абсолютных движений (центробежные силы!), но мы пока еще не можем судить, прав ли он. А определение абсолютной системы по Ньютону нас не устраивает; в нем навязывается загадочное понятие абсолютного пространства.
Поэтому, отложив на время решение этого вопроса, сформулируем совершенно общее определение процесса движения.
Приводится определение понятия движения, которое, как видно, соответствует ньютоновскому «относительному движению».Движение данного физического тела относительно других физических тел есть изменение его положения относительно этих тел.
Как видите, не сказано ничего нового. Просто подведен итог. Для полного удовлетворения необходимо точно объяснить, что означают слова «изменяет свое положение относительно других тел». Ответ сравнительно прост.
К тому телу (или телам), которые мы считаем неподвижными, мы жестко «привязываем» систему координат. Затем измеряем координаты изучаемого тела и определяем его «положение».
Из школьного курса геометрии хорошо известна только одна координатная система — Декартова. В этой системе положение точки в пространстве однозначно определяется ее кратчайшими расстояниями до трех взаимно перпендикулярных плоскостей.
В математике и в физике часто пользуются другими координатными системами, но, чтобы однозначно определить положение точки в пространстве, всегда необходимо знать три числа, три координаты.
Это, между прочим, и означает, что пространство имеет три измерения!Не будем очень углубляться в математику и потому не будем особенно расшифровывать наш «саперный» жаргон — «жестко привязать» к физическому телу координатную систему. Просто в случае, когда координатные оси направлены в строго определенные неизменные точки твердого тела, мы говорим, что координатная система «привязана жестко». Лучше всего пояснить это примером.
«Привяжем» Декартову координатную систему к Земле. Начало координат — центр Земли. Ось z направлена от центра к Северному полюсу. Ось x — от центра к точке пересечения Гринвичского меридиана с экватором (0° широты и 0° долготы). Ось y — от центра к точке 0° широты и 90° восточной долготы.
«Привязать» можно, конечно, и по-иному. Взять за центр другую точку, по-другому расположить оси и т. п.
После небольшого экскурса в математику можно более четко перефразировать определение движения.
Тело относительно данной координатной системы движется, если с течением времени изменяется хотя бы одна из его координат.
Как именно меняются координаты, показывает важнейшая характеристика движения — скорость.
Если не стремиться к строгим формулировкам (это потребовало бы несколько больше математики, чем разрешают каноны популярной литературы), то понятие скорости можно ввести так.
Пусть мы хотим определить скорость тела в какой-то момент времени t0. Тогда нужно сделать следующее:
определить в выбранной нами системе отсчета положение тела в момент t0. Иначе говоря, определить его координаты;
посмотреть, где окажется наше тело в какой-то следующий момент t1 (найти координаты в момент t1);
определить длину прямолинейного отрезка, соединяющего первую и вторую точки. Эту длину обозначим ΔS(t1 · t0);
поделить ΔS(t1 · t0) на соответствующий интервал Δt = (t1 – t0). Тогда приближенно абсолютная величина скорости тела в момент t0 равна [v(t0)] ≈ ΔS/Δt. Чем меньше мы выберем интервал Δt, тем точнее отношение ΔS/Δt будет определять скорость в момент t0.
А в пределе при t0 → 0 наша дробь точно определяет абсолютную величину скорости тела в момент t0. Это записывают так:
На рисунке иллюстрируются те операции, о которых только что говорилось, для частного случая, когда движение происходит вдоль прямой линии.
При этом, как видно, начиная с некоторого момента времени, S уменьшается. Это значит, что тело возвращается в начальную точку. В верхней точке кривой скорость равна нулю. Слева от этой точки скорость положительна, а справа — отрицательна. Обратите внимание, что, используя приближенное выражение для скорости, в верхней точке мы не получим нуля.
Уже упоминалось, что одной абсолютной величины еще недостаточно для полной характеристики скорости. Нужно знать направление в котором тело убегает из начальной точки.
Если тело движется не по прямой, то направление его движения изменяется весьма прихотливо, и это отражается в определении скорости. Скорость тела можно считать постоянной только тогда, когда неизменны и ее абсолютная величина и направление движения (равномерное прямолинейное движение). Очевидно, что направление скорости определяется направлением отрезка (ΔS).
А теперь перейдем к самому важному.
Интервал пути ΔS→, как говорилось выше, определяется в данной выбранной нами системе отсчета. При этом и абсолютная величина и направление ΔS→ зависят от выбора системы отсчета. В одной системе отрезок ΔS→ будет один, а в другой — другой. То есть пройденный путь — величина относительная и зависит от выбора системы отсчета.
Это должно быть всем известно из школьного курса физики, поэтому ограничимся только наглядной «железнодорожной» иллюстрацией.
Путь, который проходит экспресс Москва — Ленинград в системе отсчета, жестко связанной с экспрессом, тождественно равен нулю (поезд все время находится в начале координат, и ΔS→ = 0).
Если систему отсчета связать с товарным поездом, который вышел из Москвы в одно время с экспрессом, но, естественно, отставал по дороге и в момент прибытия экспресса в Ленинград находился в Бологом, то путь, пройденный экспрессом, равен расстоянию Бологое — Ленинград (ΔS→ = 325 километрам).
В системе же отсчета, связанной с Землей, экспресс пройдет расстояние Москва — Ленинград, то есть ΔS→ = 650 километрам. Но так как скорость определяется отношением ΔS/Δt, то она также оказывается величиной относительной и зависит от системы отсчета.
Между прочим, надо заметить, что подобные примеры довольно часто сложнее, чем четкие математические формулы.А как интервал времени Δt? Он, может быть, тоже зависит от системы отсчета?
Может ли оказаться, что, определяя время движения экспресса Москва — Ленинград, мы получим в системе отсчета, связанной с Землей, один результат, а в системе, связанной с самим экспрессом, — другой? Или нелепа сама постановка такого вопроса? Надеюсь, что такой мысли ни у кого не появилось.
Время — физическое понятие, которое ввели, используя опытные данные. В классической физике мы полагаем, что интервал времени Δt одинаков во всех системах отсчета. И это утверждение сделано как обобщение опытных фактов. Но если, паче чаяния, новые опыты покажут, что в различных системах отсчета интервал времени различен, мы примем это с удивлением, но без ужаса[19].
По этому поводу, пожалуй, уместно вспомнить одного персонажа Марка Твена, твердо уверенного в том, что в деревне время течет существенно медленнее, чем в городе. Полное незнание физики позволило выдвинуть ему эту смелую гипотезу, причем он, конечно, также опирался на свое нелепое, но интуитивное (основанное на «эксперименте») представление о времени.
Однако в классической физике понятие времени таково, что интервал Δt имеет абсолютное значение независимо от системы отсчета.
Следовательно, скорость, так же как и пройденный путь, — относительное понятие и при переходе от одной системы отсчета к другой изменяется точно так же, как и путь.
Ну вот, собственно, все, что стоило напомнить о скорости. Владея понятием скорости, мы совершенно аналогично определяем ускорение:
Ускорение по отношению к скорости — то же, что скорость по отношению к пути.
Настойчивые повторения. Выводы и нерешенный вопрос.Подведем итоги. Мы очень подробно и многократно повторяли, по существу, совершенно тривиальную мысль, и тем не менее ее стоит повторить еще раз:
«Только объявив какие-то реальные физические тела неподвижными, указав систему отсчета, можно говорить о механическом движении. Без указания системы отсчета слова „покой“ и „движение“ совершенно бессодержательны».
Как видно из цитированных отрывков «Начал», Ньютон ясно сознавал все значение понятия системы отсчета.
Но он полагал, что есть некая особая, выделенная, замечательная, неповторимая — абсолютная система отсчета, и даже предложил способ определения абсолютных (истинных) движений (опыт с ведром!).
Существует ли такая система отсчета, мы не выяснили. И именно поиски ответа на этот так просто поставленный вопрос приведут к теории относительности.
В следующей главе мы увидим, что законы механики таковы, что нельзя выделить какую-то одну особую систему отсчета.
Есть целый класс совершенно равноправных с точки зрения механики систем, так называемых «инерциальных систем», о которых никак не скажешь, что какая-то одна из них чем-либо выделяется.
Но тогда можно поставить вопрос так: нельзя ли найти эту загадочную абсолютную систему, исследуя не механические явления, а какие-либо другие? Допустим, электрические, магнитные, гравитационные или еще что-либо?
Может быть, существует все же одна замечательная система, данная нам свыше, и совершенно отличная от других?
Возможно, например, что, изучая электромагнитные явления, можно отыскать какую-то особую систему отсчета?
Начиная с седьмой главы мы (к сожалению, очень поверхностно) проследим за попытками дать ответ на этот вопрос, за теми поисками, которые завершились созданием теории относительности.
Итак (снова и снова!), перед нами проблема: «Можно ли при помощи любого физического опыта отыскать такую одну замечательную систему отсчета, которая по своим физическим свойствам резко отличается от всех остальных мыслимых систем?»
Глава V,
в которой автор сначала рассуждает, а под конец удивляется; причем призывает благосклонного читателя последовать его примеру
Счастливец Ньютон, систему мира можно установить только один раз.
ЛагранжНьютон. Механика
(анализ основных понятий: система отсчета)
Известно, что многословные объяснения далеко не лучшие, и потому автора мучают сомнения. Не покажется ли только что проведенный кропотливый и скучноватый анализ излишним? В конце концов все содержание предыдущей главы можно свести к нескольким фразам:
говорить о механическом движении какого-либо тела имеет смысл, только если указана система отсчета, связанная с какими-либо реальными телами.
Снова повторы и традиционные общие замечания.Выбор системы отсчета определяется в конечном итоге только тем, в какой системе описание данного явления более удобно.
Если существует такая замечательная система отсчета и в ней законы природы выглядят как-то особенно просто (или, точнее, выглядят как-то совершенно по-другому, чем в любой другой), то такую систему имеет смысл назвать абсолютной и, соответственно, говорить об абсолютном движении.
Существует ли такая абсолютная система или нет — осталось неизвестным.
При этом вся тяжесть рассуждений — так сказать, линия главного удара — была сосредоточена на разъяснении первого положения.
Может быть, теряя столько слов и времени, чтобы расшифровать, «по-видимому, всем знакомое» понятие движения, мы ломились в открытую дверь, запутываясь в бесконечных оговорках, уточнениях и пояснениях? Может быть, все предыдущее, как говорится, идет от лукавого? Пожалуй, все-таки нет.
Позвольте (уже в который раз!) напомнить, что самые серьезные проблемы очень часто скрыты как раз за тем, что кажется самоочевидным. Первыми из ученых это поняли, вероятно, математики (пятый постулат Эвклида). Физики в наши дни также признают, что нет таких вопросов, от которых можно отмахнуться со словами: «Это совершенно очевидно». Однако для физиков стремление к безупречной логике все же не так естественно и привычно, как для математиков.
В подтверждение этого несколько обидного тезиса разрешите привести один пример, непосредственно связанный с понятием движения.
Очень любопытный пример.Вероятно, почти все слыхали, что астрономы совершенно твердо установили факт вращения нашей Галактики вокруг какой-то оси, проходящей через ее центр.
Так вот, в популярных, а часто и в специальных книгах пишут о вращении Галактики, ни слова не говоря, в какой именно системе отсчета она вращается. Но без указания системы отсчета слова о вращении Галактики лишены всякого содержания.
А как ввести систему отсчета, описывающую Галактику? Чтобы убедиться в том, что предложен не совсем праздный вопрос, представьте себе вселенную как далеко рассеянные друг от друга рои пчел, повисшие в «пустом» пространстве. Каждый такой рой — одна из галактик. А теперь попробуйте разумно ввести систему отсчета. Она, естественно, должна быть связана с реальными телами. Но ведь, кроме пчелиных роев, в нашем распоряжении ничего нет. «Вбивать» координатные оси в пустое пространство нельзя. Систему отсчета нужно как-то определить, используя «подручные материалы» — пчелиные рои[20].
Мы не будем сейчас говорить о том, на основании каких именно фактов смогли заключить, что в некоторой системе отсчета все пчелы нашего роя — нашей Галактики — участвуют в закономерном движении — вращении. Это завело бы слишком далеко в сторону. Можно заметить только, что ни один физический опыт, поставленный на самой Земле, не помогает обнаружить вращение Галактики, и вывод сделан только на основании наблюдения относительного движения звезд.
Нас интересует другое.
Как была введена система отсчета? С какими звездами — «пчелами» — она связана? Как, не используя никаких иных объектов, кроме пчел самого роя, «вбить» в пространство те три взаимно перпендикулярных стержня, которые образуют систему координат?
На все это также разрешите ответить уклончиво.
Заметим, что напрашивающаяся мысль: «Эта система отсчета как-то связана с другими галактиками», — ошибочна. Наша «загадочная» система определяется только звездами нашей Галактики.Как именно была выбрана система, мы разбирать не будем. Ограничимся только утверждением, что такую систему можно определить. Можно «вколотить» некие условные мысленные «гвозди» в мировое пространство, к которым «привязывают» систему отсчета.
Сейчас важно даже не то, как была введена система отсчета, а то, что это совершенно необходимо сделать, прежде чем говорить о каком-либо движении (в нашем случае вращении) звезд Галактики. Важно представлять, что выбор системы — центральный, основной вопрос. Только когда есть система отсчета, слова «Галактика вращается» имеют смысл.
После этих общих замечаний дидактического характера вернемся к законам Ньютона.
Проблемой № 1 при обсуждении законов движения оказывается вопрос: «В какой системе отсчета формулируются эти законы?»
И надо сказать, что этот первый вопрос является, может быть, самым неприятным.
Ньютон ответил просто. Он ввел некую абсолютную систему отсчета — абсолютное пространство и, соответственно, абсолютное движение. Но, как помните, определение Ньютона лишено физического содержания.
Однако определение… не более чем определение. Ведь сам же Ньютон предложил способ, как находить «абсолютное движение» (центробежные силы) и, следовательно, как найти абсолютную систему отсчета. Если так, то в конце-концов вся проблема сводится к тому, что определение неудачно и его следует изменить.
В таком случае не было бы особого повода для волнений. Определение Ньютона изменили бы, но абсолютная система отсчета осталась бы в механике.
Дело, однако, в том, что Ньютон ошибался по существу.
Снова провозглашается, а затем исследуется принцип относительности Галилея.Нет такого опыта из области механики, который позволил бы выделить какую-нибудь избранную систему отсчета. И как раз законы механики, законы Ньютона убеждают в этом.
Это мы сейчас и увидим. Откажемся пока от попыток логически безупречно определять ту систему отсчета (или, может быть, тот класс систем отсчета), для которой (которых) справедливы законы Ньютона.
Предположим просто, что, экспериментально исследуя движение тел, мы нашли систему отсчета, где в пределах точности наших измерений соблюдаются законы Ньютона. Такую систему отсчета мы назовем инерциальной системой.
Делается первая попытка дать определение инерциальной системы. И его стоит запомнить.Ньютон сформулировал свои законы в некоей абсолютной системе отсчета. Что это за система, мы не знаем. И пока не хотим обсуждать, существует она или нет. Введя же инерциальную систему, внешне мы также не сделали ничего значительного, просто заменили одни слова другими. Вместо «абсолютная система» написали «инерциальная система».
Но, по существу, наша позиция совершенно отлична от ньютоновой. Мы апеллируем к опыту, а не к абстрактным понятиям. Нашу систему мы отыскали опытным путем и назвали ее так, как нам нравится.
А теперь посмотрим. Если в мире существует одна-единственная инерциальная система (других нет), то разумно считать ее абсолютной системой отсчета. Но если таких инерциальных систем бесчисленное множество, придется признать, что по крайней мере для механических явлений говорить о существовании абсолютной системы бессмысленно.
Вспомним теперь законы Ньютона и сформулируем их в некоторой инерциальной системе.
Предварительный анализ первого закона механики.Первый закон — «В инерциальной системе отсчета всякое тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку оно не принуждается приложенными силами изменить это состояние».
Стоит обратить особое внимание, что первый закон механики торжественно провозглашает для свободного тела, рассматриваемого в инерциальной системе, полное равноправие состояний покоя и равномерного прямолинейного движения.
Довольно очевидно, что если ввести какую-либо другую систему отсчета, равномерно и прямолинейно движущуюся относительно нашей инерциальной системы, то в этой новой системе свободное тело также сохраняет свою скорость неизменной. Таким образом, первый закон Ньютона и в этой «новой» системе имеет точно такой же вид, как и в «старой» инерциальной системе.
Сложный, но существенный отрывок.И напротив, если для описания состояния свободного тела использовать систему отсчета, ускоренно движущуюся относительно нашей инерциальной системы, то в этой «ускоренной» системе отсчета поведение свободного тела уже не будет описываться первым законом Ньютона. В такой «нехорошей» системе отсчета свободное тело не будет находиться в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Оно будет двигаться с ускорением.
Выводы.Можно сделать вывод: если найдена одна система отсчета, в которой для свободного тела выполняется первый закон Ньютона, то этот же закон будет соблюдаться в любой из бесконечного числа систем отсчета, равномерно и прямолинейно движущихся относительно первичной системы.
И с другой стороны, существует бесконечное множество систем отсчета, в которых первый закон Ньютона не соблюдается. А именно: любая из систем, ускоренно движущихся относительно инерциальной системы.
Более строгие, но несколько абстрактные рассуждения, подтверждающие нашу точку зрения.Возможно, предыдущие рассуждения оставили чувство неудовлетворенности. Ведь мы сами утверждали, что необходимо добиваться полной ясности и четкости, даже говоря о самых очевидных вещах. Поэтому, как ни очевидно утверждение: «Если первый закон Ньютона выполняется в одной системе отсчета, то он выполняется и во всех системах отсчета, равномерно и прямолинейно движущихся относительно нашей», — его нужно обосновать.
Схема рассуждений должна быть примерно такой. Пусть дана какая-то система отсчета: обозначим ее для удобства, скажем, буквой K. В ней мы умеем описывать движение тел и предметов при помощи законов Ньютона. Так, если изучаемое тело изолировано и свободно, оно в нашей системе либо покоится, либо движется с постоянной скоростью V.
Но вот есть другая система отсчета, скажем K1, которая движется относительно К равномерно и прямолинейно с известной нам скоростью v.
При этих условиях мы должны научиться определять положение изучаемого тела в новой системе отсчета. Ведь чтобы ответить на вопрос, каков характер движения тела в новой системе K1, надо знать его координаты в этой системе в любой момент времени.
Иными словами, нужно найти закон перехода от одной системы отсчета к другой.
Найти этот закон довольно просто в самом общем случае, но мы рассмотрим наипростейший, а именно: во-первых, когда система K1 движется с постоянной скоростью вдоль оси x системы K; и во-вторых, когда скорость нашего свободного тела V направлена также вдоль оси x системы K.
Тогда, если в момент t0 = 0 системы отсчета совпадали, то за время t начало координат системы K1 «уедет» на расстояние S = vt. Как видно из чертежа, координаты тела в новой системе можно найти, зная координаты в старой системе и используя очевидные соотношения:
x1 = х – vt;
у1 = у;
z1 = z.
Прошу поверить на слово, что если рассматривать общий случай (скорости V и v направлены не вдоль осей и не совпадают по направлениям), наши выводы останутся правильными.
Но вернемся к примеру. В каждый данный момент времени в старой системе отсчета координаты нашего тела определяются соотношениями:
x = x0 + Vt;
y = y0;
z = z0.
Здесь x0, y0, z0 — координаты тела в начальный момент t = 0.
Вспомнив формулы для перехода от одной системы к другой, получаем:
x1 = x0 + (V – v)t;
у1 = у0;
z1 = z0.
Итак, в новой системе тело снова двигается равномерно и прямолинейно вдоль оси x1, но уже с новой скоростью V1 = V – v.
Когда читатель познакомится с преобразованиями Лоренца, стоит еще раз взглянуть на эти формулы.Иначе говоря, мы доказали, что если первый закон Ньютона справедлив в системе K, то он справедлив и в K1.
Точно так же (хотя с формальной стороны это несколько сложнее) можно показать, что если K1 движется неравномерно или непрямолинейно относительно K, то тело, которое в K покоилось или двигалось с постоянной скоростью, в системе K1 будет двигаться уже неравномерно или непрямолинейно.
Очень важные соображения.И тем не менее в наших рассуждениях есть очень существенный пробел. Когда мы переходили от одной системы отсчета к другой, мы молчаливо допускали, что время в обеих системах течет одинаково. Если внимательно проследить за выводом, то можно увидеть, что в выражении x1 = x0 + (V – v)t величина t по своему смыслу означает время, измеренное в системе K. А строго говоря, чтобы описывать движение тела в системе K1 мы должны вместо t использовать t1, то есть время, измеренное в системе K1. Может быть, в системе K1 к моменту определения координат тело прошло 5 минут, а в системе K только 4?! Но мы молчаливо предполагали, что t1 = t.
Почему мы сделали это предположение?
Только потому, что повседневный опыт убеждает нас в его справедливости[21].
Однако возникает законный вопрос, что вообще означают слова «время, измеренное в одной системе, время, измеренное в другой системе», какой смысл вкладывается в эти понятия?
Какой физический процесс соответствует символам t1 и t, а, кстати, заодно и x1 и x?
Символы — это ведь не более чем символы. Они получают жизнь только тогда, когда мы однозначно определим, как именно можно отыскать те физические величины, которые они описывают.
Таким образом, вопрос о переходе от одной системы отсчета к другой возвращает нас снова к проблеме измерения времени.
Поэтому логично и естественно дать именно сейчас рецепт для измерения и координат и времени в данной системе.
1. Координата или длина в системе K определяется сравнением ее с масштабной линейкой, неподвижной в этой системе.
2. Время в системе К определяется показаниями часов, покоящихся в данной системе.
В другой координатной системе K1 необходимо иметь часы и масштаб, которые покоятся в этой системе, и все измерения производить именно этим масштабом и этими часами.
Как видите, x1 и x, или t1 и t, соответствуют, вообще говоря, разным физическим процессам — измерениям, которые проводятся в разных физических условиях. Но достаточно предположить существование сигналов, распространяющихся с бесконечной скоростью, чтобы убедиться в том, что t1 = t.
Не будем далее углубляться в дебри анализа. Мы зафиксировали наше предположение и объяснили смысл значков x и x1, t и t1. Пока этого достаточно.
Итак, формулы перехода от одной системы K к другой K1, равномерно и прямолинейно движущейся вдоль оси x первой системы, имеют вид:
x1 = x – vt;
y1 = y;
z1 = z;
t1 = t.
Это преобразование координат и времени при переходе от одной системы к другой называют преобразованием Галилея.
Естественно расширить вопрос. А как обстоит дело с остальными законами механики? Будут ли справедливы в системе K1 все остальные законы в том случае, если они соблюдаются в системе K? Говоря другими словами, будет ли система K1 также инерциальной системой отсчета? Оказывается, что да, будет.
Если K — инерциальная система, то любая система отсчета (K1), равномерно и прямолинейно движущаяся относительно K, также инерциальна.
Выражая ту же мысль другими словами, говорят: законы механики инвариантны (неизменны) по отношению к преобразованию Галилея. Но если только K1 движется ускоренно относительно K, то в ней законы механики имеют другой вид.
Вот утверждения: инерциальных систем отсчета бесконечно много, при описании механических явлений все они равноправны, законы механики во всех инерциальных системах отсчета имеют один и тот же вид, — как раз и составляют принцип относительности Галилея — важнейший принцип механики Ньютона.
Снова принцип относительности Галилея.Но не будем обольщаться. Мы не доказали принцип относительности совершенно строго. Мы проделали только часть работы — обосновали инвариантность (дословно — неизменяемость) первого закона Ньютона при переходе от одной инерциальной системы к другой. Инвариантность других законов Ньютона мы провозгласили. (Собственно говоря, мы их еще и не сформулировали.)
Однако если принять преобразование Галилея и четко сформулировать второй и третий законы Ньютона, то доказательство инвариантности этих законов во всех инерциальных системах отсчета — задача по своему характеру чисто математическая. Поэтому не будем этим заниматься, а постараемся понять физическое содержание остальных законов Ньютона, после чего (снова и снова) вернемся к первому закону и к принципу относительности Галилея.
Уже в первом законе механики встречается понятие силы. По существу, все остальные законы механики как раз и расшифровывают это понятие.
Опять уклонимся от идеально четких определений и формулировок, так как попытка дать строгое, аксиоматическое определение понятия силы завела бы слишком далеко. Просто постараемся отметить самое характерное.
Сила, вообще говоря, характеризует взаимодействие тел между собой[22].
Кое-что о силе.Однако сказать, что сила характеризует взаимодействие, значит сказать очень мало. Нам надо знать: как проявляется это взаимодействие?
Первое, что можно утверждать, — это следующее.
Если на данное тело действовать силой, то тело приобретает ускорение.
Если одну и ту же силу прикладывать к различным телам, ускорения, полученные этими телами, также, вообще говоря, будут различны.
Поскольку сила (взаимодействие) проявляется в появлении ускорения, а ускорение характеризуется не только величиной, но и направлением, ясно, что сила также характеризуется не только своей абсолютной величиной, но и направлением своего действия. Оказывается, что сила — вектор[23].
Вы, возможно, заметили, что для того, чтобы предыдущие рассуждения были содержательны, мы должны уметь измерять силу, прикладывать равные силы к разным телам и т. д.
Чтобы силу можно было измерять, полагают, что сила, действующая на данное тело, пропорциональна тому ускорению, которое получает это тело: F→ = ma→.
Величина m — масса — характеризует стремление тела в отсутствии взаимодействий оставаться в инерциальной системе в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Она отражает инерцию тела, его «косность».
Ответ на вопрос о количественном взаимодействии тел между собой и, в частности, ответ на вопрос: «Как прикладывать к разным телам равные силы?» — дает третий закон Ньютона:
«Действие равно противодействию, или иначе — действия двух тел друг на друга равны и противоположно направлены».
F→1;2 = –F→2;1
Замечания о массе в классической механике.Что касается меры инерции — массы, то это замечательная, удивительная величина. Во-первых, масса — аддитивна, то есть, если сложить два тела («слепить вместе два пластилиновых шарика»), то, оказывается, их суммарная масса равна сумме их масс: M = m1 + m2.
Многие читатели, возможно, подумают, что аддитивность массы настолько же очевидна, как и то, что «Волга впадает в Каспийское море». Но если задуматься над этим, придется признать, что нет никаких оснований заранее ожидать, что масса обладает таким свойством. Еще и еще раз стоит подчеркнуть, что, как правило, очевидным представляется привычное, хотя «привычное» и «очевидное» несколько разные понятия.
Другое и, может быть, не менее замечательное свойство массы — ее неизменность при переходе от одной инерциальной системы к другой. Другими словами, последнее утверждение можно выразить так: «Масса тела не зависит от скорости его движения»[24].
Масса тела — мера его инертности — в механике Ньютона совершенно не зависит от тех разнообразных физических условий, в которых находится тело. Можно изменять температуру, давление, местоположение тела, можно помещать его в электромагнитное или гравитационное поле — масса (или инертность) останется неизменной.
Самые различные по своей природе тела, между которыми нет, казалось бы, абсолютно ничего общего, получают одну общую характеристику — инертность (массу). А с другой стороны, второй закон Ньютона позволяет единообразно описывать взаимодействия тел самой различной природы.
Если рассматривается движение тел с переменной массой, второй закон Ньютона приобретает более общую форму:
Величина mv = p называется импульсом, или количеством движения тела.
В том случае, если вы не удовлетворены этими отрывочными замечаниями, можно разрубить узел, — считая массу первичным понятием.
Тогда второй закон Ньютона можно рассматривать как определение силы.
Если вас не удовлетворяет и это, можно порекомендовать обратиться к более серьезным работам, где вопросы аксиоматики механики разбираются детальнее[25]. Мы не будем дальше исследовать эту сторону законов Ньютона.
Но законы механики связаны с одним, может быть, не столь непонятным, сколь удивительным фактом, и об этом нужно сказать.
Когда мы говорили о законах механики, само собой подразумевалось, что все рассмотрение проводится в инерциальной системе отсчета.
И теперь настал момент снова спросить: «Что же такое инерциальная система отсчета?»
Попытка строго определить понятие инерциальной системы. «Порочный круг».В начале главы мы сказали, что, воздерживаясь от строгих определений, удовлетворимся тем, что экспериментально проверим, выполняются или нет в данной системе отсчета законы Ньютона.
Но, проверяя на опыте, скажем, первый закон, мы сталкиваемся с такой проблемой: как установить, что на тело не действует никакая сила, что тело свободно?
Единственный логически строгий ответ таков: мы видим, что на данное тело не действуют силы, если в инерциальной системе отсчета оно покоится или находится в состоянии равномерного прямолинейного движения.
Но как раз этот единственный ответ и не годится потому, что мы не знаем, мы как раз хотим узнать, инерциальна наша система отсчета или нет.
Такая попытка определить инерциальную систему приводит нас к печальной ситуации «порочного круга».
И вполне понятно, что, пытаясь логически безупречно определить понятие инерциальной системы отсчета, использовав законы Ньютона, которые, в свою очередь, сформулированы только для инерциальных систем, мы попадали в «порочный круг».
Но сейчас наши желания значительно скромнее. Мы махнули рукой на логику. Мы хотим как-то чисто опытным путем с достаточной достоверностью найти: инерциальна ли данная система отсчета или нет?
И у нас нет лучшего рецепта, чем положиться на интуитивное представление о силе.
Не претендуя на строгость, скажем: что «если какое-то тело отнесено от всех остальных „достаточно далеко“ и никакие силы на него не действуют — тело свободно».
Тогда, если это тело равномерно и прямолинейно движется или покоится в какой-то системе отсчета, эта система инерциальна[26].
Что значат слова «достаточно далеко»? Ну, они просто означают «очень далеко». А в каждом конкретном случае можно как-то приблизительно сказать, на какое именно расстояние.
Конечно, эти замечания малоутешительны. О каком-либо логически строгом определении инерциальной системы говорить не приходится. Но ничего лучшего предложить нельзя. И можно отчасти успокаивать себя тем, что наше определение свободного тела очень наглядно и физично.
Скажем, исследуя движение планет вокруг Солнца, можно надеяться, что все окружающие солнечную систему звезды никак не влияют на движения планет и силы, действующие на планеты, обусловлены только их взаимодействием с Солнцем и между собой. Сделав это предположение и анализируя результаты наблюдений, мы устанавливаем, что в системе отсчета, связанной с Солнцем и небом неподвижных звезд, выполняются законы Ньютона, — и, значит, эта система инерциальна.
Система отсчета «небо неподвижных звезд» — эталон инерциальной системы отсчета.Надо признать, однако, что наша система — эталон — в известном смысле фиктивна. Небо неподвижных звезд не остается неизменным. Напротив, совершенно точно установлено, что звезды движутся относительно друг друга с колоссальными скоростями, порядка десятков и сотен километров в секунду. Поэтому взаимное расположение звезд непрерывно изменяется. Но они так страшно далеки от нас, что видимое их положение остается неизменным в течение многих-многих лет.
Тот, кто когда-нибудь наблюдал, лежа на спине, высоко плывущие облака, сразу вспомнит, что часто облако кажется неподвижным, и только через несколько минут, когда оно уходит из поля зрения, соображаешь, что оно движется. Требуются некоторые усилия рассудка, чтобы понять, что скорость движения облака может быть весьма велика.
Можно легко прикинуть, на какую величину изменится за 100 лет угловое направление на звезду, которая движется со скоростью, скажем, 100 километров в секунду, по сфере, в центре которой находится Земля, а радиус сферы, допустим, 10 световых лет.
Этот пример приблизительно соответствует реальным расстояниям ближайших звезд и реальным скоростям их движения относительно Земли.
А вот уже совершенно точные данные о наибольших угловых смещениях звезд, наблюдаемых за год.
Годичное смещение
Звезда Барнарда (созвездие Змееносца) — смещается на 10,27″
Звезда Каптейна — смещается на 8,75″
Грумбридж-1830 — смещается на 7,04″
Здесь приведены три звезды с наибольшими известными угловыми смещениями — аномальные в этом смысле звезды. Смещения же остальных звезд иногда меньше в сотни раз.
Так что, рассуждая наивно, можно считать, что звезды как бы «прибиты гвоздями» к некоей твердой сфере. В центре сферы — Солнце, а около центра — Земля, которая вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси (и участвует еще в нескольких сложных движениях).
В частности, из-за суточного вращения нам представляется, что вся звездная сфера вращается как целое, но взаимное расположение звезд на ней остается неизменным.
Так вот, система отсчета, «привязанная» к звездной сфере, инерциальна. А если так, то любая иная система, равномерно и прямолинейно движущаяся относительно неподвижных звезд, также инерциальна. Таковы законы механики. И никто не мог заранее утверждать, что законы механики инвариантны относительно преобразования Галилея и, следовательно, все инерциальные системы равноправны. Могло оказаться так, а могло бы быть и наоборот. Физики не придумывают, как устроено мироздание, а констатируют, что оно устроено именно так.
Но вот оказалось, что все бесконечное множество систем отсчета, равномерно и прямолинейно двигающихся относительно неподвижных звезд, с точки зрения механики абсолютно равноправно.
Теперь естественно заинтересоваться, что представляют собой неинерциальные системы и каковы в них законы механики.
Допустим, есть эталон инерциальной системы — предположим, система неподвижных звезд. Тогда можно утверждать, что в любой из систем, неравномерно и непрямолинейно движущихся относительно неподвижных звезд, законы Ньютона не выполняются (другими словами, такие системы будут неинерциальными).
Например, ньютоново вращающееся ведро, при помощи которого он рассчитывал обнаружить абсолютное движение. Оно может помочь отличить неинерциальную систему отсчета (вращающееся ведро) от инерциальных. Но мы уже знаем: выделить из инерциальных систем какую-нибудь особую, «наинерциальнейшую», этот опыт не сможет. Да и никаким другим опытам из области механики это не под силу.
Существование же неинерциальных систем отсчета можно легко обнаружить чисто опытным путем. Одна такая система, что называется, «под руками» у нас — это Земля.
Неинерциальные системы отсчета.Суточное (впрочем, точно так же и годичное) вращение Земли относительно неподвижных звезд приводит к тому, что в системе отсчета, жестко связанной с Землей, законы ньютоновой механики не соблюдаются. Правда, на наше счастье, неинерциальность, вызванная суточным и, тем паче, годовым вращением Земли, очень мала. В противном случае механика Ньютона, вероятно, запоздала бы лет на сто-двести. Все механические явления выглядели бы куда сложнее, и Галилею (который и не подозревал о неинерциальности системы отсчета «Земля») пришлось бы встретиться с такими непонятными явлениями, что… Впрочем, нас в данный момент интересует совсем другое.
Неинерциальность системы отсчета «Земля» твердо установлена десятками разнообразных экспериментов.
И первым был знаменитый опыт Фуко. Если бы система отсчета, связанная с Землей, была инерциальна и в ней выполнялись бы законы Ньютона, маятник должен был бы колебаться все время в одной плоскости. Но оказалось, что плоскость колебаний маятника, подвешенного в соборе, непрерывно изменяла свое положение.
Проще всего понять опыт Фуко, если представить себе маятник, подвешенный на полюсе.
Очень часто суть опыта Фуко не понимают именно потому, что интуитивно привыкли считать Землю инерциальной системой.Относительно инерциальной системы отсчета — системы неподвижных звезд — плоскость колебаний маятника неизменна. (Например, маятник все время колеблется в плоскости, проходящей через Полярную звезду, Вегу и Южный Крест.) Но Земля в своем суточном вращении «проворачивается» под маятником, и потому земной наблюдатель видит, что плоскость качаний все время изменяется. За сутки эта плоскость повернется на 360° и возвратится в первоначальное положение. Если к концу маятника приделать перо, то оно начертит на полу такую «розетку», какая показана на верхнем рисунке на стр. 122 (конечно, она изображена в весьма утрированном виде).
Если же подложить под маятник лист бумаги, неподвижный в системе неподвижных звезд, то на нем будет нарисована просто прямая линия[27]. Кстати, такой лист довольно просто подобрать. Нужно только, чтобы он вращался относительно поверхности Земли в направлении, противоположном ее вращению, и с той же самой угловой скоростью (полный оборот за 24 часа).
Если все события на поверхности Земли описывать, используя инерциальную систему отсчета — систему неподвижных звезд, — то, поскольку все тела, неподвижные относительно поверхности Земли, вращаются в этой системе отсчета, на них действует некоторая центростремительная сила:
Fцс = mω2r.
Здесь ω — угловая скорость вращения, а r — расстояние до оси вращения.
Перебираясь же по меридиану от экватора к полюсу, мы видим, как уменьшается r.
Ведь r = R · cosφ, где R — радиус Земли, а φ — географическая широта данного места.
Так что на экваторе на тело действует наибольшая центростремительная сила, а на полюсе она совсем отсутствует.
Естественно спросить: откуда вообще берется эта сила?
На все тела, лежащие на поверхности Земли, действует сила тяготения. Эта сила для покоящихся на поверхности Земли тел уравновешивается реакцией опоры, а давление на опору мы называем весом тела. Часть силы тяготения «расходуется» на создание центростремительной силы — силы, заставляющей тела двигаться по окружности вместе с Землей. На экваторе этот расход максимален, и вес тела — сила давления на опору — оказывается меньше, чем на полюсе.
Не стоит только пытаться определить уменьшение веса при помощи весов с гирями. Если такие весы были в равновесии на полюсе, они останутся в равновесии и на экваторе, потому что вес гирь уменьшится точно так же, как и вес взвешиваемого тела.
Но если воспользоваться достаточно точными пружинными весами, сразу можно заметить, что давление на пружину на экваторе меньше, чем на полюсе.
Угловая скорость суточного вращения Земли очень невелика, поэтому этот эффект мал (уменьшение веса на экваторе составляет примерно 4 грамма на один килограмм).
Но если бы Земля вращалась раз в двадцать быстрее, переместившись на экватор, мы испытывали бы чудесное чувство облегчения, освобождения от силы тяжести.
При подходящей скорости вращения самый неспортивный человек мог бы запросто побить мировые рекорды по бегу, прыжкам в длину, высоту и другие рекорды, установленные в районе полюса. В спортивную классификацию пришлось бы вводить еще один показатель: географическую широту, на которой был показан результат. Впрочем, надо заметить, что подобное изменение скорости вращения привело бы к ряду несколько более серьезных проблем.
Для любителей можно предложить еще более экстравагантную ситуацию. Если увеличить скорость вращения Земли в несколько десятков раз, то начиная с некоторой широты силы тяготения просто не хватало бы, чтобы удерживать предметы на земной поверхности. Существовала бы некая роковая параллель, на которой вся сила тяготения использовалась бы на создание центростремительной силы. И ближе к экватору все объекты, не прикрепленные к поверхности Земли, моментально улетали бы в мировое пространство. Для обитателей такой странной планеты пересечение экватора явилось бы исключительным подвигом (эта проблема, правда, несколько теряет свой интерес, если вспомнить, что в первую очередь подобная «Земля» потеряла бы свою атмосферу). Поэтому мы имеем лишний повод порадоваться, что наша планета так удачно устроена.
Так как неинерциальность системы отсчета Земли сравнительно малозаметна, при решении многих механических задач можно использовать законы Ньютона. Но, с другой стороны, для широкого класса задач неинерциальность Земли приходится учитывать. Например, описывая движение спутника в системе отсчета, связанной с Землей, совершенно необходимо учитывать силы инерции. Если о них забыть, можно получить поразительные нелепости.
В повседневной жизни каждый из нас несколько раз в день оказывается в «сильно неинерциальной» системе отсчета. Когда троллейбус равномерно и прямолинейно едет по улице, неинерциальность системы отсчета «троллейбус» связана только с неинерциальностью системы «Земля». Мы ее не замечаем. Но стоит водителю внезапно затормозить или резко увеличить скорость, как троллейбус становится «сильно неинерциальной» системой, и сила инерции бросает нас вперед или назад.
Вероятно, и водитель и недовольные пассажиры не очень представляют, что в конечном счете все неудобства ускоренной езды вызваны тем, что троллейбус тормозит относительно неба неподвижных звезд.
Несколько неожиданное замечание, которым автор очень гордится.В заключение отметим, что если учитывать силы инерции, то формально законы Ньютона сохраняются и в неинерциальных системах отсчета, хотя содержание их несколько иное — к реальным силам приходится добавлять некие силы инерции не совсем понятной природы.
Весьма любопытное место.А теперь можно поставить тот вопрос, ради которого и был затеян весь разговор о неинерциальных системах: почему, собственно, мир устроен так, что равномерное и прямолинейное движение относительно неба неподвижных звезд не связано ни с какими заметными воздействиями на тело, а неравномерное или непрямолинейное движение требует приложения силы? Другими словами, этот же вопрос можно сформулировать так: можно ли предложить какое-либо разумное обоснование того факта, что существуют неинерциальные системы отсчета?
На первый взгляд может показаться, что подобный вопрос относится к «проблемам» такого рода, как «Почему вода мокрая?» или «Почему в бублике дырка?». Однако это не так.
Законы Ньютона мы «привязываем» к вполне определенной физической системе — системе неподвижных звезд. При этом, как помните, было сделано интуитивно вполне естественное физическое предположение, что все процессы в солнечной системе никак не зависят от остальных звезд. Только тогда можно утверждать, что система неподвижных звезд инерциальна.
Законы механики, как оказывается, таковы, что все системы, равномерно и прямолинейно движущиеся относительно неподвижных звезд, совершенно равноправны. Никакой механический опыт не позволит выделить какую-то одну, особую систему.
Хорошо, мы готовы принять это довольно спокойно. Так устроен мир.
Но стоит перейти к любой из систем, ускоренно движущихся относительно неба неподвижных звезд, положение резко меняется.
Законы механики в таких системах выглядят совершенно по-другому: в таких системах приходится вводить некие особые силы инерции; причем совершенно неясно, чем система отсчета, ускоренно движущаяся относительно звезд, хуже (или лучше, как угодно!) инерциальных систем отсчета. Не видно никаких физических причин, по которым ускоренное движение относительно далеких неподвижных звезд должно отличаться от равномерного и прямолинейного. И то, что такое отличие существует, несколько странно и настораживает.
Интуитивно чувствуется, что мы столкнулись с чем-то очень существенным, с каким-то из тех основных вопросов, которые занимают физика. Но разрешите ограничиться только указанием, что за неравноправием инерциальных и неинерциальных систем скрывается что-то непонятное и удивительное.
Совершенно новую постановку проблема неинерциальных систем получила в общей теории относительности Эйнштейна, но, к сожалению, в нашей беседе мы не в состоянии говорить об этом[28].
Чтобы достойно закончить разговор о законах Ньютона, стоит сделать еще одно замечание о принципе относительности Галилея.
Много раз уже говорилось: законы механики таковы, что все явления одинаково протекают в инерциальных системах отсчета. Все инерциальные системы равноправны.
Довольно существенное уточнение физического содержания принципа относительности.Однако, казалось бы, простейший пример противоречит этому утверждению. Допустим, наблюдатель на Земле видит отвесно падающий камень. А наблюдатель в окне вагона (равномерно и прямолинейно двигающегося по полотну) скажет, что в его системе отсчета камень двигается по параболе (это очень легко показать). Одно и то же явление в различных инерциальных системах выглядит различно. Как же с принципом относительности?
Однако никакого противоречия здесь нет.
Принцип относительности не утверждает, что один и тот же физический процесс (в нашем примере — падение камня) выглядит одинаково в разных инерциальных системах.
Пусть в одной инерциальной системе был проделан опыт. (Исследовалось, например, падение камня на Землю.)
Пусть затем в другой инерциальной системе был проделан другой опыт, причем все условия первого опыта были точно сдублированы, но уже относительно новой системы отсчета.
А «сдублировать все условия» означает, в частности, что начальные условия в новой системе отсчета должны быть такими же, как и в старой.
В нашем же примере в момент начала падения в системе отсчета, связанной с Землей, камень не имел скорости в горизонтальном направлении, а в системе отсчета, связанной с вагоном, имел в начальный момент горизонтальную составляющую скорости. Поэтому и не следует думать, что описание опыта в обеих системах должно быть одинаково. Но если опыт с падением камня на Землю точно сдублировать и повторить в вагоне, вот тогда, утверждает принцип относительности, в вагоне поезда все должно произойти точно так же, как и на Земле.
Камень, который в начальный момент не имел горизонтальной составляющей скорости относительно вагона, должен падать отвесно вниз относительно стенок вагона, и закон падения должен быть таким же, как и при падении на Земле. Это, естественно, и наблюдается в действительности.
Вот то обстоятельство, что полная идентичность экспериментов в разных инерциальных системах означает также и одинаковость начальных условий относительно «своей» системы отсчета, иногда упускают из вида и приходят к недоразумениям.
В механике отсутствует одна выделенная система отсчета, все инерциальные системы совершенно равноправны.
Резюме и новые сомнения.Но, может быть, опыты из какой-либо другой области физики — например, опыты со светом, с электромагнитными волнами — помогут установить существование такой особой, выделенной системы?
Этот вопрос оставался открытым до 1905 года, когда Эйнштейн предложил специальную теорию относительности. И можно сказать, что, по существу, именно решение этой проблемы и привело его к созданию своей теории.
Глава VI,
и, как надеется автор, довольно интересная
Ньютон. Тяготение
Главу о тяготении (гравитации) положено начинать стандартно — эффектно. «Самое загадочное и неисследованное явление природы».
Действительно, Ньютон только установил, что тяготение существует, а Эйнштейн лишь приоткрыл завесу над его природой (общая теория относительности!).
Вступление. Рассуждения и извинения.Тяготение присуще всем без исключения телам.
Тяготение едино по своим свойствам во всей доступной нашему наблюдению части вселенной.
Тяготение проникает всюду, от него нельзя изолироваться, и его нельзя усилить…
Словом, тяготение есть тяготение.
В наши дни тяготение остается, пожалуй, единственным физическим свойством, на которое мы не можем влиять ни в малейшей степени.
Правда, в последнее время всю мировую печать облетели сообщения, что ведутся работы по управлению гравитацией и будто бы уже достигнуты реальные результаты. Но пока трудно судить, что это: плод богатой фантазии репортеров или искаженные сведения о действительных исследованиях.
Появление этой главы в книге — еще одна небольшая «загадка», связанная с тяготением. Мы не будем, к сожалению, касаться общей теории относительности, и потому все, что относится к гравитации, окажется в стороне от темы нашей беседы.
Впрочем, отчасти оправдание можно найти, учитывая, что тематика этой главы косвенно связана и со специальной теорией относительности.
Это замечание в особенности относится к тем страницам, где обсуждается вопрос: конечна или бесконечна скорость распространения тяготения? Анализ подобной проблемы (как и анализ основных понятий механики) — очень разумная тренировка для того, чтобы спокойно принять в дальнейшем идеи теории относительности.
Потому что, — позвольте еще раз напомнить, — пожалуй главная преграда при знакомстве с теорией Эйнштейна — это бессознательная, но глубокая убежденность, что основные понятия классической механики безусловны и как бы «даны свыше».
Легкая реклама. Автор убеждает читателя в том, что все дальнейшее полезно прочесть для лучшего понимания теории относительности.И напротив, если понять, что физика основана на опыте и априорных понятий не существует, и ясно представлять те гипотезы, на которых основана классическая физика, то теория Эйнштейна не должна казаться менее естественной или более сложной, чем классическая физика.
Все же самое главное оправдание, пожалуй, в том, что с поразительным явлением тяготения связаны удивительные по своей красоте физические теории. Может быть, во всей физике не найдется результатов, которые можно было бы поставить рядом с теориями Ньютона и Эйнштейна.
И наконец, трудно отыскать в истории науки лучший пример, когда работа ученого, казалось бы, над совершенно безнадежной проблемой, работа, невероятная по своей настойчивости, не приводившая ни к чему в течение многих лет, увенчалась бы таким блестящим успехом.
Словом, трудно найти лучший пример торжества «высшей» справедливости в науке…
В 1666 году Ньютон уже владел всеми идеями своей теории. Как ни странно, но, по-видимому, легенда о яблоке истинна.
Ньютон сам рассказывал, что впервые четкая мысль о наличии единой силы, заставляющей все без исключения тела притягиваться друг к другу, появилась у него, когда он наблюдал падение яблока.
Как бы то ни было, сама идея поразительна.
Ньютону известны совершенно, казалось бы, разнородные и, более того, противоречащие друг другу факты.
Он знает, во-первых, законы движения планет, эмпирически найденные Кеплером. Двадцать пять лет потратил Кеплер, чтобы в бесчисленных данных о наблюдаемых положениях планет отыскать скрытые закономерности. После невероятно трудоемкой работы он их находит, но объяснить эти законы не мог, хотя и высказывал мысль о существовании силы тяготения.
С другой стороны, известно, что все тела на Земле стремятся упасть на ее поверхность.
Но если сила, с которой Земля притягивает данное тело, как будто постоянна и, насколько может судить Ньютон, не зависит от расстояния этого тела до центра Земли (во времена Ньютона опытная техника не позволяла заметить изменения веса тела при подъеме его над уровнем океана на 2–3 километра), то законы движения небесных тел таковы, что та гипотетическая сила, которая, по его мнению, их связывает, должна изменяться с расстоянием.
Набросок основных представлений теории тяготения. Автор пытался главным образом пояснить, какие исключительные трудности преодолел Ньютон. Однако попутно несколько увлекся «психологическими исследованиями».Далее, совершенно неясно следующее. Если есть некая единая сила тяготения, почему же не притягиваются друг к другу предметы на Земле?
Как видите, экспериментальные данные очень запутаны.
Правда, надо признать, что сама идея о наличии какой-то единой силы притяжения витает в воздухе. В этом отношении у Ньютона есть предшественники. Но ни один из сторонников идеи тяготения не в состоянии ни количественно объяснить законы движения планет, ни опровергнуть возражения противников.
Роберт Гук — один из самых ярких и своеобразных ученых в истории физики, — казалось бы, уже открыл закон тяготения. В сочинении «Работа о годичном движении Земли» (1674 год) он пишет:
«Я разовью теорию, которая во всех отношениях согласуется с общепризнанными правилами механики. Теория эта основывается на трех допущениях: во-первых, все без исключения небесные тела обладают направленным к их центру притяжением или тяжестью, благодаря которой они притягивают не только свои собственные части, но также и все находящиеся в сфере их действия небесные тела. Согласно второму допущению, все тела, двигающиеся равномерно и прямолинейно, будут двигаться по прямой линии до тех пор, пока они не будут отклонены какой-нибудь силой и не станут описывать траектории по кругу, эллипсу или какой-нибудь другой, менее простой кривой.
Автор с удовольствием отмечает, что на этот раз претензии по поводу литературного стиля следует адресовать Роберту Гуку.Согласно третьему допущению, силы притяжения действуют тем больше, чем ближе к ним находятся тела, на которые они действуют.
Я не мог еще установить с помощью опыта, каковы различные степени притяжения. Но если развивать эту теорию дальше, то астрономы сумеют установить определенный закон, согласно которому движутся все небесные тела».
После этого Гук, однако, замечает, что он сам очень-очень занят другими задачами и было бы весьма хорошо, если бы кто-нибудь развил его идеи.
Конечно, даже детально изучив все архивные материалы, вряд ли в данном случае возможно утверждать что-либо совершенно определенно, и тем не менее можно поручиться, что Гук, лукавил.
Слишком хорошо понимал он неповторимую важность проблемы, которой сам занимался много лет, и от решения отступился, конечно, не из-за того, что был исключительно занят, а просто потому, что не мог решить задачи. От качественных рассуждений Гука до закона Ньютона — колоссальное расстояние. И можно, пожалуй, понять шумное негодование Ньютона, когда Гук выразил, правда, очень скромно, претензии на участие в открытии закона всемирного тяготения. О приоритетных спорах между Ньютоном и Гуком, как и о всех прочих подобных распрях Ньютона (а у великого Ньютона их было немало!), так подробно, хорошо и, главное, серьезно рассказано в книге С. И. Вавилова, что ничего нового не прибавишь.
Вообще надо заметить, к подобным историям обычно всегда проявляется резко повышенный интерес, а ученые всех времен и народов, к сожалению, нередко снабжали публику обильным материалом для исследований по этому поводу. Однако в тяжбе Гук — Ньютон имеется очень интересный психологический момент.
Все биографы Ньютона сходятся на том, что на склоне лет сэр Исаак имел весьма неуживчивый характер. Властный, самолюбивый и обидчивый, он ко всему еще как будто не очень любил признавать чужие заслуги.
Все это, очевидно, справедливо. И тем не менее представляется, что такое поведение обусловлено не тщеславием. В своей работе, даже если сбросить со счетов его гениальность, Ньютон всегда был ученым в самом полном смысле слова.
В первую очередь это проявлялось в его исключительной требовательности к результатам своих работ. И естественно, эту требовательность он распространял на других.
Если вспомнить, что уже в 1665 году Ньютон владел, по его словам, всеми идеями теории тяготения и не обмолвился об этом ни словом в печати, видимо считая, что это слишком сырой материал, который истинный ученый должен скрывать от публики, можно понять его реакцию на претензию Гука.
С другой стороны, вполне понятно и то, что Гуку была обидна столь низкая оценка его идей.
Действительно, высказать саму идею наличия тяготения, более того — предугадать, что сила тяготения убывает обратно пропорционально квадрату расстояния (а Гук добрался в конце концов и до этого), — с точки зрения всех, кроме Ньютона, вполне достаточно, чтобы обеспечить славу и признание.
Но Ньютон все мерил своими масштабами и потому имел право вполне искренне считать, что все эти соображения совершенно очевидны, а помимо того, настолько туманны, что не заслуживают даже публикации. Конечно, с его стороны было весьма наивно подходить к другим ученым со своей меркой, но это уже другой вопрос…
И при всех недостатках Ньютона следует в первую очередь помнить, что человек, который десятки лет не печатал такие результаты, как открытие анализа бесконечно малых или соображения о наличии единой силы тяготения, вряд ли особенно заботился о бессмертии.
Существует эффектный апокриф, что будто даже аналитическая формулировка закона тяготения была ясна Ньютону в 1866 году. Но попытка объяснить при помощи закона тяготения движение Луны оказалась неудачной, так как Ньютон имел ошибочные экспериментальные данные о размерах Земли, и в результате значение ускорения на поверхности Земли, которое получилось из вычисления лунного движения, отличалось от того, которое находилось опытным путем. Лишь в 1682 году ему стали известны новые данные о длине меридиана.
С. И. Вавилов, правда, серьезно возражает против истинности этой истории.Ньютон так взволновался, что не мог сам провести новые очень простые вычисления, и это проделал за него некий, оставшийся неведомым миру, его друг. Так был окончательно создан закон тяготения.
Возможно, этот рассказ не более чем легенда, но, во всяком случае, такая легенда очень характерна, когда речь идет о Ньютоне.
Прав был Ньютон в споре с Гуком или нет, в конечном счете неважно, но, безусловно, никто, кроме Ньютона, не владел математикой и физикой настолько, чтобы вывести эмпирически установленные законы движения планет из единого закона притяжения тел. Никто не мог поэтому разрешить и обратную задачу — четко сформулировать сам закон взаимодействия, имея эмпирические законы Кеплера. Эта задача полностью решена в «Началах».
Закон тяготения в руках Ньютона дал ответ на все главные вопросы, связанные с движением небесных тел.
Но этого мало. Вычисленная при помощи того же закона тяготения сила тяжести точно совпала с опытом. Казалось бы, трудно требовать более убедительные доказательства. И тем не менее прошло еще почти столетие, прежде чем теория тяготения была окончательно признана во всем научном мире.
Для современников Ньютона теория тяготения казалась, пожалуй, значительно революционней и удивительней, чем в наши дни теория относительности. Это связано отчасти с тем, что уровень научной культуры в XVII и XVIII столетиях был значительно ниже, чем в наши дни. Не следует, конечно, думать, что было меньше талантливых ученых. Отнюдь нет. Просто средневековое мировоззрение в той или иной степени еще довлело над самыми яркими умами того века. Даже сам Ньютон усердно и прилежно толковал священное писание. Чего же можно требовать от других?
Любопытный исторический факт.Если вспомнить, что его современники все еще проникнуты традициями физики гипотез, можно представить себе их реакцию, когда вместо объяснения существа самого что ни на есть основного и сокровенного свойства тел им предлагают (смешно слышать!) аналитический закон взаимодействия. Для ученых того времени это звучит почти как издевательство.
Не удивительно поэтому, что даже такие люди, как Лейбниц, Гюйгенс, Эйлер, Ломоносов, не принимали идей тяготения. Вот, например, отрывок из переписки Лейбница и Гюйгенса.
Лейбниц: «Я не понимаю, как Ньютон представляет себе тяжесть или притяжение. По его мнению, это, по-видимому, не что иное, как некое необъяснимое нематериальное качество».
Гюйгенс: «Что касается причины приливов, которую дает Ньютон, то она меня не удовлетворяет, как и все другие его теории, которые он строит на принципе притяжения, который кажется мне нелепым».
Особенно сильна оппозиция Ньютону во Франции, где все покорены учением Рене Декарта.
Не наша задача оценивать роль, которую сыграли в науке взгляды замечательного французского философа. И вообще-то можно было бы не останавливаться на том, как он пытался объяснить наблюдаемые движения небесных тел. Но теория материи Декарта интересна для нас одним пунктом.
В ней впервые появляется загадочная субстанция материи — эфир. Эфир, приковывавший к себе внимание физиков вплоть до XX столетия!
Первое, но далеко не последнее упоминание об эфире.По Декарту, эфир находится в непрерывном вихревом движении и увлекает за собой все планеты. В процессе этого же вихревого движения части материи, которые были вначале в состоянии хаоса, разделились на три сорта частиц[29].
Первый — самый грубый. Из частиц этого типа созданы Земля, планеты и кометы.
Второй включает более отшлифованные частицы. Из них образовались Солнце и звезды.
И наконец, третий сорт — бесконечно тонкие частицы.
Взаимодействие небесных тел, по Декарту, осуществляется благодаря их давлению на эфир. Давление передается по эфиру от одного тела к другому. Ввиду этого небесные тела влияют друг на друга.
Особо отметим: по Декарту, для передачи действия (силы) на расстояние необходима материальная, обладающая вполне определенными механическими свойствами среда — эфир.
Декарт и его последователи пытались представить себе тяготение на основе конкретной модели, желали свести все к воздействию тел на эфир и обратному действию эфира на небесные тела.
Никакого аналитического выражения Декарту, конечно, получить не удалось. Однако ученых того века в его гипотезе пленяла прелесть очевидности и наглядности.
Весьма ядовито характеризовал научную атмосферу того времени Мари Франсуа Вольтер, увлекавшийся в молодости физикой:
«Если француз приедет в Лондон, он найдет здесь большое различие в философии, а также во многих других вопросах.
В Париже он оставил мир полным вещества, здесь он находит его пустым. В Париже вселенная наполнена эфирными вихрями, тогда как тут, в том же пространстве, действуют невидимые силы.
В Париже давление Луны на море вызывает отлив и прилив, в Англии же, наоборот, море тяготеет к Луне.
У картезианцев все достигается давлением, что, по правде говоря, не вполне ясно, у ньютонианцев все достигается притяжением, что, однако, не намного яснее.
Наконец, в Париже Землю считают вытянутой у полюсов, как яйцо, а в Лондоне она сжата, как тыква…»
Декарт часто подписывался «Картезий». Отюда картезианство, картезианцы.Эти слова написаны в 1727 году (40 лет прошло с появления «Начал»!), а скептицизм Вольтера распространяется, как видите, в равной мере на теории Ньютона и Декарта.
Так что закон тяготения проникал в умы с великим трудом.
Но как ни медленно побеждала истина, к началу XIX столетия все сомнения в справедливости закона Ньютона исчезли. Причем интересно, что именно французские ученые второй половины XVIII столетия окончательно отшлифовали небесную механику и показали, что теория тяготения истинна и нет истины вне ее.
Закон тяготения, может быть, высшее достижение метода принципов. В нем ни слова не говорится о том, почему действует тяготение. Он отвечает только, как действует эта загадочная сила:
И вот, наконец, сам закон тяготения.Здесь F — сила притяжения между двумя любыми телами, m1 и m2 — их массы, r — расстояние между телами, f — постоянная размерная величина, численно равная силе притяжения двух тел единичной массы, разделенных единичным расстоянием. Называется она гравитационной постоянной в системе CGS
f = 6,7 · 10-8 см3/сек2·г.
Ничтожно малое значение f и объясняет, почему мы не замечаем сил притяжения между земными предметами.
В законе Ньютона обращают на себя внимание по меньшей мере три поразительных факта.
Удивление № 1.Бросается в глаза удивительная аналогия характера гравитационных сил с взаимодействием совершенно другой природы — электрических зарядов (закона Кулона).
F = ±[e1] · [e2]/r2.
Мы не будем касаться причин этого любопытного совпадения и ограничимся констатацией факта. Правда, с другой стороны, есть и кардинальное отличие: гравитационные «заряды» имеют всегда только один знак.
Удивление № 2.Закон Ньютона предполагает, и на этом мы задержимся дольше, что тяготение распространяется с бесконечно большой скоростью.
Действительно, закон тяготения подразумевает, что для определения силы притяжения в каждый данный момент времени достаточно знать расстояние между телами в тот же самый момент времени. Как изменяется расстояние со временем, совершенно не существенно, — говоря учено, несущественна пространственно-временная биография взаимодействующих тел.
Посмотрим, что изменилось бы в законе Ньютона, если бы скорость тяготения была конечна, а во всем остальном закон взаимодействия остался бы прежним.
Допустим, два тела взаимодействуют по закону Ньютона. При этом тяготение распространяется с конечной скоростью с. Если тела покоятся — все остается по-старому. Но не то, если они движутся друг относительно друга.
Конечно, в первую очередь возникает вопрос, что означает: скорость распространения тяготения конечна и равна с? В какой системе отсчета? Поэтому примем условно некую «абсолютную систему», в которой скорость тяготения и есть с.
Мы не знаем и не хотим знать, почему скорость распространения тяготения конечна: может быть, потому, что тела постоянно посылают волны тяготения, которые распространяются в пространстве с конечной скоростью, может быть, по другой причине. Мы хотим просто установить, как изменится при этом закон Ньютона.
Для простоты рассмотрим только тот случай, когда первое тело покоится в нашей «абсолютной системе отсчета». Пусть в момент времени t0 = 0, который мы выберем за начало отсчета, второе тело начинает равномерно приближаться к первому со скоростью V. Когда тела покоились, сила взаимодействия определялась законом Ньютона:
где r0 — расстояние между покоящимися телами. В какой-то момент времени t расстояние между телами оказалось равным r(t) = r0 – Vt.
А чему равна сила взаимодействия? Так как скорость распространения тяготения конечна, взаимодействие между телами будет определяться расстоянием не в данный момент времени, а в какой-то более ранний. «Волна» тяготения, которая добралась в момент t до первого тела, была послана вторым в какой-то более ранний момент (t1 < t).
Этот момент легко определяется, но, возможно, не стоит так углубляться в формулы. Тем более что мы умалчиваем о более существенном.
Действительно, мы, по сути дела, отмахнулись от ответа, в какой системе определена скорость тяготения, а пока нет системы отсчета, всякие разговоры о скорости распространения тяготения абсолютно бессодержательны.
Естественно, такая абсолютная система отсчета (если она существует) должна быть связана не с двумя наугад взятыми телами (как в нашем примере), а как-то со свойствами самого пространства (может быть, с системой неподвижных звезд?).
Сразу возникает мысль: а нельзя ли, исследуя тяготение, реально отыскать абсолютную систему? А как, между прочим, найти скорость распространения тяготения в других системах отсчета?
Внимание! Вопрос не так наивен, как может показаться.В общем стоит допустить, что скорость распространения силы тяготения конечна, и физическая картина основательно запутывается, не говоря уже о том, что уравнения движения небесных тел весьма усложняются.
Ньютон сразу отбросил все подобные трудности. Он положил, что скорость распространения тяготения бесконечна. И тем самым ввел дальнодействие.
Но честно признаемся, эту идею можно принять лишь с некоторым усилием. Против нее протестует наше чувство. Все известные процессы распространяются с конечной скоростью. Даже свет! А тяготение почему-то такое странное исключение.
В общем можно только лишний раз поразиться гению и интуиции Ньютона.
Забегая вперед, заметим: теперь, после Эйнштейна, мы знаем, что Ньютон ошибся. Скорость распространения поля тяготения конечна и равна 300 000 километров в секунду. Кроме того, эта скорость обладает странным качеством — она постоянна в любой системе отсчета и не изменяется при переходе от одной системы к другой.
Ввиду колоссального значения скорости распространения тяготения поправки к закону Ньютона, обусловленные «запаздыванием», настолько ничтожны, что не удивительна двухвековая уверенность в безукоризненной справедливости закона тяготения.
Покончим на этом с «удивлением № 2» и перейдем к следующему.
Удивление № 3Наиболее поразительно в законе Ньютона, без сомнения, то, что сила тяготения полностью определяется инертными массами тел.
Сила тяготения совершенно не зависит от химического состава тел, от электрических зарядов, которые несут тела, от агрегатного состояния.
Тяготение определяется только массой, то есть в конечном счете инерцией тяготеющих тел.
Интуитивно чувствуется, что, очевидно, между инерцией и тяготением существует какая-то глубокая связь.
Однако тяготение и инерция, казалось бы, настолько различные физические свойства, что физики неоднократно экспериментально проверяли, действительно ли масса, определяемая законами механики (инертная масса), и масса в законе всемирного тяготения — это одно и то же.
Первым снова был Галилей.
Тот факт, что все тела в поле земного тяготения падают с одинаковым ускорением, — главное доказательство равенства инертной и тяжелой массы.
Убедимся в этом. В поле Земли на тело массы m действует сила
F = f · mт · Mт/r2.
Здесь mт — тяжелая масса тела, определяемая из закона тяготения; Mт — тяжелая масса Земли; r — расстояние до центра Земли[30].
Не будем предрешать равенство тяжелой и инертной массы и, используя второй закон механики, найдем ускорение тела в поле земного тяготения:
f · (mт · Mт)/(mи · r2) = g,
где mи — инертная масса тела; g — ускорение в поле тяготения Земли.
В этой формуле сомножитель f · Mт/r2 для всех тел на поверхности Земли постоянен; второй сомножитель — отношение mт/mи как мы допустили, — может меняться в зависимости от природы и характера физических тел.
Но так как все предметы в поле земного тяготения падают с одинаковым ускорением (g = 9,81 М/сек2), мы заключаем, что отношение тяжелой и инертной массы mт/mи постоянно для всех тел независимо от их физической природы.
Следовательно, тяжелая масса тела полностью определяется его инертной массой и при соответствующем выборе единиц измерения может считаться просто равной инертной массе.
Выбор единицы измерения уже не принципиальный вопрос.Итак, тяготение тел зависит от их инерции и только от инерции.
Трудно представить более неожиданный результат. Заранее (из общих соображений) ожидать наличие такой связи было столь же обоснованно, как, скажем, предполагать, что планеты и звезды в момент рождения человека определяют его дальнейшую судьбу.
Однако в отличие от положений астрологии, черной и белой магии и прочих оккультных наук тот факт, что тяготение тел целиком определяется их инерцией, опирался на незыблемый фундамент точного эксперимента. Причем поразительность результата заставляла физиков вновь и вновь возвращаться к его экспериментальной проверке.
Сам Ньютон проверил результаты Галилея, исследуя движение маятников, изготовленных из разных материалов.
В 1828 году немецкий математик и физик Бессель тем же способом исследовал самые разнообразные вещества и с точностью 1/60 000 убедился в пропорциональности инертной и тяжелой массы.
Венцом экспериментального мастерства были работы венгра Этвеша и его сотрудников (1896–1910 гг.). Пропорциональность инертной и тяжелой массы установлена с невероятной точностью — 5 · 10–9.
А в 1916 году Эйнштейн предложил окончательный вариант общей теории относительности — теории, в которой он наметил невероятно неожиданный путь для исследования загадочной теории тяготения.
Воспользуемся случаем, чтобы сказать несколько слов о самом Эйнштейне — ученом и человеке. Об Альберте Эйнштейне написано столько, что вряд ли стоит подробно рассказывать о его жизненном пути.
В науке так же, как Ньютон, «разумом он превосходил род человеческий», и только имя Ньютона можно назвать рядом с его именем. Взгляды Эйнштейна вне науки — образец настоящего боевого гуманизма, гуманизма в высоком смысле этого слова.
В личной жизни он был предельно прост, мягок и для себя не требовал ничего, кроме возможности работать.
Для Эйнштейна напряженная интеллектуальная деятельность, страстное желание отыскать еще какой-либо «яркий камешек» были столь естественны, столь неразрывно связаны с его существованием, что, мне кажется, по этому поводу даже не приходится восторгаться. Просто та необъяснимая совокупность качеств, которую обычно определяют как гениальность, привела к тому, что стремление работать было у него почти инстинктивно. Пожалуй, восхищения заслуживает другое — удивительная цельность и внутренняя честность Эйнштейна как физика и как человека. В силу своей аномальной одаренности он имел полную возможность без особого труда достигать важнейших результатов в любых областях физики и наслаждаться сознанием успешно законченной интересной и важной работы. Но последние 30 лет своей жизни он посвятил попыткам решения той проблемы, которую считал важнейшей, и отошел от центрального направления современной физики. Как писал он сам, много раз его обманывала надежда, и столько же раз он испытывал горечь разочарования.
По существу, он работал почти в одиночестве. Интересы большинства остальных ученых лежали в других областях. Вряд ли сейчас во всем мире найдется сотня физиков, которые смогли бы без основательной специальной подготовки передать существо работ последних лет его жизни. (Если говорить о квантовой механике, таких ученых найдется несколько тысяч.) И мне кажется, трудно в истории науки отыскать второй подобный пример интеллектуальной целеустремленности. Не нам оценивать, чего он добился за эти годы. Но даже если бы Эйнштейн не был Эйнштейном, даже если бы попутно, мимоходом за эти годы он не получил таких результатов в других областях, которые сами по себе достаточны, чтобы его имя осталось в физике, он заслуживал бы глубочайшего уважения.
Надпись, высеченная на могиле Ньютона в Вестминстерском аббатстве, заканчивается сдержанно-торжественной фразой:
«Пусть смертные радуются, что среди них существовало такое украшение рода человеческого». С еще большим основанием эти слова следует отнести к памяти Альберта Эйнштейна…
В наши дни мы убеждены и в приближенной справедливости закона Ньютона и в том, что теория тяготения Эйнштейна дает следующее приближение к истине. Правда, теория Эйнштейна еще не прошла полностью «кандальный путь» каждой физической теории — проверку экспериментом.
Нет числа опытам, подтверждающим закон Ньютона.
До самого недавнего времени общую же теорию относительности подтверждали только четыре эффекта. Это равенство инертной и тяжелой массы; движение перигелия Меркурия; отклонение лучей света в поле тяготения и изменение периода колебаний атомов в гравитационном поле (красное смещение).
Тем не менее то, что Эйнштейн объяснил и предсказал эти удивительные эффекты, убеждало всех физиков в справедливости общей теории относительности. А в самые последние годы произошло поразительное. Общая теория относительности была проверена и подтверждена на лабораторном столе. К сожалению, мы здесь ничего конкретно не скажем об этих опытах. Вероятно, читатели слышали, что проверка общей теории относительности смогла быть проведена благодаря использованию эффекта Мессбауэра. Этой фразой мы и закончим. Можно лишь добавить, что точность и изящество этих экспериментов почти невероятны.
Неизвестно, как будет развиваться и изменяться общая теория относительности, но уже сейчас ясно, что центральные проблемы физики будущего связаны с современной теорией гравитационного поля.
Глава VII,
хотя и весьма расплывчатая, но тем не менее в конце, после долгих отступлений, объясняет, почему именно гипотеза эфира стала особенно привлекательной для физиков
Я не знаю, что такое этот эфир.
НьютонСвет, эфир (Ньютон, Гюйгенс)
Рассуждения на тему, какой именно раздел физики (или любой другой науки) сыграл в ее развитии наибольшую роль, всегда условны и несколько схоластичны.
Можно только с уверенностью сказать, что во все времена свет (позднее — вообще электромагнитные явления) находился в центре внимания физиков. Можно сказать, что передовая линия фронта физики всегда в большей или меньшей степени была связана с электромагнетизмом. В результате изучения электромагнитных явлений возникли и специальная теория относительности, и квантовая механика, и (полезно помнить!) такие технические достижения, которые привели к полному изменению жизни человечества.
Прежде всего — немного истории.Пионерами на этом пути были Ньютон (снова Ньютон!) и Ганс Христиан Гюйгенс (1629–1695).
Современник Ньютона, по своему гению, безусловно, второй физик того века, Гюйгенс («славнейший Гугениус» — как почтительно писал М. В. Ломоносов) оставил след во многих областях физики.
Помимо классических работ в области оптики, ему принадлежат великолепные труды по астрономии и особенно по механике. Ему же мы обязаны изобретением первых точных часов (часы с маятником) — открытием, которое по значению можно спокойно поставить рядом, например, с созданием реактивной авиации.
Сам Ньютон говорил о нем: «великий Гюйгенс», а президент Королевского общества и первый физик мира не был слишком щедр в своих оценках…
Поскольку разговор зашел о свете, имеет смысл хотя бы очень и очень поверхностно коснуться его истории, ибо тут можно найти неожиданные и любопытные факты.
Сведения об изучении света у греков и римлян, которыми мы располагаем, крайне отрывочны, но тем не менее достаточно интересны.
Оптики античности.То, что греческие, а за ними римские философы умели создавать весьма сложные и тонкие умозрительные теории, общеизвестно. Однако обычно считают, что едва ли не основная особенность античной науки — сознательное пренебрежение экспериментом. И очевидно, это утверждение довольно справедливо.
Природа отплатила за это древним полной мерой. Можно только поражаться, насколько низок был уровень развития физики по сравнению с математикой.
Но в оптике положение, по-видимому, было несколько иное. Существовало большое число самых различных теорий, которые в высшей степени гипотетичны. Кстати, и атомистическая теория света Демокрита и Эпикура не являет исключения. Все теоретические построения абстрактны, умозрительны и не основаны на эксперименте.
Но есть данные, заставляющие серьезно задуматься над тем: действительно ли греки так уж полностью пренебрегали экспериментальной физикой?
В трактате по оптике Птолемея вдруг можно обнаружить углы преломления световых лучей на границе воздух — вода. Причем значения этих углов с высокой степенью точности совпадают с истинными. Очевидно, Птолемей экспериментировал.
Римские историки сообщают, что близорукий император Нерон использовал для улучшения зрения отшлифованный изумруд. Следовательно, принцип очков — прибора совершенно уникального значения — был известен в древности.
Надеюсь, по крайней мере у близоруких читателей не вызовет возражений такая оценка роли очков в истории человечества.Наконец, знаменитая легенда об Архимеде, который будто бы зажег при помощи зеркала римские корабли, осаждавшие Сиракузы, тоже свидетельствует об экспериментальной работе в области оптики.
Вероятнее всего, сама история целиком вымышлена. Но появиться она могла только в том случае, если хорошо известно фокусирующее действие вогнутых зеркал.
Есть еще десятки сообщений, которые заставляют предполагать, что многие чисто опытные данные в области оптики (особенно геометрической) были хорошо известны эллинам.
Все эти факты внушают сильные подозрений в том, что мы хорошо осведомлены о состоянии науки в древнем мире. Однако… по современным данным, в античном мире физики как науки экспериментальной не существовало.
С начала эпохи Возрождения возобновляется интерес к оптике. Изобретают (или вновь открывают?) очки.
Леонардо да Винчи в своих разбросанных записях высказывает иногда совершенно блестящие идеи. Появляются интересные работы и других ученых. Но все это только отдельные разрозненные мысли.
Перелом наступает в начале XVII столетия. И связан он все с тем же именем — Галилео Галилей!
Галилей в оптике.Дело не в том, что Галилей создал новую стройную теорию световых явлений. Нет, этого не было. Он считал, что свет — это поток мельчайших неделимых частиц, и был в этом не нов.
Галилей построил совершенные оптические приборы. Но их делали и до него.
У Галилея есть любопытнейшие наблюдения по различным вопросам физической оптики (например, фосфоресценция). Но они отрывочны, разбросаны и сами по себе не сыграли значительной роли в истории развития науки о свете.
Но в оптике, как и в механике, Галилей первый последовательно применил новый метод исследования.
В оптике, как и вообще в физике, он всегда и прежде всего экспериментирует.
И подобная, совершенно новая для того времени постановка научных проблем наталкивает его на поразительный вопрос: «С какой скоростью распространяется свет?»
Собственно, сам-то вопрос не так уж неожидан. Удивительно то, как он сформулирован. Галилей не плавает в бесконечных рассуждениях: почему и отчего свет должен распространяться с конечной или бесконечной скоростью? Заниматься подобными домыслами он предоставляет современникам. Сам же он мыслит конкретно: «Можно ли придумать опыт, позволяющий определить скорость света?»
Эта проблема обсуждается знакомыми нам Сальвиати, Сагредо и Симпличио на страницах «Бесед» — последней и самой замечательной работы Галилея.
Симпличио пробует заметить, что повседневный опыт убеждает в мгновенном распространении света.
«Если вы наблюдаете с большого расстояния действие артиллерии, то свет от пламени выстрелов без всякой потери времени запечатлевается в нашем глазу в противоположность звуку, который доходит до уха через значительный промежуток времени».
Но подобные соображения не стоит высказывать такому физику, как Галилео Галилей. И Сагредо (Галилей) тут же снисходительно объясняет:
«Ну, синьор Симпличио, из этого общеизвестного опыта я не могу вывести никакого другого заключения, кроме того, что звук доходит до нашего слуха через большие промежутки времени, нежели свет; но это нисколько не убеждает меня в том, что распространение света происходит мгновенно и не требует известного, хотя и малого, времени. Не более того дает мне и другое наблюдение, которое выражают так: „Как только Солнце поднимается на горизонте, блеск его тотчас же достигает наших очей“.
В самом деле, кто может доказать мне, что лучи его не появились на горизонте ранее, нежели дошли до наших глаз?»
И далее Сальвиати рассказывает об опыте, который, очевидно, проделал Галилей, пытаясь определить скорость света, но не получил никакого результата. Схема опыта Галилея в принципе предугадывает схемы всех опытов по определению скорости света в земных условиях.
Галилей пытается определить скорость света.Два наблюдателя находятся на значительном расстоянии друг от друга (несколько километров). Они снабжены фонарями с заслонками. Первый в момент t0 открывает заслонку, и через некоторое время свет достигает второго участника опыта. Последний сразу открывает свой фонарь, и первый наблюдатель фиксирует тот момент времени t1, когда он увидел свет от фонаря второго наблюдателя.
Считая, что свет по всем направлениям распространяется с одной и той же скоростью, и зная расстояние между участниками — r, находим скорость света:
C = 2r/(t1 – t0).
Нам-то понятно, что такой опыт в лучшем случае позволит определить скорость реакции наблюдателей, но не скорость света. Но Галилей еще не представлял себе, как исключительно велика скорость распространения световых волн.
Естественно, у Галилея не возникает вопроса: как меняется скорость света при переходе от одной системы отсчета к другой? Вопроса, который затем мучил физиков два с лишним столетия. Но этого и нельзя ожидать. Достаточно и того, что в оптике Галилей первым подошел к изучению проблемы как физик. Сначала точный эксперимент, и только на его основе — теория.
После Галилея надо назвать его соотечественника Франческо Мария Гримальди (1618–1663). Учитель риторики, а затем математики в иезуитских коллегиях Болоньи, он всю жизнь посвятил изучению оптических явлений.
Гримальди очень не повезло в истории науки. Он не был способен к большим теоретическим обобщениям и не мог толково объяснить собственных наблюдений. Может быть, в подобной ограниченности значительную роль сыграло то обстоятельство, что он был примерным членом иезуитского ордена и всю свою жизнь боролся против идей Коперника и Галилея.
Но экспериментатор Гримальди был выдающийся. Достаточно сказать, что он открыл интерференцию, дифракцию и разложение солнечного света в спектр при помощи призмы (дисперсию света). В его теоретических представлениях уже содержатся некие элементы волновой теории света. Однако (и это не вина, но беда Гримальди) работы Ньютона были посвящены тем же вопросам и настолько превосходили труды Гримальди, что довольно понятно, почему после появления «Оптики» он был основательно забыт.
До Ньютона теорией световых явлений много занимались и Декарт и особенно Гук. Однако Декарт в большей степени был математик и философ, чем физик, а Гук, как обычно, не доводил ничего до конца и в основном бросал идеи (правда, идеи замечательные).
«Частицы» или «волны»?Первая теория световых явлений, заслуживающая этого названия, дана Ньютоном. Как помните, даже в механике он не обошелся без гипотез. Но там они скрыты, завуалированы.
В оптике гипотезы необходимы. Слишком разнообразны по своей природе оптические явления, чтобы можно было установить несколько единых принципов. Необходимо объединяющее все эти факты предположение — гипотеза.
Весь известный во времена Ньютона материал показывал, что конкурировать могут только две гипотезы:
корпускулярная: свет — поток частиц;
волновая: свет — это волновое движение.
Ньютон скорее склонялся к первой идее, а Гюйгенс последовательно развивал вторую.
К началу XIX столетия спор как будто был окончательно решен в пользу Гюйгенса. Не оставалось никаких сомнений в том, что свет — это волны.
Впрочем, физика XX века реабилитировала Ньютона и в этом пункте.Пожалуй, стоит несколько напомнить, что такое волновое движение, поскольку в данном случае неглубокие повседневные наблюдения могут основательно затруднить правильное понимание.
Бросив в воду камень и наблюдая, по совету Козьмы Пруткова, разбегающиеся волны, мы обычно вполне удовлетворяемся фразой: «Волны распространяются с такой-то скоростью». Мы можем даже измерить эту скорость, не очень задумываясь, что же в действительности переносится в процессе волнового движения, каким образом ведут себя частицы той среды, в которой распространяется волна.
Волновое движение — это процесс передачи энергии, происходящий в какой-то среде. Частицы среды при этом колеблются около равновесных положений.
Нечто вроде определения!Распространение волны заключается в том, что все новые и новые частицы среды начинают колебаться. Причем они могут смещаться совсем не в направлении распространения волны…
Игра в «испорченный телефон» неплохо иллюстрирует так называемую продольную волну. Какая-то фраза передается с одного конца цепочки участников игры на другой, но не непосредственно, а каждый говорит на ухо лишь ближайшему соседу.
Вообще говоря, «испорченный телефон» — аналог волнового движения в поглощающей и искажающей волны среде.Еще более точная аналогия — сигнальная эстафетная служба, широко распространенная у древних. Есть несколько десятков курьеров. Получив сведения, первый бежит на соседний пост, сообщает другому и возвращается назад; второй бежит к третьему и т. д. Такая эстафета воспроизводит продольную волну; «передаваемой энергией» является сообщение, а «частицами среды» — курьеры.
В продольной волне смещения частиц происходят в направлении движения волны.
Нетрудно подыскать житейскую аналогию для поперечной волны. В ней частицы среды смещаются перпендикулярно распространению волны.
Если в большой стае птиц, сидящих рядком на проводе, крайнюю взволнует какая-то ложная тревога, она взлетит, а потом, убедившись, что все спокойно, сядет на место. Ее соседки проделают то же самое, но с некоторым запаздыванием во времени. Беспокойство постепенно распространится по всей стае, и когда на одном конце все уже успокоится, на другом волнение может оказаться в полном разгаре.
Как почти любая аналогия, приведенный пример очень грубо и неточно иллюстрирует волновое движение.Здесь передается тревога («энергия»!), а птицы («частицы среды») двигаются перпендикулярно к направлению распространения сигнала.
Итак, частицы среды, в которой распространяется волна, только колеблются около положения равновесия. Если начальное возбуждение имеется в одном месте, то волна может распространяться только при условии, что частицы среды связаны между собой. Это совершенно понятно.
Менее тривиально такое замечание: волна будет распространяться без всяких искажений и потерь только в том случае, когда силы связи между частицами среды имеют совершенно определенный характер — так называемые упругие силы. Такая среда называется идеально упругой и вообще-то представляет собой некоторую идеализацию. Но известно много тел, в которых волны распространяются с очень малыми потерями энергии. Между прочим, эти тела и среды могут быть совершенно различны по своим прочим свойствам. Например, стальной стержень и воздух.
Что упругие свойства воздуха в известном смысле очень хороши, убеждает, например, то, что, разговаривая, мы слышим друг друга на расстоянии нескольких десятков метров. Чрезвычайно малой энергии колебаний голосовых связок достаточно (если бы все люди на Земле подняли крик, они развили бы мощность всего лишь 10 л. с.), чтобы звуковая волна распространилась на десятки метров, прежде чем она поглотится средой.
Впрочем, разговор о свойствах упругих тел завел бы нас слишком далеко. Отметим только, что в твердых упругих телах могут образовываться волны обоих типов — продольные и поперечные. А в глазах возникают только продольные волны.
Пожалуй, наиболее яркими свойствами волнового движения — своеобразным «паспортом» — являются интерференция и дифракция. Суть обоих этих явлений очень проста, но почему-то дифракцию обычно представляют себе хуже, чем интерференцию.
Дифракция — это огибание препятствия волной. Если на пути распространения волн на воде окажется камень, то в образованном за камнем конусе резкой волновой тени не образуется. Волновое движение частично «захлестнет» и ту область, которая находится в «тени».
Скороговорка о важнейших свойствах волнового движения.При прочих равных условиях огибание препятствия тем значительней, чем больше отношение длины волны к размерам преграды.
Поэтому можно слышать голос человека, рот которого прикрыт ладонью и не виден. Звуковые волны легко огибают ладонь, а дифракция световых волн слишком мала, чтобы обогнуть это препятствие. Иначе говоря — чем меньше длина волны, тем труднее наблюдать дифракцию.
Дифракцию видимого света, впрочем, можно обнаружить при помощи сравнительно простых приспособлений, но дифракция рентгеновых лучей наблюдается при рассеянии на таких препятствиях, как отдельные атомы.
Интерференция — непосредственное следствие принципа суперпозиции.
Ученый характер фразы не должен смущать. Содержание принципа суперпозиции очень ясно. «Когда в одной точке действуют несколько возмущений, то, чтобы выяснить окончательный результат, их следует просуммировать».
А суммируя даже две одинаковые волны, можно получить самые различные результаты в зависимости от разности фаз этих волн (кстати, неплохая аналогия явления интерференции — закон сложения сил). В частности, теоретически вполне возможен случай, когда при громком разговоре двух людей в комнате устанавливается абсолютная тишина.
По ряду причин именно этот эффект отсутствует, но всегда можно создать экспериментальные условия для наблюдения интерференции. И в оптике, и в акустике, и при изучении упругих волн в твердых телах интерференцию легко наблюдать.
Может быть, наиболее трудно воспринимается еще одно замечательное свойство волн — поляризация, но пока мы «минуем это препятствие».
Изучая свет, физики наблюдали эффекты, которые явно указывали на его волновую природу. Интерференцию и дифракцию, как помните, наблюдал еще Гримальди. За ним Гук, Ньютон и Гюйгенс в своих опытах неоднократно наталкивались на те же явления.
Здесь заканчиваются обрывочные замечания о волнах и (внимание!) снова появляется эфир.Но если принять, что свет — волновое движение, необходимо, казалось бы, предположить, что существует какая-то материальная среда, в которой это движение происходит. Иначе говоря — необходим эфир.
Эфир, который у Декарта появился в результате чисто умозрительных спекуляций.
Эфир, который был принят Ньютоном, хотя всю свою жизнь он относился к нему крайне подозрительно.
Эфир, по поводу которого Ньютон к концу своих дней просто избегал говорить что-либо определенное.
Этот эфир у Гюйгенса как будто впервые получает реальное обоснование.
Что же понимали физики до начала XX века под эфиром?
Изучение звуковых волн в воздухе и упругих телах убеждало, что волновое движение возможно только в сплошных средах. А если свет — это волны, то, очевидно, все наше пространство залито какой-то сплошной средой, обладающей чрезвычайно удивительными свойствами.
Свойства этой среды удивительны потому, что ни один физический опыт, кроме опытов со светом, не давал возможности обнаружить ее существование.
С другой стороны, представить себе распространение волн без наличия какой-то материальной среды физики не могли[31]. Ведь их опыт (волны в воздухе, на поверхности воды, в упругих телах) заставлял считать, что волны могут распространяться только в среде, состоящей из каких-то частиц, связанных между собой.
Ученые вообще любят мыслить аналогиями. Но здесь она не та, что напрашивалась, ее немыслимо было избежать!
И торжество волновой теории одновременно ознаменовалось победой гипотезы эфира.
Идея Декарта о существовании некоей тончайшей материи materia subtilis[32], заливающей всю вселенную, вместе с волновой теорией света завоевывает умы физиков.
Все последующие годы — это годы споров о свойствах эфира. Эфир Гюйгенса во многом не похож на эфир Декарта, а эфир XIX столетия наделяется совершенно новыми свойствами. Но гипотеза о существовании эфира в той или иной форме прочно входит в физику.
Но если вся вселенная залита некоторой «жидкостью» (или «газом») — эфиром, то, казалось бы, решен вопрос о существовании системы отсчета, настолько выделенной по своим свойствам, что ее можно считать абсолютной.
«Слушайте, слушайте!» (как любят говорить англичане).Эта система отсчета — покоящийся эфир.
Движение относительно эфира — абсолютное движение.
Несущественно, что, исследуя механические явления, невозможно отличить абсолютное движение от относительного.
Мы найдем такие световые явления, которые позволят наблюдать неподвижный эфир.
Так мы определим абсолютную систему. Между прочим, если принять существование эфира, довольно естественно предположить, что центробежные силы возникают именно при вращении относительно эфира.
Открываются новые перспективы для объяснения природы инерциальных и неинерциальных систем отсчета.
Взаимодействие через эфир, возможно, позволит объяснить механизм тяготения.
Гипотеза эфира выглядит как будто очень привлекательной, даже если отвлечься от попытки объяснить свойства света.
Так в конце XVII столетия завязывается в физике тот узел, разрубить который довелось Альберту Эйнштейну в 1905 году.
Глава VIII,
посвященная обоснованию волновой теории света. Терпеливый читатель, возможно, получит удовольствие, познакомившись с очень тонкими и далеко идущими выводами, которые были сделаны при исследовании неожиданного эффекта двойного лучепреломления
Я не знаю, что такое этот эфир.
НьютонЭфир (продолжение)
В прошлой главе допущена существенная неточность, продиктованная схематичностью изложения. Говорилось, что Гюйгенс первым обосновал волновую природу света, а Ньютон в противовес выдвинул корпускулярную теорию.
Все это не совсем верно. Гюйгенс не объяснил в своих работах многие основные явления, с которыми сталкиваешься при изучении света. Он, например, не представлял, что свет — периодический процесс. И не мог, следовательно, хорошо объяснить интерференцию света. Он ничего не говорил о дифракции и, возможно, вообще не подозревал о существовании такого явления; наконец, основные свойства световых лучей — прямолинейность их распространения и образование цветов — также не получили объяснения в теории Гюйгенса.
Рассуждения об эфире, дающие лишний повод для восхищения Ньютоном.Волновая теория света во времена Гюйгенса — Ньютона очень неудовлетворительно описывала наблюдаемые эффекты, и Ньютон не случайно от нее отказался.
Впрочем, он не был безусловным сторонником и корпускулярной теории.
Для творца механики и оптики гипотеза всегда оставалась не более чем гипотезой. Все это он относил к физике второго сорта. Впрочем, когда без гипотез нельзя было обойтись, Ньютон демонстрировал, что может их измышлять лучше всех современников.
В свойствах света он разбирался лучше, чем Гюйгенс, лучше, чем любой из живших в то время физиков. Но… к своим собственным теориям он относился так же недоверчиво и, можно сказать, с такой же иронией, как и к построениям других авторов.
Л. И. Мандельштам очень тонко заметил, что Ньютон не создал волновой теории только потому, что лучше, чем Гюйгенс, видел ее недостатки. Но и к корпускулярной теории он не испытывал особо нежных чувств…
Совершенно так же он, пожалуй, «недолюбливал» и эфир, хотя в течение своей жизни предложил несколько изящных гипотез эфира — несколько «эфиров».
К сожалению, есть только один способ передать изумительную гибкость и изобретательность его мысли — подробно изложить эти гипотезы. А как раз это мы не в состоянии проделать.
Можно привести только один любопытный факт. Менделеев в конце XIX столетия (!) рассуждал об эфире совершенно в плане идей Ньютона. Его уверенность в существовании эфира была так велика, что в периодической таблице он оставил нулевое место для химического элемента «ньютония» — эфира. То, что эфир Ньютона двести лет спустя привлек такого ученого, как Менделеев, уже одно может служить рекомендацией.
Свойства эфира представляли различным образом, но эфир Менделеева и эфир Ньютона — близнецы.А вот как расценивал сам Ньютон эту группу своих работ. Знаменитое письмо об эфире к Роберту Бойлю заканчивается неожиданной, если не знать Ньютона, фразой:
«Что касается меня, то я имею столь мало вкуса к вещам такого рода, что без поощрения вашего, побудившего меня, я никогда бы, полагаю, не взялся за перо для такого рода дел».
Это сказано в заключение нескольких страниц, с которых блещет такой фейерверк остроумнейших и тончайших гипотез, что, право, идей одного этого письма хватило бы, чтобы оставить свое имя в истории науки.
Конечно, могут быть различные мнения по поводу отношения Ньютона к гипотезам как к методу научной работы. Но думаю, бесспорно, что в данном случае иронически-пренебрежительное отношение Ньютона к своим собственным результатам, продиктованное беспощадной требовательностью, пробуждает чувство глубокого преклонения перед ученым и человеком.
Скепсис Ньютона был забыт последующими поколениями. И произошло это не случайно.
В начале XIX столетия волновая теория света могла, наконец, торжествовать триумф.
До конца XVIII века, отчасти под влиянием авторитета Ньютона, а главным образом ввиду недостатков волновой теории, большинство физиков считало, что свет — это поток корпускул, а не волны. Корпускулярную теорию в первую очередь защищала наиболее передовая и сильная научная школа того времени, объединенная Французской академией наук.
Краткий экскурс в историю создания волновой теории света.Первый чувствительный удар корпускулярной теории был нанесен в 1801 году. Роберт Юнг объяснил интерференцию световых волн с точки зрения волновой теории. Цвета тонких пластин и кольца Ньютона[33] в волновой схеме Юнга получили хорошее теоретическое объяснение.
Но сторонников корпускулярной теории это не убедило. У них тоже были свои достижения. Например, Лаплас успешно объяснил с точки зрения корпускулярной теории явление двойного лучепреломления. И вопрос оставался открытым.
Снова упоминается двойное лучепреломление, хотя снова не говорится о том, что же это такое.В 1818 году Французская академия наук предлагает премиальную тему: «Теоретическое объяснение дифракции». При этом рассчитывали, что появится работа, объясняющая дифракцию с корпускулярной точки зрения. Но увы, надежды так часто не сбываются. На конкурсную комиссию было подано сочинение, в котором все явления дифракции объяснялись с волновой точки зрения. Автором работы был еще сравнительно молодой физик Огюст Жан Френель. Он, по существу, и есть творец волновой теории света.
Работу признали неохотно, поскольку почти все члены комиссии придерживались корпускулярной теории. Но в комиссии были настоящие ученые, и труд Френеля в конце концов получил блестящий отзыв.
При обсуждении произошел очень поучительный эпизод. Один из крупнейших математиков XIX столетия, Пуассон, не понимал и не принимал идей Френеля. Он и обратил внимание на такой «нелепый» вывод волновой теории. При определенных размерах препятствия в центре тени должно было образоваться светлое пятно.
Проделали опыт. Оказалось, что светлое пятно действительно находится в той точке, где предписывала теория. «Опровержение» Пуассона обернулось блестящим доказательством волновой природы света.
История весьма «дидактична». Трудно найти лучший пример «настоящего» непонимания.После Френеля не оставалось никаких сомнений в том, что свет — волны; не оставалось сомнений и в существовании эфира.
А эфир по-прежнему представлял для физиков камень преткновения. Более того, как раз работы Френеля, убедив в существовании эфира, с одной стороны, с другой — очень и очень запутали положение.
Трудности, связанные с гипотезой эфира.Как только появилась гипотеза эфира, возник вопрос: «Почему же планеты, да и вообще все тела не испытывают сопротивления, двигаясь через эфир?» Единственное удовлетворительное объяснение можно дать, считая эфир каким-то исключительно разреженным газом мельчайших частиц. В этом случае еще можно как-то говорить, что трение об эфир ничтожно и потому экспериментально не выявляется.
Но если эфир — газообразная субстанция, «некий тончайший спиритус, проникающий во все тела…», как говорил Ньютон, то в нем могут осуществляться только продольные волны. В газах поперечных волн не бывает. Следовательно, световые волны должны быть продольными.
И вот тот же Френель показал, что свет — это поперечные волны.
Первая неприятность!Естественно заинтересоваться: как вообще установили — продольные или поперечные световые колебания, если не было возможности наблюдать частицы той среды (эфира), в которой распространяется свет? Ведь никто не видел, что именно колеблется в световой волне?
Продольны или поперечны световые волны?И тем не менее поперечный характер колебаний эфира был установлен совершенно безупречно. При доказательстве использовали очень элегантный прием — соображения симметрии.
Рассмотрим световой луч. Согласно волновой теории, он обусловлен колебаниями эфира. А та область, в которой эфир колеблется, представляет собой узкую «трубку», центральная ось которой и есть ось светового луча.
Если в цилиндре колебания эфира продольны (направлены вдоль оси) и если свойства эфира во всех направлениях одинаковы (изотропность эфира!), можно утверждать, что физические свойства луча света должны обладать осевой симметрией.
Предыдущая фраза может показаться непонятной и потому стоит пояснения.
Что означают слова «изотропность эфира»? Только то, что в эфире нет выделенного по своим физическим свойствам направления. В этом убедились на опыте. Если, например, произвести вспышку света, то световая волна абсолютно одинаково распространится во всех направлениях.
Важнейшее физическое понятие «изотропность».Точно так же для лыжника в ровном поле на нетронутом снегу в смысле трудности пути все направления равноценны. Но если на поле проложены лыжни или если он стоит на склоне горы, изотропность нарушена — есть более и менее благоприятные направления.
Осевая симметрия всех свойств луча означает, что в световом луче совершенно равноправны все направления, перпендикулярные оси. Если мы повернем световой луч вокруг его оси, ничего не изменится. Вся физическая картина останется прежней. Обычные световые лучи действительно обладают такой симметрией. И ни один опыт не показывает, что какое-то из направлений, перпендикулярных к оси, выделяется по своим свойствам.
Казалось бы, все это подтверждает гипотезу о продольных колебаниях эфира.
Впрочем, не будем торопиться с выводами…
В 1670 году Гюйгенс обнаружил, что если пропустить через кристалл исландского шпата луч света, то на выходе из кристалла он раздвоится!
Факт предельно удивительный. Правда, Гюйгенсу удалось формально (математически) объяснить двойное лучепреломление, но физику явления он не понял и не нашел ничего лучшего, как выдвинуть гипотезу о существовании двух эфиров (!) в исландском шпате.
Вот оно — двойное лучепреломление, доказывающее поперечность световых волн!Естественно, Ньютон жестоко критиковал Гюйгенса за эти построения. Сэру Исааку с лихвой хватало одного эфира, а уж примириться с двумя он никак не мог.
Несколько отвлекаясь, заметим, что вообще наблюдается, казалось бы, мистический факт. Чем более искусственны предположения, чем сложнее гипотеза, тем меньше вероятия, что она оправдается. Впрочем, это довольно естественно, потому что для сохранения правильной гипотезы по мере накопления противоречащих фактов приходится добавлять все новые искусственные предположения.
Но двойное лучепреломление таило в себе еще одну неприятность.
Если взять два одинаковых кристалла исландского шпата и через оба пропустить луч света, то на выходе мы увидим четыре луча.
Начнем вращать теперь правый кристалл относительно левого. Яркость каждой из четырех точек на экране будет изменяться. Причем при определенном положении кристаллов друг относительно друга вместо четырех лучей мы увидим только два, а два других исчезают! Значит, каждый из лучей, вышедших из первого кристалла, во втором уже не расщепляется[34].
Итак, интенсивность каждого из наблюдаемых четырех лучей меняется в зависимости только от взаимного расположения кристаллов.
Каждому лучу, который вышел из первого кристалла, не безразлично, в каком положении будет второй кристалл. Луч света, оказывается, как-то «подготовлен» к прохождению через второй кристалл. Все это довольно странно.
При вращении нижнего кристалла для лучей света, казалось бы, ничего не изменилось — ведь оба кристалла однородны, одинаковой толщины, и при вращении меняется только взаимное расположение их кристаллографических граней.
Если же вращать оба кристалла вместе, не меняя их взаимного расположения, интенсивность каждого из четырех лучей на выходе строго постоянна и не зависит от вращения.
Это сразу указывает, что весь эффект скрыт в свойствах световых лучей, вышедших из первого кристалла. Чем-то такой свет отличается от обычного. Но чем?
Этот эффект, назовем его пока условно «эффектом Гюйгенса», оставался необъясненным более ста лет.
И это не удивительно. Если принять, что свет — продольные колебания эфира и сам эфир изотропен, невозможно понять, чем могут отличаться друг от друга два луча белого света равной интенсивности.
Но стоит предположить, что свет — это поперечные колебания, как появляется еще одна характеристика — направление колебаний частиц эфира.
Руководящая идея для объяснения двойного лучепреломления — поперечных световых волн.Если колебания поперечны, то в цилиндрике, который «вырезается» из эфира световым лучом, выделяется одно из плоских сечений. Это плоскость, в которой колеблются частицы эфира.
Как объяснить тогда, что в обычном световом луче мы не наблюдаем такой выделенной плоскости?
Ну, это сравнительно просто. Вспомним, например, что белый свет — это смесь световых волн различной длины, смесь различных цветов (Ньютон!). Может быть, в обычном луче, кроме того, равномерно смешаны световые колебания, происходящие в различных плоскостях. А тогда, естественно, выделенное направление отсутствует.
Кристалл же исландского шпата, возможно, как-то сортирует лучи. И у двух лучей, вышедших из первого кристалла, направления плоскости колебаний различны.
Правда, такая гипотеза пока не кажется очень убедительной. Тем более что при изучении исландского шпата мы наблюдаем довольно сложную картину (4 луча!). Проще проделать аналогичный опыт с кристаллом турмалина.
Очень изящный опыт с кристаллом турмалина.Возьмем определенным образом вырезанную пластинку турмалина, направим перпендикулярно к ее поверхности луч света. Пройдя сквозь пластинку, он не преломится[35].
Не изменится и его интенсивность, если вокруг оси луча вращать пластинку.
Но усложним опыт. Будем пропускать свет последовательно через две пластинки.
Если вторую пластинку вращать относительно первой вокруг оси светового луча, то увидим, как при каком-то взаимном расположении пластинок интенсивность света на выходе достигнет максимума, а потом постепенно уменьшится до нуля. Свет не проходит! При дальнейшем вращении турмалина интенсивность снова растет.
Вывод.Значит, луч света, проходящий через две пластинки, очень чутко реагирует на взаимное положение пластинок. Допустив, что колебания эфира продольны, невозможно понять, как вращение пластинок может влиять на луч.
Следовательно, приходится, по-видимому, признать, что колебания эфира в световой волне поперечны. А луч, выходящий из кристалла турмалина, поляризован. Кстати, давно пора сказать, что такое поляризованная волна.
Поперечная волна называется плоскополяризованной, если колебания частиц той среды, в которой она распространяется, происходят все время в одной плоскости.
Итак, из кристаллов исландского шпата и турмалина свет выходит плоскополяризованным (по-видимому!).
Стоило ли так подробно останавливаться на этих опытах, усложняя при этом рассказ упоминанием об опытах Гюйгенса с исландским шпатом? Ведь с турмалином поперечность колебаний устанавливается значительно проще.
Пожалуй, все-таки стоило. Очень часто приходится слышать, что в XVII веке ученым работать было легче. Достаточно было проделать элементарный опыт или «угадать» тривиальный вывод — и новый шаг в науке сделан. Поэтому, мне кажется, полезно чуть-чуть серьезнее проанализировать «элементарные» выводы Галилея, Ньютона, Гюйгенса.
У нас, конечно, нет возможности по-настоящему разобрать хоть одну из задач прошлого, но хочется дать хоть какое-нибудь представление о том, какими удивительными и необъяснимыми предстают всегда новые эффекты независимо от того, в каком веке их наблюдают.
Назидательные рассуждения о сложности науки и о возможности других попыток для объяснения двойного лучепреломления.Если говорить строго, то даже опыт с турмалином не позволяет заключить, что в световой волне имеются только поперечные колебания эфира. Пока не было приведено ни одного факта, утверждающего отсутствие продольных колебаний.
Более того, можно, например, выдвинуть гипотезу, что частицы эфира — нечто вроде «световых магнитиков», причем расположены они совершенно беспорядочно. Можно думать, что в световом луче эти частицы испытывают продольные колебания. В обычном световом луче колеблются все беспорядочно направленные магнитики эфира. После прохождения через кристалл турмалина почему-то возбуждаются продольные колебания только в определенным образом ориентированных магнитиках эфира. Тогда, хотя колебания и продольны, появляется выделенное направление.
Конечно, легко сказать, что все это ерунда. Но сказать и обосновать — вещи разные.
А можно попробовать объяснить поляризацию света и с корпускулярной точки зрения. Для этого достаточно ввести гипотезу, что сами световые корпускулы аналогичны магнитикам, а кристалл просто приводит в порядок их расположение. Кстати, автор последней гипотезы не кто иной, как Ньютон. Именно он первый уловил исключительное значение опытов Гюйгенса, опытов, в которых, по его выражению, проявились «изначальные» свойства света.
Короче, не стоит удивляться, что гипотеза поперечности световых колебаний была принята физиками с таким трудом. Она казалась им очень неестественной. Признание поперечных колебаний в эфире означало отказ от модели газообразного эфира! Ведь в газах поперечные волны отсутствуют!
Поперечность световых волн и гипотеза эфира.Следовательно, приходилось перестраиваться и представлять эфир каким-то аналогом твердых тел.
Но в этом случае уж совершенно непонятно, как в таком эфире небесные тела двигаются без трения! И это еще не все. Во всех твердых и жидких телах могут распространяться как поперечные, так и продольные волны. А Френель и Араго в начале XIX столетия проделали опыты[36], объяснить которые можно было, только предположив, что продольные колебания в световых лучах совершенно отсутствуют. И это было уже совсем нехорошо!
В механике было доказано, что если на границу раздела двух упругих сред набегает даже строго поперечная волна, в отраженной и преломленной волнах должна иметься продольная составляющая. А в эфире никакой продольной волны не появляется! Отраженный свет состоит из строго поперечных колебаний!
Едва удалось найти удовлетворительную гипотезу, объясняющую этот факт, как физики оказались лицом к лицу перед совершенно удивительными открытиями.
Майкл Фарадей обнаружил, что плоскость поляризации света вращается под действием магнитного поля. Световые и электромагнитные явления оказались тесно связанными между собой. Эфир «световой» оказался по меньшей мере очень близким родичем эфиру «электрическому»!
Глава IX,
прочитав которую читатель, возможно, сможет чуть лучше представить, как «просто» заниматься физикой
Я не знаю, что такое этот эфир.
НьютонРождение неувлекаемого эфира
Начиная с этой главы, мы вступаем, так сказать, в «предгорья» теории Эйнштейна. Все дальнейшее посвящено, по существу, одному вопросу: «Можно ли какими угодно опытами обнаружить покоящийся эфир — выделить абсолютную систему?»
В XIX столетии отношение физиков к гипотезе эфира очень напоминало отношение родителей к единственному балованному ребенку.
Завидная судьба эфира.Эфиру прощали все: и его совершенно странные свойства сверхтвердого тела (строгая поперечность световых колебаний); и одновременно его исключительную разреженность, вытекающую из полного отсутствия влияния его на движение звезд и планет; и искусственность поведения эфира в сплошных телах (два эфира в исландском шпате?!). Позже вместо гипотезы о двух эфирах была выдвинута гипотеза о различной упругости эфира вдоль разных кристаллографических направлений (Нейман, 1835 г.), но это тоже вряд ли можно рассматривать как счастливую находку.
Физики мирились со всем потому, что без эфира, без какой-то среды немыслимо было представить, как распространяются электромагнитные волны в пространстве.
В наши дни мы довольно спокойно говорим, что само пространство обладает свойством передавать электромагнитные и гравитационные волны. Причем это свойство мы не связываем с наличием какой-то заливающей вселенную среды.
Современная точка зрения пока, естественно, не обоснована.Механические методы эфира отброшены, и вместо них введено новое понятие — понятие поля. Чтобы не вдаваться в тонкости, просто отметим: современная физика отказалась от попыток представлять электромагнитные волны аналогично волнам в механических средах и газах.
Сейчас мы просто констатируем факт: в пространстве могут распространяться волны; эти волны обладают такими-то свойствами.
Мы знаем теперь, что гипотеза, будто пространство заполнено какой-то средой, аналогичной по своим свойствам газам или упругим телам, — эфиром, — несостоятельна, она противоречит опытам.
Короче, в вопросе об эфире физики вернулись к методу принципов. Но думаю, довольно ясно, как тяжело было отказаться от очень наглядной гипотезы эфира — упругой среды, заливающей вселенную.
Небольшое филологическое замечание.
Когда говорят, что теория относительности изгнала из физики эфир, имеют в виду «истребление» среды, заполняющей пространство и построенной из частиц. Сейчас мы утверждаем только то, что через пространство могут передаваться волны. Можно называть такое пространство эфиром, никто особенно не будет возражать; это вопрос сугубо терминологический.
Классический эфир погиб, когда установили, что в оптических явлениях так же, как в механике, отсутствует выделенная система отсчета.
Сентиментальное введение.Но прежде чем в этом убедились, прежде чем Эйнштейн создал свою теорию, пришлось потратить двести с лишним лет на поиски. Сотни опытов, десятки теорий, талант и трудолюбие многих поколений физиков подготовили триумф Эйнштейна.
Каждый по мере сил вносил свою долю: и те, чьи работы были похоронены навечно очень скоро после их рождения; и те, чьи труды оставили заметный след в физике.
Пожалуй, нет в истории науки более драматичной повести, чем поиски теории эфира. Несколько раз казалось, что все уже ясно, что все сомнения исчезли. Но проходил десяток лет, и новые опыты ставили под удар теории, столь убедительные в недавнем прошлом.
У нас, естественно, нет возможности даже очень схематично проследить этот великий и тяжелый путь.
Мы ограничимся лишь упоминанием о двух работах, сделанных на заре изучения световых явлений. Они выбраны не столько потому, что сыграли важнейшую роль в истории эфира и учении о свете, сколько потому, что, проследив за замечательными, неожиданными и поразительно смелыми выводами их авторов (в общем сравнительно рядовых ученых), можно почувствовать, что такое физика.
Первая работа.
Датский математик и астроном Олаф Ремер в 1676 году в движении ближайшего спутника Юпитера обнаружил очень странные неправильности: систематически нарушалась периодичность затмений спутника. Наблюдаемая картина представлялась в высшей степени удивительной.
Факт номер один.
Известно, что время одного полного оборота спутника Юпитера постоянно. Наблюдения, проведенные в разные времена года, давали одну и ту же цифру — 42 часа 47 минут 33 секунды. Конечно, иногда получали чуть больше, иногда чуть меньше, но отклонения не превышали пределов ошибок эксперимента, а среднее наблюдаемое значение продолжительности одного оборота оставалось постоянным, что, впрочем, было вполне естественным.
Мистификация! Наблюдаемое кажущееся время одного оборота спутника непостоянно. Но во времена Ремера заметить этого не могли из-за недостаточной точности приборов.Далее. Орбиты Земли и Юпитера и скорости движения этих планет были хорошо изучены астрономами. Поэтому, казалось бы, зная момент наступления одного затмения спутника, можно легко предсказать, когда начнется любое последующее. Надо только провести кропотливые, но в принципе очень простые вычисления.
Действительно, есть три тела. Известно, как они двигаются. И совсем не сложно установить, через какие интервалы времени они окажутся на одной прямой.
Пусть затмение наблюдается в момент, когда Юпитер, Земля и спутник Юпитера находятся в положении 1. Зная время одного оборота спутника Юпитера, можно вычислить моменты наступления остальных затмений на весь земной год вперед.
Но вместо нарисованной мирной картины астрономы столкнулись с удивительным фактом номер два.
Факт номер два.
Оказалось, что моменты наступления затмений сначала запаздывают. Запаздывание все возрастает примерно в продолжение нашего земного полугода и достигает под конец значительной величины — нескольких минут.
Потом в течение следующего полугода запаздывание все уменьшается и уменьшается, пока не исчезает совсем.
Впечатление такое, будто спутник первые полгода вращается вокруг Юпитера несколько медленнее, а вторые полгода — несколько быстрее, чем это наблюдалось в момент, соответствующий положению 1.
Получалось так, будто движение спутника возмущено какой-то неизвестной причиной, которая то ускоряет его, то замедляет; причем воздействие ее по своему характеру периодично с периодом примерно в один земной год.
Но откуда может появиться подобное возмущение?
Ремер выдвинул смелую гипотезу: причина отклонений не в спутнике Юпитера, он вращается равномерно, а в том, что скорость света конечна, и в результате наблюдателю на Земле кажется, что время одного оборота различно.
Повторяю (насколько можно понять из имевшейся в распоряжении автора литературы), во времена Ремера инструменты были недостаточно точны, чтобы непосредственно поймать разницу во временах одного оборота спутника Юпитера, измеряя это время, скажем, сегодня и через полгода.
Но, регулярно накапливаясь, отклонения в доли секунды привели к различию между наблюдениями и предсказаниями теории для моментов наступления затмения в несколько минут.
Кстати, с явлением, «очень напоминающим» запаздывание затмений спутника Юпитера, приходится сталкиваться в повседневной жизни.
Довольно часто можно слышать: «У этих часов очень точный ход. Они отстают на минуту в месяц».
Попытка популярно объяснить кажущееся противоречие в наблюдаемых Ремером фактах.Точность обычных наручных часов не позволяет обнаружить отставание на две секунды в сутки. Но, постепенно накапливаясь, за месяц эта малая ошибка дает вполне заметное значение — минуту. Уже через несколько суток по секундной стрелке можно заметить, что часы отстают, хотя, если сверять их по сигналам точного времени в двенадцать дня и двенадцать ночи, нет возможности заметить отставание на одну секунду. При такой проверке создается впечатление, что часы идут совершенно точно.
Но если в примере с наручными часами все достаточно очевидно, то со спутником Юпитера положение было очень запутано ввиду побочных эффектов.
Шеф Ремера — крупнейший французский астроном Кассини — сначала было согласился с его идеей. Но потом отказался от нее, так как наблюдаемые движения других спутников Юпитера как будто противоречили выводам Ремера. И как часто бывает, Ремер так и не дождался при жизни полного признания своей теории.
Принципиально эффект кажущейся неравномерности вращения, вызванный конечностью скорости света, очень ясен.
Рассмотрим два положения Земли и Юпитера. В этих двух положениях и проведем измерение интервалов между двумя затмениями. Заметим, что в положении 1 расстояние между Землей и Юпитером уменьшается со временем, а в положении 2 растет.
Учтем теперь, что скорость света конечна.
Пусть Юпитер, спутник и Земля находятся в положении 1. Пусть спутник зашел за Юпитер в момент времени t1. В это мгновение на Земле мы получим световые волны, которые были посланы с поверхности спутника в какой-то предыдущий момент. Иными словами, мы увидим изображение спутника в том месте, где его уже нет.
Точно так же мы ничего не увидим, если попытаемся найти быстро летящий самолет в той точке, откуда доносится звук мотора. Пока звук будет до нас добираться, самолет улетит дальше.
Кажется, первая совершенно точная аналогия.Изображение спутника, скрывающегося за Юпитером, мы получим не в момент t1, а спустя некоторое время Δt1(r1), которое нужно затратить свету, чтобы пробежать расстояние r1 от спутника Юпитера до Земли. Оно будет равно Δt1(r1) = r1/c, где с — скорость света.
Пожалуй, и в этом случае проще разобраться в сути дела, используя формулы.Земной наблюдатель по своим часам отметит, что затмение спутника Юпитера началось в момент tт = t1 + r1/c[37].
Когда произойдет второе затмение (а оно наступит примерно через двое суток), все повторится. И мы занесем в журнал наблюдений, что затмение началось в момент tт1 = t11 + r11/c, — где r11 — расстояние между Землей и Юпитером в момент начала второго затмения.
Интервал времени между началами двух затмений = Δt1 т = (t11 – t1) + 1/c(r11 – r1).
Но, как помните, в положении 1 расстояние между Землей и Юпитером все время уменьшается. Следовательно, r11 < r1, и вторая скобка отрицательная.
Правда, скорость света с очень велика, поэтому все второе слагаемое очень мало по сравнению с первым членом. Но все же измеряется несколько меньший интервал времени, чем действительный период между двумя затмениями.
Все сказанное можно повторить по отношению к измерениям, проведенным в положении 2, и тогда получим:
Δt2 т = (t21 – t2) + 1/c(r21 – r2).
Есть, однако, существенное различие. Когда Земля и Юпитер находятся в положении 2, расстояние между ними все время растет, то есть r21 > r2.
Значит, вторая скобка положительна, и интервал Δt2 т несколько больше действительного периода между затмениями. (Само собой разумеется, что Δt2 т > Δt1 т.)
Зная движение Земли и Юпитера, можно определить разность расстояний между ними в любые моменты времени. И, имея эти данные, путем несложных вычислений легко найти скорость света.
Вычисления самого Ремера были довольно грубы: по его данным, скорость света равна приблизительно 215 тысячам километров в секунду[38].
Наш разговор о методе Ремера чуть менее схематичен, чем принято обычно. Но и мы обратили внимание только на одно затруднение — противоречивость кажущегося постоянства времени одного оборота спутника и предсказаний времени затмений на длительные сроки, — забыв о многих не менее тяжелых препятствиях на пути Ремера. Мало было связать руководящую идею конечности скорости света с тем, что предсказания затмений на длительные сроки были ошибочны. Требовалось еще обработать очень сложный и запутанный экспериментальный материал, материал настолько противоречивый, что Кассини отказался от теории Ремера.
Опять назидательные поучения!Когда работа закончена, когда не остается сомнений в ее справедливости, все представляется очень простым. Это впечатление бывает особенно четким при поверхностном знакомстве. Но стоит присмотреться внимательней, как видишь, сколько было поисков и сомнений у исследователей, какой тяжелый путь скрыт за этой мнимой простотой. Избитый афоризм «гениальное всегда просто» мало поэтому соответствует истине. Более точно было бы сказать: «Простым кажется все, что уже ясно понято другими». Причем простота видна тем разительней, чем меньше мы сами понимаем, о чем идет речь.
Перейдем ко второй работе, сыгравшей в теории света и эфира исключительную роль.
Интересно, что в какой-то степени она была сделана случайно.
С тех пор как появилась система Коперника, ее сторонники пытались доказать вращение Земли, обнаружив кажущееся годичное движение неподвижных звезд — параллактическое смещение.
Очень издалека начинается рассказ об аберрации света — эффекте, замечательном как по своей физической сущности, так и своей историей.Идея наблюдений очевидна.
Когда Земля находится в положении Т′, звезда представляется нам в точке S′. Спустя полгода мы из Т″ увидим ее в точке S″. И за год она совершает движение S′S″S′[39].
Иными словами, видимое движение звезды проявляется в том, что в разные времена года надо направлять телескоп под различными углами к земной поверхности. А это на нашем языке и означает в различные точки неба.
Так как расстояние от Земли до звезд во много раз превышает размеры земной орбиты, годичный параллакс ничтожно мал. Поэтому астрономы XVI столетия, с их несовершенными приборами, заметить его не могли. Ведь наибольший параллакс у самой близкой к нам звезды Proxima (Ближайшая) Центавра равен 0,75″! Под таким углом виден человеческий волос на расстоянии 18 метров![40]
Любопытные сведения.Известный датский астроном Тихо де Браге тщетно пытался обнаружить годичный параллакс Полярной звезды и после неудачных опытов в конце концов стал непримиримым противником учения Коперника.
В XVII столетии точность астрономических наблюдений значительно возрастает и действительно удается наблюдать смещение звезд. Решили, что обнаружен годичный параллакс и получено еще одно подтверждение идеи Коперника.
Но вот Брадлей, изучая годичные смещения многих звезд, приходит к выводу, что это отнюдь не параллактическое смещение. Наблюдаемые движения совершенно не совпадали с теоретическими представлениями.
Не было просто ничего похожего.
Во-первых, абсолютно все звезды, лежащие в плоскости эклиптики, в течение года дважды пробегали одну и ту же дугу, равную 40,9 секунды.
Далее. Все звезды, не лежащие в плоскости эклиптики, описывали на небе эллипсы, большая ось которых также равнялась тем же 40,9 секунды.
Если допустить, что эти движения и есть параллактические смещения, пришлось бы сделать невероятное предположение, что все звезды удалены от Земли на одно и то же расстояние. Впрочем, такой отчаянный шаг тоже не мог спасти положение.
В открытом Брадлеем движении наблюдались такие закономерности, которые уже совсем нельзя было объяснить, считая, что мы видим параллактическое смещение.
Действительно, если видимое движение звезд вызвано параллактическим смещением, то при тех двух положениях Земли, когда Солнце, Земля и звезды находятся на одной прямой, звезда должна наблюдаться в одной и той же точке небосклона. А Брадлей установил, что как раз при положении Земли в этих точках звезда максимально отклоняется от своего среднего положения на небосводе.
Естественно, возник вопрос: какова же причина наблюдаемого движения? Брадлей нашел совершенно неожиданное и изящное решение задачи.
Пусть скорость света конечна, говорит Брадлей. Свет — это поток летящих от звезды на Землю мельчайших частиц — корпускул (Брадлей твердо стоял за корпускулярную теорию света).
Тогда, поскольку Земля двигается по своей орбите со значительной скоростью, наблюдаемая картина звездного неба должна отличаться от реальной.
Пояснить идею Брадлея очень просто.
Предположим, что в какой-то обсерватории проводятся наблюдения и телескоп направлен точно в зенит вертикально к поверхности Земли. Чтобы сделать наш пример «более реальным», вооружим обсерваторию телескопом-рефлектором, в котором верхнее отверстие трубы телескопа ничем не закрыто. В какой-то момент может случиться так, что начнется совершенно отвесный дождь. Если телескоп не убрать, естественно, все зеркало, расположенное внизу трубы, будет равномерно залито дождем. Капли дождя, двигаясь вдоль оптической оси трубы сверху вниз, попадут строго в центр зеркала.
Уже вторая довольно точная аналогия!Перенесем теперь мысленно обсерваторию, телескоп и рассеянного астронома на быстро плывущий корабль и снова прикажем начаться совершенно отвесному дождю.
Картина изменится. Пока капля проходит путь от верхнего отверстия трубы до зеркала, телескоп «проезжает» некоторое расстояние, и частица падает не параллельно оси телескопа. Ее «сносит» в направлении, противоположном движению. В результате левый край зеркала будет заливаться больше, чем правый (см. рисунок).
Чтобы частицы дождя двигались по-прежнему параллельно оси телескопа, его необходимо наклонить на некоторый угол вправо. Если бы наблюдателю пришла в голову идея — определять направление падения дождевых капель по оси телескопа в тот момент, когда капли падают параллельно стенкам трубы, то он ошибся бы.
Вернемся теперь к звездам. Мы смотрим на звезду в зените небосклона через диафрагму телескопа. Пусть Земля при этом покоится. Тогда «дождь световых корпускул», падающий от звезды, пройдет точно параллельно оси телескопа и попадет в приемное устройство.
А если Земля движется? Тогда за время падения световых корпускул вдоль трубы телескопа переместится и сама труба; лучи же пойдут не параллельно оси, а под каким-то углом к ней. И попадут они не в приемное устройство, а сместятся в сторону.
Чтобы световые корпускулы двигались параллельно оси телескопа, надо просто наклонить трубу вперед. Тогда в результате совместного движения частиц и трубы лучи света пройдут параллельно оси прибора.
Угол наклона определяется просто. Если скорость световых корпускул — c, а скорость телескопа (скорость Земли) — v, то
tgφ = v/c.
Направление на звезду астроном определяет по направлению оси телескопа в момент, когда изображение звезды находится в центре поля видимости (на оптической оси). В корпускулярной же теории Ньютона сравнительно просто показывается, что изображение предмета окажется на оптической оси прибора только в том случае, когда световые корпускулы от этого предмета летят параллельно оптической оси. А мы сейчас только убедились, что ввиду движения Земли корпускулы двигаются параллельно оси телескопа, когда он направлен не на звезду, а несколько отклонен. Вот что такое аберрация света[41]. Из-за аберрации света мы, следовательно, видим звезду не в том направлении, где она находится.
Может быть, стоит заметить, что все мы не раз наблюдали аберрацию отвесно падающего дождя. Если судить только по дождевым следам на стекле двигающегося вагона, создастся впечатление, что дождь падает косо к поверхности Земли.
Очень существенное замечание.Стоит особо отметить, что если бы Земля двигалась равномерно и прямолинейно по отношению к неподвижным звездам, мы, конечно, никак не могли бы экспериментально установить наличие аберрации света. Всегда во всех опытах телескопы были бы наклонены на один и тот же угол по отношению к истинному направлению на звезду; никакого аберрационного движения звезды по небосклону не наблюдалось бы, и об аберрационном смещении можно было бы заключить только на основе теоретических рассуждений. Аберрационное смещение звезд, как видно из рисунка, наблюдается потому, что в разных точках орбиты скорость Земли имеет различное направление.
…Теория Брадлея великолепно объяснила наблюдаемые смещения звезд. В частности, стало совершенно понятно, почему максимальные угловые смещения всех звезд равны между собой — ведь они всецело определяются отношением орбитальной скорости Земли к скорости света.
Кстати, по величине углового смещения можно было определить скорость света. Брадлей и нашел, что c = 303 тысячам километров в секунду, то есть определил скорость света с точностью до одного процента.
Аберрационное смещение звезд послужило также прекрасным доказательством системы Коперника.
Словом, Брадлей открыл значительно более интересное явление, чем то, которое он искал.
А параллактическое смещение было обнаружено только в середине XIX столетия, так как эффект был слишком тонок для инструментов XVIII века.
Итак, наука торжествовала…
Все это очень мило, но ведь корпускулярная теория оказалась неправильной! Следовательно, объяснение аберрации, которое дал Брадлей, удовлетворить нас не может! Необходимо объяснить аберрацию с позиции волновой теории, ибо без такого объяснения вся теория повисает в воздухе.
Толкование аберрации с волновой точки зрения нашел Роберт Юнг (1804). И тогда обнаружили, что проблема аберрации значительно ядовитее, чем думали вначале.
Неувлекаемый эфир! Внимание!Юнг предположил, что эфир не увлекается Землей при ее движении; что Земля несется сквозь эфирное море и ее скорость относительно частиц эфира равна орбитальной скорости[42]. Только в этом случае — в случае полностью неувлекаемого эфира — аберрационный эффект, рассчитанный по волновой теории, полностью совпадает по величине со значением, предсказанным корпускулярной теорией света и полученным экспериментально.
Сейчас мы коротко передадим сущность рассуждений Юнга, но пока важно отметить другое.
При попытке построить волновую теорию аберрации физики впервые столкнулись с центральной проблемой теории эфира — проблемой, которая в конечном счете погубила эфир.
Как взаимодействует эфир с движущейся Землей? Как движение Земли относительно эфира сказывается на оптических и электромагнитных явлениях? Можно ли обнаружить экспериментально движение относительно эфира? В итоге все это сводится к одному.
Существует ли абсолютная система отсчета — покоящийся эфир?
Итак, аберрация в волновой теории света получила важнейшее, принципиальное значение. Точное решение задачи аберрации в волновой теории довольно кропотливо, и мы ограничимся грубыми качественными замечаниями.
Впрочем, эти соображения отражают совершенно правильно суть вопроса.
Световые волны, излучаемые звездой, концентрически разбегаются от нее в неподвижном эфире[43].
Аберрация и неувлекаемый эфир. Очень важное место.Предположим, что Земля в своем движении не увлекает эфир. Тогда волны, прошедшие через диафрагму телескопа, будут как бы «снесены» относительно оси прибора влево.
А если бы Земля увлекала эфир в своем движении, никакой аберрации не было бы!
Существование аберрации показывало бы, что эфир не увлекается Землей. Значит, при движении Земли относительно неподвижных звезд вблизи нее должен возникать «эфирный ветер».
И естественно задать вопрос: можно ли обнаружить «эфирный ветер» при помощи других оптических явлений? Несложные теоретические соображения сразу привели к заключению: «Да, можно».
Например, коэффициент преломления света в случае, если Земля не увлекает эфир, должен быть разным в зависимости от того, движется Земля навстречу источнику света (звезде) или от него.
Проделали опыт — ничего не обнаружили. А точность приборов позволяла увидеть предсказанный теорией эффект.
Опыт Араго — 1818 год!Такой результат очень смущал. С одной стороны, аберрация как будто подтверждала теорию неувлекаемого эфира. А с другой стороны, опыты с коэффициентом преломления противоречили этой теории.
Далее. С самой аберрацией также не все было хорошо. Угол наклона телескопа определяется отношением пути, который он «проезжает» за время, пока свет проходит от вершины телескопической трубы до основания, к ее длине. Или, что то же, угол наклона определяется отношением v/c.
Точнее φ = v/c[44]. Причем (и это очень существенно) здесь с по своему смыслу не что иное, как скорость распространения света именно внутри трубы телескопа.
И вот кто-то (автор не узнал, кто именно[45]) проделал исключительно эффектный опыт — трубу телескопа залил водой.
Скорость распространения света в воде отлична от скорости в воздухе и составляет примерно 3/4 ее. Следовательно, угол аберрации звезд для таких «водяных» телескопов должен измениться, увеличившись в 4/3 раза.
Проделали опыт, измерили угол и получили, что в «водяном» телескопе он остается прежним.
Это уже ни на что не было похоже!
Однако все неприятности на время притушил Френель, предложив очень произвольную и очень остроумную гипотезу о характере увлечения эфира сплошными средами. Он сказал: допустим, что плотность эфира в сплошных средах больше, чем в пустоте. Тогда эфир в пустоте — «внешний эфир» — движущимся телом не увлекается. А эфир, который находится внутри тела, частично увлекается. Френель мотивировал это тем, что количество эфира, втекающего в движущееся тело, должно равняться количеству вытекающего. А поскольку плотность эфира внутри тела больше, чем снаружи, то количество эфира внутри останется постоянно только тогда, когда скорость движения «внутреннего эфира» относительно тела меньше, чем «внешнего эфира».
Такая теория объясняла и опыты с коэффициентами преломления и опыты с «водяными» телескопами.
Расчеты, проведенные на основе теории Френеля, показывали, что в принципе эффект-то есть. Коэффициент преломления действительно должен меняться в зависимости от движения тела относительно эфира. И соответственно, аберрация у «водяного» телескопа также должна быть отлична от аберрации в «нормальном» телескопе. Эффект есть. Но в результате частичного увлечения он очень мал. Значительно меньше, чем ожидалось. И относительные изменения коэффициента преломления получаются порядка, v2/c2, а не v/c, то есть «второго порядка малости». (Для Земли v2/c2 ≈ 10–8). Но такие поправки настолько малы, что проверить их экспериментально не представляется возможным. Ведь из доступных нам движений относительно эфира наиболее быстрым является только движение Земли (30 км/сек!).
Здесь впервые упоминается о квадратичном по отношению к V/C эффекте. Его поискам физики посвятили почти все XIX столетие.Точно так же аберрация в «водяных» телескопах должна отличаться от аберрации в обычных телескопах на величину порядка v2/c2. Достаточно же хороших приборов для обнаружения таких ничтожных изменений не существовало. Поэтому после апелляции Френеля вынесение смертного приговора эфиру было пока отложено.
Мы уж очень долго следим за историей эфира. Самое поучительное, пожалуй, то, как упорно физики держались за эту идею. Теории эфира следовали одна за другой: эфир вихревой, эфир с неравномерной плотностью, эфир, построенный аналогично смолам, эфир, напоминающий систему зубчатых колес. Потом эфиры увлекаемые, неувлекаемые и увлекаемые частично!
Было бы очень опрометчиво насмехаться над всеми этими эфирами.
Теории эфира строились крупнейшими учеными. Эти теории были изящны, тонки, интересны: в них вкладывалось много таланта и выдумки. Все это делалось, чтобы спасти волновую теорию, потому что представить волны вне среды, состоящей из каких-то частиц, физики не могли.
Но чем дальше, тем яснее становилось, что эфир какой-то выродок среди физических субстанций.
Во-первых, никто не мог создать такой теории, которая удовлетворительно объясняла бы весь комплекс известных фактов.
А во-вторых, гипотетический эфир приходилось наделять столь удивительными качествами, делать до того странные допущения, что примириться с таким эфиром ученые не могли.
Очень хорошо оценил положение с эфиром Кельвин. «Подобные теории могут не нравиться или нравиться, но удовлетворить они не могут».
И помимо всех неприятностей, а их у эфира было достаточно, висел нерешенный вопрос: влияет ли движение относительно эфира на оптические явления хотя бы и во «втором порядке малости»?
Если бы оказалось, что не влияет, пришлось бы отбросить френелевскую теорию частичного увлечения эфира — последнюю хрупкую опору, на которой он держался.
Что же мы можем сказать об эфире?
Эти выводы, естественно, относятся к положению дела в XIX столетии.1. Волновая природа света заставляет предположить существование эфира — некой загадочной материальной среды. Эта среда удивительна и непонятна по своим свойствам, но без нее трудно представить себе распространение световых волн.
2. Факт аберрации света говорит, что эфир не увлекается Землей при ее движении. В увлекаемом эфире аберрация должна отсутствовать.
3. Отсюда сразу следует, что движение Земли относительно неподвижных звезд должно сказываться во многих оптических явлениях (в частности, изменение коэффициента преломления).
Теория аберрации показывает также, что угол аберрации в «водяном» телескопе отличен от угла аберрации в обычном телескопе.
4. Опыты опровергают пункт 3. Не удается заметить и влияние движения Земли относительно эфира на световые процессы. Все это очень смущает, но…
5. Положение спасает Френель, создав теорию частичного увлечения эфира. По Френелю, утверждение пункта 2 в принципе справедливо, но эффект должен быть ничтожно мал. Движение относительно эфира должно сказываться только «во втором порядке отношения».
6. Пока еще нет опытов, точность которых позволяет обнаружить эффект «во втором порядке», и потому вопрос остается открытым.
Глава X,
главное достоинство которой — довольно подробный рассказ об эффекте Допплера и опыте Майкельсона, а основной недостаток — обилие рассуждений. В этой главе читатель расстается, наконец, с эфиром, чтобы перейти к теории относительности
Я не знаю, что такое этот эфир.
НьютонНеувлекаемый эфир, его расцвет и гибель
Итак, вопрос о существовании выделенной системы отсчета — покоящегося эфира — висел в воздухе. Может быть, стоит еще раз напомнить, что весь бой разгорелся вокруг принципа относительности.
Если движение какой-то системы (допустим, Земли) относительно эфира влияет на оптические явления — принцип Галилея в оптике несправедлив.
Если не влияет — напротив, справедлив.
По Френелю, движение не влияет «в первом порядке отношения v/c». Это утверждение называли иногда практическим принципом относительности.
Очень отрывочные сведения о развитии теории эфира в XIX веке. Эфир и теория электромагнетизма.Но вот в шестидесятых годах весь вопрос об эфире был поставлен совершенно по-новому, и это еще больше запутало дело.
Уже упоминалось, что Фарадей первым установил связь оптических и электромагнитных явлений. Значение его работ, однако, значительно шире. Он создал твердую экспериментальную основу для дальнейшего изучения электромагнетизма, и после него исследования в этой области стремительно развиваются. Можно сказать, что Фарадей в истории электричества — то же, что Галилей в механике.
Несколько слов о теории Максвелла.После Галилея, естественно, должен был появиться Ньютон. И вот в 1865 году Джемс Кларк Максвелл создает законченную теорию электромагнитных явлений.
Сходство Максвелла с Ньютоном не только в том, что его работу можно поставить в один ряд с «Началами». Не только в том, что, так же как Ньютон, он создал стройную теорию совершенно нового класса явлений.
Открытие Максвелла явилось полным торжеством метода принципов, причем метод был использован в совершенно новой форме.
Если говорить совсем схематично, Максвелл сделал вот что. Он составил уравнения. Эти уравнения очень хорошо описывали все известные электромагнитные явления. Но это далеко не все.
Среди решений уравнений были такие, которые как будто не соответствовали ничему. Эти решения описывали электромагнитные волны, распространяющиеся в «пустом» пространстве. А во времена Максвелла подобные волны не были еще известны. Из уравнений следовало, что, во-первых, волны поперечны и, во-вторых, они распространяются с определенной конечной скоростью.
Что означают слова «электромагнитные волны поперечны»? Что в них колеблется? Из этих же уравнений следовало, что в электромагнитной волне должны колебаться векторы электрического и магнитного полей, причем векторы эти перпендикулярны к направлению распространения волны.
А откуда взял Максвелл «скорость волн»?
В его уравнении входила некая постоянная величина, размерность которой совпадала с размерностью скорости. И Максвелл сделал смелое предположение. Он допустил, что полученные из уравнений периодические решения описывают реальные электромагнитные волны. При этом неизвестная постоянная величина получила физический смысл — как скорость волн.
Эту величину можно было измерить чисто электромагнитным путем. Измерили. Оказалось, что она равна 310 тысячам километров в секунду. Как видите, число, довольно близкое к скорости света. Эти измерения, естественно, были не очень точны. Более поздние опыты показали, что скорость электромагнитных волн равна 299 796 километрам в секунду.
Но Максвелл пошел еще дальше. Мало того, что он постулировал существование тогда еще никому не известных электромагнитных волн. На основании того факта, что их гипотетическая скорость очень близка к скорости света, он выдвинул гипотезу, что свет — это тоже электромагнитные волны.
Поразительная идея Максвелла.Это очень дерзкая, предельно неожиданная мысль. Поглядев, что «постоянная» в его уравнениях совпадает со скоростью света, Максвелл решил: «Здесь что-то скрыто. Вероятно, свет и мои электромагнитные волны — это одно и то же».
К теории Максвелла далеко не сразу пришло признание. Но к концу столетия все были убеждены в ее справедливости.
Что же произошло с эфиром после появления теории электромагнитных волн?
Ничего хорошего. После Максвелла к эфиру предъявили еще большие требования. Теперь уже и все электромагнитные явления надо было объяснять при помощи того же эфира.
С другой стороны, и сами опыты с электромагнитными процессами давали новые возможности проверки теории эфира.
…Подробный разговор о дальнейшей судьбе эфира, естественно, невозможен. Поэтому, может статься, вы не будете очень убеждены в неотвратимости выводов Эйнштейна.
Может быть, это и хорошо.
Прошу поверить, что самое простое — изложить схемы нескольких решающих опытов и объявить: «Вот в результате того-то и того-то гипотеза эфира стала неприемлемой». Это можно сделать очень убедительно, так что читатели поверят, причем тем охотнее, что все это правда. После такого рассказа остается обычно чувство легкого недоумения. «Как же все это не видели ученые того времени?»
Автор, выполняя обещание, начинает рассуждать. Снова назидательные замечания.Иногда закрадывается даже чувство известного превосходства над такими людьми, как Максвелл или Ньютон.
Автору кажется, что подобное понимание хуже самого черного невежества, и потому в нашей беседе он, автор, все время усиленно пытался охранить вас, читателей, от подобных иллюзий.
Если хорошо подумать, придется признать: почти все вопросы, затронутые в нашей беседе, разобраны неудовлетворительно. Это совершенно естественно, иначе и не могло быть, но об этом стоит все время помнить. В наибольшей степени последнее замечание относится к такой общей проблеме, как теория эфира. Мы можем только очень схематично коснуться основных затруднений, и следует честно признать: перед вами только очень плохой, неясный и грубый отпечаток той борьбы, которая бушевала в прошлом столетии. Причем не приходится сомневаться, что любой образованный физик середины XIX столетия спокойно разбил бы вас, если бы вы попытались доказать несостоятельность эфира только на основе нашего разговора.
…В прошлой главе мы остановились на хитроумной теории Френеля. Однако она касалась поведения эфира в сплошных средах. Френель объяснил, почему все опыты, в которых пытались уловить изменение оптических свойств сплошных сред относительно эфира, должны давать отклонения только «во втором порядке отношения v/c».
Состояние гипотезы неувлекаемого эфира перед опытом Майкельсона.Но, может быть, осуществимы опыты без привлечения сплошных сред, и тогда эффект движения относительно эфира можно выловить «в первом порядке отношения v/c»?
Подобные опыты искали, но найти не могли. Природа как будто подшучивала над учеными.
Опыты, которые возможно было проделать, позволяли наблюдать движение относительно эфира, но только «во втором порядке отношения v/c».
Было предложено несколько принципиальных схем возможных опытов «первого порядка»[46], но все они оказались неосуществимыми из-за условий измерения.
С. И. Вавилов так характеризовал ситуацию: «Создается довольно курьезное положение. В неувлекаемом эфире должны существовать эффекты первого порядка… но измерить их нельзя».
Этот самый «курьез» и мучил физиков примерно полстолетия. А эфир пока жил потому, что против него не было решающих доводов.
Скорее даже наоборот. В интервале между созданием теории Френеля (частичное увлечение эфира в сплошных телах) и опытом Майкельсона (о котором мы сейчас расскажем) теория неувлекаемого эфира имела и крупные достижения.
Успехи теории эфира.Во-первых, аберрацию света теория неувлекаемого эфира объясняла сразу.
Во-вторых, эфир устоял против обвинения, что «в первом порядке» эффект движения относительно него не удавалось обнаружить.
Отсутствие эффектов «первого порядка» в опытах со сплошными средами объяснил, как помните, Френель; причем теория Френеля получила блестящее подтверждение. В 1851 году Физо сделал опыт по проверке теории Френеля. Мы не будем разбирать схемы этого опыта и только заметим — об эксперименте Физо не кто-нибудь, а сам Майкельсон написал: «Произведенный им опыт — один из самых остроумных, когда-либо сделанных физиками».
Так вот, опыт Физо дал точное совпадение с предсказаниями Френеля. Впоследствии Майкельсон проверил результаты Физо и снова убедился, что они правильны.
И наконец, в-третьих. В 1842 году Ганс Христиан Допплер, используя гипотезу неувлекаемого эфира, теоретически установил, что при движении источника или приемника световых сигналов относительно эфира частота световых волн (или цвет света), воспринимаемая наблюдателем, отлична от «истинной», когда приемник и источник света покоятся относительно эфира. И вскоре, исследуя спектры звезд, получили качественные подтверждения этого предсказания.
Следует несколько наивный рассказ о явлении Допплера.Вот схема эффекта Допплера в теории неувлекаемого эфира.
1. Приемник и источник неподвижны относительно эфира. Свет источника воспринимается в приемнике с частотой ω.
2. Источник покоится относительно эфира, а приемник движется со скоростью V. В приемнике отмечается, что свет имеет частоту ω′, отличную ω. (При сближении источника и приемника ω′ > ω; при удалении — ω′ < ω.)
3. Приемник покоится, источник движется с той же скоростью V. Свет воспринимается с частотой ω″, причем ω″ > ω, но не равна ω′, хотя относительная скорость источника и приемника не изменилась.
Вот последняя фраза очень важна. Если справедлива теория неувлекаемого эфира, то даже в том случае, когда относительная скорость источника и приемника одна и та же, воспринимаемая частота света различна в зависимости от того, движется ли относительно эфира приемник или же источник света.
Чтобы не очень отвлекаться, ограничимся замечанием, что, по Допплеру, теория эффекта изменения частоты воспринимаемых световых волн абсолютно аналогична соответствующему эффекту для звуковых волн. Это совершенно естественно, поскольку для звука существует неувлекаемый эфир — атмосфера.
И сейчас мы несколько отвлечемся, чтобы подробнее рассказать об эффекте Допплера. На это есть несколько причин. Но мы ограничимся ссылкой на две.
Во-первых, эффект Допплера играет исключительную роль в разнообразных областях физики. В частности, использование Допплер-эффекта — один из самых мощных экспериментальных методов современной астрофизики. А во-вторых, об эффекте Допплера почему-то у многих обычно смутное представление, хотя сущность явления очень просто понять.
Сейчас мы решим задачу примерно за 6–7-й классы средней школы. Задача совершенно точно отражает суть эффекта Допплера для звука, а также явилась бы совершенно точной аналогией Допплер-эффекта для световых волн, если бы была правильна теория неувлекаемого эфира.
Военно-морская аналогия.Итак, есть некий порт A. От него со скоростью v удаляется некий корабль B. Естественно, скорость корабля определена относительно воды. По неким причинам связь между портом и кораблем поддерживается следующим не слишком удобным способом.
Через промежутки времени Δt начальник порта отправляет на корабль посыльные катера.
Капитан корабля делает то же самое. Он также отправляет катера в порт через интервалы Δt. Скорость катеров относительно воды обозначим c. Естественно, c > v. Иначе ни один катер из порта не попал бы на корабль.
Требуется узнать, какой интервал времени между двумя последующими приемами катеров из порта пройдет на корабле и каков интервал между приходами катеров в порту.
Найдем время, которое тратит катер, чтобы добраться из порта до корабля.
Если в момент отправления первого катера расстояние до корабля было a, то время пути катера определяется очевидным равенством:
S = c · t1пут = a + vt1пут, и отсюда:
t1пут = a/(c – v).
В момент, когда отправится следующий катер, корабль будет находиться уже на расстоянии a + Δt · v, и время пути этого катера, естественно, равно
t2пут = (a + Δt · v)/(c - v)
Если первый катер был отправлен в момент t0, а второй соответственно в момент t0 + Δt, то времена их прибытия на корабль соответственно:
t1прибыт = t0 + a/c – v;
t2прибыт = t0 + Δt + a + Δt · v/c – v;
А интервал времени между приемами катеров, очевидно, равен:
Δtприема = t2прибыт – t1прибыт = Δt(1 + v/c – v).
Или если ввести β = v/c:
Δtприема = Δt(1 + β/1 – β) = Δt/(1 – β).
На эту формулу стоит взглянуть. Но этого мало, полезно ее сравнить со следующей.Как видите, интервал между двумя приемами катеров больше, чем интервал между моментами их отправления. Это, конечно, совершенно понятно, потому что второй катер находился в худших условиях — ему нужно пройти бóльший путь, чем предыдущему.
Обратим теперь внимание, что в выражение для Δtприема не входит величина a — начальное расстояние корабля от порта. Иными словами, для любой пары катеров, следующих друг за другом, растяжение интервала между их прибытием на корабль определяется только отношением
(v/c).
Если корабль не удаляется, а приближается, достаточно изменить знак скорости корабля. Характер решения не изменится. (Надеюсь, что в этом читатели могут убедиться самостоятельно.)
Итак, Δtприема = Δt/(1±β).
Знаки – и + соответствуют удалению и приближению корабля.
Если ввести новую характеристику — частоту отправления и приема катеров, а она, естественно, определится как ν = 1/Δt, то мы получим:
νприема = νотправл(1±β).
Рассмотренный пример совершенно точно показывает, как изменится частота звуковых волн, если источник покоится относительно атмосферы, а приемник движется.
Если бы была правильна теория неувлекаемого эфира, точно так же должно было обстоять и с электромагнитными волнами.
Полагаю, что читатели смогут сами определить частоту приема в порту катеров, посланных с корабля, и получить формулу:
νприема = νотправл/(1±β).
Здесь + соответствует приближению, а – удалению корабля.
Как видите, хотя качественно в обоих случаях частота меняется одинаково, количественно должны наблюдаться разные результаты в зависимости от того, источник или приемник движутся относительно эфира, даже если скорость их относительно эфира одинакова[47].
Часто приходится читать, что, слушая рев сирены электропоезда, проезжающего мимо наблюдателя на полотне дороги, легко можно непосредственно наблюдать эффект Допплера.
Должен заметить, что, очевидно, это возможно лишь для людей с очень развитым слухом. Обычно же фиксируется не изменение частоты, а изменение громкости (интенсивности). Поэтому наблюдатели без особых музыкальных данных и несколько «испорченные» образованием отождествляют кривую изменения интенсивности звука с теоретически предсказанным изменением частоты и приходят к выводу, что кривая для изменения частоты в акустическом эффекте Допплера имеет примерно такой вид.
На самом же деле по оси ординат здесь откладывается интенсивность, а не частота.
Кривая же, характеризующая изменение частоты и обычно не воспринимаемая на слух, представлена на следующем рисунке.
ω — «истинная» частота сирены (то есть частота, наблюдаемая, если источник и наблюдатель находятся относительно атмосферы).
При скорости примерно 65 километров в час изменение высоты звука достигает приблизительно полутона (то есть вместо, скажем, ноты «до» мы должны услышать «до диез»). Однако поскольку сирена поезда редко дает «чистый» (монохроматичный) звук, вся наблюдаемая картина несколько хитрее. Могу повторить, что реально эффект Допплера без специальных лабораторных устройств наблюдать затруднительно, если вы не обладаете хорошим музыкальным слухом.
Сообщается о неких преимуществах музыкальных людей.Вообще-то стóит добавить, что обычно наблюдаемая картина описывается несколько более сложными формулами, чем приведенные выше.
Мы рассмотрели те случаи, когда скорость направлена вдоль прямой, соединяющей источник и приемник. Когда это не так (а это почти всегда не так), вместо полной скорости v следует брать ее проекцию на прямую, соединяющую источник и приемник.
Мы ограничимся этим замечанием, отметив только, что, как показано на предыдущем рисунке, в момент, когда электричка проезжает мимо наблюдателя и проекция скорости на прямую, соединяющую наблюдателя и электричку, очевидно, равна нулю, воспринимаемая частота равна истинной.
Теперь можно обратить внимание на те любопытные следствия, что вытекают из эффекта Допплера для световых волн.
Когда приемник и источник света сближаются, воспринимаемая частота растет. Двигаясь со скоростью, достаточно близкой к скорости света, навстречу какой-либо звезде, мы увидим не ту спектральную часть ее излучения, что расположена в области видимых световых волн, а инфракрасную часть спектра или даже радиоволновую.
Теоретически вполне возможно увидеть яркое радужное сияние вокруг радиобашни, если только приближаться к ней со скоростью, сравнимой со световой.
Напротив, достаточно быстро удаляясь от источника, можно своими глазами наблюдать гамма-кванты. Какой-либо атомный котел явится в этом случае ярчайшим источником света.
Не помню, в каком именно научно-фантастическом романе некий хирург нашел способ изменять сетчатку глаза таким образом, что оказалось возможно непосредственно наблюдать электромагнитные колебания с большой длиной волны. Эффект Допплера открывает подобные возможности без оперативного вмешательства.
Все те выводы, что сейчас сделаны, остаются и в правильной теории эффекта Допплера, построенной на основе теории относительности. Можно сказать, что теория явления Допплера в схеме неувлекаемого эфира «почти правильна».
Однако есть и очень существенное отличие.
Во-первых, в теории неувлекаемого эфира, как мы видели, можно различить случаи: 1) приемник движется навстречу источнику со скоростью V относительно эфира; 2) приемник покоится, а источник двигается ему навстречу с той же скоростью V. В обоих случаях частота возрастет, но по-разному. Вспомнив формулы, приведенные выше, легко убедиться, что разность воспринимаемых частот по порядку величины равна β2.
В теории относительности, как будет видно из дальнейшего, вообще бессмысленно говорить о существовании какой-либо абсолютной системы отсчета — мирового эфира. Бессмысленно поэтому и различить эти два случая. Изменение частоты целиком определяется относительной скоростью источника и наблюдателя. Частота по-прежнему возрастает при сближении и падает при удалении.
Но формула для изменения частоты несколько трансформируется. А именно:
Правильная формула для изменения частоты световых волн. Она еще раз появится в XIV главе.Во-вторых, точная теория эффекта Допплера, построенная на базе теории Эйнштейна, приводит к заключению, что воспринимаемая частота должна измениться даже в том случае, когда проекция скорости на прямую, соединяющую источник и приемник, равна нулю (электричка находится прямо против наблюдателя). Этот замечательный вывод, так называемый поперечный эффект Допплера, очень тесно связан с изменением хода времени в разных системах отсчета. Экспериментальное подтверждение этого предсказания теории сам Эйнштейн считал важнейшим доводом в ее пользу.
К сожалению, автор не знает, как в доступной форме изложить существо эффекта Допплера с точки зрения теории относительности. Поэтому в дальнейшем мы ограничимся только краткими замечаниями по поводу явления Допплера. Важнейшие же черты явления, пожалуй, отмечены в предыдущем кратком анализе.
Итак, возвращаясь к эфиру, можно сказать, что качественно теория эффекта Допплера, основанная на представлении о неувлекаемом эфире, совпадала с опытом. А точный анализ его был непосилен физикам XIX столетия, так как правильная формула для частоты отличается от той, что основана на представлении о неувлекаемом эфире на величину порядка (v/c)2.
Итак, несмотря на все трудности с эфиром, многие факты свидетельствовали за его бытие.
Аберрация света, экспериментальное подтверждение частичного увлечения по Френелю, эффект Допплера, наконец, почти вся волновая теория — все это, казалось бы, очень веские аргументы в пользу неувлекаемого эфира.
Обычно говорят: решающим доказательством справедливости теории служит правильное предсказание результатов новых экспериментов. Пример с теорией Френеля может убедить, что в таких вопросах нужно быть необычайно осторожным. Даже если теория подтверждается экспериментальными данными, все же, пока этот экспериментальный материал не станет весьма обширным, не может быть полной уверенности в ее истинности.
Ведь предсказал же Френель результат опытов Физо!
Зато, безусловно, опровергнуть теорию вполне возможно одним опытом.
И в 1881 году Майкельсон провел, наконец, первый опыт, позволяющий уловить эффект движения Земли относительно эфира «во втором порядке отношения v/c». Результат был отрицателен.
Движение Земли относительно эфира не влияло на оптические явления и «во втором порядке отношения v/c»!
И вот опыт Майкельсона, погубивший эфир.В этом месте традиции предписывают автору и читателям замереть в благоговейном молчании.
«Сыроватый подвал Потсдамской астрофизической лаборатории. Уже давно погасли все огни. Город бюргеров спал мертвым сном, когда Альберт Абрагам Майкельсон закончил, наконец, отладку прибора. Помедлив мгновение, он слегка дрожащими пальцами включил источник света и приник к окошечку интерферометра.
Вряд ли прошло больше нескольких секунд, но он мог поклясться, что протекла вечность, пока его глаза напряженно искали ожидаемое смещение интерференционных полос. Еще одна вечность протекла, прежде чем он осознал, что эффекта нет.
Нечто вроде назидательного лирического отступления.Вместо бурной радости он чувствовал смертельную усталость. Радость придет позже; он знал это так же твердо, как то, что сейчас он закончил опыт, равного которому не было в истории физики».
Автор должен признаться, что когда-то он примерно так представлял себе научную работу и процесс крупного научного открытия.
На наше воображение легче всего действуют эффектные драматические сцены, и мы обычно отмечаем в своей памяти только подобные ситуации. Яблоко Исаака Ньютона, дуэли Яноша Бояи, отречение Галилео Галилея, гибель юного Эвариста Галуа, «эврика» Архимеда — все эти (и — увы! — часто только эти) разнообразные картины возникают в нашем сознании, когда речь заходит об ученых и их творчестве. В общем истинная романтика науки, романтика повседневного труда, несмотря на частые призывы помнить о ее существовании, как-то мало завоевала право на жизнь. Впрочем, это относится не только к науке. Штурм Джомолунгмы привлекает наше внимание куда больше, чем восхождение на какой-нибудь безвестный пик, даже если там были проявлены мужество и стойкость не меньшие, чем при покорении высочайшей вершины нашей планеты. То, что люди могут серьезно интересоваться такой ерундой, как выяснение проблемы — «кто первый вступил на вершину: Тенсинг или Хиллари?», очень четко рисует характер интересов многих «поклонников» альпинизма. Точно так же иные «болельщики от науки» увлекаются не работой, а «шумовыми эффектами».
Многие из «интересующихся физикой» знают имя Майкельсона не как одного из самых трудолюбивых и тонких экспериментаторов в истории науки, а как автора опыта, приведшего к созданию теории относительности.
Результат и только результат окружает имя Майкельсона ореолом святости в сознании очень большого числа «культурных» людей.
А вот что писал о своем опыте сам Майкельсон уже много лет спустя после окончания работы:
«Предполагали, что в случае, если этот опыт приведет к положительному результату, он даст возможность определить не только движение Земли по ее пути (вокруг Солнца. — В. С.), но и ее абсолютное движение в эфире. По различным веским причинам полагают, что Солнце, а за ним и все планеты движутся в определенном направлении через пространство со скоростью примерно 30 километров в секунду. Эта скорость не вполне точно определена, и я надеялся, что при помощи этого опыта мы будем иметь возможность измерить скорость движения всей солнечной системы в пространстве. Но так как результат опыта оказался отрицательным, задача еще ждет своего решения. Этот опыт имеет для меня исторический интерес, ибо именно для решения указанной задачи был изобретен интерферометр.
Вероятно, всякий согласится, что произведенная нами работа в достаточной степени вознаградила нас за отрицательный результат опыта тем, что привела к изобретению интерферометра».
Любопытный отзыв Майкельсона о своих опытах.Этот отрывок продиктован не только скромностью большого человека. Майкельсон был действительно очень разочарован отрицательным результатом своего эксперимента. Он рассчитывал одновременно установить движение солнечной системы в системе отсчета неподвижных звезд и подтвердить теорию неувлекаемого эфира.
Ни того, ни другого добиться не удалось. Опыт показал только, что теория неувлекаемого эфира не оправдывается. До создания теории относительности было еще очень далеко, и Майкельсон мог только констатировать, что результат опыта совершенно непонятен. Поэтому его разочарование было и искренне и естественно. Впрочем, он утешался тем, что изобрел действительно замечательный прибор — интерферометр.
Вообще стоило бы детально разобрать не только идею, но и теорию опыта Майкельсона. Но следует помнить, что точная теория этого эксперимента сравнительно мало напоминает общепринятую в изложениях схему. Достаточно заметить, что в первом сообщении сам Майкельсон приводит ошибочный расчет.
Если на основе теории неувлекаемого эфира правильно вычислить предполагаемый эффект, результат окажется вдвое меньше рассчитанного Майкельсоном.
Как указывает Майкельсон, идея опыта принадлежит Максвеллу, а схема (именно схема!) установки весьма проста.
По теории неувлекаемого эфира скорость света относительно эфира совершенно не зависит от движения источника относительно эфира. (Точно так же, как скорость звука в атмосфере не зависит от движения источника звука относительно атмосферы[48].) И если теория неувлекаемого эфира правильна, то должен существовать следующий любопытный эффект.
Рассмотрим источник света и зеркало, жестко закрепленные друг относительно друга. Они, естественно, как и всё в мире, погружены в море неувлекаемого эфира. Если эта система движется относительно эфира со скоростью V, то можно легко убедиться, что свет затратит на путь туда и обратно время, отличное от времени, которое требуется ему на тот же путь в случае, когда эта система покоится относительно эфира.
Собственно, на этом и основан эксперимент Майкельсона. В теории неувлекаемого эфира «строгое» описание опыта выглядит так[49].
Описание опыта Майкельсона, «переведенное» на язык школьных задач о пловцах.По спокойной воде буксируется квадратный плот. (Квадратным он взят только для простоты дальнейших расчетов.)
Скорость плота относительно воды — V.
Из точки А одновременно бросаются в воду два спортсмена: пловец № 1 и пловец № 2. Оба имеют одинаковую скорость — с.
Пловец № 1 плывет к точке Д; пловец № 2 — к точке В. Достигнув этих точек, они поворачивают назад и плывут в точку А. Конечно, c > v, в противном случае плот просто уплывет от обоих спортсменов.
Требуется подсчитать время, которое затратил на свой путь каждый из пловцов. Задача, как видите, доступна семикласснику. Позвольте поэтому привести ее решение без пояснений.
Чуть-чуть совсем простой математики.Для пловца № 1:
1) tАДА = tАД + tДА;
2) c · tАД = l + v · tАД, tАД = l/c – v;
3) c · tДА = l – v · tДА, tДА = l/c + v;
4) tАДА = l/c – v + l/c + v = 2cl/c2 – v2 = 2l/c · 1/(1 – v2/c2).
Здесь 2l/c = t0 — время, которое затратил бы пловец на путь туда-обратно, если бы плот не двигался.
Если v/c << 1, то 1/(1 – v2/c2) ≈ (1 + v2/c2)[50]. Тогда время, затраченное пловцом № 1 на путь, равно:
tN1 = t0(1 + v2/c2).
Для пловца № 2 решение чуть-чуть сложнее. Кратчайшим путем из А в В будет гипотенуза треугольника АВВ1, где В1 — то положение, которое занимает конец плота в момент, когда пловец № 2 доплывает до В.
Если пловец № 2 умный, он с самого начала рассчитает свой путь, сделает упреждение на снос плота и «поплывет по гипотенузе». То же самое можно сказать о его обратном пути из В в А.
Время пути находится просто:
1) tАВА = tАВ + tВА = 2tАВ.
2) с2 · t2AB = l2 + v2 · t2АВ, t2АВ = l2/(c2 – v2);
3)
Снова, если v/c << 1, то
И окончательно в этом случае:
tN2 = t0(1 + v2/2c2).
(Заметим, что это время меньше, чем время пловца № 1.)
Как видите:
tN1 – tN2 = t0 · v2/2c2.
Пловец № 1 оказывается в менее выгодном положении, чем пловец № 2. Он вернется назад позже. Если плот повернется на 90°, не изменяя направления движения, пловцы обменяются ролями: № 1 окажется в роли № 2, а № 2 — в роли № 1. Тогда, естественно, пловец № 2 отстанет от пловца № 1.
А теперь достаточно:
заменить воду неувлекаемым эфиром;
плот — прибором Майкельсона, несущимся сквозь эфирное море вместе с Землей;
пловцов — световыми лучами.
И мы получим схему опыта Майкельсона.
Выводы. Теория опыта уже рассказана.Аналогия здесь совершенно точная. В нашем примере строго изложена элементарная теория опыта Майкельсона с точки зрения гипотезы неувлекаемого эфира. Но повторяю, реальная картина существенно усложняется из-за аберрации и преломления света в оптических приборах.
Итак, чтобы убедиться в движении Земли сквозь эфирное море, надо взять источник света и зеркало и измерить время, которое тратит световой луч на путь туда-обратно (см. рисунок на стр. 228). При вращении платформы прибора мы согласно сделанному расчету должны уловить, что время пути светового луча изменяется.
Наибольшее время на путь туда-обратно свет затратит, когда плечо AB параллельно движению Земли сквозь эфир; наименьшее — когда это плечо перпендикулярно (в этом случае «эфирный ветер» только несколько «сдувает» в сторону световой пучок). Если мы эту разницу поймаем, то убедимся в движении Земли сквозь эфир. Все очень просто.
Замечания о практическом осуществлении опыта.Правда, если учесть, что предполагаемая разница времен составляла 1/100 000 000 времени пути светового луча[51], а свой путь в приборе (несколько метров) он пробегает примерно за стомиллионную долю секунды, может быть, станет яснее, насколько «прост» был опыт Майкельсона.
Максвелл считал практическое осуществление своей идеи абсолютно безнадежным делом, и это совершенно понятно. Ведь необходимая относительная точность измерения (10–8) означает, например, что интервал в несколько тысяч лет надо замерить с точностью до одной секунды.
Или другое сравнение.
Разница времен, которую взялся уловить Майкельсон, по порядку меньше времени, необходимого электрону, чтобы сделать один оборот вокруг ядра.
Трудно даже представить все невероятные препятствия, стоявшие на пути Майкельсона.
Может быть, достаточно указать только одно «симпатичное» обстоятельство. База прибора имела длину примерно 1 метр. Для того чтобы замечать изменение времени движения луча света с точностью 10–8, надо быть убежденным, что длина пути светового луча остается неизменной, по крайней мере с точностью 10–9. Иначе время пути светового луча могло бы меняться просто из-за изменения длины базы. Точность же 10–9 означает, что расстояние в 1 метр может изменяться не больше чем на 10 ангстрем! Напомним, что 10 ангстрем — это линейный размер 3–4 атомов, поставленных рядом.
Следовательно, малейший толчок, ничтожное изменение температуры — и база изменилась бы на значительно большую величину. На прибор Майкельсона в буквальном смысле слова нельзя было дышать! Чтобы избежать сотрясений, Майкельсон работал в подвале на тумбе, врытой в землю. Каменная плита, на которой была смонтирована установка, была положена на круглую деревянную пластину, плавающую в сосуде, наполненном ртутью.
Сотрясение удалось ликвидировать. Но как измерить время пути светового луча? Любые попытки непосредственного измерения обрекали, конечно, опыт на полную неудачу. И Майкельсон применил очень изящный прием. Он использовал эффект интерференции.
…Если пучок света раздвоить, а потом снова свести два полулуча в одну точку, на экране будет наблюдаться определенное чередование интерференционных полос.
На рисунке показан тот способ разделения луча, который использовал Майкельсон. Слабо посеребренная пластина частично отражает и частично пропускает свет.
Колебания в обоих световых лучах строго когерентны (синхронны), и, попадая на экран, световые волны интерферируют. Если разность путей строго постоянна, интерференционная картина, видимая в окошечко интерферометра, неизменна, поскольку она полностью определяется разностью времен хода световых пучков. Стоит чуть-чуть изменить разность путей, как характер наблюдаемых интерференционных полос изменится. Чему равно это самое «чуть-чуть»? Оказывается, можно добиться почти невероятной относительной точности — 10–10!
Это и использовал Майкельсон. В приборе он разделил пучок света на два взаимно перпендикулярных луча, а затем свел их вместе. В окошечке интерферометра наблюдалась какая-то интерференционная картина, чередование интерференционных полос. Пока все внешние условия оставались неизменными, интерференционные полосы также не изменялись. Майкельсон добился, что они оставались неизменными по нескольку часов.
Более или менее точное описание опыта.Если теория неувлекаемого эфира верна, то, как мы видели, свету совсем не безразлично, распространяется он параллельно движению Земли сквозь эфир или перпендикулярно. На один и тот же путь он затратит различное время. Поэтому при повороте прибора на 90° («пловец № 1» и «пловец № 2» меняются местами) должно наблюдаться изменение интерференционной картины. И тем не менее…
См. описание опыта с плотом.Уже в первом своем опыте Майкельсон установил, что при повороте прибора на 90° никакого ожидаемого систематического смещения интерференционных полос не наблюдается. Результат прямо противоречил выводам теории.
…Когда речь шла о такой важной проблеме, как теория эфира, казалось бы неоднократно подтвержденная, отрицательный результат опыта в первую очередь вызывал сомнения в том, насколько чисто был сделан эксперимент.
Между прочим, С. И. Вавилов замечает, что точность измерений в первом опыте была слишком мала и Майкельсон скорее угадал, чем строго обосновал правильный вывод. Поэтому прежде всего Майкельсон решил проверить собственные наблюдения.
Через шесть лет (он совместно с Морлеем) повторяет свой опыт на более совершенной установке. На этот раз он как будто безусловно убеждается в отсутствии эффекта. Однако были высказаны новые сомнения.
Несколько слов о характере физиков.К работам, имеющим такое значение, как опыт Майкельсона, физики вообще относятся крайне недоверчиво. И опыт Майкельсона со все возрастающей точностью повторяли еще много раз, вплоть до 1927 (!) года.
Конечный приговор всей совокупности экспериментов гласил: «Майкельсон прав! Никакого эффекта движения Земли сквозь эфир нет, никакого „эфирного ветра“ не существует!»
Заметьте — 1927 год! Прошло уже 40 лет со времени первого опыта Майкельсона и 22 года от дня создания теории относительности. Уже проделаны десятки различных экспериментов, подтверждающих эту теорию. Но результат Майкельсона все снова и снова настойчиво проверяют ученые.
Подобная скрупулезная придирчивость очень характерна для физики вообще. Нет такого общего положения в ее истории, которое не подвергалось бы самой жестокой экспериментальной проверке, и трудно сказать, когда, наконец, наступает тот благословенный для теории момент, когда можно считать, что она безусловно справедлива…
Из опыта следовало, что гипотеза неувлекаемого эфира в чем-то несправедлива, в чем-то ее надо менять. Этот вывод и сделал Майкельсон. Но он не знал, чтó именно несостоятельно в теории неувлекаемого эфира. Может быть, эфир увлекается только у поверхности Земли? А опыты проводились в подвальном помещении.
Снова сомнения.Майкельсон допускал эту возможность.
«…Безнадежно пытаться решать вопрос о движении солнечной системы по наблюдениям оптических явлений на поверхности Земли. Но не исключено, что даже на умеренной высоте над уровнем моря, например на вершине какой-нибудь уединенной горы, относительное движение можно заметить при помощи аппарата вроде описанного в наших опытах».
Впоследствии опыт Майкельсона был повторен на вершине горы и даже на воздушном шаре. Результат по-прежнему был отрицателен.
Несколько раз возникали сомнения в правильности расчета и в обработке данных эксперимента. Снова и снова проверяли работу Майкельсона, пока не убедились окончательно в отсутствии «эфирного ветра».
Помимо опыта Майкельсона, были проделаны многие отличные по своей идее «опыты второго порядка». И все они давали отрицательный результат.
Уже была создана теория относительности, уже все стало понятным, уже эфир был выброшен «в ту мусорную кучу, где давно гнили флогистон, теплород, horror vacui»[52], как четко сформулировал один из ученых начала XX столетия, а экспериментаторы снова и снова проверяли результат Майкельсона. И трудно сказать, в каком году и в какой именно день подобная инспекция перестала представлять научный интерес.
Всегда наступает какой-то момент, когда совершенно законное вначале критическое, недоверчивое отношение к новой теории переходит в закостенелый консерватизм. Но когда именно он наступает, сказать трудно. Во всяком случае, теория относительности «вышла чистой» после такого «перекрестного допроса с пристрастием», после стольких вызовов к судейскому столу эксперимента, что можно быть уверенным в ее абсолютной «порядочности».
Теперь остановимся и посмотрим, что, собственно, сделано.
Попытаемся подвести черту.Мы очень поверхностно проследили развитие теории эфира и убедились, что после опыта Майкельсона — точнее, после второй работы Майкельсона и Морлея (1887 г.) — необходимо какое-то существеннейшее изменение этой теории.
Какое именно, мы не знаем. Причем, хотя мы и зашли в тупик с гипотезой эфира, мы успели убедиться, что многие факты эта гипотеза объясняет очень хорошо и наглядно. Если вы «привыкли» к эфиру, если вы почувствовали некоторую симпатию к этой гипотезе — возможно, станет яснее, почему уничтожение эфира означало революцию в физике.
С нашей точки зрения гипотеза эфира — некоей загадочной субстанции — представляет только исторический интерес. Но, представив, почему был дорог эфир для физиков, мы лучше поймем, что сделал Эйнштейн.
Теорию относительности можно разбирать, совершенно не касаясь эфира. Возможно, тогда даже легче усвоить постулаты Эйнштейна. Но было бы очень жаль утерять перспективу. В самом начале книги говорилось, что постулаты Эйнштейна очень просты. Разрешите теперь взять эти слова назад.
Снова несколько слов о самом Эйнштейне.Теория Эйнштейна очень стройна, изящна по своей структуре.
Постулаты Эйнштейна, пожалуй, значительно естественней и сформулированы намного более четко и строго, чем вся классическая физика.
Все эффекты, все существующие эксперименты теория Эйнштейна объясняет совершенно непринужденно.
Наконец, теория относительности непосредственно использует только опытные факты и в этом смысле непосредственно вытекает из опыта.
Но при всем этом для меня лично остается абсолютной загадкой, как двадцатипятилетний юноша Альберт Эйнштейн пришел к своей теории.
Пожалуй, малоубедительно соображение, что после работы Майкельсона теория относительности оставалась единственным выходом.
Было очень много возможностей исправления теории эфира. Их использовали, добивались известных успехов.
Лоренц, например, пытался объяснить опыт Майкельсона, сохранив эфир, сохранив почти все основы классической физики.
Ритц построил теорию, в которой эфир, правда, отбрасывался, но зато сохранялась неизменной классическая механика.
С точки зрения своей эпохи Эйнштейн пошел самым невероятным путем.
И создание теории относительности, пожалуй, в первую очередь обусловлено теми непостижимыми качествами ее автора, которые можно называть, можно объяснять, но нельзя воспринять.
И мне кажется, что среди многих бессмысленных занятий почетное место занимают попытки проанализировать в деталях механику мышления гения. Что касается мнения самого Эйнштейна, то он обычно объяснял, что думал над этими вопросами примерно десять лет. Точные слова Эйнштейна приведены в следующей главе; причем хотелось бы обратить внимание на ту замечательную наивность, с которой Эйнштейн пишет: «Интуитивно мне казалось ясным с самого начала…»
Покончим с эфиром. Вот резюме Майкельсона, которое довольно верно отражает состояние проблемы непосредственно перед созданием теории относительности:
Здесь Майкельсон цитирует, вероятно, самого остроумного физика в истории науки лорда Кельвина (Томпсона).«Ряд не зависящих друг от друга рассуждений приводит нас к заключению, что среда, в которой распространяются световые волны, не представляет обычной формы вещества.
Несмотря на то, что мы весьма мало знаем об этой среде, мы все-таки можем сказать, что про обыкновенную материю мы знаем еще меньше…
Явление аберрации звезд можно объяснить при помощи гипотезы, что эфир не принимает участия в движении Земли вокруг Солнца. Между тем все попытки проверить эту гипотезу дали отрицательные результаты, вследствие чего мы можем сказать, что весь вопрос пока еще находится в неудовлетворительном состоянии».
Глава XI,
в которой автор пытается запутать терпеливого читателя, убеждая его в противоречивости постулатов Эйнштейна. В итоге выясняется, что постулаты Эйнштейна несовместимы с классической механикой, и автор призывает читателя разделить его восхищенное удивление Эйнштейном. Первая половина главы, возможно, несколько трудна, но утешение можно найти в том, что самое главное содержится как раз во второй половине
Счастливец Ньютон, систему мира можно установить только один раз.
ЛагранжЭйнштейн
(основные постулаты)
Наконец мы у цели. Все последующее посвящено непосредственно теории Эйнштейна. Мы не будем сколько-нибудь подробно останавливаться на других попытках объяснить результат Майкельсона, хотя они очень интересны и поучительны. Но несколько слов сказать о предшественниках надо, хотя бы затем, чтобы лишний раз убедиться, как много возможных путей открывается каждый раз, когда старая теория зашла в тупик и нужно создавать новую.
Традиционные общие рассуждения. Несколько слов о предшественниках Эйнштейна.Первый — Лоренц, очень много работавший над теорией электромагнитного поля и создавший в восьмидесятых годах прошлого века наиболее стройную и прогрессивную схему «эфирной физики». После работы Майкельсона он сделал отчаянную попытку спасти свою теорию (1904 г.).
Лоренц предположил, что все тела, движущиеся относительно эфира, сокращаются в направлении перемещения в отношении
Здесь l0 — длина тела, покоящегося относительно эфира; v — скорость тела относительно эфира[53].
Он даже нашел очень правдоподобное (конечно, тоже гипотетическое) объяснение этого явления на основе своей теории строения материи. Теория Лоренца не только объясняла результаты опыта Майкельсона, но и по своей формальной, математической структуре очень походила на теорию Эйнштейна.
Еще ближе к теории относительности идеи крупнейшего французского математика Пуанкаре[54].
Довольно часто недоумевают: почему Лоренц и особенно Пуанкаре, так близко подошедшие к теории относительности, не смогли сделать последний шаг? Традиции обязывают высказаться по этому поводу.
Теорию относительности открыл Эйнштейн, а не Пуанкаре или Лоренц единственно потому, что Эйнштейн несравненно глубже разобрался в существе дела.
Этот ответ полностью исчерпывает проблему.
Если же говорить серьезно, то, пожалуй, широко распространенное мнение, что Пуанкаре и Лоренцу оставалось совсем немного для формулировки теории относительности, ошибочно.
Некий вклад в историю науки.Всякая физическая теория в первую очередь определяется не математическим аппаратом, а физическим содержанием. Лоренц и особенно Пуанкаре действительно были очень близки к математической формулировке теории, но в физике они не разобрались. А этот последний шаг в данном случае и был самым трудным. И гадать, через сколько времени Пуанкаре пришел бы к идеям Эйнштейна, в высшей степени бессодержательное занятие.
Статья Эйнштейна «К электродинамике движущихся тел» была напечатана в 1905 году в семнадцатом томе «Annalen der Phýsic»[55].
Говорить о значении этой работы излишне, а внешняя характеристика труда Эйнштейна прекрасно дана Инфельдом:
«Название статьи очень скромное, однако при чтении мы сразу замечаем, что эта работа отличается от других аналогичных работ. Она не содержит ссылок на литературу, не цитируются авторитеты, а отдельные сноски носят лишь пояснительный характер. Работа написана простым языком, и большая ее часть может быть понята без глубокого знания предмета. Можно только удивляться, что эта работа, отличающаяся так резко по своей форме от обычных научных работ, была пропущена референтом (если таковой вообще существовал). Это тем более удивительно, что для полного понимания этой статьи требуется такая глубина, которая ценнее и встречается реже, чем педантичное знание. Метод изложения и сам стиль работы сохранили свою свежесть еще и сегодня. Она до сих пор является лучшим пособием для изучения теории относительности. Автор этой работы не принадлежал к научным кругам, он не был даже преподавателем средней школы. В то время, 50 лет назад, будучи молодым доктором философии, 26 лет от роду, он служил в Швейцарском патентном ведомстве в Берне».
…Эйнштейн начал с выбора безусловных опытных фактов. Фактам «несть числа», и они, казалось бы, противоречат один другому. Отсеять все побочное и выбрать основное — задача сама по себе исключительно тяжелая.
Но вот безусловное. Опыт Майкельсона окончательно убедил, что оптические явления на Земле не зависят от ее движения относительно неподвижных звезд. А так как годичное движение Земли относительно звезд можно с высокой степенью точности считать равномерным и прямолинейным (и это очень важно), то, следовательно, Майкельсон показал, что равномерное и прямолинейное движение Земли относительно неподвижных звезд не сказывается на оптических явлениях на Земле[56].
Но если так, то, значит, принцип относительности Галилея верен и для электромагнитных явлений, и возможно, он вообще общий закон природы! Это предположение Эйнштейн берет за первый постулат своей теории.
«Все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах координат, движущихся равномерно и прямолинейно друг относительно друга».
Первый постулат теории Эйнштейна — принцип относительности. Сейчас необходимо снова просмотреть главу V.Как видите, словесно этот постулат отличается от принципа Галилея только тем, что вместо слова «механика» поставлено «природа». Соответственно и физическое содержание совпадает с существом принципа относительности Галилея, с той важнейшей поправкой, что теперь постулируется равноправие инерциальных систем по отношению ко всем физическим законам (а не только к законам механики).
Физическое содержание принципа относительности нам уже знакомо.
Именно: равномерное и прямолинейное движение системы отсчета относительно неподвижных звезд абсолютно ни на что не влияет. (Ни один опыт, произведенный внутри замкнутой комнаты, не обнаружит ее равномерного и прямолинейного движения относительно неподвижных звезд.)
Возможно, в такой форме принцип относительности покажется тривиальным. Ведь звезды так далеко, и интуитивно как будто ясно, что они ни на что влиять не могут.
Вспомните, однако, о вращательном движении. Стоит заставить «изолированную от внешнего мира» комнату «вращаться относительно звезд», как наблюдатель внутри комнаты сразу это заметит.
Так что принцип относительности отнюдь не самоочевиден. Напротив, он весьма удивителен. Но мир так устроен…
Итак, Эйнштейн распространяет принцип относительности на все законы природы (а в первую очередь на законы электромагнетизма), тем самым сразу объясняя отрицательный результат опыта Майкельсона. Он — совершенно очевидное следствие принципа относительности.
Равномерное прямолинейное движение относительно неподвижных звезд ни на что не влияет, и поэтому, пусть Земля движется, световые лучи в установке Майкельсона ведут себя точно так же, как если бы она покоилась. Чтобы не углубляться в детали, приведем совершенно точную аналогию.
Принцип относительности и опыт Майкельсона.Если в салоне равномерно плывущего корабля играть в бильярд, то все будет происходить так же, как и на твердой Земле. Бильярдным шарам безразлично, летят ли они по направлению движения, или против движения, или под углом 90° к курсу корабля.
Шар, пущенный от одной стенки к другой по направлению движения и отраженный затем назад, затратит на путь «туда» такое же время, как и на путь «обратно» (естественно, мы пренебрегаем изменением скорости из-за трения шара о сукно стола).
Шар, летящий перпендикулярно направлению движения корабля, также «не знает», что корабль движется; он ударится о борт стола точно против того места, откуда вылетел. Движение корабля не «сдует» шар в сторону.
В общем игроки в бильярд никак не почувствуют, что игра происходит на корабле, а не в здании.
Если вместо бильярда представить себе экспериментальную установку Майкельсона, вместо шаров — световые лучи, а вместо корабля — Землю, то весь опыт пройдет так, как если бы Земля покоилась относительно неподвижных звезд (неувлекаемого эфира).
Подобно бильярдным шарам, лучам света безразлично, под каким углом к направлению движения Земли они распространяются, и время их пути совершенно не зависит от этого угла.
Принцип относительности и эфир.Очевидно, что, приняв принцип относительности Эйнштейна, надо распроститься с выделенной системой отсчета — неувлекаемым эфиром. Если помните, в V главе остался открытым вопрос о существовании «абсолютной системы». Мы допускали, что такую систему, может быть, можно обнаружить, исследуя, например, электромагнитные процессы. Распространяя принцип относительности на все законы природы, Эйнштейн тем самым уничтожает идею существования выделенной системы отсчета.
Но не противоречит ли принципу относительности аберрация? Ведь мы объясняли ее, считая, что имеется абсолютная система отсчета — неувлекаемый эфир. Однако кто сказал, что это объяснение единственно возможное?
Аберрация и первые сомнения.Само по себе явление аберрации не противоречит принципу относительности.
Ему противоречит наше толкование аберрации. Ну что ж, тем хуже для объяснения.
А «сами по себе» данные эксперимента показывают только то, что возможно обнаружить.
Итак, основа — принцип относительности. В этом пункте Эйнштейн не отходит от «классики». Наоборот, он расширяет галилеевский классический принцип, расширяет границы его применения.
Беда в том, что один принцип относительности сам по себе мало проясняет положение. То, что приходится отбросить теорию неувлекаемого эфира, еще не так страшно. Мы вообще можем забыть об эфире и непредвзято исследовать опытные факты.
Но тут-то как раз и начинается непонятное.
«Ученый» пример.Используем принцип относительности для анализа простого опыта.
Рассмотрим уже известные нам инерциальные системы отсчета K и K1, относительная скорость которых равна v. Проделаем в системе K опыт по определению скорости света. Назовем его условно «опыт L».
Для этого возьмем источник света S, неподвижный в системе K, и каким-нибудь способом (например, способом Физо) измерим скорость света. Наша экспериментальная установка неподвижна в системе K. Пусть мы получили, что скорость света равна какому-то числу c.
Сдублируем нашу установку в системе K1 которая движется относительно системы K так, как это показано на рисунке (возьмем источник S1, неподвижный в системе K1 и т. д.), и проделаем аналогичный «опыт L1». Все условия «опыта L1» относительно системы K1 тождественно повторяют условия «опыта L» относительно системы K.
Согласно принципу относительности скорость света, измеренная в «опыте L1», снова должна оказаться равной c, поскольку одна инерциальная система ничем не хуже другой.
Действительно, получив другое значение скорости света в системе K1, мы убедились бы, что законы природы различны в различных инерциальных системах. Пока все хорошо.
Но мы имеем полное право рассматривать любой опыт из любой системы отсчета. Рассмотрим и опишем «опыт L1», используя систему K.
Внимание! Начинается крупная и очень важная мистификация!В системе K источник света S1 и вся экспериментальная установка движутся направо со скоростью v. И мы сейчас убедимся, что в ней скорость светового луча, бегущего от этого источника направо, равна скорости света плюс скорость системы K1 относительно системы K, то есть (c + v). И соответственно, налево свет бежит со скоростью, равной разности скорости света и скорости системы K1, то есть (с – v).
Мы подошли к очень важному месту и, чтобы лучше понять дальнейшее, перейдем от общих, абстрактных рассуждений к конкретному примеру.
Пусть физик находится со своей установкой в вагоне равномерно идущего поезда. Измерения, которые он провел, показывают, что скорость света относительно источника не зависит от направления, а постоянна и равна определенному числу — c. Иначе говоря, он установил, что свет одновременно достиг передней и задней стенок вагона через Δt, и определил скорость
c = ½l/Δt.
Если вагон сделан из стекла, наблюдатель на полотне дороги также может изучать процесс распространения света. Однако для него все будет выглядеть несколько по-другому.
Пока свет бежит от источника к стенкам вагона, поезд проезжает некоторое расстояние. Передняя стенка «убегает», а задняя «бежит навстречу» световому лучу. До нее свет должен пройти меньшее расстояние. Но свет достигает стенок одновременно! Очевидно, это может быть только, если вперед свет распространяется с большей скоростью, чем назад.
Скорости эти можно найти совершенно просто. Как только что было сказано, скорость светового луча «вперед» равна c + v, а «назад» с – v (здесь v — скорость вагона).
Тот же самый вывод можно получить, рассуждая несколько иначе. Относительно источника света скорость света постоянна и в любой системе отсчета равна с (принцип относительности!).
Если луч света из фар паровоза «убегает» от поезда со скоростью c, а поезд «убегает» от наблюдателя на полотне со скоростью, v, то от наблюдателя на полотне свет «убегает» со скоростью c + v. Соответственно скорость луча света, посланного из фонарика на концевом вагоне, относительно полотна дороги равна с – v. В этом мы убеждаемся сразу, применив формулу сложения скоростей.
Весь предыдущий отрывок (как и все выводы) заведомо неправилен. Один принцип относительности отнюдь не приводит к тому, что скорость света зависит от движения источника. Но где ошибка в рассуждении? Что еще явно не использовано в выводе?Говоря иначе, мы пришли к выводу, что скорость света зависит от движения источника. При выводе этого положения мы использовали только принцип относительности, и потому, если наше утверждение не оправдывается на опыте, принцип относительности для электромагнитных явлений несправедлив.
Итак, принимая принцип относительности, мы должны заключить, что если в какой-то системе отсчета источник света движется со скоростью v (см. рисунок), то прибор A, помещенный слева от источника, покажет, что свет, посылаемый источником, распространяется со скоростью с – v. Соответственно прибор B покажет, что свет распространяется со скоростью c + v. Одним словом, скорость источника света следует геометрически сложить со скоростью светового сигнала. И скорость света, которая относительно источника всегда равна одному и тому же значению c, естественно, изменяется в той системе отсчета, где источник движется.
Совершенно точную аналогию только что сказанному получим, рассматривая взрыв снаряда. Осколки снаряда разлетаются с одной и той же скоростью относительно центра тяжести снаряда.
Выберем две системы отсчета: одну — связанную с Землей, другую — с центром тяжести системы снарядных осколков.
Координатные оси определим так, чтобы в момент взрыва начала координат обеих систем находились в той точке, где взрывается снаряд. Тогда через время t осколки окажутся на поверхности сферы радиусом c · t, центр которой совпадает с центром тяжести снарядных осколков и, следовательно, с началом координат системы отсчета, связанной с центром тяжести.
Провозглашается баллистическая теория.Центр этой сферы, однако, уже не будет совпадать с началом координат для наблюдателя с Земли, который скажет, что в момент t осколки находятся на поверхности сферы, центр которой удален от начала координат на расстоянии vt. Далее — в системе центра тяжести снаряда скорость осколков не зависит от направления полета и постоянна, а в системе отсчета «Земля» скорости зависят от направления и изменяются от с – v до c + v.
Ввиду этой аналогии теорию, согласно которой скорость света зависит от движения источника, и назвали «баллистической».
Естественно, эта теория легко объясняет отрицательный результат опыта Майкельсона[57]. Однако чем глубже исследовали выводы баллистической теории, тем безрадостней становилась картина. Преломление, отражение, интерференция, дифракция света — все эти явления нельзя было удовлетворительно объяснить.
Но главное, в 1913 году было показано, что наблюдаемые движения двойных звезд прямо противоречат баллистической теории. В чем именно противоречие и при чем тут именно двойные звезды, нам не так важно. Примем на веру, что в 1913 году появились эксперименты, опровергающие баллистическую теорию.
Обратите внимание на дату — 1913! Уже восемь лет прошло после того, как вышел труд Эйнштейна. Когда Эйнштейн писал свою работу, не существовало ни экспериментов, непосредственно противоречащих баллистической теории, ни, впрочем, самой теории, которую предложил Ритц только в 1908 году[58]. Нет сомнения, что в процессе работы Эйнштейн обязан был рассмотреть гипотезу, которую впоследствии высказал Ритц. Действительно, стоит принять принцип относительности, как баллистическая гипотеза напрашивается, «стучится в дверь». Несколькими строками выше мы пытались доказать, что она единственно возможное следствие принципа относительности. Просмотрите еще раз эти рассуждения и попробуйте найти ошибку! Все кажется так безукоризненно ясно и логично. Но если так, то мы попали в очень неприятное положение. Поглядите, что получилось.
Мы зашли в тупик. Анализ положения.1. Опыт Майкельсона убеждает нас в принципе относительности.
2. Принимая принцип относительности, мы как будто доказали, что скорость света должна зависеть от скорости источника, и тем самым обосновали баллистическую теорию.
3. Мы утверждаем, что многие опыты опровергают баллистическую теорию.
Согласовать эти три положения между собой невозможно — следовательно, какое-то из них ошибочно. Принцип относительности, по-видимому, справедлив. Поэтому надо отбросить либо 2-й, либо 3-й пункт. Но какой?
Теперь-то мы знаем, что неправилен 2-й пункт в нашем списке. Но ведь как раз он кажется столь убедительным. Просмотрите еще раз те рассуждения, что привели нас к этому выводу. Они представляются идеально строгими.
А вспомним теперь, что у Эйнштейна не было твердой уверенности в положении № 3.
Решающие опыты, опровергающие баллистическую теорию, были сделаны только в 1913 году (Де-Ситтер!). В распоряжении Эйнштейна только косвенные доводы против баллистической гипотезы, те доводы, вес которых можно оценивать, лишь призывая интуицию.
Неутешительный и, к счастью, неправильный, вывод.Но интуиция — это нечто неопределенное, а пока создается впечатление, что:
1) принцип относительности и
2) независимость скорости света от движения источника
согласовать нельзя!
Если принять первое, надо отбросить второе и стать на позиции баллистической теории.
Если принять второе, то необходимо пожертвовать принципом относительности и вернуться к эфиру.
И Эйнштейн выбрал, казалось бы, самую невероятную среди всех имевшихся возможность объяснить опыт Майкельсона. Именно эти два положения он взял как основные постулаты своей теории.
Трудно понять, как именно он понял то, что он понял. Пожалуй, решающую роль сыграло то непонятное и неуловимое, что обычно определяют как «интуиция».
Как рассказывает сам Эйнштейн, с 16 лет он задумался над вопросом: что увидит наблюдатель, который движется за лучом света со скоростью света?
«Если бы я стал двигаться за лучом света со скоростью с (скорость света в пустоте), то я должен был бы воспринимать такой луч света как покоящееся, переменное в пространстве электромагнитное поле. Но ничего подобного не существует; это видно как на основании опыта, так и из уравнений Максвелла. Интуитивно мне казалось ясным с самого начала, что с точки зрения такого наблюдателя все должно совершаться по тем же законам, как и для наблюдателя, неподвижного относительно Земли»[59].
Кстати, забавно, хотя и не очень связано с тем, что нас сейчас волнует, что наблюдатель, начавший в какой-то момент двигаться от источника света со скоростью большей, чем скорость света, должен видеть события, происходящие в источнике света, в обратном порядке. Он как бы увидит кинопленку, пущенную от конца к началу.
Итак, Эйнштейн не понимал, как можно удовлетворительно построить теорию, допуская, что скорость света в разных системах отсчета различна и зависит от движения источника света в данной системе. После многих лет размышлений он, наконец, находит выход: следует изменить не только электродинамику, нет… всю физику. Как видите, все было очень просто.
Вот как он формулирует постулаты новой теории в первой работе.
Внимание! Вот они, постулаты Эйнштейна.1. «Законы, по которым изменяются состояния физических систем, не зависят от того, к которой из двух координатных систем, находящихся относительно друг друга в равномерном поступательном движении, эти изменения относятся».
2. «Каждый луч света движется в „покоящейся“ системе координат (в любой данной инерциальной системе координат. — В. С.) с определенной скоростью с, независимо от того, испускается этот луч покоящимся или движущимся телом».
Итак, первое — принцип относительности, второе — независимость скорости света от движения источника.
А как быть с эфиром в новой теории?
«Введение светового эфира окажется при этом излишним, — пишет Эйнштейн, — поскольку в предполагаемой теории не вводится абсолютно покоящегося пространства, наделенного особыми свойствами…»
Как видите, загадку эфира Эйнштейн решает сразу. Эфира нет. Не существует никакой гипотетической среды с механическими свойствами. Просто само пространство обладает свойствами передавать электромагнитные колебания, и только. Вообще-то для истребления эфира достаточно одного принципа относительности, и в баллистической теории Ритца эфир также уничтожается.
Ну что же, эфиром скрепя сердце можно пожертвовать. В конце концов отрицательные результаты всех попыток выявить абсолютное движение Земли принцип относительности объясняет сразу, а с эфиром достаточно намучились и помимо опыта Майкельсона.
Второй постулат сам по себе выглядит также довольно естественно (между прочим, он был принят в теории неувлекаемого эфира).
Но как можно их согласовать? Ведь совсем недавно мы как будто показали, что из принципа относительности однозначно следует баллистическая теория.
Новая атака на постулаты Эйнштейна!Если вспомнить, как доказывалась зависимость скорости света от движения источника, мы увидим: кроме принципа относительности, использовалась только формула сложения скоростей, хорошо известная из механики. Вот она.
Если скорость тела B относительно тела A равна v1, а скорость C относительно B — v2, то скорость C относительно A равна v1 + v2. Сомнение в справедливости этой формулы означает ни много ни мало, как сомнение в самих основах механики.
Вспомним пример со световыми вспышками в вагоне поезда и посмотрим, можно ли совместить принцип относительности с постулатом о постоянстве скорости света.
Попытаемся опровергнуть Эйнштейна. Чтобы показать несостоятельность теории относительности, используем, например, классический прием — reductio ad absurdum («приведение к нелепости», или «доказательство от противного»). Примем постулаты Эйнштейна и посмотрим, к каким выводам они приводят[60].
Пусть точно в середине вагона экспресса произошла мгновенная вспышка света. Световая волна побежит во все стороны и через ничтожный промежуток времени достигнет как передней, так и задней стенок вагона. Допустим, этот момент прихода мы можем зафиксировать точными приборами.
Одновременно или неодновременно придет световой сигнал к задней и передней стенкам?
Наблюдатель, использующий систему отсчета, жестко связанную с вагоном (для естественности посадим его внутрь вагона), заявит: «Конечно, световой сигнал дошел до обеих стенок одновременно». Действительно, скорость света одинакова во всех направлениях (изотропность пространства), расстояние до стен одинаковое (источник в середине), вагон покоится. Естественно, сигнал дойдет одновременно до задней и передней стенок.
Наблюдатель же на полотне (система отсчета — полотно железной дороги) заявит, что сигнал дошел до стенок неодновременно. Действительно, источник света в его системе движется, но согласно второму постулату Эйнштейна это движение на распространение света никак не влияет. Световой сигнал снова распространяется по всем направлениям с одной и той же скоростью с относительно источника. Однако передняя стенка вагона «убегает» от светового сигнала, а задняя соответственно «набегает» на него. Следовательно, задней стенки сигнал достигнет несколько раньше, чем передней.
Итак, пáра событий в одной системе одновременна, а в другой — нет. Результат достаточно странный. Может быть, этот «нелепый» вывод доказывает, что постулаты Эйнштейна противоречивы?
Странное положение с одновременностью событий.Число таких парадоксальных примеров можно увеличить. Однако, вероятно, и сказанного вполне достаточно, чтобы прийти в недоумение.
Подведем итог.
В самом начале работы Эйнштейн сталкивается с такими следствиями своих постулатов, что совершенно ясно: либо надо сразу признать полную несостоятельность теории, либо придется менять все основные представления о пространстве и времени, структуру всей физики с начала до конца.
Новая теория сразу приобретает несравненно более широкое значение, чем, правда, очень существенный, но в свете новых горизонтов очень частный вопрос — «об электродинамике движущихся сред». Речь идет уже не об уничтожении эфира (этот вопрос как-то сразу кажется мелким), а о критическом анализе и пересмотре всех основ физики.
Повторяю, для меня остается загадкой, как Эйнштейн рискнул разрабатывать свою теорию. Часто говорят, что он выбрал из массы опытного материала безусловно надежные факты, установил принципы и поэтому был совершенно уверен в своих постулатах. Это верно только отчасти. Действительно, эксперименты навязывают ему принцип относительности. Но вот принцип постоянства скорости света не имел непосредственных прямых подтверждений. И мы видели, что за одновременное признание принципа относительности и принципа постоянства скорости света приходится платить исключительно дорогой ценой.
Пожалуй, самый естественный выход из положения предложил Ритц (баллистическая теория). По Ритцу, эфир отбрасывается, а уравнения Максвелла изменяются. Все это, конечно, очень революционно, однако выглядит мирно и патриархально рядом с теорией относительности.
Понятие времени, длины, одновременности, преобразование Галилея, дальнодействие — все эти основы физики Эйнштейн начисто пересматривает. По существу, он показывает, что никаких основ не существует, что всех этих, «по-видимому, всем знакомых понятий» попросту нет в классической физике, что физики в этих вопросах интуитивно, бессознательно обобщали опыт, не задумываясь над тем, что именно они делают, на чем строят теории. И все это делается в конечном счете из-за опыта Майкельсона.
Мне кажется, в истории науки нет второго примера подобного же интеллектуального бесстрашия.
Может быть, только создание неэвклидовой геометрии стоит поставить в один ряд с работой Эйнштейна.И последнее. Ясно, что к теории относительности предъявляются очень высокие требования. Ей, требующей совершенно новых, на первый взгляд парадоксальных представлений о пространстве и времени, не простят расплывчатых гипотез, приблизительных объяснений, логических погрешностей. Такая теория должна быть кристально ясной и логически безупречной. Абсолютно все известные экспериментальные факты должны получить совершенно четкое объяснение. И наконец, все физические законы, в справедливости которых физики убедились на опыте, все ставшие безусловными физические теории должны быть сохранены как приближенные, справедливые с высокой степенью точности, в определенном классе явлений. Новая теория может обобщить, но не может отбрасывать механику Ньютона.
Все эти требования Эйнштейн должен был выполнить уже на самом первом этапе работы. Он все это сделал. Но можно только еще раз повторить: трудно понять, как смог двадцатипятилетний Эйнштейн создать свою теорию.
А теперь забудем на время обо всем предыдущем.
Постулаты специальной теории относительности, вообще говоря, очень естественны.
К систематическому анализу ее мы и переходим.
Глава XII,
в которой существенно обобщается постулат о постоянстве скорости света, после чего обсуждаются понятия времени и одновременности в теории относительности
Эйнштейн
(одновременность, время)
Пожалуй, стоит начать с одного замечания терминологического характера.
Уже неоднократно упоминалась «точка зрения наблюдателя». В прошлой главе при анализе относительности понятия одновременности событий использовались выражения: «с точки зрения наблюдателя внутри вагона», «с точки зрения наблюдателя на полотне». Эта терминология общепринята у физиков и ведет начало от Эйнштейна. Она очень наглядна, удобна, и мы будем придерживаться ее и в дальнейшем. Она имеет, однако, и один недостаток. Раз говорится о «наблюдателе», о его «точке зрения», то появляются часто филологические основания подозревать, что физики стоят на субъективистских позициях.
Небольшое отступление.На самом деле ничего подобного, конечно, нет.
Речь идет не о личном, субъективном восприятии наблюдателя, а о совершенно объективных физических измерениях, проделываемых в определенных физических условиях.
«Точка зрения наблюдателя» появляется всякий раз, когда анализируются относительные физические понятия. Мы говорим, например: «В системе отсчета, жестко связанной с вагоном поезда, скорость вагона равна нулю». По-другому ту же мысль выражают так: «С точки зрения наблюдателя внутри вагона поезда» скорость вагона равна нулю.
Содержание этих двух фраз совершенно тождественно. Скорость — относительная физическая величина. Определение или в конечном итоге рецепт измерения скорости существенным образом связаны с понятием системы отсчета. В данной системе отсчета скорость данного тела определяется совершенно объективными измерениями.
Возможно, стоит напомнить, что в физике вообще нет ни одного субъективного понятия, определения или величины.Все сказанное в той же степени относится и к другим относительным физическим величинам и понятиям. Можно привести как пример угловой размер предмета. Вероятно, ни у кого не возникло мысли, что угол, под которым виден предмет, субъективное понятие. Да, угловой размер зависит и от расстояния и от направления, под которым рассматривается изучаемое тело. Но определяется угловой размер совершенно объективным образом. И если угловой диаметр шара меняется в зависимости от расстояния измерительной установки до этого шара, то понятия «скорость», «одновременность» и другие изменяются в зависимости от того, в какой системе отсчета находится измерительная установка.
Прежде всего несколько изменим второй постулат.
Возвращаемся к обещанному систематическому анализу основ специальной теории относительности.Сначала внесем чисто словесные изменения. Тогда принцип независимости скорости света от движения источника станет несколько нагляднее.
«Скорость, с которой распространяется в вакууме фронт любой световой волны в любой инерциальной системе отсчета, постоянна по всем направлениям»[61].
Затем изменим его по существу.
«Максимальная скорость распространения произвольного взаимодействия (любого сигнала) в любой инерциальной системе конечна и не зависит от движения источника, от которого распространяется взаимодействие»[62].
Постулируется существование максимальной скорости для передачи взаимодействия.Нам придется принять на веру, что анализ постулатов Эйнштейна приводит к выводу, что существует максимальная скорость, с которой распространяется любое взаимодействие (любой сигнал); причем она равна скорости света в вакууме. Принцип постоянства скорости света, как оказывается, скрывал значительно более общий закон природы.
Автор снова настаивает, что это исключительно, неповторимо важное место.Вообще говоря, предположение, что есть максимальная скорость передачи взаимодействия, пожалуй, более естественно, чем гипотеза физики классической: имеются взаимодействия, распространяющиеся с бесконечной скоростью.
Не будем детально рассматривать, как именно из принципа постоянства скорости света вытекает обобщенный принцип — «существует предельная скорость распространения взаимодействий (скорость передачи информации)». Поверим, что это правильно, и перейдем к анализу одного из основных понятий теории — к понятию одновременности двух событий.
Одновременность.Позвольте прежде всего напомнить, как решали вопрос в классической физике. До Эйнштейна вообще никто не задумывался над понятием одновременности. Считалось, что это самоочевидно. Конечно, в классической физике использовали совершенно определенное понятие одновременности удаленных событий, но давали его бессознательно, интуитивно обобщая опыт.
В III главе мы выяснили точку зрения классической физики на одновременность. Вот что было сказано:
«Два события, такие, что любое из них, вообще говоря, может явиться причиной или следствием другого, одновременны в том единственном случае, когда ни одно из них не может быть причиной или следствием другого».
Легко увидеть, что классическое понятие одновременности продиктовано принципом причинности. Несколько труднее заметить, что, давая определение, мы молчаливо использовали важнейшую гипотезу: «Максимальная скорость распространения взаимодействия (скорость передачи информации) бесконечна».
Воспоминание об определении понятия одновременности.Чуть дальше мы увидим, что только в этом случае наше определение однозначно. А раньше уже упоминалось, что, принимая, будто существует бесконечная скорость передачи информации, мы приходим к заключению: если два события одновременны в одной системе отсчета, то они одновременны и в любой другой.
И в этом смысле одновременность событий в классической физике — понятие абсолютное[63].
В доэйнштейновской физике имелась даже модель взаимодействий с бесконечной скоростью — абсолютно твердое тело.
Абсолютно твердое тело перемещается в пространстве как единое целое и потому передает информацию мгновенно.
Если у такого тела стронуть с места точку A, то в тот же момент стронется точка B.
А то, что понятие абсолютно твердого тела принципиально недопустимая идеализация реальных физических тел, никто не подозревал. Это стало ясно только после Эйнштейна[64].
Но едва лишь мы отказываемся от существования сигналов с бесконечной скоростью, как классическое представление об одновременности двух событий, происшедших в разных точках пространства, оказывается несостоятельным. Покажем это.
Пусть максимальная скорость распространения взаимодействия, во-первых, конечна, во-вторых, одинакова в любой инерциальной системе и равна скорости распространения фронта световой волны в вакууме.
Рассмотрим два события, A и B, использовав для определенности какую-нибудь конкретную систему отсчета.
Для удобства будем считать, что по всем своим физическим проявлениям события A и B абсолютно тождественны. Например, A и B — две совершенно идентичные вспышки света. (Эта оговорка делается только для некоторого уточнения смысла дальнейших фраз и принципиально не имеет никакого значения.)
Несколько строго сформулированных понятий.Пусть вспышка A произошла в точке с координатами xA; yA; zA в момент времени tA, а вспышка B в точке xB; yB; zB в момент tB. Расстояние между этими точками
Чтобы слегка упростить анализ, положим, что в нашей системе отсчета вспышка A произошла раньше B и, следовательно, tB больше tA. Минимальное время, за которое сигнал о событии A пробежит из точки (xA; yA; zA) в точку (xB; yB; zB), равно:
tинф = rAB/c.
Если tB – tA > tинф, то имеется принципиальная возможность, находясь в точке (xB; yB; zB), узнать, что произошла вспышка A до того, как произошла вспышка B. В этом случае A и B могут быть причинно связаны: событие B может явиться следствием события A.
Если же, наоборот, tB – tA < tинф, то принципиально любой сигнал о событии A придет в точку (xB; yB; zB) после того, как произойдет вспышка B. И тогда события A и B не могут быть причинно связаны. Событие B ни в коем случае не может явиться следствием события A.
Следовательно, если скорость передачи информации конечна, то для данного события A с координатами (xA; yA; zA) найдется бесконечно большое число событий B1, B2, B3…, происшедших в разные моменты времени в точке (xB; yB; zB), которые не могут быть причинно связаны с A. Интервал времени
[tB – tA] < rAB/c
принципиально разделяет точки (xA; yA; zA) и (xB; yB; zB).
Все это очень прозрачно, и единственное неудобство может доставить лишь абстрактный характер изложения. Поэтому обратимся к иллюстрации.
Поэтов всегда поражало, что мы видим звезды, потухшие много столетий назад. Если в тот момент, когда вы читаете эти строки, на ближайшей к нам звезде (Проксима Центавра) происходит гигантский взрыв, уничтожающий звезду, то мы увидим следы этой катастрофы (вспышку) только через четыре года.
И мир устроен так, что никаким образом нельзя передать сообщение об этой катастрофе (сигнал) быстрее, чем это делает луч света. Мир уже погиб, но мы еще четыре с лишним года будем видеть на небе спокойно сияющую звезду.
Когда астрономы в наши дни отмечают вспышку новой звезды в какой-либо далекой галактике, это означает, что гигантская катастрофа, следы которой исследователи видят сейчас, произошла в те дни, когда на Земле человекообразные обезьяны еще не собирались покидать деревьев и превращаться в человека. И средств сообщить быстрее нет. Так говорит Эйнштейн.
Значит, событие A — катастрофа на Проксиме Центавра — и событие B — фотографирование этой катастрофы (вспышки) на Земле — разделены интервалом времени tинф., равным четырем годам. Эти два события связаны причинно-следственной зависимостью и принципиально не могут быть одновременными.
Любая же другая пара событий, происшедших на Проксиме Центавра и на Земле и разделенных интервалом времени, меньшим четырех лет, принципиально может быть одновременной. Ведь они не могут быть причинно связаны!
Совершенно естественным образом мы пришли к необходимости изменить, уточнить понятие одновременности. А понятие одновременности совершенно необходимо. Без него нельзя сравнивать время (ход часов) в разных точках, невозможно определить длину движущихся тел — просто нельзя строить физику. Поэтому свою теорию Эйнштейн начинает с определения одновременности.
Два события, происшедшие в точках A и B инерциальной системы отсчета K, одновременны, если световые сигналы (или любые другие сигналы с предельной скоростью), посланные из точек A и B в моменты совершения событий, доходят до точки в середине отрезка AB в один и тот же момент времени.
Теперь у нас все есть для строгого определения понятия времени. И оно определяется как
совокупность показаний одинаковых часов, помещенных в разных точках пространства системы К, покоящихся в этой системе и одновременно имеющих одинаковые показания[65].
Два определения — самое существенное в данной главе. Все остальное — «гарнир». Сейчас стоит снова просмотреть III главу.Как видите, понятие одновременности событий существенно изменилось по сравнению с определением, данным в третьей главе. Новое определение одновременности, как и все понятия физики, навязано нам реальной действительностью и отражает объективный мир. Определять, вводить понятия, вообще говоря, можно как угодно, но в физике нет места понятиям, которые не отражают реальный мир. Физиков такие понятия не интересуют[66].
Понятие одновременности событий в разных точках пространства у Эйнштейна естественным образом вытекает из обобщения опыта.
Сходство и различие в определении понятий одновременности в физике Ньютона и по Эйнштейну.И в «классике» и у Эйнштейна понятие одновременности основано на принципе причинности. В природе нет другого образа одновременности двух событий, кроме принципиальной невозможности между ними причинной связи[67].
Не останавливаясь на прочих тонкостях, связанных с понятием одновременности (а их осталось очень много), подчеркнем только, в чем существенное отличие понятия одновременности по Эйнштейну от классических взглядов.
Пока речь идет об одновременности событий, происходящих в одной точке, все спокойно, теория относительности совершенно не нарушает классических представлений. Но как только анализируется понятие одновременности двух событий, удаленных друг от друга, положение меняется.
Следуя за Эйнштейном, примем, что максимальная скорость передачи информации хотя и очень велика (300 тысяч км/сек), но все же конечна. Тогда, чтобы сигнал о событии A дошел в точку (xB; yB; zB), принципиально необходим некоторый промежуток времени. И любое из событий B1, В2, B3… в точке (xB; yB; zB), которое произошло в момент времени, попадающий в этот промежуток, принципиально не может быть причинно связано с событием A. Какое из этих событий одновременно с A? Можно ли все их считать одновременными? Это явно нехорошо. Нужно выбрать какое-то одно событие B и объявить его одновременным с A. Но какое?
Невольно очень хочется сказать: «Ну, ясно, какое событие одновременно с A. То, которое произошло в тот же момент времени». Даже понимая, что эта фраза абсолютно бессодержательна, все равно хочется ее сказать. Очень трудно отрешиться от привычного наивного представления, что время есть нечто абсолютное, ни от чего не зависящее, само собой понятное, что-то такое, о чем не стоит вообще говорить.
И может быть, главный барьер для понимания теории Эйнштейна именно в том, что трудно отбросить привычные, обыденные представления.
Так все же какое событие из всего бесконечного ряда событий (B1, В2, B3…), которые не могут быть причинно связаны с событием A, объявить одновременным с A?
Эйнштейн предлагает единственно возможное в новой ситуации определение одновременности. Почему оно «единственно возможное?»
Легко увидеть, что определение одновременности, по Эйнштейну, приводит к следующему рецепту проверки часов на синхронность (по определению, синхронные часы — это часы, одновременно показывающие одинаковое время).
Нужно обратить внимание на введенное мимоходом понятие о синхронности часов.Пусть в точках A и B некоторой инерциальной системы K находятся двое часов. Из точки A в момент t1A (по часам A) посылается световой сигнал в точку B. Здесь он мгновенно отражается и возвращается в точку A в момент t2A (по тем же часам A). Если в момент прихода сигнала в точку B часы B показывали время
tB = (t1A + t2A)/2,
часы A и B синхронны.
Можно показать, что если бы определить «одновременность» не так, как это сделал Эйнштейн, то оказалось бы, что часы B нужно считать синхронными с A в том случае, когда в момент прибытия светового сигнала в B они показывают, допустим, не 9.00, а, скажем, 9.15 (или 8.45). Но подобные определения синхронных часов противоречат нашему представлению об изотропности пространства. Действительно, с одной стороны, мы полагаем, что свет идет от A к B такое же время, как и от B к A. А с другой стороны, определяя время пути по синхронным часам B и A, мы получим, что от A к B луч шел 3.15, а назад, от B к A, — 2.45. Поэтому-то определение Эйнштейна — единственно возможное.
Мы задержались на всех этих тонкостях не только потому, что «одновременность» — центральное понятие теории относительности.
Надо честно признать, что даже весьма обрывочный анализ, прерываемый постоянными просьбами принять на веру то или иное утверждение, — даже этот анализ, который с трудом заслуживает чести называться анализом, весьма утомителен. Но, пожалуй, самый лучший способ показать, что такое настоящая наука, — это заставить хотя бы слегка соприкоснуться с ней, ибо тогда хотя бы в слабой степени можно представить, какого напряжения интеллекта требуют выводы, которые потом кажутся чуть ли не очевидными.
Автор снова рассуждает.Точно так же можно очень долго объяснять, сколько сил, выдержки, энергии и мужества необходимо боксеру на ринге, но человек, который попробовал хотя бы минуту боксировать просто с тенью, все поймет без лишних слов.
Возвращаясь на наш «ринг», следует предупредить, что сейчас читателю будет нанесен еще один удар. Мы убедимся, что одновременность событий — понятие относительное. События, одновременные в одной инерциальной системе, неодновременны в другой.
Но прежде чем в этом убедиться, стоит сделать одно замечание общего характера.
Эйнштейн «не виноват», что одновременность событий и соответственно время оказываются относительными понятиями, — просто так устроен мир.
А до Эйнштейна вообще не подозревали, что такие понятия, как «одновременность», «время», «длина», нужно строго определять. Поэтому в чисто психологическом отношении теория относительности не меньший переворот, чем по своему физическому содержанию.
Очень точно характеризовал положение вещей Л. И. Мандельштам:
«То, что понятие одновременности нуждается, как указал Эйнштейн, в определении, а не дано свыше, — это шаг, который взять обратно не сможет никто».
Надо ясно представлять, что в постулатах и основных понятиях теории Эйнштейна нет никакого противоречия с логикой. Теория может противоречить фактам, это другой вопрос. Но пока все опытные данные самой разнородной природы великолепно подтверждают теорию относительности.
Вспомним теперь пример, разобранный в предыдущей главе. В центре равномерно движущегося вагона произошла световая вспышка.
Относительность одновременности — один из центральных пунктов теории относительности.В системе отсчета, связанной с поездом, сигналы достигли передней и задней стенок вагона одновременно.
В системе, связанной с полотном дороги, эти события неодновременны.
Этот «странный» вывод совершенно правилен. А весь пример очень ясно показывает относительность одновременности.
Но любопытно вот что. Вряд ли у кого-либо при чтении возникла мысль, что, пока не было четкого понятия одновременности событий (все равно какого — классического или по Эйнштейну), наш разговор был бессодержателен.
Утверждение «два события одновременны или неодновременны» имеет смысл только тогда, когда есть понятие одновременности. А оно не дается свыше, оно не априорно. Мы сами формулируем его, причем, повторяю, эта формулировка навязывается нам реальным, окружающим нас миром.
Можно привести еще много иллюстраций относительности понятия одновременности, но мы ограничимся только одним известным примером, предложенным самим Эйнштейном.
По железной дороге идет поезд[68]. В его начало и конец ударяют молнии, которые поражают и поезд и полотно дороги. Нам надо установить, одновременны ли удары молний или нет. Наблюдатель в поезде заявит, что удары одновременны, если прибор (скажем, фотоэлемент); находящийся точно в середине поезда, зафиксировал приход световых сигналов от обеих молний в один и тот же момент.
Наблюдатель на полотне заявит, что удары молний были одновременными, если сигналы зафиксированы в один и тот же момент прибором, который находился точно посредине тех следов на земле, которые оставили молнии.
Классический пример, иллюстрирующий относительность одновременности. Кстати, он довольно труден.Нам не очень интересно, как именно построен опыт, но, чтобы избавиться от возможных недоумений, предположим, что существует два комплекта приборов: в поезде и на полотне железной дороги. Причем любой из этих приборов срабатывает только тогда, когда оба световых сигнала приходят к нему в один и тот же момент (допустим, внутри приборов есть так называемые схемы совпадений).
После ударов молний мы проверяем обе серии приборов и смотрим, какой именно сработал. Если сработал прибор строго посередине поезда, то, по определению, удары молний одновременны в системе отсчета «поезд».
В серии приборов, стоявших на земле, естественно, «щелкнет» тот прибор, который находится на полотне точно против середины поезда. Но пока световые сигналы от молний добирались до приборов, прошло какое-то время, и поезд успел проехать некоторое расстояние. Его середина окажется не против той точки на полотне, что находится посередине между следами от удара молний по полотну дороги, а ближе к «передней» отметке!
Поэтому в системе отсчета «полотно дороги» удары молний, опять же согласно нашему определению, неодновременны. Наблюдатель на полотне скажет, что раньше ударила молния в «хвост» поезда.
Точно так же, если окажется, что на полотне железной дороги «щелкнул» прибор, который находится строго посередине следов на земле от ударов молний, то в поезде сработает прибор, который находится несколько ближе к его «хвосту». Тогда удары молний будут одновременны в системе отсчета «полотно дороги» и неодновременны в системе «поезд». Но никак не может оказаться, что эти события одновременны сразу в обеих системах отсчета.
Почему мы так детально остановились на понятии одновременности?
Причин по меньшей мере две.
Во-первых, понятие одновременности — одно из основных в теории Эйнштейна. Если хорошо в нем разобраться, вся принципиальная физическая сторона теории представляется чрезвычайно естественной и ясной. Поэтому-то Эйнштейн всегда начинал построение своей теории с понятия одновременности.
Можно, конечно, провести «стыдливое» изложение теории относительности, протащить одновременность через заднюю дверь, не определяя открыто, а введя понятие о синхронных часах. Это, однако, было бы нечестно и затемнило бы суть дела.
Об одновременности необходимо говорить и потому (и это вторая причина), что по поводу содержания понятия одновременности в теории Эйнштейна разгорелось много споров; причем, не поняв, в чем дело, некоторые авторы полагают, что эйнштейновская трактовка одновременности противоречит диалектическому материализму. В зависимости от своих взглядов они, соответственно, приветствуют или отвергают эйнштейновские представления о физической структуре его теории, и в частности, о понятии одновременности.
И поскольку зашел вопрос об одновременности, приходится коснуться философской стороны проблемы, хотя автор очень ясно сознает, как мало он компетентен в философии.
Замечания о существе дела с точки зрения философа.Все, что сказано об одновременности, лишний раз иллюстрирует справедливость методологических установок материалистической философии.
Для материалиста ясно, что априорным понятиям нет места в физике.
Поэтому понятие одновременности необходимо определить.
Реальная действительность диктует нам содержание этого понятия.
Относительность одновременности и соответственно времени не смущают материалиста.
Материалист не навязывает своих представлений природе.
Наоборот, изучение реальной действительности приводит ученого к формулировке тех или иных понятий, отражающих эту действительность.
Вот, собственно, и все.
При всем желании невозможно усмотреть ни малейшего противоречия между постановкой вопроса об одновременности в теории Эйнштейна и положениями диалектического материализма.
В заключение позвольте высказать замечание общего характера. Методическое значение теории Эйнштейна прежде всего в том, что она ясно показала: часто в науке декларируем понятия, лишенные всякого содержания (например, «абсолютное пространство» Ньютона). Другая сторона той же медали проявляется в широком использовании «самоочевидных» (априорных) понятий (например, одновременность, длина, время в классической физике).
Казалось бы, после Эйнштейна в физике не должно остаться места подобным взглядам. Но, как ни парадоксально, основные споры, которые ведутся вокруг трактовки теории относительности, возникают именно в результате необдуманного употребления слов без ясного понимания их содержания.
Глава XIII,
очень сухо сообщающая читателю, что такое «интервал» и преобразование Лоренца. Прочитав эту главу до конца, можно также узнать, как своеобразна в теории Эйнштейна формула для сложения скоростей
Эйнштейн
(«удивительные» выводы теории)
Несколько упрощая, можно заявить: вся математическая сторона теории Эйнштейна основана на одном факте — инвариантности интервала.
Что такое «интервал» и его «инвариантность», сейчас скажем. Правда, в нашей беседе значение понятия интервала не будет раскрыто, и, уверяя читателя, что это очень важно, автор напоминает человека, демонстрирующего фотографию тигра, чтобы доказать, какой это страшный зверь. У собеседника же всегда останется смутное подозрение, что перед ним просто увеличенный портрет котенка. Тем не менее от соблазна продемонстрировать фото все же трудно удержаться…
Инвариантность интервала и чуть-чуть математики.Пусть произошли два каких-то события А и В.
Пусть координаты этих событий, измеренные в определенной инерциальной системе отсчета K, — xA; yA; zA и xB; yB; zB.
Пусть, наконец, определенные в той же инерциальной системе моменты времени, когда случились эти события, — tA и tB.
Тогда интервал между этими событиями определяется соотношением:
S2AB = c2(tB – tA)2 – (xB – xA)2 – (yB – yA)2 – (zB – zA)2.
И эта величина обладает замечательным свойством.
Допустим, что наши события А и В рассматривают из другой инерциальной системы отсчета K1. Обозначим координаты событий в этой новой системе x1A; y1A; z1A и x1B; y1B; z1B, а моменты времени, когда произошли события, — t1A и t1B. Для наглядности снова представим некую многострадальную железную дорогу — такую, что система отсчета, связанная с полотном дороги, инерциальна. Допустим, это система К. (Если вспомнить, что система отсчета «Земля», строго говоря, неинерциальная, наш рельсовый путь придется проложить где-то в космосе.)
Пусть по дороге равномерно и прямолинейно идет поезд. Тогда система отсчета, связанная с поездом, тоже инерциальна. Это система K1. Где-то на небосклоне вспыхнули две звезды — это события А и В.
Если наблюдатели на полотне дороги и в поезде отметят координаты событий и моменты, когда они произошли, то окажется, что
SAB = S1AB или c2(tB – tA)2 – (xB – xA)2 – (yB – yA)2 – (zB – zA)2 = c2(t1B – t1A)2 – (x1B – x1A)2 – (y1B – y1A)2 – (z1B – z1A)2.
Интервал между событиями неизменен при переходе от одной инерциальной системы к другой. Иначе говоря — интервал инвариантен.
Предыдущее равенство еще удобнее записать так:
S2AB = c2t2AB – r2AB = c2(t1AB)2 – (r1AB)2 = (S1AB)2.
Вот что такое инвариантность интервала.Здесь rAB и r1AB — расстояние между точками, где произошли события A и B в системах K и K1, а tAB и t1AB — соответственно промежутки времени.
Как установили, что интервал остается неизменным, инвариантным при переходе от одной системы к другой?
Инвариантность интервала — просто математическая запись основных положений теории — принцип относительности плюс принцип постоянства скорости света. Как именно доказывается инвариантность интервала, обсуждать не стоит, хотя это и довольно просто. Это вопрос математики, а математика, как говорил А. Н. Крылов, подобно мельнице, перемалывает все, что вы засыплете. Нас же интересует в первую очередь «засыпка».
Из инвариантности интервала немедленно следуют преобразования Лоренца — формулы, позволяющие перейти от одной инерциальной системы отсчета к другой.
Это тоже математика. Опустим вывод преобразования Лоренца и даже скрепя сердце промолчим об удивительно изящной математической трактовке этих преобразований, принадлежащей Минковскому. В конце концов все это относится к работе мельницы, а нам с лихвой хватит попытки разобраться в основных физических выводах теории. Посему все формулы будем принимать на веру.
1. Рассмотрим две инерциальные системы отсчета K и K1, оси которых по направлениям совпадают.
Пусть относительная скорость движения этих систем v направлена вдоль осей x и x1. Тогда, зная время и координаты любого события в одной системе отсчета, можем найти время и координаты этого же события в другой системе. А именно:
Эти формулы и определяют преобразование Лоренца.Как видите, написаны формулы перехода от штрихованной системы к нештрихованной[69].
Из рисунка видно, что рассматривается случай, когда скорость системы K1 в системе K равна +v.
Теперь, зная координаты и время в системе K1 и использовав наши формулы, сразу можем найти соответствующие координаты и время в системе K.
Чтобы проделать обратный переход, нужно разрешить наши уравнения относительно x1 и t1 (как говорится, «уединить» x1 и t1). Это очень легко сделать чисто формально, но еще проще вспомнить, что ввиду равноправия инерциальных систем формулы перехода от K к K1 и от K1 к K должны иметь тождественный вид.
Учитывая, что скорость движения K относительно K1 равна — v, сразу напишем:
Мы рассмотрели сравнительно простой случай, когда относительная скорость движения систем K к K1 совпадает по направлению с осями x и x1.
В общем случае формулы перехода, естественно, усложняются, но все принципиальные отличия теории Эйнштейна от классической физики полностью выявлены и в частном случае.
Сразу видно, как существенно отличаются преобразования Лоренца от аналогичного преобразования Галилея в классической механике. Однако, кроме различия, есть и значительное сходство.
По этому поводу можно высказать совершенно общее утверждение. Заранее ясно, что в теории Эйнштейна как предельный случай должна заключаться классическая механика. Механика Ньютона многократно оправдывалась при проверке на опыте, и никакая разумная новая теория не может просто ее отбросить. От подобных неприятностей классическую механику метод принципов Ньютона страхует навечно.
Предельный переход к механике Ньютона. Важное замечание общего характера иллюстрируется конкретным примером.Как бы ни изменились принципиальные положения, что бы ни оказалось в дальнейшем, но когда скорости тел малы, любая теория должна давать те же или, точнее, почти те же результаты, что и механика Ньютона. Как приближение к истине законы Ньютона останутся навсегда.
Все, что сказано сейчас о механике Ньютона, можно дословно повторить по отношению к специальной теории относительности. Дальнейшее развитие науки может внести любые изменения. Может произойти все что угодно, но хотя бы как приближение к истине теория Эйнштейна останется в науке навсегда.
Вернемся, однако, к конкретному вопросу. Как можно увидеть, что теория Эйнштейна включает в себя механику Ньютона? В этом легко, например, убедиться при анализе любого вывода теории. Ограничимся только одним примером. Когда v/c << 1 можно пренебречь членами (v/c)2 и (v2/c2) и формулы преобразования Лоренца переходят в хорошо известные классические формулы преобразования Галилея:
x = x1 + vt1;
y = y1;
z = z1; t = t1.
С другой стороны, преобразование Лоренца переходит в преобразование Галилея, если устремить с к бесконечности. Здесь физическое содержание тоже очень прозрачно. Бесконечная скорость распространения сигналов — это гипотеза, как помните, лежит в основе классической физики.
А теперь разрешите совсем маленькую сенсацию.
По существу, наша работа уже почти закончена. Вся специальная теория относительности непосредственно вытекает из двух постулатов, которые мы разобрали в предыдущих главах.
Самое основное изменение, которое вносится в классическую физику, — это изменение понятия времени, или, что то же, изменение понятия одновременности. Сей вопрос также рассмотрен. Мы не касались только одного вывода совершенно принципиального характера — связи между массой и энергией. Но это потом.
Так как математическая часть теории основана целиком на преобразовании Лоренца, которое нами рассмотрено, то все остальное, в том числе сокращение длины и изменение времени, не более чем простые следствия.
Один из наиболее неожиданных выводов релятивистской теории для человека, воспитанного на механике Ньютона, — закон сложения скоростей.Итак, перейдем к рассмотрению частностей с приятным сознанием, что основы уже ясны. Во-первых — закон сложения скоростей.
Постановка вопроса очевидна.
Пусть в инерциальной системе К со скоростью v1 движется некое тело. Пусть далее другое тело движется относительно первого со скоростью v2. Требуется определить скорость второго тела относительно системы K.
Доставив себе удовольствие строгой и общей формулировкой проблемы, вернемся к железной дороге.
Поезд идет по полотну дороги со скоростью v1 относительно полотна. (Конечно, его скорость может быть близка к скорости света.) Некто в поезде по не интересующей нас причине стреляет из ружья, и скорость пули — относительно поезда — v2. Требуется определить скорость пули относительно полотна дороги. (Конечно, и скорость пули v2 тоже может быть близка к скорости света.) Мы ограничимся только тем частным случаем, когда скорости v1 и v2 направлены по одной прямой, но все характерные черты теории относительности великолепно видны и в этом случае.
В классической механике суммарная скорость определялась предельно простым выражением vсум = v1 ± v2 (знак + в том случае, когда стреляют по ходу поезда, и знак –, когда против хода).
По Эйнштейну, закон для определения суммарной скорости другой:
Как видно, если v1 << c и v2 << c, формула Эйнштейна переходит в классическую. (В этом случае можно спокойно пренебречь вторым членом знаменателя по сравнению с единицей.) Если же скорости v1 и v2 сравнимы со скоростью света, тогда формула Эйнштейна становится совершенно отличной от классической.
Лучше всего в этом можно убедиться, положив одну из скоростей (например, v2) равной скорости света. Если помните, мы уже упоминали об этой задаче, обсуждая в XI главе, какова будет относительно полотна дороги скорость светового луча, посланного источником, находящимся на поезде. Легко видеть, что независимо от v1 абсолютная величина суммарной скорости снова равна скорости света.
Теперь можно разбить наши рассуждения в XI главе. Как помните, там, защищая баллистическую гипотезу, мы принимали как самоочевидный факт классическую формулу сложения скоростей.
Сейчас стоит прочесть еще раз страницу 246.И вот, как оказывается, именно это и неправильно.
Фронт световой волны, идущей из прожектора поезда, распространяется со скоростью с относительно поезда. Но относительно наблюдателя на земле он распространяется не со скоростью (vпоезда + c), а снова с той же скоростью c.
Для нашего воображения, воспитанного на классической механике, это удивительно. Удивительно, но тем не менее правильно.
Более того, относительная скорость двух фотонов, несущихся навстречу друг другу со скоростью света, снова равна c, а не 2c, как в классической физике[70].
В механике Эйнштейна скорость света в вакууме представляет барьер, через который невозможно перебраться.
Глава XIV,
в которой обсуждаются два вывода теории относительности, вызывающие обычно максимальное недоумение
Эйнштейн (время, длина)
Как измерять длину движущихся тел, мы уже договорились в III главе. Напомним: «Длина движущегося тела есть расстояние между одновременно отмеченными положениями его начальной и конечной точек».
В классической физике длина движущегося тела, определенная таким образом, совпадала с длиной неподвижного тела, и все было хорошо. Еще и еще раз напомним:
1. До Эйнштейна вообще никто не задумывался, «как определяется длина движущихся тел». Но, по сути дела, каждый раз, измеряя длину или говоря о ней, молчаливо подразумевали, что она определяется именно так, как сказано выше.
2. Совпадение или несовпадение длин покоящегося и движущегося тела — это вопрос опыта, и никак нельзя утверждать заранее, что они должны совпадать.
Относительность длины и лоренцово сокращение.Не следует навязывать природе наши взгляды и желания. В данной конкретной системе отсчета, где проводятся изменения, стержень неподвижный и стержень движущийся находятся в разных физических условиях, и нет никаких оснований ожидать, что длина не изменяется при движении. Так думали раньше, бессознательно обобщая эксперименты. Ведь в обычных опытах исключительно трудно наблюдать различие в длинах движущегося и неподвижного предмета, ибо достижимые скорости материальных тел неизмеримо меньше скорости света. Поэтому и не наблюдалось никакого изменения длины, а отсюда уверенность, что длина предмета абсолютна и неизменна независимо от того, из какой системы отсчета ее определяют.
Но… самый непосредственный анализ преобразований Лоренца показывает, что длина — величина относительная.
Действительно, длина стержня, движущегося со скоростью v, сокращается в направлении движения и определяется выражением:
где l0 — длина стержня, когда он находится в состоянии покоя[71], то есть длина, измеренная в той системе отсчета, в которой стержень покоится. Этот эффект и называется лоренцовым сокращением длины[72].
Для космической ракеты — спутника Солнца — наблюдаемое с Земли сокращение длины равно:
Иначе говоря, ракета укоротилась примерно на 7 стомиллионных долей процента!
Конечно, нет ни малейшей возможности заметить такое сокращение. А космические ракеты — бесспорные чемпионы скорости, если говорить о макроскопических телах.
Поэтому не должно особенно удивлять, что длина тела считалась абсолютной величиной. Иное дело, когда скорости близки к световой. Но пока не начали исследовать элементарные частицы, с такими скоростями не сталкивались.
Вот, собственно, все, что следовало сказать о понятии длины в теории относительности. Однако релятивистская постановка проблемы настолько непривычна, что стоит специально обратить внимание на вопрос, который очень часто приходится слышать: сокращается ли длина на самом деле, или же лоренцово сокращение только кажущееся?
Этот вопрос связан с непониманием существа дела.
Если сказать, что лоренцово сокращение действительно объективно и реально, — это будет правильно. Но тогда может сложиться ошибочное представление, что существует какая-то выделенная система отсчета, в которой все тела имеют максимальную «истинную» длину, а во всех остальных системах она сокращается[73]. Ничего подобного, конечно, нет.
Лоренцово сокращение длины связано только с тем, что длина — относительная величина, зависящая от того, из какой системы отсчета ее определяют.
Спрашивать, действительно ли лоренцово сокращение, это то же самое, что спрашивать, движется ли в действительности измеряемый стержень?
Но если последний вопрос не вызывает недоумений, ибо относительность скорости очень привычна, то относительность длины часто пугает и трудно воспринимается.
По существу же, все дело в том, что очень тяжело менять привычки.
Иногда можно услышать даже, что, утверждая относительность длины, физики противоречат философскому материализму. Подобные заявления продиктованы непониманием как физики, так и философии и не заслуживали бы особого внимания, если бы не отражали все то же нежелание людей изменять привычные наглядные представления. К сожалению, однако, мир устроен таким образом, что приходится приложить известные умственные усилия, чтобы понять его структуру. Последнее философское замечание еще более относится к определению понятия времени.
Сразу сформулируем вывод.
Интервал времени между какими-то двумя событиями оказывается минимальным в той системе отсчета, где эти события произошли в одной точке.
Самое сложное. Время. Его относительность.Эта фраза может показаться несколько туманной, и потому используем традиционное оружие популярной литературы — простой пример.
В вагоне поезда Москва — Ленинград происходит одна за другой две световые вспышки.
Пусть по часам, установленным в поезде, промежуток времени между этими вспышками равен Δt0 — скажем, 10 часам.
В системе отсчета «поезд» вспышки произошли в одной точке, и «поездные» часы в том месте, где происходили вспышки, измеряют, естественно, время именно в этой системе отсчета.
Если моменты времени световых вспышек засекать в системе отсчета, «привязанной» к полотну железной дороги, причем опять по часам, находящимся в месте вспышек, то придется использовать двое часов, так как в этой системе вспышки происходят в разных точках (сегодня поезд в Москве, а завтра в Ленинграде!).
Если в момент первой вспышки часы в поезде показывали то же время, что и часы А на перроне Ленинградского вокзала в Москве, то в момент второй вспышки часы в поезде будут показывать меньшее время, чем синхронные с часами А[74] часы В на перроне Московского вокзала в Ленинграде.
Иначе говоря, если ход движущихся часов сравнивать с ходом нескольких неподвижных синхронных часов, то он будет отставать от хода покоящихся. В нашем примере «поездные» часы могут отстать на 1 час. И когда на В будет 9 часов утра, они покажут 8 часов.
Особо подчеркнем, что системы отсчета «поезд» и «полотно дороги» в разобранном примере находились в существенно неравноправных условиях. Одни часы в поезде сравнивались с двумя часами на платформе.
Если опыт видоизменить — вообразить очень длинный поезд, увешанный синхронными часами[75], и платформу с одними часами, — то окажется: при сравнении показаний перронных часов с показаниями «поездных» мы убедимся, что отстают часы перронные.
Поэтому нехорошо, очевидно, говорить: время в движущейся системе отсчета течет медленнее.
Такое утверждение противоречит принципу относительности. Все инерциальные системы отсчета совершенно равноправны, и, конечно, нельзя думать, что в одной системе время течет быстрее, чем в другой.
Когда говорят о лоренцовом сокращении времени, всегда имеют в виду только то утверждение, что было приведено выше[76].
Полную равноправность понятия времени в разных инерциальных системах хорошо поясняет одна иллюстрация.
Представьте две ракеты с радиостанциями на борту. Пусть летчики снабжены физически идентичными часами. Пусть ракеты разлетаются с постоянной относительной скоростью v и каждую секунду по своим часам радиостанция каждой ракеты посылает радиосигналы.
Наблюдатель на ракете № 2, измеряя по своим часам интервалы между моментами приема радиосигналов, посланных ракетой № 1, обнаружит, что они несколько больше одной секунды. А именно:
каждый.
Это растягивание времени между двумя последовательными приемами сигналов определяется эффектом Допплера[77].
Если теперь наблюдатель в ракете № 2 произведет несложный расчет, он заключит, что по его часам n-й сигнал был отправлен в момент времени
секунд.
(Расчет воспроизводить не будем и поверим, что здесь нет ошибки.)
Но поскольку по часам ракеты № 1 n-й сигнал был послан в момент tnN = n секунд, наблюдатель в ракете № 2 заявит, что часы ракеты № 1 отстают.
Действительно, между отправлением первого и n-го сигналов с ракеты № 1 по часам ракеты № 2 прошло секунд, а по часам ракеты № 1 меньше, всего n секунд.
Но ведь вся задача сформулирована совершенно симметрично, и ракета № 1 ничем не лучше ракеты № 2. Поэтому ясно, что в нашем рассуждении можно спокойно переменить номера ракет. И с теми же основаниями наблюдатель в ракете № 1 будет утверждать, что отстают часы ракеты № 2.
Кто же прав?
Оба.
Чтобы это несколько необычное утверждение стало понятнее, надо только уточнить, что подразумевает наблюдатель ракеты № 1, определяя время отправления n-го сигнала с ракеты № 2 по своим часам.
Это время по самому своему смыслу есть не что иное, как показания часов, синхронных с часами ракеты № 1 и находящихся в той точке, где в момент отправления n-го сигнала была ракета № 2.
По сравнению с показаниями этих часов часы ракеты № 2 будут показывать меньшее время — отставать. Точно так же, утверждая, что отстают часы ракеты № 1, наблюдатель в ракете № 2 мысленно «вешает» часы, синхронные со своими, в точку, где находится ракета № 1.
Мы снова приходим к старому выводу. Отстают те часы, которые сравниваются с показаниями нескольких синхронных между собой часов другой инерциальной системы.
В таком виде это заявление выглядит несколько формально, но по смыслу оно совпадает с основным утверждением об измерении промежутка времени между двумя событиями. Интервал времени минимален в той системе отсчета, где события произошли в одной точке[78].
Самый «главный» парадокс теории относительности — парадокс с часами.Однако, честно признаемся, изменение ритма часов воспринимается тяжелее, чем лоренцово сокращение длины. Это вызвано, вероятно, отчасти тем, что вообще труднее воспринять понятие времени, а отчасти «необратимостью» эффекта. Что именно подразумевается под «необратимостью», лучше всего пояснить, вспомнив о длине.
Разгоним стержень относительно какой-либо инерциальной системы до скорости, близкой к скорости света, а затем затормозим его. Предположим, что при малых ускорениях по-прежнему справедливы формулы специальной теории относительности. Тогда наблюдатель, покоящийся в нашей системе, измеряя в процессе движения длину стержня, должен получить примерно такой график.
В начальный момент длина стержня равна nl0, затем с ростом скорости она постепенно уменьшается. Когда скорость достигает максимального значения v и стержень двигается по инерции, длина его остается некоторое время постоянной. Потом по мере торможения она монотонно растет, возвращаясь к прежнему значению l0. После окончания движения стержень «забывает», что он двигался. Его длина остается неизменной.
Со временем положение иное.
Если «разогнать» часы С (например, поставив в некую фантастическую ракету) и заставить их некоторое время двигаться со скоростью v, а потом затормозить, то после остановки они не будут показывать то время, что часы В, синхронные с А и находящиеся «на остановке».
Часы С отстанут от В. В этом случае обратимой величиной оказывается ритм часов. После путешествия часы С будут идти так же, как до полета (синхронно с А и В). Но время путешествия, которое они отмерят, будет меньше времени, измеренного по часам А и В. При этом мы снова предположим, что, если часы двигались с не очень большим ускорением, можно с хорошей степенью точности определять измерение их ритма в каждый данный момент, используя формулы специальной теории. То есть:
Вообще-то как задача определения длины ускоренно движущегося тела, так и вопрос о ходе времени на этом теле не могут быть решены с помощью специальной теории относительности.
Специальная теория рассматривает только инерциальные системы, и поэтому в наших рассуждениях выводы специальной теории, строго говоря, незаконно распространялись на более общие случаи.
Однако общепринято считать: если ускорения в некоем определенном смысле малы[79], это можно делать.
Впрочем, некоторые ученые возражают против такого вывода, считая использование специальной теории незаконным. Но мы будем слепо следовать за большинством.
Еще раз повторим: сейчас обсуждается проблема, строго говоря, «не подсудная» специальной теории. Полное решение вопроса может быть получено только в общей теории относительности.
И еще одно и весьма важное замечание. Мы поверили, что, сравнивая ход своих часов с ускоренно двигающимися часами, наблюдатель в инерциальной системе отсчета с хорошей точностью может использовать формулу, приведенную чуть выше, или, иными словами, воспользоваться специальной теорией относительности.
Поверим теперь, что, решая аналогичную задачу, наблюдатель, связанный с ускоренно движущимися часами (наблюдатель в неинерциальной системе отсчета), вообще не имеет права использовать формулы специальной теории. Поверим, что это незаконно.
А теперь сообщим, в чем состоит так называемый «парадокс часов».
Парадокс заключается в следующем. Развезем с относительной скоростью, близкой к скорости света, в разные точки пространства двое часов, а затем свезем их вместе.
С точки зрения наблюдателя А двигались часы В, их ритм замедлился, и при встрече В будут отставать.
Но наблюдатель В волен рассуждать точно так же. Он скажет, что двигались часы А и отставать должны они.
После путешествия часы А и В оказываются в одной точке. Разность их показаний — величина абсолютная, и потому прав может быть лишь один из двух.
После нашего вступления ответ очевиден. Тот из наблюдателей, чьи часы испытывали действие ускорений (пусть это был наблюдатель В), «не имеет права» использовать специальную теорию относительности. Если он не знает общей теории, то вообще не может ничего сказать о ритме часов А. Но зато наблюдатель А вправе как приближение использовать специальную теорию (если ускорения часов В не слишком велики). Он заключит (и будет прав), что отстанут часы В, причем как именно — можно вычислить.
Если ускорения В «велики», то, используя только специальную теорию, вообще ничего определенного нельзя сказать. Но если прибегнуть к общей теории относительности, можно показать, что В должны отставать от А.
И наконец, если ускорялись и В и A, весь вопрос следует адресовать к общей теории, так как в этом случае могут осуществляться самые разные варианты.
Так что ответ на кажущийся парадокс скрыт в неравноправии двух часов: А и B. Если они разъехались, а затем встретились, то хотя бы одни часы испытали действие ускорений[80].
Глава XV,
все недостатки которой должно искупить содержание
Эйнштейн. Законы механики
(масса и энергия)
Законы механики Эйнштейна поражают своей необычностью человека, воспитанного на классических представлениях, хотя между релятивистской механикой и механикой Ньютона значительно больше общего, чем может показаться на первый взгляд.
Начнем с того, что первый закон Ньютона остается неизменным и в релятивистской механике — в инерциальной системе отсчета тело, свободное от действия внешних сил, сохраняет неизменным свой импульс.
И опять рассуждения.Третий закон механики Ньютона — равенство действия и противодействия — также остается в механике теории относительности. Снова можно утверждать, что «если два тела взаимодействуют между собой, то их суммарный импульс остается неизменным».
Собственно говоря, остается неизменным и второй закон механики. По-прежнему сила равна скорости изменения импульса:
Второй закон Ньютона в релятивистской механике.Но если содержание второго закона прежнее, конкретная его форма существенно меняется. Нам придется принять на веру, что в релятивистской механике импульс тела определяется выражением:
Выводить эту формулу мы не в состоянии и потому отметим только, что определение импульса выглядит довольно естественно и правдоподобно.
Во-первых, при скоростях, много меньших скорости света, мы получаем (как и должно быть) знакомое классическое выражение для импульса P = mv.
С другой стороны, по мере приближения скорости тела к скорости света импульс стремится к бесконечности, что тоже понятно, так как полностью соответствует тому обстоятельству, что никакое материальное тело нельзя разогнать до скорости, равной скорости света.
На графике очень хорошо видно, как связан истинный импульс тела с приближенным классическим выражением.
Сплошная линия — это релятивистское выражение для импульса, а пунктирная — классическое. Даже при очень больших, с «житейской точки зрения», скоростях релятивистская формула почти совпадает с классической.
При скорости в 30 километров в секунду[81], используя классическое выражение, мы занижаем импульс на одну вторую миллионной доли процента.
Поэтому ясно, что даже при расчете движения космических ракет никому не приходит в голову учитывать релятивистские эффекты. Очевидно, еще более нелепо использовать строгие формулы теории относительности при рассмотрении тех значительно более медленных движений, с которыми мы имеем дело в повседневной технике. В этих случаях великолепно оправдывается первое приближение — механика Ньютона.
Но в нашем веке инженерам пришлось встретиться с большим числом чисто технических задач, для решения которых необходима механика Эйнштейна. Элементарные частицы — электроны, протоны — разгоняются в современных ускорителях до скоростей, предельно близких к скорости света.
Если электрон ускорять при помощи сравнительно скромной разности потенциалов в 1 миллион вольт, он приобретет скорость 0,92 с. При такой скорости импульс, вычисленный по классической формуле, уже в 3 раза ниже истинного значения. Излишне пояснять, что при расчетах ускорителей элементарных частиц используют строгие формулы релятивистской механики. Так что в наше время теория Эйнштейна используется и в инженерной физике. Вероятно, так же излишне упоминать, что практика прекрасно согласуется с формулами Эйнштейна.
Вернемся ко второму закону Ньютона в релятивистской механике. Если считать, что импульс тела должен определяться как произведение массы тела на скорость, то оказывается, что масса зависит от скорости.
А именно:
где m — масса покоящегося тела, «масса покоя».
Масса тела. Замечания по поводу понятия «масса».С точки зрения классической физики такая зависимость, конечно, поразительна, но ничего нелепого в ней нет.
Мир устроен так, что на массу влияет скорость, и если это влияние не видно при малых скоростях (механика Ньютона), это отнюдь не значит, что оно вообще должно отсутствовать.
Можно, конечно, протестовать против нашего определения массы. Можно, например, утверждать, что импульс не должен быть равен произведению массы на скорость и что «истинная», «всамделишная» масса тела — это его масса покоя m. Но, пожалуй, самое логичное определение массы именно то, что предложено выше; и хотя нельзя запретить давать другие, менее удачные определения, пользоваться ими физики не будут.
Масса характеризует инертность тела, его стремление оставаться в неизменном состоянии (в инерциальной системе отсчета). Оказалось, что инертность зависит от скорости, и это должно учитываться в определении массы.
Почему вообще мы рассуждаем о том, как определять массу тела, логично или нелогично вводится это понятие?
Пожалуй, полезно лишний раз напомнить, что физические понятия не даются свыше, что они не есть нечто раз навсегда установленное, существующее само по себе.
Физики вводят свои понятия так, чтобы возможно лучше и логичнее описывать реальный мир, и новые открытия могут привести к тому, что будут вскрыты ранее неизвестные свойства, заставляющие по-новому взглянуть на физические понятия.
Именно так и получилось с массой.
В частности, хотя в классической физике можно было определять массу как коэффициент пропорциональности между силой и ускорением, оказалось, что это определение просто неправильно. Его можно использовать лишь при малых скоростях, когда справедлива механика Ньютона и масса практически не зависит от скорости.
В релятивистской механике вообще, как правило, ускорение не совпадает по направлению с вектором силы. Ускорение и сила одинаково направлены только в двух случаях: когда вектор силы совпадает по направлению с вектором скорости и если сила перпендикулярна скорости.
Во всех остальных случаях ускорение непараллельно силе.
Но и это не все. Даже в тех двух случаях, когда ускорение параллельно силе, тоже не приходится говорить о каком-то едином коэффициенте пропорциональности между силой и ускорением. Оказывается, что свернуть тело с «пути истинного» (ускорение перпендикулярно скорости) легче, чем повышать его скорость по величине (ускорение параллельно скорости).
Поэтому массу тела следует определять через импульс, используя наиболее общую форму второго закона механики. Любопытно, что сам Ньютон сформулировал второй закон именно так, как он приведен на первой странице этой главы, а не в его школьном виде
В общем новое понятие о массе тела может удивлять, но не должно обескураживать.
Однако механика Эйнштейна таит еще одну и главную неожиданность.
Определяя кинетическую энергию тела, Эйнштейн установил, что она равна
где E0 — какое-то постоянное число, которое легко можно найти.
Важнейший вывод специальной теории относительности — связь массы и энергии.По определению, кинетическая энергия Ekv, приобретенная телом, равна работе, затраченной внешними силами, чтобы разогнать покоящееся тело до скорости v. Соответственно, по самому своему смыслу кинетическая энергия покоящегося тела равна нулю. Если взглянуть на формулу, то ясно, что это требование выполняется, если Е0 = mc2.
Релятивистское выражение для кинетической энергии принимает теперь вид[82]:
Очевидно, что при малых скоростях (то есть — v/c << 1) релятивистское выражение для кинетической энергии должно переходить в классическое Eк = mv2/2.
Легко можно убедиться, что так и есть на самом деле[83].
С другой стороны, при скоростях, близких к c, кинетическая энергия (как и должно быть) стремится к бесконечности. Так что все, казалось бы, и понятно и хорошо.
Тем не менее формула настораживает. И вот почему. Работа, произведенная внешними силами над телом, всегда равна разности его полной энергии в конечном и начальном состоянии. Если вся работа тратится на сообщение телу кинетической энергии, то, естественно, именно кинетическая энергия определяет рост полной энергии Ek(v) = Eполн(v) – Eполн(0).
В классической механике полная энергия покоящегося тела в большом числе случаев была несущественна. При решении задач требовалось учитывать только те формы полной энергии, которые изменяются при движении тела (например, потенциальная энергия). И в каждой конкретной механической задаче можно за начало отсчета энергии выбрать энергию покоящегося тела — считать, что эта энергия равна нулю.
Но в релятивистской механике кинетическая энергия тела всегда — разность двух членов.
Оказывается, что начало отсчета энергии почему-то не равно нулю. Можно, пока что чисто формально, каждому покоящемуся телу приписать энергию Е0 = mc2.
Тогда Ek(v) = Ev – E0 = (M – m)c2, где
переменная масса тела. И можно говорить, что полная энергия покоящегося тела определяется отношением Е = mc2.
Спрашивается, что это — математическая случайность? Каприз уравнений? Чисто формальное обстоятельство? Имеет ли какой-либо физический смысл энергия mc2, или же это «энергия» в кавычках?
Логика теории привела Эйнштейна к заключению, что энергия покоя (Е = mc2) — совершенно реальная физическая величина. И в каждом теле действительно сконденсирована такая энергия. Но нужно признаться, что обтекаемые слова «логика теории» скрывают и смазывают поразительно смелую логику мышления Эйнштейна, передать которую мы не в состоянии.
Этот вывод сам Эйнштейн и считал важнейшим результатом своей теории. Вот что писал он в 1905 году:
«Масса тела является мерой содержания в нем энергии; если энергия меняется на ΔE, то в ту же сторону меняется и масса на величину ΔE/c2. Не исключено, что на телах, у которых содержание энергии может меняться в сильной степени (например, на солях радия), удастся произвести проверку теории».
Итак, каждой массе соответствует энергия, и обратно — любому виду энергии соответствует масса. Связь между ними определяется соотношением Е = mc2. Нагретое тело имеет бóльшую массу, чем оно же, но в холодном состоянии. Напротив, остывая, отдавая каким-либо способом энергию в окружающую среду, тело теряет массу. Всякий процесс с выделением энергии связан с потерей массы, и обратно, приобретая энергию, тело или система тел одновременно приобретает и массу.
Любое выделение или поглощение энергии связано с изменением массы. Например, строго говоря, масса покоя двух атомов водорода больше массы покоя двухатомной молекулы водорода, поскольку при соединении атомов в молекулы выделяется энергия, которая и уносит с собой массу:
H + H = H2 + Q; 2mн > mн2.
При любой химической реакции, идущей с выделением энергии (экзотермической), масса продуктов реакции меньше, чем масса реагирующих веществ.
Но вот перед нами эндотермическая реакция, идущая с поглощением энергии. Масса продуктов такой реакции оказывается больше, чем масса реагирующих веществ.
Самый простой пример эндотермической реакции — распад (диссоциация) молекулы водорода на атомы:
H2 + Q = H + H; mн2 < 2mн.
Конечно, никому не приходит в голову учитывать изменение массы при образовании молекулы водорода. Самые точные измерения не дают и намека на то, что такое изменение масс при обычных химических реакциях существует. Закон сохранения массы при химических реакциях великолепно оправдывается на опыте.
И наконец, взвешивая, скажем, кусок железа холодным и нагретым, невозможно заметить какую-либо разницу масс, хотя разница в энергии хорошо заметна.
Почему же, наблюдая при каком-то химическом (или любом другом) процессе заметную разницу в энергетических состояниях тел, мы не можем заметить изменения его массы?
Это оказывается довольно очевидным, если только вспомнить основное соотношение: Е = mc2. Стоит немного изменить сомножитель m (массу), чтобы значительно изменилась энергия E.
Масса значительно «дороже» энергии. Один грамм массы эквивалентен «астрономической» энергии E = 1 г · 9 · 1020 см2/сек2 = 9 · 1020 эргов. И обратно, один эрг энергии соответствует смехотворно малой массе 1/9 · 1020 грамма.
Энергия, соответствующая массе в один грамм, колоссальна. Такой кинетической энергией обладает ракета с массой примерно 1500 тонн, посланная со скоростью, достаточной для преодоления земного тяготения (11,2 км/сек).
Часто приходится читать: «Из-за большой затраты энергии во время футбольного матча спортсмен теряет в весе 2–4 килограмма». Это так и есть на самом деле. Но, вероятно, ни один из центрфорвардов не представляет, какое количество энергии теряет он вместе с массой. Если эту массу перевести в энергию, ею можно было бы выбить за пределы земного тяготения футбольный мяч с массой в 5 миллионов тонн.
А энергии, выделяемые (или затрачиваемые) в обычных химических реакциях, связаны с такими ничтожными изменениями массы, что наши приборы не смогли бы зарегистрировать эти исчезающие малые дефекты, даже если увеличить их в тысячу раз.
Точно так же теоретически безусловное увеличение массы нагретых тел практически сказывается в настолько далеком знаке после запятой, что является только чисто умозрительным курьезом.
Положение, однако, существенно меняется, если перейти к ядерным реакциям. Еще в 1905 году Эйнштейн предполагал, что процессы радиоактивности могут служить проверкой изменения массы. Тогда это было гипотезой. Сейчас теория подтверждена при изучении тех многочисленных ядерных реакций, что известны в наши дни.
Атомная энергия. Дефект массы.Энергия, освобождаемая или поглощаемая при ядерных реакциях, в сотни тысяч и миллионы раз превышает энергетический выход в обычных химических реакциях. Соответственно и изменения массы при ядерных реакциях в миллионы раз больше. Если, например, при реакции образования воды на каждые две грамм-молекулы водорода и одну грамм-молекулу кислорода (то есть на 18 граммов вещества) выделяется 136 тысяч малых калорий, 2H2 + O2 = 2H2O + 136 000 калорий, то при ядерной реакции образования ядер гелия из лития и водорода Li7 + H1 = 2He4 + Q на каждые 7 граммов ядер лития и 1 грамм ядер водорода освобождается примерно 5 · 109 калорий (5 миллиардов). При таких выходах энергии сравнительно легко можно наблюдать изменения массы[84].
Но и в ядерных реакциях изменение массы обычно не превышает долей процента. Подобно скупому рыцарю, природа тщательно хранит энергию, и даже при таких потрясениях, как ядерные взрывы, расходуются лишь малые доли запасов.
Для примера приведем точный энергетически-массовый баланс упомянутой реакции[85].
Li7 + H1 = 2He4 + Q.
В результате точных измерений определили, что масса одного атома равна:
лития (Li7) = 7,01818 · 1,66 · 10-24 г;
водорода (H1) = 1,00813 · 1,66 · 10-24 г и
гелия (He4) = 4,00389 · 1,66 · 10-24 г.
Подсчитаем массу реагирующих веществ и продуктов реакции:
Li7 + H1 → 2He4
7,01818 · 1,66 · 10-24 + 1,00813 · 1,66 · 10–24
2 · 4,0039 · 1,66 · 10-24 г. Сложив, получим: 8,02631 · 1,66 · 10-24 г → 8,00778 · 1,66 · 10-24 г.
Слева имеется избыток массы, равный 3,08 · 10–26 г. Освобождающаяся в реакции энергия (она в равенстве добавляется справа) должна соответствовать этой массе, и значит:
Q = Δmc2 = 3,08 · 10-26 г · 9 · 1020 см/сек = 2,72 · 10-5 эрга.
При этой реакции освобождающаяся энергия проявляется в виде кинетической энергии образовавшихся ядер гелия (α-частиц).
Экспериментальные данные великолепно подтверждают теоретические расчеты как в этой, так и в сотнях других ядерных реакций. Точно измерив массы всех атомных ядер, можно предвидеть, как будет протекать данная ядерная реакция — с выделением или с поглощением энергии; предсказать, какое именно количество энергии освободится или поглотится (свяжется).
В разобранном примере мы уверенно предсказали освобождение энергии, и приведенная реакция может быть использована как исключительно мощный источник энергии. На два реагирующих ядра атомов лития и водорода освобождается огромная энергия — 2,76 · 10-5 эрга!
В словах «огромная энергия» нет ни оговорки, ни насмешки. Эта энергия действительно колоссальна. Ведь речь идет только о двух атомах. При обычных химических реакциях на один элементарный акт освобождается в миллионы раз меньше энергии: 10-11–10-12 эрга. Чтобы осуществить ядерную реакцию, необходимо преодолеть ядерный энергетический барьер — затратить энергию. Правда, выигрыш энергии в результате реакции с лихвой возмещает затраты, но барьер существует, и его «надо брать». На графике на стр. 322 схематически представлена обычная энергетическая диаграмма для ядерных реакций.
Как видно, обычно освобождающаяся энергия (ΔE >> E) значительно больше энергии активации. К сожалению, масштабы схемы не позволяют отразить истинное соотношение этих энергий. На самом деле ΔE может превышать активационный барьер в десятки раз.
Если создать условия, когда часть энергии, выделяемой при реакции, используется на преодоление барьеров еще не прореагировавших атомов, возникает цепная ядерная реакция.
Не будем увлекаться и подробнее говорить о ядерных реакциях. Ограничимся только расшифровкой утверждения, что высокий активационный барьер для подавляющего большинства ядерных реакций совершенно естествен, и ничего другого нельзя было ожидать.
Если бы такой порог отсутствовал, то все элементы давным-давно прореагировали бы сами собой («свалились в энергетические ямы»), и ядерные реакции с выделением энергии были бы невозможны просто из-за отсутствия необходимого «сырья».
С другой стороны, очевидно, что в условиях, когда непрерывно идут ядерные реакции, нельзя и думать о возможности возникновения такого высокоорганизованного образования материи, как живые мыслящие существа. А потому следует радоваться, что на Земле ядерные реакции идут, как правило, только в искусственных условиях. Впрочем, как известно, есть и исключение — распад естественных радиоактивных веществ, с открытия которых и началась эра ядерной энергии.
Но в звездах ядерные реакции протекают исключительно бурно.
Чтобы представить невероятную энергию, вырабатываемую в звездных термоядерных «установках», достаточно привести только одну цифру.
Наше солнышко — середняк среди звезд, типичная посредственность, но энергия, которую оно отдает в каждую секунду, эквивалентна приблизительно 5 миллионам тонн массы[86]. На долю Земли в секунду приходится энергия, эквивалентная примерно 2 килограммам массы. За счет этой энергии за сутки Земля «толстеет» приблизительно на 170 тонн[87].
Пожалуй, даже по тем отрывочным примерам, что были приведены, можно представить значение теории относительности в физике наших дней.
Заключение,
в котором автор прощается с читателем
Если читатель последовательно и добросовестно добрался до этих строк, то автор может только радоваться. Полагаю, что это чувство (но по другой причине) разделяет и читатель. Поэтому не стоит особенно задерживаться с окончанием.
О значении теории относительности вряд ли стоит распространяться.
Вряд ли также следует объяснять, что почти вся современная физика в большей или меньшей степени связана с релятивистской теорией, а ядерная физика и астрофизика вообще немыслимы без теории Эйнштейна.
Подобные декларативные рассуждения всегда неубедительны. К тому же, если все предыдущее не убеждает читателя и не разъясняет, что означает теория Эйнштейна для физики нашего времени, наивно надеяться, что еще одна-две страницы спасут положение.
Если же это было показано, то дальнейшие разглагольствования тем более излишни.
Что касается экспериментальных подтверждений теории, то, бесспорно, было бы полезно рассмотреть несколько примеров, проследить, как релятивистская теория объясняет, например, аберрацию света.
К сожалению, строгий анализ опытов невозможен без основательного использования математики, а увеличивать число иллюстраций вряд ли имеет смысл.
Единственное, что нужно сделать, — это четко выделить одно общее утверждение.
За 55 лет, прошедших со дня появления первой статьи Эйнштейна, не было найдено ни одного экспериментального факта, противоречащего теории.
Напротив, весь комплекс опытных данных великолепно объясняется теорией относительности.
Причем (и это весьма характерно), используя теорию Эйнштейна, много раз удавалось предсказывать новые, еще неизвестные и неожиданные эффекты, которые действительно наблюдались в дальнейшем.
Наиболее замечательный пример такого предвидения — эквивалентность массы и энергии. Вот и все.
Но прежде чем поставить точку, мне хотелось бы только заметить, что, даже независимо от своего чисто научного значения, работы Эйнштейна, в которых поразительные физические идеи оформлены с безупречным и холодным изяществом математика, поражают той внутренней логикой и красотой, что отличает совершенные произведения искусства.
По существу, наша беседа окончена. Оставшуюся последнюю главу стоило включить, лишь учитывая капризы моды. Впрочем, ее выводы можно рассматривать как забавный пример законов релятивистской механики, и это также оправдывает ее существование.
Глава XVI,
последняя и отчасти еретическая. В ней предаются анафеме фотонные ракеты, а также выясняются взгляды автора на мечту, после чего он, возможно, быстрее расстанется с многотерпеливым читателем
Фотонные грезы
Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку… Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и, наконец, занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом через эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обвораживают всех приятностью обращения… и далее, наконец, бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать.
ГогольКак ни печально, я вынужден писать о фотонных ракетах.
В наши дни в книге о теории относительности несколько неудобно умолчать об этом.
Пожалуй, именно идея создания фотонных ракет, ракет, с помощью которых, как утверждают, можно достигнуть самых далеких звезд вселенной, наиболее поражает воображение нашего поколения, успешно конкурируя с рассказами о будущем кибернетики или же о перспективах овладения термоядерной энергией.
Вступление, поясняющее, о чем идет разговор, и некие общие замечания.Речь идет ни более и ни менее, как о ракетных кораблях со скоростями относительно стартовой площадки, близкими к скорости света.
А потому неотвратимо и неизбежно призывается теория относительности, ибо законы движения подобных гипотетических кораблей космоса — это законы релятивистской механики.
И, говоря о фотонных ракетах, всегда апеллируют к теории Эйнштейна, подобно тому как часто ничем себя не проявившие люди ссылаются на рекомендации именитых знакомых.
Прежде чем выяснить, действительно ли в данном случае можно говорить о каких-то «протекциях», или же мы сталкиваемся с довольно обычными в подобных ситуациях спекуляциями, попробуем решить небольшой психологический ребус.
Чем вызван такой невероятный сенсационный успех фотонных ракет — завоевателей вселенной? Тот успех, о котором выразительно свидетельствуют научно-фантастические творения, авторы которых «с характерным для них отсутствием воображения» (как мимоходом съязвил в давние времена Кельвин) непринужденно заполнили Галактику самыми разнообразными звездолетами.
Основных причин, пожалуй, две.
Во-первых (и это главное), сама по себе идея покорения неизмеримых пространств вселенной исключительно привлекательна.
А во-вторых, эта идея особенно притягательна в наши дни. Когда преодолено земное тяготение и созданы искусственные спутники Солнца, когда можно думать, что в ближайшие годы будет предпринята попытка высадиться на Луне, когда астронавтика превращается в практическую и актуальную область науки, — почти невозможно примириться с мыслью, что никогда, ни при каких достижениях техники человечество не достигнет далеких звезд вселенной.
Честно сообщается конечный итог всей главы, который и обосновывается далее на многих страницах.К сожалению, мечта, как бы она ни была прекрасна, не более, чем мечта. Но… у нас нет никаких реальных оснований думать, что человечество сможет создать ракеты, которые свяжут нас с иными звездными мирами и даже с иными галактиками.
Мне самому очень неприятен этот вывод, и очень хотелось бы знать, что есть какие-то конкретные указания, как и каким путем можно достигнуть самых далеких звезд. Но, к несчастью, разговоры о фотонных ракетах нельзя расценивать иначе, как весьма привлекательную, но тем не менее весьма неосновательную сенсацию.
Постараюсь объективно изложить все «за» и «против», и читатель сможет судить, справедливо ли столь категорическое и малоутешительное утверждение.
Какое же содержание скрыто за неожиданным и эффективным сочетанием слов — «фотонная ракета»?
Как предполагают, фотонные корабли будут набирать скорость в результате отдачи мощного потока квантов электромагнитного излучения — фотонов. Направленное электромагнитное излучение уносит импульс, и поскольку суммарный импульс замкнутой системы — «ракета + излучение» — должен сохраняться, ракета приобретает равный по величине и противоположно направленный импульс.
Во всем сказанном нет ничего нового по сравнению с обычным объяснением принципа ракетного движения. Несколько необычен лишь способ — реактивная отдача при помощи фотонов. Для будущих звездолетов избран столь экстравагантный двигатель потому, что наиболее выгодный способ отдачи горючего с борта ракеты такой, когда реактивная струя имеет относительно корабля максимально возможную скорость — скорость света[88]. Однако подобный способ отдачи подразумевает выброс массы в виде квантов электромагнитного излучения — фотонов, так как достигнуть скорости света можно, только если масса покоя разгоняемой частицы равна нулю![89]
Кстати, столь же успешно, как о фотонных, можно рассуждать об электронных, протонных и мезонных ракетах. Если, скажем, у электронов отдачи скорость относительно ракеты очень близка к скорости света, то подобный реактивный двигатель очень незначительно проигрывает по сравнению с фотонным в отношении импульса, получаемого ракетой на единицу выброшенной массы.
А фантазируя о техническом осуществлении двигателя, способного разгонять ракету до световых скоростей, пожалуй, легче представить себе отдачу импульса при помощи электронов. Впрочем, выбор объекта фантазии — дело вкуса.
Прежде всего уточним, почему вообще световые скорости непременно сопутствуют мечтам о звездных полетах.
Ближайшая к Солнцу звезда (она так и названа «Ближайшая Центавра») отделена от нас куском пространства в 4,2 светового года. Соответственно время, необходимое для путешествия со скоростью V, равно
t = 4,2 · c/v.
Поэтому даже для полета к ближайшей из звезд ракета должна достигнуть относительно солнечной системы скоростей, сравнимых со скоростью света. Иначе экспедиция продлится десятки тысяч лет. Например, при весьма приличной для «каботажного» межпланетного путешествия скорости 100 километров в секунду добираться к созвездию Центавра пришлось бы примерно 12 600 лет. Подобные сроки не очень удобны, и потому, если уж лететь к звездам (хотя бы и в мечтах), необходимы ракеты со скоростями, более или менее близкими к скорости света.
Итак, прикинем, что необходимо для путешествия. Ограничимся ближайшими созвездиями: скажем, для начала направимся к самому близкому — созвездию Центавра.
Субрелятивистские ракеты и путешествия к ближайшим созвездиям — фантастика, хотя и беспочвенная, но относительно допустимая.Если корабль смог бы развить скорость 100 тысяч километров в секунду, весь полет занял бы 28–30 лет. Время не маленькое, но в общем приемлемое. Поэтому удовлетворимся пока такой «медленной» ракетой[90].
Прежде всего необходимо представить полезную массу ракеты — иначе говоря, всю массу за вычетом горючего. Естественно, здесь есть богатый материал для полета мысли, однако, скажем, 100 тысяч тонн — наименьшее значение, которое можно выбрать (ибо даже в фантазии надо сохранять совесть).
100 тысяч тонн! На первый взгляд цифра громадная. Стоит, однако, вспомнить, что водоизмещение крупнейших океанских кораблей достигает 50–80 тысяч тонн. Вряд ли размеры звездолета можно мыслить меньше размеров линкора, хотя бы потому, что, как мы сейчас убедимся, необходим колоссальный запас горючего, а его надо же где-то хранить. А корпус? Корпус должен быть неизмеримо прочнее, чем у линкора, поскольку самые тяжелые артиллерийские дуэли представляются детской перестрелкой из рогаток рядом с той ужасной непрерывной бомбардировкой, которая ждет ракету в пути.
Пытаясь представить себе массу ракеты, можно, конечно, забыть об оборудовании, о научной аппаратуре, о всех сложнейших приборах управления полетом, но нельзя сбрасывать со счетов сам реактивный двигатель. Необычайно мощный, основанный, безусловно, на использовании ядерного горючего, а следовательно, окруженный исключительной защитой, он один должен весить (даже в мечтах) по меньшей мере десятки тысяч тонн.
Короче, самые отчаянные энтузиасты должны согласиться, что, считая полезную массу ракеты в 100 тысяч тонн (105), мы еще занижаем ее возможное значение в десятки раз. И если в дальнейшем мы останемся верны этой цифре, то единственно потому, что вся беспочвенность идеи очень хорошо видна даже в этом случае.
Пойдем на уступки мечтателям и, проявив известную резвость мысли, вообразим, что наш корпус успешно выдерживает соударения с космической пылью и защищает от космического излучения. Вообще-то говоря, никакой ультракорпус не поможет, но допустим, что с этой задачей мы справились.
По весьма уважительным причинам истребляется межзвездная среда.Дело в том, что стоит лишь задуматься о двигателе, и все сразу отходит на задний план. (Впрочем, вероятно, справедлива и «обратная теорема»: «если заинтересоваться проблемой защиты, то можно уже не думать о двигателе».)
Проблема № 1 — проблема горючего.
Любой вид «химического» топлива должен быть отброшен сразу и бесповоротно. Действительно, при скорости 100 тысяч километров в секунду каждый килограмм ракеты имеет кинетическую энергию 5,4 · 1014 килограммометров. За эту энергию нужно «платить». Поэтому, даже если считать, что кпд двигателя равен единице, и пренебречь действием внешних сил, для разгона одного килограмма массы необходимо сжечь столько топлива, чтобы освободилось 5,4 · 1022 эргов[91].
Мерить это число земными масштабами несколько затруднительно. Объемы обычных горючих, необходимые для получения такой энергии, исчисляются десятками, сотнями и тысячами кубических километров. Поэтому источником энергии могут служить только ядерные реакции — ядерное горючее.
На первый взгляд ядерная энергия спасает положение. Действительно, на каждый килограмм разгоняемой массы необходимо «сжечь» — перевести в кванты электромагнитного излучения — только 60 граммов горючего вещества.
Процессы, при которых все реагирующее вещество переходит в излучение, известны. Это реакции аннигиляции элементарных частиц с соответствующими античастицами. Например, при реакции «электрон — позитрон» две реагирующие частицы полностью «сгорают», и вместо них образуются два гамма-кванта.
Однако даже при самом пылком воображении приходится признать, что нет ни малейших надежд на использование таких реакций в технике хотя бы потому, что абсолютно невозможно представить резервуар для горючего антивещества. Античастицы моментально вступят в реакцию со стенками, после чего ракетный корабль с экипажем незамедлительно отправится в «надзвездные» миры.
Утешительные соображения по поводу «антигорючего»…Можно ли думать, что весьма значительную массу антивещества удастся удержать в ловушке при помощи какого-то сверхсильного электромагнитного поля (в так называемой «магнитной бутылке») таким образом, что горючее не вступит в какой-либо контакт со стенками?
Надеяться можно вообще на все что угодно. Например, в средние века примерно столь же обоснованно полагали, что в обычной (немагнитной) бутылке можно запечатать дьявола.
Впрочем, пока мы летим «только» к созвездию Центавра, скрепя сердце можно примириться с обычным ядерным горючим.
Можно рассчитывать или на уже освоенные реакции распада тяжелых ядер, или же на термоядерные реакции синтеза легких ядер, энергетическую базу будущего. Если иметь в виду такие реальные ядерные топлива, то, чтобы разогнать 1 килограмм массы до скорости 100 тысяч километров в секунду, потребуется всего лишь несколько килограммов ядерного горючего[92], допустим 10 килограммов. Вспоминая, что в процессе путешествия корабль должен минимум два раза набирать такую скорость (при отлете с Земли и при отправлении в обратный путь к Земле) и два раза гасить ее (при подлетах к звезде и к Земле), получаем, что на каждый килограмм полезной массы ракеты необходимо взять как минимум 10 тонн ядерного горючего.
Итак, если полезная масса 105 тонн, стартовая масса ракеты как минимум — 109 тонн. Примерно столько весит металлический астероид средних размеров — объемом в 1/10 кубического километра.
И некоторые обнадеживающие цифры.Оценим теперь энергию реактивной струи, необходимой для разгона ракеты с ускорением 1 м/сек2.
Если считать, что струя состоит из частиц, имеющих массу покоя, то при разумных скоростях истечения (порядка 100 тысяч км/сек) кинетическая энергия струи, выбрасываемой за секунду, определится маловразумительным числом 1027 эргов.
Фотонный двигатель не спасает положения. Мощность фотонной струи, обеспечивающей нужную тягу, — 3 · 1027 эрг/сек.
На Земле невозможно найти процессы, при которых за секунду выделяется такая энергия. Весь земной шар за одну секунду получает от Солнца примерно в 550 раз меньшую энергию. Нужную мощность можно развить, полностью «сжигая» 1100 килограммов массы за одну секунду, или же, если думать об урановом горючем, примерно 1300 тонн урана.
Иначе говоря, получить эту энергию можно, взорвав около миллиона атомных бомб.
Причем, вспомните, при расчетах все время выбирались наиболее выгодные нам цифры — в частности, взято очень маленькое ускорение. Но полученное число так неправдоподобно огромно, что можно позволить себе широкий купеческий жест — уменьшить его в 100, в 1000, если угодно, в 10 тысяч раз, ибо одинаково невозможно представить ракетный двигатель на ядерном горючем с мощностью в 1027 эргов за секунду или же с мощностью в 1023 эргов за секунду. В обоих случаях вырабатываемая энергия мгновенно испепелит межзвездный корабль.
Можно, конечно, мечтать о создании материалов, способных успешно выдерживать чудовищные температуры и давления, возникающие в двигателе, но весь опыт физики, все наши представления о строении материи заставляют думать, что подобные сказочные вещества совершенно нереальны. К материалу двигателя предъявляются требования куда более серьезные, чем к корпусу ракеты. А мы не можем себе представить даже, как обезопасить корабль от столкновений с метеорными частицами.
Короче, можно заключить, что всю идею следует уверенно и безоговорочно переправить на доработку в удалое ведомство научной фантастики.
И все же такие мечты не более как сухая статистическая опись рядом с рассуждениями о ракетах, скорость которых максимально близка к скорости света.
А обычно, когда пишут о фотонных звездолетах, подразумевают не те «скромные» субрелятивистские ракеты, о которых говорилось выше. Нет! Имеют в виду межзвездные корабли с почти световыми скоростями. Естественно заинтересоваться: зачем? Почему бы не ограничиться субрелятивистскими ракетами?
Релятивистские звездолеты со скоростями, почти равными световой. Фантастика за гранью возможного.Ответ непосредственно связан с размерами вселенной, во-первых, и с парадоксом часов, во-вторых.
Размеры нашей Галактики порядка 105 световых лет. Иные галактики отделены от нас расстояниями в сотни тысяч и миллионы световых лет. Поэтому, казалось бы, что, даже получив ракеты со скоростями, сколь угодно близкими к максимально возможной скорости — скорости света, при любых мыслимых и немыслимых достижениях техники человечество обречено оставаться в пределах ничтожного островка вселенной радиусом в несколько десятков световых лет (1013–1014 километров).
В очень обтекаемой форме говорится о протекании времени на релятивистской ракете.Но как будто теория относительности открывает совершенно новые горизонты. (Хотя, вообще говоря, задачу о ходе времени на ускоренно движущейся ракете нельзя решать при помощи одной только специальной теории относительности.) Обычно полагают, что с хорошей степенью точности в каждый данный момент связь ракетного и земного времени определяется формулой Лоренца[93]:
Но тогда, стоит только разогнать ракету до скорости, близкой к скорости света, и можно выиграть сколь угодно много времени по сравнению со временем, протекшим на Земле. Появляется принципиальная возможность достигнуть далеких уголков вселенной.
Правда, пока ракета разгоняется, выигрыш во времени не столь велик. Однако при постоянном собственном ускорении порядка ускорения земного тяготения можно за несколько собственных лет разогнаться, например, до скорости
v = (1 – (10–8/2))c,
которой можно облететь Галактику за разумное собственное время[94].
Так что с этой стороны все более или менее в порядке. Конечно, если увеличить радиус облета еще раз в 100, окажется, что даже по собственному времени ракеты путешествие потребует такого времени разгона, что не хватит человеческой жизни. Но в конце концов удовлетворимся исследованием нашей Галактики.
Естественно, вернувшись на Землю, где за время путешествия прошли десятки тысяч лет, путешественник найдет совершенно новое человечество, но величие задачи, безусловно, окупает жертвы, связанные с полетом «в вечность».
Дело за малым — достигнуть скоростей, максимально близких к скорости света. Последнее представляется столь же (если не менее) вероятным, как, скажем, создание живого человека путем непосредственного монтажа из атомов периодической системы.
Если даже вообразить человечество, уже снабженное субрелятивистскими ракетами, то от ракет, позволяющих облететь Галактику, его все еще будет отделять неизмеримое расстояние.
Это обусловлено спецификой движения тел вблизи пороговой скорости — скорости света.
По мере приближения к скорости света масса ракеты стремится к бесконечности, и, чтобы ее ускорять, требуется все большая сила. Поэтому расход горючего катастрофически возрастет на несколько порядков, превышая те «скромные» цифры, что были получены для субрелятивистских ракет. Что же касается защиты от столкновения с космической пылью при скоростях, близких к световой, — это вообще совершенно безнадежная затея.
Допускается все мыслимое и немыслимое.Но… допустим, что проблема защиты как-то решена.
Допустим, что каким-то чудесным способом удалось сотворить двигатель, способный безболезненно перерабатывать чудовищную энергию, необходимую для ускорения корабля при скоростях, близких к световой.
Допустим, что реактивная отдача осуществляется самым выгодным способом — квантами света.
Допустим, наконец, что получено удивительное ядерное «супергорючее» с энергетическим выходом — единица (вся реагирующая масса переходит в излучение).
И тогда, если станет реальной вся эта блистательная феерия невероятных гипотез… Тогда оказывается, что для разгона ракеты «только» до скорости 0,9999C необходимо 200 килограммов горючего на каждый килограмм массы покоя ракеты в конечной стадии пути. Учитывая, что в каждом путешествии минимум 2 ускорения и 2 замедления, немедленно получаем, что стартовая масса ракеты примерно в 109 (!) раз превосходит ее полезную массу. Это число говорит само за себя.
В качестве курьеза можно только отметить, что при скорости
необходимой для облета Галактики в разумное собственное время, стартовая масса ракеты относится к полезной уже как 1017 (!!!). По-прежнему считая, что полезная масса — 105 тонн (конечно, смехотворно малое значение!), получаем приятную общую массу 1022 тонн. Для справки: масса нашей грешной планеты — 6 · 1021 тонн[95].
Развивать возражения вряд ли целесообразно.
Мне представляется, что для объективного человека ситуация предельно ясна, а фотонных энтузиастов (кстати, мне искренне жаль, что я не могу принадлежать к их числу) этот небольшой скептический экскурс все равно не убедит. Естественно, можно предложить десятки «проектов» хранения антивещества, защиты от космической пыли и, наконец, сотни способов так посылать фотонную струю, чтобы экипаж и корабль не превратились бы в элементарные частицы в первые же мгновения работы двигателя.
Однако можно ответственно утверждать, что в наше время и с нашим уровнем знаний предлагать какие-либо технические идеи совершенно бессмысленно. Кстати, все уже предложенные проекты таковы, что использовать их даже в фантастических романах морально неудобно. Фантазируя, можно оперировать неведомым, можно опираться на неведомое, но нельзя предлагать проекты, нацело противоречащие тем законам физики, которые, как мы можем быть уверены, пусть в приближенной форме, но останутся навсегда.
Позволю себе пояснить эту мысль на примере курьезного проекта «магнитной бутылки», о котором уже вскользь упоминалось и о котором часто приходится читать.
Предлагается запасать антивещество в виде позитронов (вторая половина горючего — электроны) и хранить их в замечательной «магнитной бутылке»[96]. Не стоит сейчас думать о всей необходимой массе горючего, бог с ней. Но совершенно немыслимо допустить, что даже тонну, даже килограмм позитронов можно удержать каким-либо магнитным полем. Электростатическое отталкивание подобного числа позитронов таково, что необходимые для мало-мальски сносной фантазии поля на десятки порядков превышают те, что встречаются в природе (или получены искусственно). Трудно даже по заказу предложить более нелепую идею, но…
Здесь автор окончательно теряет спокойствие.Иногда, чтобы улучшить положение, говорят, что можно перемешать этакие изолированные друг от друга группки позитронов и электронов на манер расположения ионов кристаллической решетки ионного кристалла. Этим рассчитывают спасти положение. Не стоит приводить расчеты, позволяющие оценить «революционное» значение такой технической новинки, но, честно говоря, все это вместе взятое весьма напоминает заклинания шаманов. Столь же основательно можно рассчитывать, что со временем люди окажутся способны своим дуновением останавливать железнодорожный состав (это не гипербола!).
Вообще-то если уж мечтать о хранении антивещества, то мечтать широко. Можно, например, представить, что удалось построить антиатомы всех элементов периодической системы. Из этих антиатомов изготовить антиметалл (скажем, антижелезо), а вот этот антиметалл подвесить в электромагнитном поле[97]. Для этого нужны не слишком большие поля. Далее можно заметить, что найден способ безопасно разделять антиатомы на позитроны и антипротоны. Далее, конечно, позитроны реагируют с электронами (это мы тоже устроили). Правда, остались антипротоны. Их также необходимо превратить в кванты. Ну что же, допустим (как говорится, гулять так гулять), что мы научились так осуществлять реакцию протон — антипротон, что реагирующие частицы всегда переходят в кванты.
Вся эта фантасмагория обладает одним несомненным достоинством по сравнению, скажем, с проектом хранения позитронов.
В ней нет элементов, грубо противоречащих здравому смыслу. Нет такого, о чем можно было бы сказать: это элементарная нелепость.
Я весьма горжусь своим проектом и полагаю, что он достоин занять свое место рядом с прочими.
К сожалению, я не в состоянии предложить столь же плодотворный проект двигателя для ракеты с массой хотя бы в 105 тонн, позволяющего межзвездному кораблю разгоняться до субсветовых скоростей, не переходя при этом в парообразное состояние.
Возможно, в противном случае я бы также оказался в фотонном лагере.
Если же говорить серьезно и затронуть психологическую сторону вопроса, то можно сказать, что идея фотонных ракет — свидетельство не столько смелости, сколько ограниченности человеческого воображения. Обычно даже в фантазиях люди не рискуют допускать что-либо неизвестное технике своего времени и потому идут по самому торному и самому неверному пути — чудовищному гипертрофированию известных способов.
Эту тенденцию можно заметить, в частности, в мифах и сказках. Гелиос — бог Солнца у древних греков — мчится по небу на колеснице, запряженной чудесными конями. Кони чудесны, замечательны, скорость их бега колоссальна, иногда им для усиления придают крылья. Но «свежей технической» идеи в подобных сказаниях нет. Просто в олимпийской конюшне боги могут получить очень хороших лошадей.
Историко-мифологическое отступление.Греки мечтали об удивительных лошадях и колесницах, не подозревая о поразительной силе пара.
В век паровых машин воображали потрясающие паровые повозки, не представляя себе двигатель внутреннего сгорания.
В древних сказаниях Луны достигали на спине чудовищных птиц, а в XIX веке — веке воздушных шаров — Эдгар По отправил туда героев на воздушном шаре.
Начало XX века заполнено фантазиями с «электропрофилем», а атомная энергия оставалась в тени.
В наше время — время ракет и ядерной энергии — естественно и неизбежно «возникли» фотонные корабли. И вероятно, снова повторится старая история.
Если звезды и будут когда-либо достигнуты, то путешествие осуществится каким-то совершенно не представляемым для нас, невероятным способом.
А ракеты не стоит нагружать сверх меры. Исследование солнечной системы только начинается, и в этой области они хозяева. Что же касается звезд и галактик…
Несколько веков назад француз Сирано де Бержерак выпустил книгу о полете на Луну. Среди доброго десятка очаровательно нелепых способов путешествия, непринужденно предложенных автором, среди всего этого забавного бреда по странной случайности проскользнула идея улететь на Луну, используя ракеты для фейерверков. Надо заметить, к чести Сирано, что он, по-видимому, не очень задумывался над тем, что, собственно, выходит из-под его пера, и ко всем своим проектам относился одинаково несерьезно. Однако ракетный двигатель, причем использующий довольно современное пороховое горючее, был им предложен. Угадал он случайно, но угадал…
Наше положение хуже. Можно утверждать, что фотонные ракеты на ядерном топливе — заведомо неправильный путь, даже если речь идет о полете к ближайшей звездной системе.
Естественно, я не могу предложить ничего более привлекательного, и вообще затруднительно обсуждать невообразимое, но фотонные ракеты к звездам не полетят.
Некоторые извинения.В заключение позвольте ответить на вопрос, который мог возникнуть при чтении этих страниц. Стоит ли так резко нападать на фотонные ракеты — ведь мечта о полете к звездам действительно замечательна?
Мечта замечательна, но мечтать надо трезво. Я верю, что все писавшие о фотонных кораблях руководствовались лучшими побуждениями, но на деле они дезориентировали тех, кто не может разобраться самостоятельно и должен верить на слово. И в результате приходится читать, что полет к звездам — задача ближайших десятилетий; или же встретить серьезное обсуждение «проблемы», как лучше строить двигатель — на квантах относительно высокой частоты и энергии (квантах света) или же использовать кванты электромагнитного поля с малой энергией?!
Дело не только в том, что все это отвлекает внимание от нерешенных, но реальных задач. Это лишь одна сторона вопроса. В конце концов смешно было бы запрещать фантазировать. А если кто-либо хочет лететь к звездам, такие благородные стремления можно только приветствовать.
Но не нужно дискредитировать физику, создавая впечатление, что пути принципиально ясны и чуть ли не настало время подумать об инженерных проектах. Науке не требуется неосновательная реклама.
Осуществление полета к звездам, с точки зрения наших знаний, совершенно невероятно. Невероятно так же, как, скажем, для Галилея было бы невероятно телевидение или радиопередача.
И резюме.Представьте, что некоего физика, скажем времен Галилея, спросили: можно ли рассчитывать на возможность передачи изображения на расстояния в сотни километров? Он бы, естественно, ответил: «Все данные физики говорят — нет, нельзя». Для этого нужно чудо. Необходимо открытие, изменяющее все наши представления о мире. Нужно нечто непредставляемое, противоречащее, конечно, не законам природы, а нашим знаниям этих законов.
Точно так же для осуществления полета к звездам необходим основательный комплекс чудес такого рода. Нелепо и наивно гадать, когда будут и будут ли сделаны открытия, позволяющие хотя бы надеяться на полеты в глубь вселенной, так же как нелепо гадать о характере этих открытий.
Можно только верить, что, совершив уже столько чудес, человечество совершит и это. Но ясно, что никакие ядерные горючие, никакие супер-, ультра-, экстраматериалы, никакие фотонные ракеты не могут решить проблему.
Нужно нечто Неведомое.
Такое же Неведомое, как атомная электростанция для питекантропов.
А наивная, неразумная, детская и неистребимая вера в это Неведомое не оставляет меня так же, как, вероятно, и любого человека нашего века.
Оглавление
Введение, в котором автор откровенничает с благосклонным читателем, а также пробует весьма назидательно объяснить, почему и зачем он написал все, что следует далее … 3
Глава I, всецело посвященная тому, кто начинал.
Галилей. Принцип относительности … 9
Глава II, содержащая очень краткие сведения о жизни и характере Ньютона. В заключение читатель может узнать, что такое метод принципов.
Ньютон. Механика (метод) … 34
Глава III, самая длинная во всей книге и, вероятно, самая трудная; в ней обсуждается теория измерений в физике.
Ньютон. Механика (анализ основных понятий: длина, время) … 42
Глава IV, недостатки которой отчасти искупает эпиграф. В этой главе довольно сухо и многословно объясняется что такое система отсчета, а также неоднократно повторяется очень существенная мысль: «Пока не указана система отсчета, всякие разговоры о механическом движении совершенно лишены содержания».
Ньютон. Механика (анализ основных понятий: движение) … 84
Глава V, в которой автор сначала рассуждает, а под конец удивляется; причем призывает благосклонного читателя последовать его примеру.
Ньютон. Механика (анализ основных понятий: система отсчета) … 99
Глава VI, и, как надеется автор, довольно интересная.
Ньютон. Тяготение … 131
Глава VII, хотя и весьма расплывчатая, но тем не менее в конце, после долгих отступлений, объясняет, почему именно гипотеза эфира стала особенно привлекательной для физиков.
Свет, эфир (Ньютон, Гюйгенс) … 151
Глава VIII, посвященная обоснованию волновой теории света. Терпеливый читатель, возможно, получит удовольствие, познакомившись с очень тонкими и далеко идущими выводами, которые были сделаны при исследовании неожиданного эффекта двойного лучепреломления.
Эфир (продолжение) … 166
Глава IX, прочитав которую читатель, возможно, сможет чуть лучше представить, как «просто» заниматься физикой.
Рождение неувлекаемого эфира … 180
Глава X, главное достоинство которой — довольно подробный рассказ об эффекте Допплера и опыте Майкельсона, а основной недостаток — обилие рассуждений. В этой главе читатель расстается, наконец, с эфиром, чтобы перейти к теории относительности.
Неувлекаемый эфир, его расцвет и гибель … 203
Глава XI, в которой автор пытается запутать терпеливого читателя, убеждая его в противоречивости постулатов Эйнштейна. В итоге выясняется, что постулаты Эйнштейна несовместимы с классической механикой, и автор призывает читателя разделить его восхищенное удивление Эйнштейном. Первая половина главы, возможно, несколько трудна, но утешение можно найти в том, что самое главное содержится как раз во второй половине.
Эйнштейн (основные постулаты) … 238
Глава XII, в которой существенно обобщается постулат о постоянстве скорости света, после чего обсуждаются понятия времени и одновременности в теории относительности.
Эйнштейн (одновременность, время) … 261
Глава XIII, очень сухо сообщающая читателю, что такое «интервал» и преобразование Лоренца. Прочитав эту главу до конца, можно также узнать, как своеобразна в теории Эйнштейна формула для сложения скоростей.
Эйнштейн («удивительные» выводы теории) … 281
Глава XIV, в которой обсуждаются два вывода теории относительности, вызывающие обычно максимальное недоумение.
Эйнштейн (время, длина) … 291
Глава XV, все недостатки которой должно искупить содержание.
Эйнштейн. Законы механики (масса и энергия) … 308
Заключение, в котором автор прощается с читателем … 324
Глава XVI, последняя и отчасти еретическая. В ней предаются анафеме фотонные ракеты, а также выясняются взгляды автора на мечту, после чего он, возможно, быстрее расстанется с многотерпеливым читателем.
Фотонные грезы … 326
Смилга Вольдемар Петрович
Читатели и литераторы уже не впервые встречаются с этим автором.
На страницах различных журналов и сборников кандидат физико-математических наук, доцент В. Смилга много раз публиковал свои статьи о достижениях науки.
Однако заявил он о своем литературном призвании сразу книгой «Очевидное? Нет, еще неизведанное…».
В ней рассказывалось, как человеческая мысль через века и события подходила к теории относительности и овладела ею в начале нашего столетия.
Это второе издание книги. Выпущенная впервые у нас в издательстве в 1961 году, она затем была переведена на многие языки мира и издана в ряде стран Европы и Азии.
Следующая книга В. Смилги — «В погоне за красотой» — посвящена истории доказательства Пятого постулата Евклида. Она описывает драматизм ситуаций и трагичность судеб многих математиков, бравшихся за решение проблемы параллельных прямых.
Книга вышла также в нашем издательстве в 1965 году.
Примечания
1
Mare incognitum — Море неизвестности (Неведомое море).
(обратно)2
«Портуланы» и «периплы» — компасные морские карты и лоции.
(обратно)3
Теофраст Бомбаст Парацельс — виднейший врач и химик средневековья.
(обратно)4
Вообще говоря, падающий предмет отклоняется к юго-востоку, но отклонение на юг очень мало по сравнению с отклонением на восток.
(обратно)5
Можно считать, правда, что Галилей и здесь отчасти предвосхитил Ньютона.
(обратно)6
Равными называются отрезки, которые можно совместить между собой путем процессов движения. Свойства движения, в свою очередь, определяются аксиомами геометрии. Возможность деления любого отрезка на два, а следовательно, и на любое число вида 2п равных отрезков доказывается при помощи других аксиом геометрии.
(обратно)7
Для длины, определенной таким образом, можно доказать следующие важные теоремы:
Теорема 1. Длина всякого отрезка существует и определяется единственным образом для данного выбора масштабного отрезка.
Теорема 2. Длины равных отрезков равны.
Теорема 3. Если отрезок AC есть сумма отрезков AB и BC, то его длина равна сумме длин этих отрезков.
Теорема 4. Длина масштабного отрезка равна единице.
(обратно)8
Впрочем, если рассуждать совсем строго, в определении длины осталось еще очень много пробелов. Отметим только один, и весьма существенный.
Вы, возможно, заметили, что в процессе определения длины вкралось понятие движения. Без движения нельзя определить, равны ли между собой два отрезка. Нельзя и отложить масштаб.
Геометры берут движение за основное понятие и определяют его свойства, вводя несколько аксиом (групп аксиом движения). Но это слишком сложно. И вообще их «математическое» движение есть какое-то «малопонятное» преобразование математического пространства самого в себя. А мы имеем дело с обыкновенным физическим движением реальных физических тел, и хотелось бы определить его попроще, пусть даже не идеально строго.
Но эту задачу не так просто решить. Если длина определяется при помощи движения, то, чтобы определение ее было безупречным, следует движение определять, не используя понятия длины. Не могу утверждать уверенно, но создается впечатление, что понятие движения невозможно строго определить, не используя понятия длины.
Действительно: «Движением данного тела относительно каких-либо других тел называется изменение его положения относительно этих тел». Другого определения не видно.
Точный же анализ слов «изменение положения» нельзя проделать, не владея понятием длины. Но поскольку при определении длины используется понятие движения, а при определении понятия движения понятие длины — налицо порочный круг.
Математик не допустил бы подобной ошибки. Но мы не будем обращать внимание на такие тонкости. Хотя, конечно, при этом остается чувство известной неудовлетворенности.
(обратно)9
То есть та геометрия, формулы которой мы используем при расчете. Тригонометрические формулы ведь различны, например, в геометрии Эвклида и в геометрии Лобачевского.
(обратно)10
Забегая вперед, заметим: до Эйнштейна считали самоочевидным, что длина — понятие абсолютное (априорное), хотя основанием к этому была лишь бессознательная апелляция к опыту.
После Эйнштейна стало ясно, что длина тела — понятие относительное. Длина одного и того же отрезка оказывается различной в зависимости от того, из какой системы отсчета мы проводим его измерения. В этом снова убеждает опыт. В классической физике длину считали абсолютной величиной просто потому, что при скоростях, много меньших скорости света, длина движущегося относительно масштаба тела почти точно совпадает с длиной этого же тела, когда оно неподвижно относительно масштаба. И заметить такое отклонение было совершенно невозможно.
(обратно)11
Кстати, в октябре 1960 года на Международной конференции мер и весов было принято новое определение эталона длины.
За эталон принята длина световой волны оранжевой линии спектра изотопа криптона-86. Таких волн в метре укладывается 1 650 763.
(обратно)12
Солнечные сутки — время между прохождениями Солнца через верхнюю точку своего видимого пути. Звездные сутки определяются аналогично, но вместо Солнца берут любую звезду.
(обратно)13
Например, мы убеждаемся на опыте, что процесс поворота Земли по отношению к неподвижным звездам на любой сколь угодно малый угол относится к процессам, включенным в семейство эталонов времени.
(обратно)14
Строго говоря, проходит еще несколько сотых долей секунды с момента, когда луч света достиг глаза, до мгновения, когда судья нажимает секундомер. Скорость реакции человека сравнительно невысока. Но допустим, что наш судья — идеальный автомат.
(обратно)15
Мы неоднократно говорили: все ошибочные с точки зрения теории относительности постулаты классической физики вытекают из опыта. С другой стороны, теория Эйнштейна также следует из опыта.
Как это может быть?
Дело в том, что при опытах со скоростями, малыми по сравнению со скоростью света, классическая физика с высокой степенью точности описывает мир.
Наши постулаты и определения — обобщение именно таких экспериментов. Поэтому-то долгое время и не замечали, что, строго говоря, некоторые из этих постулатов ошибочны.
(обратно)16
В этот момент относительная скорость частиц воды и стенок сосуда наибольшая.
(обратно)17
Сила трения.
(обратно)18
«Гео» — Земля, «Гелиос» — Солнце.
(обратно)19
Именно это и пришлось сделать физикам, когда была создана теория относительности. Но пока скорости много меньше световой, можно считать, что интервал Δt неизменен во всех системах.
(обратно)20
Попутно стоит отметить некоторые любопытные свойства подобной модели вселенной. Если каждая пчела соответствует звезде средних размеров, то, поместив одну из них — Солнце — в Москву, чтобы сохранить масштаб, ближайшую пчелу — Проксима Центавра — пришлось бы отправить куда-то в район Ленинграда. А наиболее далекие пчелы роя, изображающего нашу Галактику, оказались бы на расстоянии примерно в два раза большем, чем расстояние от Земли до Луны. И наконец, отдельные рои — галактики — в нашей модели разделены расстояниями в десятки миллионов километров. Земля в такой модели (стыдно сказать!) была бы пылинкой диаметром в сотую долю сантиметра. И может быть, самое обидное, что в нашем масштабе рост человека — приблизительно 10–9 сантиметра — в несколько раз меньше диаметра атома водорода. Такая модель соответствует уменьшению всех масштабов в 1011 раз.
(обратно)21
Следует еще раз напомнить, что на самом деле t ≠ t1. Но отличие заметно, только если относительная скорость систем отсчета сравнима со скоростью света.
(обратно)22
Эта фраза не совсем точно отражает суть дела, поскольку сила может характеризовать также взаимодействие тела с полем. Но чтобы не терять времени на обсуждение сложного (правда, едва ли не основного в современной физике) понятия поля, удовлетворимся вышесказанным.
(обратно)23
О векторах уже упоминалось, но, к сожалению, мы не можем подробно разбирать, что такое вектор. Отметим только замечательное правило сложения векторов — правило треугольника (или, как иногда говорят, правило параллелограмма).
«Чтобы сложить два вектора, надо отложить один из них. Затем из конца первого вектора провести второй. Сумма этих двух векторов — это вектор, проведенный из начала первого вектора в конец второго».
Слова «сила — вектор», в частности, означают, таким образом, что если на данное тело действуют две силы A и B, то результат их действия таков же, как если бы действовала одна сила C. Все это очень нестрого, но не стоит отвлекаться.
(обратно)24
Снова, забегая вперед, отметим, что это положение верно только приближенно. Но пока скорости много меньше световой, зависимость массы от скорости совершенно незаметная.
(обратно)25
Надо сказать, что на этих вещах действительно не стоит очень задерживаться, потому что всю механику Ньютона можно построить, используя некоторые очень общие принципы; причем число постулатов и определений сводится до минимума и достигается совершенная ясность.
(обратно)26
Знакомый с силами Кориолиса читатель легко заметит: установив, что какое-то свободное тело покоится, еще нельзя утверждать, что система отсчета инерциальна. Строго говоря, одного свободного тела вообще недостаточно для проверки системы отсчета «на инерциальность». Необходимо исследовать движение трех тел, движущихся не в одной плоскости. Но это уже тонкости.
(обратно)27
В реальном опыте Фуко характер «розетки», вырисовываемой маятником, другой, но это связано с несущественными для нас деталями опыта.
(обратно)28
Можно только заметить, что если, исследуя понятие инерциальной системы в рамках классической механики, как-то удалось свести концы с концами, использовав понятие тела, достаточно далеко удаленного от всех остальных, то с точки зрения теории относительности такая постановка вопроса совершенно неудовлетворительна. Оказывается, что слова «достаточно далеко» вообще не имеют смысла.
Два тела могут находиться «очень далеко» друг от друга, если измерять расстояние между ними в одной системе отсчета. И «очень близко», если измерять расстояние между ними в другой системе, равномерно и прямолинейно движущейся относительно первой. (Это замечание будет понятно для тех читателей, кто доберется до XIII главы.)
Так что на самом деле положение с понятием инерциальной системы еще хуже, чем может показаться на первый взгляд. Правда, известную определенность в этот вопрос внесли работы Эйнштейна, но мы ничего о них не скажем.
(обратно)29
Пользуясь предельно глубокой аналогией, можно сказать: Декарт постулировал нечто вроде мирового сепаратора.
(обратно)30
Можно без труда показать, что шар (Земля) притягивает тела так же, как если бы вся его масса была сосредоточена в центре.
(обратно)31
«Материальной» здесь означает — состоящей из мельчайших частиц.
(обратно)32
Субтильный — тонкий, хрупкий.
(обратно)33
Именно кольца Ньютона — первый эффект, в котором проявились периодические свойства света, и именно Ньютон первый это понял.
(обратно)34
Два луча на выходе получаются тогда, когда соответствующие кристаллографические оси либо совпадают, либо угол между ними составляет 90°. Поэтому, поворачивая нижний кристалл на полный угол в 360°, мы 4 раза будем наблюдать на выходе 2 луча вместо 4.
(обратно)35
Турмалин тоже двояко преломляющий кристалл, но один из лучей в нем полностью поглощается.
(обратно)36
Конечно, мы снова отказываемся от разбора этих работ.
(обратно)37
Наблюдатель, естественно, отмечает момент tT. Момент t1 можно установить только при помощи расчетов, зная также r1 и C.
(обратно)38
Точное значение, как известно, 299 976 км/сек.
(обратно)39
Для простоты рассматривается случай, когда звезда находится в плоскости земной орбиты (в плоскости эклиптики).
Несущественная для нас тонкость! Если звезда находится не в плоскости эклиптики, ее видимое движение происходит по эллипсу, подобному земной орбите, как она представляется со звезды.
(обратно)40
Между прочим, по годичному параллаксу звезды определяют ее расстояние до Земли. В наши дни параллакс определяют с точностью 0,01″. Это угол, под которым человеческий волос виден с расстояния 1,5 километра!
(обратно)41
«Аберрация» дословно означает «отклонение», «заблуждение». Поэтому не приходится удивляться, что термин «аберрация» используют также для обозначения совершенно отличных по своей природе физических явлений, связанных с искажением хода световых лучей. Существует еще «хроматическая аберрация», «сферическая аберрация», «продольная аберрация» и еще несколько аберраций.
(обратно)42
Орбитальная скорость Земли была известна — 30 километров в секунду.
(обратно)43
Следует напомнить, чтó мы понимаем под неподвижным эфиром. Эфир считается покоящимся в системе неподвижных звезд.
(обратно)44
Отношение скорости Земли к скорости света равно 30 км/сек / 3 · 105 км/сек = 10–4. Тангенс такого малого угла с высокой степенью точности равен самому углу (угол измеряется в радианной мере). Поэтому
φ = v/c.
(обратно)45
Этот эксперимент проделал, в частности, Эйри (1872 г.). Но если верить Майкельсону («Лекции по оптике»), у Эйри были предшественники, причем эксперимент был сделан, во всяком случае, до опытов Физо (1852 г.). Точную ссылку на работу Майкельсон не дает.
(обратно)46
Например, Максвелл подметил, как из опытов Ремера можно «выловить» движение солнечной системы в целом относительно эфира уже «в первом порядке». Подробнее см.: Ландсберг, Оптика.
(обратно)47
В первом примере. Порт — источник света. Корабль — приемник. Катера — световые волны. И наконец, море — неувлекаемый эфир.
Во втором. Корабль — источник. Порт — приемник.
(обратно)48
Уже упоминалось, что теория неувлекаемого эфира совершенно аналогична теории распространения звуковых волн в атмосфере. Атмосфера — «неувлекаемый звуковый эфир».
(обратно)49
Во избежание путаницы надо представлять, что поскольку (как мы увидим дальше) теория неувлекаемого эфира неправильна, неправильно и дальнейшее описание опыта.
(обратно)50
Здесь впервые используются приближенные вычисления, на которые, несмотря на их важнейшее значение, мало обращают внимания в школе. Поэтому поясним вывод как приведенной формулы, так и еще одной, неоднократно используемой в дальнейшем.
Если α очень мало, можно утверждать, что
Доказать это очень просто.
Пункт № 1. Когда α мало, то
Действительно, возводя обе части приближенного равенства в квадрат, получаем 1 – α ≈ 1 – α + α2/4.
Правая часть равенства больше левой на α2/4, но если α << 1, то α2 совсем уже малая величина и ею можно пренебречь (если, например, α = 0,001, α2 = 0,000001).
Итак, с точностью до членов порядка α2,
Пункт № 2. Умножим числитель и знаменатель дроби 1/(1 – α/2) на 1 + α/2. Получим, что
Как и раньше, можно пренебречь членом α2/4 в знаменателе. Тогда окончательно
Это равенство справедливо с точностью до членов порядка α2. Не следует опасаться, конечно, того, что мы пренебрегали членами порядка α2 не один, а два раза. Это не может сколько-нибудь заметно увеличить ошибку.
Фактически невозможно уловить разницу между тысячью человек, тысячью без одного или же тысячью без двух.
(обратно)51
Так как vЗемли = 30 км/сек., то vЗемли/C = 10–4 и (tN1 – tN2) = t0v2/2c2 = t0/2 · 10–8.
(обратно)52
Теплород, флогистон, horror vacui (ужас пустоты) — все это в свое время очень модные и распространенные теоретические концепции, отброшенные в дальнейшем как несостоятельные.
(обратно)53
Эта же гипотеза была независимо сформулирована Фитцджеральдом.
(обратно)54
Любопытно, что статья Пуанкаре послана в печать на три недели позже, чем работа Эйнштейна.
(обратно)55
Основной немецкий физический журнал «Анналы физики».
(обратно)56
Стоит обратить внимание на последнее замечание, потому что вращательное движение системы отсчета относительно неподвижных звезд влияет на оптические и электромагнитные явления в этой системе. В связи с этим уместно обсудить один гипотетический курьез. Из теории относительности следует, что, например, суточное вращение Земли должно влиять на оптические явления. Майкельсон и Гель в 1925 году сделали изумительно тонкий опыт и обнаружили этот эффект. Еще в 1913 году влияние вращения системы отсчета относительно неподвижных звезд на оптические и электромагнитные явления экспериментально установил Саньяк (правда, идея опыта также принадлежала Майкельсону).
Но весь юмор в том, что для этих опытов предсказания теории относительности качественно совпадают с предсказаниями теории и неувлекаемого эфира. В данном случае правильная и неправильная теории дают один и тот же результат.
И представьте себе, насколько опоздало бы появление теории Эйнштейна, если бы Майкельсон сначала проделал опыт с суточным вращением, чтобы показать, что эфир не увлекается вращательным движением Земли. Ведь все считали бы, что существование неувлекаемого эфира доказано. Лучшее подтверждение гипотезы неувлекаемого эфира, казалось бы, трудно придумать. А если бы еще Майкельсон почил на лаврах и свой «настоящий» опыт не стал делать, то…
В общем лучшей темы для рассуждения о том, что было бы, если бы… желать не надо.
Эти, мягко говоря, несколько наивные соображения иллюстрируют тем не менее один примечательный момент: опровергнуть теорию можно при помощи одного эксперимента. Чтобы утвердить ее, необходима тьма и тьма различных опытов.
(обратно)57
Как помните, для объяснения опыта Майкельсона достаточно принять принцип относительности.
(обратно)58
Так что, говоря о теории Ритца до обсуждения теории относительности, мы несколько погрешили против хронологии.
(обратно)59
Легко можно убедиться, что парадокс с наблюдателем, «оседлавшим» световой луч, равно возникает как в теории неувлекаемого эфира, так и при рассмотрении баллистической теории. Разница только в том, что в баллистической теории можно рассматривать парадокс в любой инерциальной системе отсчета, а в теории эфира — только в абсолютной системе — неувлекаемом эфире. Эйнштейн, как видите, долго не понимал, как можно объяснить этот парадокс.
(обратно)60
Здесь уместно сделать маленькое отступление. Так же как и в классической физике, в специальной теории относительности «пустое пространство» считается «однородным и изотропным». Иными словами, физические свойства пространства совершенно идентичны по всем возможным направлениям. Выделенного направления нет (изотропность). Точно так же равноправны все точки пространства (однородность). Изотропность и однородность пространства подразумеваются всюду в дальнейшем.
Строго говоря, это тоже некий постулат, вытекающий из всего нашего опыта. Изотропность пространства по отношению к «электромагнитным процессам» видна, например, из того факта, что скорость света одинакова во всех направлениях (фронт световой волны занимает поверхность сферы). Еще раз с удовольствием отметим: физические утверждения даже самого общего характера всегда диктуются только опытом. Без ссылки на опыт всякие рассуждения беспредметны. Могло оказаться, что «пустое» пространство устроено подобно кристаллу и анизотропно. Только практика может убедить в противном. Она и убеждает…
(обратно)61
Маленькая логическая тонкость! Независимость скорости световой волны от движения источника света относительно данной инерциальной системы отсчета учтена в нашем определении, поскольку мы говорим о «любой» световой волне (в том числе и о тех, которые посланы движущимися источниками). Замечание о постоянстве скорости при любом направлении распространения фиксирует изотропность пространства. Ввиду принципа относительности наше утверждение в равной мере относится ко всем инерциальным системам, если только оно справедливо в какой-нибудь одной.
(обратно)62
В скобках вместо слов «любое взаимодействие» написано «любой сигнал». Под сигналом мы не подразумеваем ничего отличного от житейского понятия. Сигнал — это все, что мыслимо использовать для передачи в точку А сведений о том, что творится в точке В. Словом, сигнал — это передача информации.
Ясно, почему поставлен знак равенства между взаимодействием и сигналом. Передачу сигнала можно осуществить, только использовав какое-нибудь взаимодействие (электромагнитное, гравитационное и т. д.) между объектами А и В. А максимальная скорость распространения взаимодействия и есть максимальная скорость передачи сигнала (информации). Заметим, наконец, что понятие «событие» в теории относительности является первичным и по смыслу соответствует обычному житейскому содержанию этого слова.
(обратно)63
Из абсолютности одновременности сразу следует абсолютность времени в классической физике, но мы не будем исследовать эту сторону дела.
(обратно)64
Интересно, хотя и не очень тесно связано с предыдущим, что уже в классической физике следует осторожно пользоваться выражениями: «два неодновременных события произошли в одной точке» и «два неодновременных события произошли в разных точках».
Эти слова получают содержание, если только указана система отсчета. Пассажир поезда Москва — Ленинград, используя систему отсчета, связанную с поездом, скажет, что такие два события, как гудки паровоза, данные при отправлении из Москвы и при прибытии в Ленинград, произошли в одной точке пространства. Вряд ли стоит объяснять, что с точки зрения жителей Земли эти события произошли в разных точках. Поэтому совпадение двух неодновременных событий в пространстве относительно уже в классической физике.
А совпадение двух событий во времени — в классической физике понятие абсолютное. То есть: если два события одновременны в одной системе отсчета, то они одновременны в любой другой системе.
Абсолютность совпадения или несовпадения в пространстве двух одновременных событий в классической физике постулируется, хотя, следует ли это из факта бесконечной скорости распространения взаимодействий, вообще трудно спорить. Нам не стоит задерживаться на этих тонкостях. Строго говоря, абсолютности одновременности скорее так же постулируется, а не следует непосредственно из гипотезы о бесконечной скорости распространения взаимодействий.
(обратно)65
Кстати, без понятия одновременности весь предыдущий анализ был, строго говоря, бессодержателен, так как мы не знали, что такое время в разных точках пространства. Эта неточность, впрочем, была допущена сознательно, поскольку необходимость по-новому определить понятие одновременности из только что проделанного рассуждения видна очень хорошо, а чтобы сделать его безукоризненно строгим, достаточно небольших уточнений.
(обратно)66
Любопытно, что в математике часто оперируют схемами, не имеющими прямого отношения к реальному миру. Достаточно вспомнить неэвклидову геометрию. Геометрий можно построить много, а в реальном мире осуществляется только одна из них.
(обратно)67
Можно, повторяю, выдумывать не связанные с причинностью определения одновременности, так же как возможно, скажем, назвать судьбу «индейкой», однако все тот же Козьма Прутков (простите автору его слабость) резонно недоумевал по этому поводу: «Не совсем понимаю: почему многие называют судьбу индейкою, а не какой-либо другою, более на судьбу похожею птицею?»
(обратно)68
Чтобы легче представить себе, что получится, мысленно вообразите поезд длиной в 10 световых лет, движущийся со скоростью 150 тысяч километров в секунду.
(обратно)69
Стоит обратить внимание на то, что формулы Лоренца имеют смысл только, если относительная скорость систем отсчета V < C. При V > C корень в знаменателе, как легко видеть, — мнимая величина. Впрочем, все это можно было утверждать заранее, так как математический формализм обязан соответствовать физическим предположениям, а, как помните, скоростей больших C, не может быть!
(обратно)70
Очень несложно убедиться, что задача определения относительной скорости двух тел тождественна отысканию закона сложения скоростей.
(обратно)71
Вывод этого соотношения настолько прост, что его можно продемонстрировать.
Чтобы найти длину движущегося стержня, наблюдатель должен одновременно зафиксировать начальную и концевую точки x1 и x2. Тогда (x2 – x1) и есть длина стержня l.
Чтобы найти связь между l и l0, следует, используя преобразования Лоренца, связать координаты (x11 и x21) начальной и концевой точек в той системе, где он покоится, с соответствующими координатами x1 и x2, определенными в той системе отсчета, где он движется:
Обратим внимание: в правой формуле стоит одно и то же время t1.
Это соответствует тому, что при определении длины движущегося стержня нужно одновременно фиксировать его начальную и концевую точки. Вычитая из нижней формулы верхнюю, получим:
Но (x21 – x11) = l0 — длина стержня, определенная в системе, где он покоится. А (x2 – x1) = l — длина движущегося стержня.
Таким образом
(обратно)72
Это название принято, поскольку в теории Лоренца (о ней упоминалось в главе XI) предполагалось, что длина тела, движущегося относительно эфира, сокращается; причем формула для сокращения такая же, как в теории относительности. Но физическое содержание формулы сокращения длины у Лоренца (как и всей его теории) совершенно отлично от содержания теории Эйнштейна. Например, в теории Лоренца имеет смысл говорить об абсолютной длине l0 — длине тела, неподвижного относительно эфира.
(обратно)73
Именно эту идею и развивал Лоренц в своей теории, полагая, что движение тел относительно неувлекаемого эфира вызывает сокращение длины.
(обратно)74
Двое часов, находящихся в разных точках и неподвижных в данной системе отсчета, синхронны, если они одновременно показывают одинаковое время. При этом понятие одновременности определяется именно относительно этой системы отсчета. Однако с точки зрения наблюдателя из другой системы отсчета эта пара часов не будет синхронна.
(обратно)75
В этом случае понятие одновременности, необходимое для определения синхронности часов, естественно, определяется в системе отсчета, связанной с поездом.
(обратно)76
Ввиду большого значения этого положения стоит его повторить… Промежуток времени между двумя событиями минимален в той системе отсчета, где они произошли в одной точке пространства. Этот промежуток времени обозначают как Δτ и называют собственным временем. В любой другой инерциальной системе промежуток времени между этими событиями определяется через Δτ соотношением:
(обратно)77
Воспользуемся случаем, чтобы напомнить некоторые моменты релятивистской теории эффекта Допплера для электромагнитных волн. На первый взгляд она не очень отличается от классической, и нет оснований говорить о каких-то «удивительных» выводах.
Снова, если источник и приемник двигаются навстречу друг другу, воспринимаемая приемником частота больше, чем если бы они покоились. И так же, как и раньше, если источник и приемник удаляются — воспринимаемая частота меньше. Все это очень напоминает выводы классической теории.
Но есть одно важнейшее отличие. Ясно, что если отброшен неувлекаемый эфир и для электромагнитных явлений справедлив принцип относительности, то не имеет смысла различать два разных случая: 1) источник движется, скажем, навстречу приемнику, а приемник покоится и 2) приемник движется навстречу источнику, а источник покоится. Как только отброшена «абсолютная система отсчета», такое различие теряет всякое содержание.
Изменение частоты определяется только относительной скоростью источника и приемника.
Если быть совсем точным, то надо добавить — той составляющей относительной скорости, что направлена по прямой, проходящей через две точки — «приемник» и «источник».
Не так уж важно, как именно изменяется формула для воспринимаемой частоты по сравнению с классической.
Существенно, что теория эффекта Допплера очень тесно связана с одним из самых поразительных выводов Эйнштейна — замедлением ритма движущихся часов. Поэтому, как уже сообщалось ранее, экспериментальную проверку своей формулы для эффекта Допплера Эйнштейн считал важнейшим опытом для проверки всей теории. Опыт великолепно подтвердил выводы Эйнштейна; причем любопытно, что сами экспериментаторы не понимали и не принимали его теории.
(обратно)78
Математический вывод лоренцова сокращения времени так же, как и длины, очень прост. Рассмотрим две системы отсчета, К и К1, относительная скорость которых направлена вдоль оси X.
В системе, где вспышки произошли в одной точке, квадрат интервала между вспышками равен с2Δτ2, так как Δx — расстояние между точками, где произошли вспышки, — равно нулю. В системе, где вспышки случились в разных точках, квадрат интервала равен с2Δt2 – Δx2.
Поскольку интервал между событиями остается неизменным при переходе от одной системы к другой, то с2Δτ2 = с2Δt2 – Δx2, или
но так как Δx/Δt = V (относительной скорости систем отсчета), то
(обратно)79
Эта фраза сформулирована так учено потому, что мы не в состоянии углубляться в детальный анализ, а слова «ускорения малы» (или «велики») сами по себе еще ничего не значат. Необходимо дать критерий, указать точное математическое условие малости ускорений. Критерия мы приводить не будем, но, имея его в виду, осторожно пишем: ускорения малы «в некоем определенном смысле».
(обратно)80
Наше рассуждение, конечно, дает лишь качественное объяснение парадокса с часами. Надо сказать, что по поводу конкретного вычисления разности хода часов А и В к моменту встречи существуют разные мнения. Здесь, а также в последней главе, где мы снова вспомним о парадоксе с часами, мы следуем тому мнению, которое можно считать общепринятым.
(обратно)81
Это примерно в 3 раза больше второй космической скорости, необходимой для преодоления земного тяготения (11,2 километра в секунду).
(обратно)82
Следует заметить, впрочем, что часто релятивистской кинетической энергией называют величину
В конечном счете вопрос заключается в выборе наиболее разумной терминологии, и потому мы не будем обсуждать этот факт, придерживаясь в дальнейшем того определения, которое дано в тексте, поскольку оно позволяет несколько проще объяснить связь массы и энергии, хотя, пожалуй, менее логично.
(обратно)83
При v/c << 1
Стоит воспользоваться случаем и обратить внимание на условный характер понятий «малого» и «большого». В нашем случае скорости «малы», если v/c << 1, так что скорость в 100 км/сек очень незначительная.
(обратно)84
Кстати, иногда приходится читать, что выделение (или поглощение) громадного количества энергии при ядерных реакциях вызвано изменением массы реагирующих веществ. Это утверждение, конечно, совершенно неправильно. Заметное изменение массы (дефект массы) свидетельствует, что реакция ядер идет с колоссальным выделением или поглощением энергии, а не объясняет, почему такое выделение энергии имеет место при ядерных реакциях. Ответ на вопрос «почему?» связан с такой «мелочью», как выяснение природы ядерных сил.
(обратно)85
Заметьте, что массы атомов записаны в «слегка» необычной форме. В них выделен сомножитель 1,66 · 10–24 г. Это масса протона.
(обратно)86
Впрочем, не нужно беспокоиться. Масса Солнца так велика, что можно не опасаться ее истощения. При такой мощности излучения Солнце «похудеет» вдвое за 6000 миллиардов лет.
(обратно)87
Эта цифра, впрочем, сильно завышена, поскольку Земля излучает энергию в пространство, и суммарный «истинный» приход энергии меньше.
(обратно)88
Впрочем, утверждение в тексте справедливо лишь в том случае, когда вся масса горючего превращается в кванты электромагнитного поля и отбрасывается реактивным двигателем. Если же в двигателе «сгорает» не все горючее вещество и продукты сгорания остаются в виде балласта, который приходится отправлять за борт ракеты, не получая при этом добавочный импульс, наиболее выгодным может оказаться другой режим, а именно такой, при котором вся масса вещества отбрасывается реактивным двигателем, но уже по необходимости со скоростью, значительно меньшей скорости света. Все это, однако, тонкости, не имеющие для нас особого значения.
(обратно)89
Правда, для развлечения можно обсуждать и нейтринные ракеты. Масса покоя нейтрино равна нулю, и, следовательно, отдача посредством нейтрино может быть столь же выгодна, как и при помощи фотонов. Однако нейтринная ракета — это вообще нечто «по ту сторону добра и зла».
(обратно)90
Это очень удобно еще и потому, что при скорости в 100 000 км/сек движение ракеты неплохо описывает старая, верная механика Ньютона.
В самом деле, при этой скорости масса ракеты возрастает по сравнению с массой покоя только на 6 процентов:
Соответственно импульс ракеты превышает импульс, рассчитанный по формуле Ньютона, на те же 6 процентов. Легко можно убедиться и в том, что кинетическая энергия нашей ракеты
превышает энергию, вычисленную по формуле классической механики, примерно на 8 процентов. В этом легко можно убедиться, вспомнив, что
Отклонения невелики, и, забыв о теории относительности, мы можем рассчитать движение такой ракеты, используя классическую механику.
(обратно)91
Хотя такая варварски грубая оценка совершенно ошибочна, поскольку топливо находится на борту ракеты и потому приходится разгонять массу с «балластом», мы удовлетворимся принятым очень заниженным значением.
(обратно)92
Кстати, подсчет показывает, что такое ядерное горючее также должно иметь фантастически высокий энергетический выход по сравнению с известными ядерными топливами.
(обратно)93
Впрочем, некоторые ученые (их, правда, почти абсолютное меньшинство) возражают против такого рассмотрения, считая его незаконным. Так что вопрос в известной степени дискуссионен. Автор должен признаться, что ему не удалось найти работы, в которой проблема изменения хода времени на ракете была бы рассмотрена, на его взгляд, совершенно строго. Впрочем, вероятнее всего, этот вывод обусловлен недостаточно хорошим пониманием, а не дефектами самих работ.
(обратно)94
Для наблюдателя на Земле время разгона, естественно, очень велико. Например, при ускорении g = 10 м/сек2 для достижения скорости v = (1 – (10–8/2))c период ускорения по собственному времени ракеты займет приблизительно 9,6 года. А на Земле за это время пройдет около 9600 лет.
(обратно)95
Мы не в состоянии обсуждать здесь так называемый прямоточный фотонный двигатель, призванный уменьшить стартовую массу. Можно только заметить, что он принципиально не может спасти положения, потому что при субсветовых скоростях (порядка 200–250 тысяч км/сек) масса вещества, попадающего в ракету (это межзвездное вещество и предполагается использовать как горючее), ничтожно мала, а при скоростях, максимально близких к световой, — ничтожна эффективность двигателя, ибо разность скоростей засасываемой и выбрасываемой из сопла массы близка к нулю.
(обратно)96
Позитроны и электроны — излюбленный объект для горючего у межзвездных скитальцев, потому что реакция между ними — единственная известная реакция, в которой вероятность того, что реагирующие частицы превратятся в гамма-кванты, равна единице. Например, протоны, реагируя с антипротонами, дают в результате мезоны, и, таким образом, масса покоя продуктов реакции не равна нулю. А надо, чтобы была равна, иначе горючее неидеально.
(обратно)97
Хороший проводник можно подвесить в электромагнитном поле (широко известный способ осуществления «гроба Магомета»). Особенно хорошо этот опыт удается со сверхпроводником. Ну что же, можно хранить антижелезо в сверхпроводящем состоянии.
(обратно)


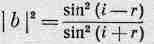
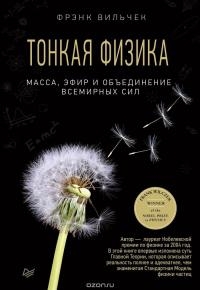
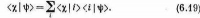
Комментарии к книге «Очевидное? Нет, еще неизведанное…», Вольдемар Петрович Смилга
Всего 0 комментариев