ВВЕДЕНИЕ
— Вселенная, где сто планет; там всё, что здесь, в объёме сжатом, но также то, чего здесь нет. Их меры малы, но всё та же их бесконечность, как и здесь; там скорбь и страсть, как здесь, и даже там та же мировая спесь…
И не интеллектуальной ли зрелостью современного человека, результатом объединения возможностей мысли и чувств, знаний и воображения объясняет поэт Леонид Мартынов в стихотворении «Седьмое чувство» возникновение у человека способности прогнозировать будущее?
Тоньше и тоньше становятся чувства,
их уж не пять, а шесть, но человек уже хочет иного — лучше того, что есть. Знать о причинах, которые скрыты, тайные ведать пути, — этому чувству шестому на смену, чувство седьмое, расти! Определить это чувство седьмое каждый по-своему прав, может быть, это простое умение
видеть грядущее въявь…
Густав Флобер высказал пророческую мысль: «Чем дальше, тем Искусство становится более научным, а Наука более художественной; расставшись у основания, они встретятся когда-нибудь на вершине».
Сегодня уже никого не удивляет, что писатели и поэты— равноправные участники научных исследований. Без помощи гуманитариев физики не научили бы электронновычислительные машины переводить с одного языка на другой. Инженеры не создали бы ЭВМ, пишущие стихи и прозу. Конечно, это не самоцель, но необходимо, чтобы отточить интеллект наших партнёров-машин.
В этом содружестве физиков и лириков — всё возрастающее количество точек роста будущих открытий.
Кванты и музы сближаются всё теснее… Всё смелее и охотнее объединяют свои усилия люди разных творческих интересов для более полного понимания Вселенной и мира чувств, живой и неживой природы. Это, несомненно, важнейший фактор, стимулирующий прогресс.
Второй фактор, меняющий характер и скорость познания, мне кажется, надо искать в специфике современных фундаментальных исследований. Тончайший эксперимент, мощный математический аппарат, зрелая теория — вот орудия современных перспективных исследований. Они обеспечивают почти непременный успех на путях познания нового. Конечно, заранее запрограммировать новую идею, открытие невозможно. Но сегодня можно быть твёрдо уверенным: если даже данное научное направление не принесёт ожидаемых результатов, предполагаемых достижений, оно наверняка понадобится обществу — если не сегодня, то завтра.
Зрелость научных исследований наших дней — достаточно солидный залог обязательного успеха.
Фактор третий, увеличивающий вероятность открытий в современной науке и технике: высокий уровень квалификации рядовых учёных, их глубокая профессионализация. Если в давние времена на научном горизонте ярким блеском выделялись отдельные светила — Аристотель, Архимед, Галилей, то сегодня мы не назовём самого учёного среди учёных. Можно определить первую десятку, вторую… но не гении формируют лицо современной науки. Урожай, приносимый наукой и техникой, собирают в наши дни в основном рядовые высококвалифицированные специалисты.
Мне вспоминаются слова американского философа Данэма: «Найти природу мира — это не совсем то, что найти монету. Учёный делает обычно значительно большее, чем просто натыкается на что-то».
Чтобы суметь сделать это «значительно большее», человечество потратило более двадцати веков. Аристотель был велик тем, что научился наблюдать мир. Научился понимать, что всё происходящее вокруг — не случайность, не хаос, а проявление закономерности. Галилей — спустя несколько веков — обогатил пассивный метод наблюдения, метод натурфилософии, методом активного направленного вмешательства в объект познания. Родилась экспериментальная физика. И лишь Ньютон связал эксперимент, наблюдение и математический анализ обратной связью, делая познание надёжным, а главное — объективным. На это ушли века.
Но века ушли не только на познание. Они ушли на борьбу за право познания.
Властители мира боялись просвещения, распространения знаний. Вот почему книгопечатание не совершило быстрого переворота в духовной жизни человечества. Те, кто стоял у власти, тормозили распространение книг — этого первого средства массовой информации. Тормозили печатание не только светских книг, но даже библии.
«Господи, открой глаза королю Англии!» — последние слова борца за распространение книг Уильяма Тиндейла, сказанные перед тем, как верёвка сдавила ему горло. Он казался властям столь опасным, что повешение было недостаточной гарантией — для надёжности Тиндейла ещё и сожгли. А ведь это случилось не так уж давно — в 1536 году!
И что же? К чему привели гонения на книгу? «…Нищие, бедняки, жестянщики, ткачи, ремесленники, люди низкого происхождения и небольшого достатка — вот кого можно было увидеть ночью на улицах и переулках Лондона, — пишет историк Фроуд. — Они пробирались с драгоценной ношей в руках: связками книг, обладание которыми каралось смертью…»
А сегодня? Книги — главное богатство цивилизованного человека. Возросший уровень информации, объём знаний, накопленных человечеством, улучшение методов обучения — всё это привело к тому, что сегодня средний учёный, вооружённый современной исследовательской аппаратурой и теоретическими методами, в состоянии сделать для человечества куда больше, чем гениальный одиночка прошлого.
И, наконец, фактор четвёртый, ускоряющий дорогу к открытиям, — всё более тесная связь между учёными разных стран, всё возрастающий обмен информацией, всё большее количество совместных научных работ.
В прежние времена события двигались от континента к континенту, словно неторопливые парусники. Сегодня вести облетают земной шар со скоростью света. Новости перестают быть новостями для всей планеты почти в момент рождения. XX век врывается в окна самых отдалённых стран, даже если эти окна «занавешены». Пример — Япония, которая долго пыталась избежать «сквозняков», сопротивлялась новым веяниям извне, да и возникновению новых обычаев у себя. И что же? Посетив страну, я не могла не заметить, как бродит новыми желаниями старое выдержанное «вино» японских традиций и устоев, в которое сегодняшний век добавляет свои молодые соки.
Перед японской наукой возникают новые задачи — она должна выдержать конкуренцию с наукой других стран. И один из величайших учёных наших дней Хидеки Юкава, творец теории ядерных сил, физик-теоретик, переключает своё внимание на одну из «горячих точек» — на разгадку механизма мышления и ищет поддержку в сотрудничестве с советскими учёными — чтобы найти новые методы обучения, помочь стране обрести современный уровень знаний, воспитать мощную армию учёных.
Новые настроения владеют и японским искусством, которое долгие века гордилось своей самобытностью, чистотой стиля и традиций. Склонявшее голову перед необузданными силами природы, перед стихией землетрясений, вулканов, цунами, оно, в лице «японского гения», как называли в стране лидера нового японского искусства Таро Окамото, подняло голос протеста против смирения, позвало людей на сопротивление слепой стихии, нашло опору и пример в лучших образцах искусства Франции, Мексики, Бразилии. И в лоне старого японского искусства рождается новое, гордое, активное искусство, обогащённое опытом чужеземных мастеров.
Но я забегаю вперёд. Именно об этом — о впечатлениях своей профессиональной жизни научного публициста последних лет — я и хочу рассказать вам, читатель.
О встречах с людьми, которые участвовали или участвуют в творении новых центров кристаллизации открытий.
О встречах с идеями, сдвинувшими или готовыми сдвинуть с места застывшую глыбу неразрешённых проблем, развязавшими первый узелок в спутанном клубке противоречий.
О встречах со сбывшимися, нашумевшими открытиями и со скромными результатами, накапливающимися день за днём и вызывающими предчувствие грядущих перемен или надежду на взрыв прозрений.
Лишь о некоторых открытиях я попытаюсь рассказать в этой книге.
ГЛАВА 1
Стремление к познанию является основной чертой человека, признаком его высшего происхождения.
М. Лауэ, ПУГАЮЩАЯ «АРИФМЕТИКА»ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ
В науке, как и в искусстве, есть вечные темы, волнующие человечество. Каждая эпоха вкладывала в эти животрепещущие темы свой, особый смысл.
Пожалуй, нет и не было в науке проблемы, на решение которой потрачено столько сил и времени, сколько на проблему строения материи — проблему частиц и волн, вещества и излучения. Возникнув в глубокой древности, она не покорилась учёным и в наши дни. Более того, теперь, когда мы познали её глубже, она представляется более сложной, чем когда-либо ранее.
Эта проблема больше чем любая иная фонтанировала самыми разнообразными сенсациями, и истинными, и ложными.
Представление о простейших неделимых атомах позволило древним мудрецам нарисовать картину вечно изменяющегося мира. Они учили: мир — это атомы и пустота. Но позднее боязнь пустоты заставила Аристотеля отвергнуть мысль о существовании атомов. Пространство, считал он, сплошь заполнено материей. Эту материю он назвал эфиром. Точка зрения великого философа просуществовала века…
Такое же ложное ощущение истины создалось у людей и по отношению к природе света. Луч света ещё от Евклида считался символом прямой линии. Но ни один из мудрецов не мог объяснить, как прямая линия, не изгибаясь, может оббегать препятствия и в чём тайна семицветной радуги…
Уже Роджер Бэкон предчувствовал волновую сущность оптических явлений. И величайшие оптики всех времён — Гюйгенс, Гримальди, Френель — верили, что свет — это волны заполняющего мир океана материи, волны эфира. Одни считали свет продольными волнами эфира, другие — поперечными, некоторые говорили о натяжении эфирных струп, фантазировали об игре эфирных вихрей.
Только Ньютон заговорил о частицах света, корпускулах, которые могут распространяться в пустоте без помощи эфира. Но он же интуитивно почувствовал, что многообразие оптических явлений не может быть непротиворечиво объяснено ни на основе корпускул, летящих в пустоте, ни при помощи волн в океане светоносного эфира. Он склонялся к признанию корпускул, но понимал, сколь трудно примирить их с явно периодическими явлениями, проявляющимися в поведении света, со многими свойствами света, которые Ньютон подробно изучил при помощи опытов и описал математическими формулами.
Ньютон поставил проблему волн и корпускул перед потомками в серии вопросов, завершавших его замечательную «Оптику». Это был XVII век, а в следующем веке волновая теория света, опирающаяся па эфир и построенная Гюйгенсом, а затем усовершенствованная Френелем, вытеснила корпускулярную теорию Ньютона. Решающим аргументом послужила возможность объяснить всё разнообразие известных явлений при помощи одной-единственной гипотезы: свет — это поперечные колебания эфира.
Если не идти глубже, не пытаться понять, что такое эфир, то теория Гюйгенса — Френеля не только не приводила к противоречиям, но укреплялась, встречаясь с любыми возражениями и парадоксами. Так, например, Пуассон, на основании теории Френеля, рассчитал, что на экране — в центре тени от непрозрачного диска — должно периодически появляться светлое пятно. Это пятно должно пунктуально возникать и исчезать по мере отодвигания диска от экрана, на котором наблюдают его тень.
Но Пуассон, серьёзный и авторитетный учёный, заявил: этого не может быть!
Для рассмотрения работы Френеля Академия наук назначила специальную комиссию. В неё помимо Пуассона входили выдающиеся ученые: Араго, Био, Гей-Люссак и Лаплас. Комиссия согласилась с Пуассоном в том, что нельзя поверить в это предсказание, а значит, следует отвергнуть теорию Френеля, если… если он не подтвердит столь невероятное предположение опытом…
Такова судьба любых утверждений, построенных на гипотезах. Один-единственный опыт может опровергнуть все. Сколько заманчивых гипотез было опрокинуто экспериментом! Но в данном случае было не так.
Араго помог Френелю провести решающий эксперимент, и члены комиссии собственными глазами увидели периодическое появление света там, где «здравый смысл» предсказывал полную тень!
Казалось, теперь ничто не способно опровергнуть волновую теорию света. Тем более что после трудов Максвелла она, по существу, избавилась от последнего родимого пятна — от эфира. Уравнения Максвелла, хотя это было понято не легко и не быстро, сделали эфир излишним в волновой теории света. Свет, как частный случай электромагнитных волн, оказался самостоятельной субстанцией, способной существовать без помощи эфира, прямо в пустоте. Однако эта точка зрения продержалась недолго. Люди никогда не довольствуются достигнутым. Учёные не составляют исключения, а дороги науки не остаются подолгу прямыми.
Научившись сворачивать радужную полоску спектра в белый свет, Ньютон не только заложил основу экспериментальной физики, но и подвёл мину замедленного действия под здание воздвигнутой им же классической физики.
Исследования Ньютона дали толчок тому, что в конце концов превратилось в спектральный анализ — способ вещества на основе исследования свойств излучаемого или поглощаемого им света. Возник пристальный интерес к процессам взаимодействия света с веществом.
В середине XIX века начала интенсивно развиваться новая наука — термодинамика, возникшая как реакция на необходимость совершенствования паровых машин и на неудачи творцов вечных двигателей.
Попытки сочетать между собой эти две области науки и столкновение точек зрения термодинамики и спектрального анализа — привели в конце XIX века к удивительной ситуации, получившей наименование ультрафиолетовой катастрофы. Расчёты показывали, что, вопреки очевидности, нагретые тела не должны излучать видимого света. Если они и способны испускать электромагнитные волны, то лишь самые короткие, лежащие далеко за пределами фиолетового края солнечного спектра. Там, по предсказанию формул, уходит в ничто энергия нашего мира…
Отчаянные попытки крупнейших физиков рассеять призрак ультрафиолетовой катастрофы, сочетать теорию с опытом, не приводили к успеху. Выход в канун прошлого века нашёл немецкий физик Планк. Впоследствии, в своей нобелевской лекции, он говорил:
«После нескольких недель самой напряжённой в моей жизни работы тьма, в которой я барахтался, озарилась молнией, и передо мною открылись неожиданные перспективы».
Планк понял, что, несмотря на кажущуюся абсурдность его догадки, на очевидную противоречивость привидевшегося ему процесса, обмен энергией между световыми волнами и веществом происходит не непрерывно, на чём основывались прежние формулы, а малыми конечными порциями. Это вполне соответствовало бы ньютоновским корпускулам, но это никак невозможно представить, если продолжать считать, что свет — волны. Кроме того, если свет — волны, давно произошла бы ультрафиолетовая катастрофа, из мира ушло бы всё тепло.
Значит, энергия в природе передаётся не непрерывно, а толчками, квантами. Именно такой механизм существования энергии спасает мир от гибели…
Эта сенсация разделила всех учёных на два лагеря — верящих в точку зрения Планка и яростно ей сопротивляющихся. Сам Планк оказался во втором лагере. Он себе не верил…
Положение ещё более осложнилось неудачными попытками объяснить явление фотоэффекта, открытое также в конце XIX века Столетовым. Оно заключалось в том, что под действием света из металла вылетали электроны, вылетали подобно осколкам камня из стены, в которую ударяет пуля. Было очевидно, что свет способен вырывать электроны из поверхности металла, освобождать их поодиночке.
Снова опыт заставлял учёных отнестись серьёзно к мысли о прерывистой сущности света, снова намекал на его дробность.
В этих опытах по взаимодействию света и вещества была одна многозначительная тонкость: вероятность вылета электрона зависела не от силы света, а от его цвета. Более того, если цвет приближался к красному концу спектра, наступал момент, когда электроны не вылетали из металла вовсе — как ни увеличивали экспериментаторы интенсивность облучения.
Учёные в недоумении разводили руками — сильный красный свет ничего не мог поделать с электронами, тогда как фиолетовый, даже совсем слабенький, легко и непринуждённо вылущивал из тела металла электрон за электроном! Учёные ещё просто не осознали, что кван ты света, расположенного ближе к фиолетовому концу солнечного спектра, имеют большую энергию, чем кванты красного, розового и других более «тёплых» световых лучей.
Им надо было решить сразу две загадки: почему фотоэффект зависит от цвета облучающего вещество света и как свет, если он волна, взаимодействует с каждым электроном по отдельности?
Явление фотоэффекта не поддавалось разумному объяснению, если упорно стоять на одной позиции: считать свет волнами. Так могло быть только при двух условиях. Первое — если бомбардировка металла производится «пулями» света — тогда каждая «пуля» может взаимодействовать с электроном один на один. Второе условие — если световые «пули» обладают разной энергией. И этой энергии должно хватить для вырывания электрона. То есть энергия «пули» должна соответствовать или быть больше энергии, с которой электрон удерживается в теле металла.
Так обстоятельства вынудили физиков пойти на компромисс: признать, что волна света (хотя бы перед тем, как ударить в металл) дробится на отдельные цветные «пули». И каждая «пуля» выбирает себе жертву по «зубам», вернее, по цвету.
Это был только подступ к истине. Истину понял лишь Эйнштейн. Он предположил, что свет вовсе не дробится на отдельные порции перед тем, как упасть на металл, а существует в такой форме. Это его естественное состояние, его природа. С самого момента излучения, то есть рождения, он представляет собой отдельные порции электромагнитной энергии — кванты света, или фотоны, как их теперь называют по предложению Комптона.
Эйнштейна не смущало, что на основе фотонов, так же как при помощи ньютоновых корпускул, невозможно объяснить сразу все оптические явления: и огибание светом препятствий, и радужные круги в тонких плёнках разлитой нефти, и существование предельного увеличения микроскопа, и много других фактов, естественно вытекающих из волновой теории. Зато принятие квантовой структуры света аннулировало ультрафиолетовую катастрофу, нелепости фотоэффекта и ряд других парадоксов более глобального характера.
Итак, в обиход науки вошёл квант света, элементарная частица света. Но трудности в понимании природы света, его взаимоотношений и связи с материей не иссякали.
Начиная с 1706 года, вслед за малоизвестным Френсисом Хоксби, физики продолжали изучать красивое свечение, возникавшее при прохождении электрических разрядов через разреженные газы. Уильям Крукс в последней четверти минувшего века довёл эти исследования до такой полноты, что не сомневаясь утверждал: свечение вызывается движением частиц. Но каких? Ведь в сосудах не было других частиц, кроме молекул газа… Тут была тайна, более глубокая, чем могло показаться с первого взгляда.
Большинство учёных в то время склонялось к волновой теории этого свечения. Некоторые видели в нём новый вид излучения, поэтому за ним укрепилось наименование катодных лучей…
Крукс был ближе всех к истине. Но не понял её до конца.
Прошло почти два столетия после первого опыта Хоксби, когда его начинание привело к результатам, о которых он не помышлял и которые, наверное, ошеломили бы его. Оказалось, что, пропуская электрический разряд через газ, он, не подозревая об этом, получал электроны!
В 1895 году в Париже Жан Перрен, проводя опыты с катодными лучами, поставил на их пути магнит, и эти лучи отклонились так, как если бы они состояли из частиц, несущих отрицательный заряд. Контрольные опыты показали, что катодные лучи вовсе не нейтральные молекулы, о которых писал Крукс, а гораздо более лёгкие частицы, заряженные отрицательно.
Обычно считают, что именно опыт Перрена привёл к рождению электроники, хотя термин «электрон», предложенный за четыре года до того, не был связан с этим опытом. Джозеф Джон Томсон через два года определил для частиц, участвовавших в опыте Перрена, отношение их заряда к массе, а затем и величину этого заряда. Так впервые были измерены характеристики индивидуальной элементарной частицы. Конечно, не её имели в виду древние атомисты, не о ней говорил Фарадей, заключивший из опытов по электролизу о существовании в жидкостях заряженных частиц. Не эти частицы участвовали в явлениях, наблюдаемых при разнообразных опытах с газами и жидкостями. Электрон раскрыл людям глаза на то, что атомы, считавшиеся издревле самой малой частицей материи, сами имеют сложную структуру. Теперь электрон был признан мельчайшим кирпичом мироздания, получив титул первочастицы.
Так на рубеже XX века неделимые атомы греческих философов окончательно сошли со сцены, уступив место не новым атомам, а новым гипотетическим неделимым элементарным частицам, из которых состоят все атомы химических элементов.
И тут учёные вспомнили об одной отвергнутой, забытой гипотезе. Еще в 1815 году некто Праут на основании законов Гей-Люссака и своих измерений установил теперь всем очевидный, а для того времени почти мистический факт: атомные веса многих химических элементов кратны весу атома водорода… Элементы разные, свойства разные, а атомные веса почему-то связаны между собой….
В следующем году Праут высказал такую крамольную мысль, что о ней постарались забыть: атомы всех элементов — родичи, они все образованы посредством объединения атомов водорода.
Измерения Берцелиуса и других химиков показали, что это похоже на правду, только точная кратность атомных весов химических элементов почему-то не соблюдается. Это было непонятно: под рукой не было ни опытов, ни гипотез, могущих прояснить вопрос; начало XIX века изобиловало открытиями, и работы Праута потонули в море вопросов, не имеющих ответа.
Лишь открытие в 1868 году Менделеевым Периодического закона химических элементов возродило интерес к гипотезе Праута. Менделеев доказательно установил, что химические свойства элементов и многие их физические свойства находятся в периодической зависимости от их атомных весов. Отклонения же от точной кратности оставались непонятным фактом. Но это не могло подорвать убеждения в справедливости открытия Менделеева. Оставалось надеяться, что будущая теория всё разъяснит.
Учёные вступили на нехоженую тропу познания сложной структуры атомов и молекул. Трудно сказать, как долго их поиски продолжали бы оставаться бесплодными, не натолкнись они на явление радиоактивности — самопроизвольного превращения одних веществ в другие. Понимание законов этого процесса привело к новой точке зрения на химические свойства вещества, продемонстрировало механизм процесса, развивающегося внутри атомов.
Первый шаг здесь был сделан сотрудником Резерфорда Фредериком Содди. Он угадал причину неудач многих выдающихся химиков, пытавшихся выделить в чистом виде радиоактивные элементы. Содди объявил, что этого нельзя достичь химическими методами — могут существовать радиоактивные элементы, занимающие одну общую клетку в таблице Менделеева и химически неразличимые, но тем не менее имеющие различные физические свойства. В том числе различный атомный вес. И то, что исследователь принимает за один элемент, может быть на самом деле смесью радиоактивных разновидностей этого элемента. Естественно, что среднее значение атомного веса смеси чаще всего не может быть целым числом. Такие неотличимые по химическим свойствам элементы получили наименование изотопов.
Несколько десятилетий Резерфорд и Содди потратили на то, чтобы понять внутриатомный характер радиоактивных превращений и убедить мир в истинности своих выводов. Они писали: «…радиоактивность — это атомное явление, сопровождающееся химическими изменениями, в котором порождаются новые виды вещества… Радиоактивность нужно рассматривать как проявление внутриатомно го химического процесса!»
Нужно было очень верить в своё открытие, чтобы защищать теорию превращения элементов в самый разгар триумфа атомистики, когда большинство ещё верило в неделимость атома.
Содди умер лишь двадцать с лишним лет назад, он смог увидеть ещё при жизни, как плодотворна была его догадка.
Вскоре Томсон распространил идею изотопов на нерадиоактивный неон, атомный вес которого 20,2. Изучая движение атомов в вакууме и действуя на них одновременно электрическим и магнитным полем, Томсон разделил их на два сорта. Большая часть атомов неона имела атомный вес 20, а меньшая — 22. Томсон поручил разобраться в этом вопросе своему ассистенту Астону. Тот включился в работу, у него появились свежие идеи, но Первая мировая война прервала исследования — Астона призвали в армию.
Астон всё-таки успел внести в науку важный вклад. Он усовершенствовал электромагнитный метод разделения изотопов Томсона и создал замечательный по точности прибор, который назвал масспектрографом. Прибор сразу показал, что хлор с его нецелым атомным весом состоит из двух сортов атомов-изотопов: с массами 35 и 37. Число естественных нерадиоактивных изотопов быстро увеличивалось. Укреплялась вера в гипотезу Праута, ибо для первых тридцати элементов таблицы Менделеева целочисленные значения массы изотопов выдерживались с точностью до одной тысячной.
Исключение составлял только водород, для которого вместо единицы получалось 1,008 (если атомный вес кислорода принять в точности за 16)! Не веря себе, учёные продолжали измерять атомные веса, добиваясь всё большей точности.
Постепенно выяснилось, что для более тяжёлых элементов отклонение от целочисленности нарастает. Это невозможно было понять. Казалось бы, атомный вес тяжёлого элемента, составленного из нескольких водородных атомов, должен быть равен сумме их атомных весов. Но он всегда оказывался мень ше. Получалось, что масса нескольких, например десяти, свободных ядер водорода больше тех же десяти ядер водорода, слепившихся в ядро другого элемента. Почему?!
Астон, пытаясь ответить на этот вопрос, нащупал причину поразительного явления, о котором догадался Эйнштейн и которое не обнаружил ещё ни один эксперимент. Речь идет об удивительном выводе теории относительности: эквивалентности энергии и вещества.
После открытия Максвеллом законов электромагнитного поля выявилась иная, чем думали раньше, плоть мироздания. Не атомы и пустота, как считали древние атомисты; не сплошная материя, как хотелось верить Аристотелю. Плоть мира — это электромагнитное поле и вещество. Вот фундамент, на котором предстояло возводить новое здание мира. Надо было найти связь между этим полем — электромагнитным полем, включающим в себя свет, магнитные и электрические поля, — и веществом, мельчайшим зерном которого уже был признан электрон.
Первый шаг в объединении поля и вещества после Максвелла сделал голландец Лоренц. Он создал электронную теорию вещества. Он угадал, что электромагнитное поле Максвелла не нечто изолированное и оторванное от материи. Нет, в плоть поля природой вкраплены электроны — эти элементарные частицы вещества и одновременно элементарные частицы электричества (кванты вещества и электричества одновременно). Сочетание электронов с электромагнитным полем образует всё многообразие мира, все материальные тела. Лоренц нарисовал и механизм дыхания этой Вселенной: движение электронов порождает электромагнитное поле, а волны поля в свою очередь вызывают движение электронов.
Если электроны, частицы материи, являются одновременно и частицами поля, размышлял Эйнштейн, то что вынуждает нас фундаментом мира считать две ипостаси: поле и вещество? Не более ли логично опереться на одну реалию: поле? И самый мудрый из физиков мечтал охва тить все явления Вселенной теорией единого поля, включающего и электромагнитные волны, и гравитационные, и ядерные, и все известные и ещё неизвестные людям поля. Ему это не удалось, но он верил в целесообразность такой модели мира, чувствовал её исчерпывающую полноту — и кто знает, может быть, ещё при нашей жизни физика подтвердит эту концепцию…
Эйнштейн оставил нам теорию относительности — ключ к пониманию взаимоотношений поля и вещества. Эта теория помогает найти качественную и количественную меру взаимоотношений этих двух субстанций. И одна из мер — общий закон сохранения энергии и вещества, закон их эквивалентности.
Эйнштейн нашёл такие удивительные проявления закона эквивалентности массы и энергии (в мире больших скоростей и энергий), столь парадоксальные, не наблюдаемые в повседневной жизни, что физикам это казалось курьёзом, не заслуживающим внимания. Например, из теории относительности следовало, что масса движущегося тела больше его же массы в покое; масса нагретого тела больше массы холодного, частицы которого движутся медленнее. Разность, предсказываемая теорией, была столь мала, что казалось невозможным её обнаружить. И мысль о том, что одно и то же тело может иметь разную массу, считалась многими бредом.
И вот Астону посчастливилось натолкнуться на одно из проявлений этого парадоксального предсказания. В том, что ядро тяжёлого элемента, составленное из нескольких ядер водорода, имело иной вес, чем простая сумма весов тех же ядер водорода, но свободных, не связанных между собой, Астон увидел намёк на эйнштейновское утверждение.
В 1920 году он объявил, что при объединении протонов в более тяжёлые ядра результирующее ядро должно быть легче за счёт «эффекта упаковки». Это было прямое следствие положения Эйнштейна об эквивалентности вещества и энергии. И действительно, чтобы разрушить образовавшееся тяжёлое ядро и освободить протоны, потребовалось именно то количество энергии, которое соответствовало разности массы ядра и суммарной массы его осколков. Величина «дефекта массы» в точности определялась формулой Эйнштейна…
Итак, учёные, пытаясь ответить на «проклятый» вопрос о взаимоотношениях энергии и вещества, продвинулись ещё дальше в глубь атома, в его ядро.
Перед ними стояли фундаментальные проблемы. «Мы знаем, — писал Эйнштейн, — что всё вещество состоит из частиц немногих видов. Как различные формы вещества построены из этих частиц? Как эти элементарные частицы взаимодействуют с полем?»
Прежняя, классическая физика, не ведавшая о зернистой, квантовой структуре вещества и поля, не могла дать ответ.
Ответ могли принести только новые идеи, новые эксперименты.
ПОРВАННЫЕ НИТИ
Впрочем, мы забежали вперёд. Прослеживая торжественный марш новых идей, мы не должны забывать, что продвижение это носило драматический характер. Учёные разрушали многовековое представление об элементарности атома, цепляясь за старые истины, стремясь сохранить саму идею существования простейших, элементарнейших «прачастиц».
Томсон, определивший заряд и массу электрона, предположил, что именно электроны и есть эти «прачастицы», что из них возникают все атомы, если их объединяет между собой некая сила. В первом варианте этой гипотезы роль связующей силы играла магнитная сила. Но огромная — тысячекратная! — разница масс электрона и атома водорода делала такую гипотезу чрезмерно сложной.
Во второй гипотезе Томсон обращается к электростатической силе, считая, что пространство, в котором собраны электроны, образующие атом, способно действовать так, как если бы оно имело положительный заряд, равный сумме отрицательных зарядов электронов.
Неясность этой гипотезы составляет её основное достоинство — её трудно опровергнуть. Но она не позволяет понять, как устроен атом.
Томсон и другие учёные стремились уточнить эту модель и получили много интересных результатов. Предлагали ещё ряд моделей, но и они, как этого следовало ожидать от любого построения, основанного на гипотезах, не выдерживали проверки опытом. Всё это были симптомы глубокого кризиса физики начала прошлого века.
Трагедия одного из величайших физиков — Больцмана — показывает, как сложно обстояли дела в мире физики. Больцман покончил с собой. Он отчаялся в своей борьбе за материалистическое понимание явлений природы.
Решающий шаг внутрь атома сделал Резерфорд. Он обстрелял мишень из тонкой металлической фольги узким пучком альфа-частиц и… поразился! Наблюдения за дальнейшим поведением альфа-частиц заставили его сделать однозначный вывод: «Положительный заряд, связанный с атомом, сконцентрирован в крошечном центре, в ядре, а компенсирующий отрицательный заряд распределён в сфере с радиусом, сравнимым с радиусом атома».
Расчёты показали, что радиус ядра сравним с величиной, принятой тогда для радиуса электрона, а радиус атома превосходит его примерно в сто тысяч раз и составляет около стомиллионной доли сантиметра.
Так возникла планетарная модель атома: малое тяжёлое положительное ядро, вокруг которого вращаются электроны. Количество электронов таково, что их суммарный заряд компенсирует положительный заряд ядра.
Заряд ядра соответствует номеру элемента в таблице Менделеева. Химические свойства элемента определяются числом и взаимным расположением электронов.
Человеческое мышление склонно к аналогиям. Было ес тественно предположить, что электроны вращаются вокруг ядра, как планеты вокруг Солнца. Это выглядело весьма правдоподобно и просто: большое повторяется в малом.
Всё было хорошо в этой модели. Она могла непротиворечиво объяснить многие явления, но… не могла существовать! Физики сразу заметили неблагополучие в такой привлекательной картине. Солнце и планеты электрически нейтральны, а ядра атомов и электроны — это тела заряженные. И их взаимоотношения совсем иные. Следуя законам электродинамики, отрицательно заряженные электроны, вращаясь вокруг положительного ядра, должны постепенно потерять свою энергию и упасть на него. Но такого явления никто никогда не наблюдал. Если бы электроны атомов вдруг начали падать на ядра, настал бы конец света!
Итак, напрашивался единственный вывод: либо неверны законы электродинамики, либо атомы устроены иначе.
Правильность законов электродинамики не вызывала сомнений. Её подтверждала работа электрических двигателей и генераторов, действие радиотелеграфа, поведение стрелки компаса и многое другое. Кризис физики всё обострялся… Однако развитие науки шло по пути диалектического преодоления внутренних противоречий.
Выход из тупика указал в 1913 году Бор. Его объяснение повергло физиков в недоумение.
Представьте себе реакцию человека, которому сообщили сенсационную новость: в Азии совсем иные законы природы, чем в Европе. В Азии в отличие от Европы деревья растут вверх корнями…
Нечто похожее произошло в среде физиков, когда молодой датский учёный Нильс Бор высказал свою догадку: в микромире не применимы законы макромира. В атоме — другие законы природы, чем вне его. Если в свободном пространстве заряженное тело при движении по окружности теряет энергию, то внутри атома этого не происходит.
Бор утверждал, что электроны в атоме не подчиняются классической электродинамике: могут вращаться на опре делённых стационарных орбитах, не излучая энергии. Излучение происходит только при переходах электронов с одной из стационарных орбит на другую — более близкую к ядру. Тут электрон выстреливает порцию энергии — квант.
Бор на этом не остановился. Он сообразил, что величина излученной электроном энергии пропорциональна расстоянию между орбитами! (Сказанное нельзя понимать буквально: речь идёт не столько о расстоянии между орбитами в пространстве, сколько о различии энергий электрона на этих орбитах. — Прим. В.Г. Сурдина)
Если электрон перелетит недалеко, скажем, на соседнюю орбиту, он излучит маленький квант — красного цвета. А если перескочит на более дальнюю орбиту, то успеет излучить квант побольше — голубого или даже фиолетового цвета.
Бор своим предположением убил сразу двух зайцев: объяснил устойчивость атома и понял секрет цветных линий в спектрах излучения разных веществ.
Так, прибегнув к квантовой теории, он связал свою модель атома с опытными данными, полученными при помощи спектрального анализа. Поняв, почему в спектре каждого атома множество разноцветных линий — они иллюстрируют способность атома излучать кванты тех или иных цветов, — он сумел раскрыть и секрет строения атома, узнать схему расположения орбит, их возможное количество, расстояния между ними и многое другое.
Этот момент очень важен для истории науки.
Веками имея дело со сравнительно большими телами, люди привыкли считать, что энергию можно делить на произвольные порции. Когда оказалось, что в микромире это невозможно, что в атомных масштабах энергия способна существовать только как совокупность определённых порций — квантов — и что величину квантов надо определять с помощью новых, не известных ещё законов, многие физики от этого просто поначалу отмахнулись. Но когда датский фантазёр догадался, что квантовые законы обуславливают устойчивость атома — это, конечно же, не могло не изменить умонастроение даже отъявленных скептиков. Квантовые законы спасают мир от ультрафиолетовой катастрофы, делают атомы надёжнее крепостных стен — это было уже очень серьёзно. И внимание учёных в первой четверти прошлого столетия обращено на Копенгаген, где на большом творческом подъёме Бор и его единомышленники — молодые учёные разных национальностей — пересматривали старые истины и искали новые.
Психологически это был трудный поворот. Учёные, не успев привыкнуть к тому, что вместо непрерывных процессов, подчиняющихся законам классической физики, в природе царствует дискретность, прерывистость, должны были начинать новую жизнь: привыкать к мысли, что в микромире уже нельзя пользоваться формулами классической физики. Нужно выявлять квантовые законы и применять их для исследования микромира.
Недоумение, с которым встретили физики выход из тупика, указанный Бором, перешло в триумфальное шествие, когда Бор, а за ним теоретики Вильсон и Зоммерфельд начали на основе модели Бора рассчитывать спектры атома водорода. Модель позволяла наглядно представить и возникновение Периодического закона, открытого Менделеевым. Однако восторг сменился разочарованием, когда выяснились некоторые тонкие расхождения между расчётными величинами и наблюдаемыми спектрами водорода, а затем оказалось, что модель не позволяет рассчитать спектры более сложных атомов, даже второго по сложности атома — гелия. Возникла горькая поговорка: «Атом Бора это не атом бора, а атом водорода».
Так трагической неудачей закончился период величайших успехов физики начала прошлого века.
Тогда существовала надежда, что удастся построить наглядную и непротиворечивую картину мира, основанную на трёх простейших элементах: протонах — ядрах атома водорода, из которых образуются все ядра, электронах — ответственных за все электрические и химические явления, и фотонах — объясняющих все оптические явления и их связь со строением атома. Все эти надежды рухнули.
После перерыва, вызванного Первой мировой войной, физики вновь принялись за работу. Впрочем, физики старшего поколения, не призванные в армию, и в эти годы продолжали искать порванные нити старых и новых теорий.
В эти годы Эйнштейн трудился над обобщением теории относительности, желая найти в ней место для неравномерных движений, например для падения тел в поле тяготения и для вращательных движений. В 1916 году он достиг решающих успехов, опубликовав ряд работ, развивавших общую теорию относительности и позволявших охватить едиными формулами простые движения, поле тяготения и центробежные силы. Этим Эйнштейн заложил основу несбывшейся мечты всей его дальнейшей жизни — мечты о единой теории, описывающей все известные и ещё не открытые поля.
Одновременно Эйнштейн стремился понять, как можно примирить существование фотонов (частиц света) с такими явлениями, как дифракция и интерференция, свидетельствующими о том, что свет обладает несомненными волновыми свойствами.
Эйнштейна тревожило и то, что отсутствовала связь между механизмом взаимодействия энергии с веществом, понятого Планком (формулой Планка, освободившей науку от призрака ультрафиолетовой катастрофы), и боровской моделью атома, получавшей всё большее экспериментальное подтверждение. Нужно было как-то соединить эти две половины одной медали. Ведь то, что происходит внутри атома и вокруг него, несомненно, части одной картины.
Это оказалось непростым делом.
Эйнштейн нашёл выход. Он использовал и объединил далёкие в то время области — радиоактивность и теорию спектров.
Исследование радиоактивности выявило ситуацию, которую невозможно предсказать. Принудило признать наличие в природе непредсказуемых явлений: в частности, индивидуального акта радиоактивного распада. Заставило смириться с тем, что природа разрешает предугадать лишь то, какая доля атомов из данного количества распадётся за определённое время, но не позволяет узнать, когда именно это случится с тем или иным из них.
Среди законов природы есть закон случая. И когда учёные говорят о вероятностных явлениях, они имеют в виду те, что происходят по закону случая. Радиоактивный распад иллюстрирует именно непредсказуемые процессы.
Конечно, такая ситуация вызывала известное неудовольствие. Но что было делать, с этим приходилось мириться. Учёные, возможно, утешали себя примером Ньютона: тот тоже мирился с незнанием природы сил тяготения, удовлетворившись тем, что установил результат действия этих сил и сумел найти им количественную оценку.
А кроме того, нельзя сказать, что вероятностные законы оказались такой уж новостью. Они явились неожиданностью лишь в отношении атомов и элементарных частиц. В мире больших тел, в привычном нам мире не только учёные, но каждый из нас не раз сталкивался с законами случая.
Осень. Облетают листья. Совершенно очевидно, что почти все они упадут на землю. Но ни одна теория не предскажет, куда упадёт каждый лист. Можно лишь с определённой вероятностью утверждать, что листья будут располагаться в основном вокруг дерева. Большая их масса — под кроной. Часть отлетит в сторону. Какое-то количество будет унесено ветром.
Тут действует закон случая — «закон опадающих листьев»…
Эйнштейн смело использовал этот закон в применении к микромиру. Он провёл аналогию между вероятностью радиоактивного распада и вероятностью рождения фотонов при перескоке электронов внутри атома с орбиты на орбиту.
По мнению Эйнштейна, акты излучения и поглощения фотонов тоже подчиняются «закону опадающих листьев» — вероятностным законам. Эти законы относятся к поведению совокупности тел: листьев, атомов. Для большого скопления тел эти законы дают точную формулу поведения. Но о каждом из них в отдельности умалчивают. Для отдельного атома, как и для отдельного осеннего листа, за коны природы разрешают определить лишь вероятность того или иного события. Излучит атом фотон или поглотит — дело случая. Можно только подсчитать вероятность этого для данного отрезка времени.
Наверно, нечто подобное происходит при наступлении атакующей армии: можно определить, сколько снарядов и пуль выпустила в неприятеля эта армия, но невозможно установить, какой солдат или орудие и когда выпустило ту или иную пулю.
Вывод: нет и не может быть жёсткой связи между моментом рождения квантов внутри «атома Бора» при перескоке электронов с одной орбиты на другую и формулой Планка, рисующей поведение этих квантов — потока излучения из вещества — уже вне атома.
Это обескураживало физиков. Жизнь вносила в строгую, привычную к точности физику неопределённость, граничащую с произволом. Пока учёные видели лишь то, что вновь открытые ими квантовые законы запрещают, не видя ещё того, что они разрешают.
Об этом догадался опять-таки Эйнштейн. В его работе, опубликованной в 1917 году, был один нюанс, роль которого выяснилась много позже. Эйнштейн заподозрил возможность управлять излучением атомов. Он указал на то, что атом может излучать не только под влиянием непознанных ещё внутренних причин, но и в результате воздействия внешнего электромагнитного поля. Это был намёк на сенсационные возможности для техники будущего.
Важность этого замечания и его глубокий смысл долго ускользали от большинства учёных. Лишь незадолго до Великой Отечественной войны молодой преподаватель Московского энергетического института Фабрикант увидел в теории Эйнштейна возможность создать усилители света, работающие за счёт внутренней энергии атомов и молекул. Много позже, в 1954 году учёные следующего поколения Басов и Прохоров в Москве и независимо от них Таунс в Нью-Йорке, не зная о предложении Фабриканта, создали молекулярный генератор радиоволн, основанный, по суще ству, на той же работе Эйнштейна. Конечно, для создания этого прибора им пришлось учесть сложные закономерности из области радиофизики и молекулярной физики. Они вступили в интереснейшую область познания, давшую человечеству мазеры и лазеры, которые в свою очередь открыли широкие пути познания природы и развития технологии. Но об этом речь впереди.
Пока же мы должны понять, как постигали учёные давнюю дилемму «волна — частица».
Итак, Эйнштейн, уверовав в квантовую сущность природы, ещё дальше отошёл от волновой теории света. Остальные же учёные старшего поколения продолжали бить тревогу, указывать на то, что теория фотонов не способна объяснить те оптические явления, которые непринуждённо вытекают из волновых представлений. Эти учёные соглашались с фотонами лишь при одном условии: если фотоны представляют собой не физическую реальность, а только приём, облегчающий расчёты.
Впрочем, уже никто не считал эйнштейновские фотоны возвратом к прежним неделимым. Ведь фотоны появлялись в актах испускания и исчезали в актах поглощения, в то время как прежние частицы, например корпускулы Ньютона, считались вечными и неизменными.
Вскоре молодой американец Комптон, «крёстный отец» фотона, доказал, что фотоны могут не только рождаться и исчезать, но и видоизменяться. Он наблюдал воочию, как при столкновении с электроном фотон изменяет и свою энергию, и направление полёта. Конечно, можно сказать и так: при столкновении с электроном один фотон исчезает, а совсем другой рождается. Здесь различаются лишь слова. Суть состоит в том, что Комптон обнаружил доказательства реального существования индивидуальных фотонов.
Все попытки объяснить наблюдения Комптона при помощи волновой теории оканчивались неудачей.
Так, оптические явления всё более чётко располагались как бы в две группы. В одну входят те явления, которые непринуждённо объясняются на основании волновой теории и остаются необъяснимыми при помощи фотонов, во вторую — те, что не поддаются волновому описанию и с лёгкостью вытекают из представления о фотонах.
Известный исследователь рентгеновских лучей, лауреат Нобелевской премии Брэгг описал ситуацию так: каждый физик вынужден по понедельникам, средам и пятницам (занимаясь фотоэффектом и эффектом Комптона) считать свет частицами, а по вторникам и четвергам (изучая дифракцию и интерференцию) считать его волнами.
Вскоре это анекдотичное, а в сущности, неблагополучное положение распространилось в атомную физику.
Физиков беспокоило не только то, что модель атома Бора не позволяет объяснить спектры подавляющего большинства атомов — не даёт возможности понять, почему и когда атом излучает те или иные кванты энергии. Само существование стационарных орбит электронов в атоме оставалось необъяснённым. Почему электроны могут вращаться вокруг ядра на определённых расстояниях от него? Почему им нельзя вращаться на других расстояниях? Особенно многозначительным казалось то, что расстояния орбит от центра ядра кратны определённым числам, то есть тут явно не было случайности — тут сказывался жёсткий закон. Но какой?!
Первый подход к этой загадке нашёл совсем молодой французский физик Луи де Бройль. Он представил себе, что электроны в атоме — словно ноты на нотных строчках.
Расстояния между строчками указывают, что изменения частот звучания при переходе со строчки на строчку описываются определёнными дробными числами. Так же, как дробные числа, относятся между собой и радиусы орбит в атоме, на которых вращаются электроны.
И де Бройль представил себе, что электрон, словно некое умозрительное подобие звучащей ноты, тоже связан со своей волной. Что ему «уютно» только на такой орбите строчке, где укладывается целое число его волн. И если ему суждено перескочить на другую орбиту, то он «выберет» такую, где тоже уложится целое число волн. Так у каждого вещества образуется свой набор «нотных строчек», орбит. Это словно паспорт, по которому можно определить, какие кванты способны рождать электроны, перескакивающие с орбиты на орбиту в атоме данного элемента или вещества.
Так де Бройль связал между собой модель атома, придуманную Бором, механизм поведения в нём электронов с тем, что наблюдали исследователи при изучении фотоэффекта — связь цвета облучающего металл света с энергией выбиваемых из металла электронов. Всё это французский физик уяснил, размышляя о причинах, которые могли привести к появлению простых целочисленных значений при расчётах орбит электронов в атоме водорода.
Так он понял и секрет связи между частотой и энергией фотона — она уже не выглядела случайной. Физики убедились, что если на примере фотонов эти соотношения выявляют глубокую скрытую связь между корпускулярными и волновыми свойствами света, то на примере с электроном подобная связь существует между корпускулярными и волновыми свойствами материи.
Простая мысль привела к грандиозным следствиям… Теперь не только частица света (фотон) была связана со световой волной, но и электрон (частица материи) также оказался «в паре» с особой волной. Это приобретало уже философский смысл. Выявляло связь между веществом и энергией. И открывало новую страницу в понимании фундаментальных принципов природы.
Расчёт, проведённый де Бройлем, дал точное совпадение с боровскими орбитами. Более того: де Бройль показал в общих чертах, что его подход может позволить совместить теорию фотонов с явлениями дифракции и интерференции. То есть его предположение удовлетворяло и тех, кто считал свет частицами, и тех, кто определял его как волну. Между этими теориями оказался посредник — электрон, который раньше числился только частицей, а теперь, с лёгкой руки де Бройля, обзавёлся волновыми свойствами. Путь для слияния корпускулярной и волновой теорий света был найден.
Результаты де Бройля ошеломили учёных. Эйнштейн, всегда со вниманием относившийся к работам молодых, писал известному теоретику Борну о диссертации де Бройля:
«Прочтите её! Хотя и кажется, что её писал сумасшедший, написана она солидно».
ЧТО СКАЗАЛ БЫ НЬЮТОН!
Вскоре сверстник де Бройля, недавно скончавшийся Гейзенберг, разработал метод расчёта, позволивший ему, исходя из абстрактных математических принципов и не прибегая к гипотезе «частицы — волны», прийти ко всем результатам, полученным де Бройлем.
При этом он руководствовался оригинальным подходом к построению физических теорий. Он считал, что теория должна вытекать из опыта, описывать и предсказывать его результаты, но промежуточные этапы математических выкладок могут не иметь ничего общего с опытом. Что сказал бы на это Ньютон, все великие достижения которого опирались на опыт и только на опыт!
Самое трудное в этом методе — определить, на какой стадии вычислений получается то, что описывает реальность. Здесь на помощь приходит лишь интуиция и в то время ещё не ясный принцип соответствия, предложенный Бором. Суть этого принципа состояла в том, что законы классической физики должны вытекать из законов квантовой физики в тех случаях, когда квантовыми скачками можно пренебречь, когда явление из микрорамок переходит в макрообласть.
Эйнштейн протестовал против такого «рецептурного» пути в науке, когда для нахождения результата недостаточно учёта наглядных закономерностей и методов, а нужны ещё какие-то необъяснимые критерии. Он считал, что «всякая физическая теория должна быть такой, чтобы ее, помимо всяких расчётов, можно было проиллюстрировать с помощью простейших образов, чтобы даже ребёнок мог её понять».
Прошёл всего год, и важное, новое слово сказал третий молодой гений — Шредингер. Он показал, что между подходами де Бройля и Гейзенберга существует глубокая связь. Он написал знаменитое уравнение, носящее теперь его имя. С помощью этого уравнения можно было рассчитывать волновые процессы де Бройля, не прибегая к рецептурной математике Гейзенберга.
Результаты Шредингера произвели огромное впечатление. Это была настоящая, большая сенсация. Физикам казалось почти чудом, что результаты, получаемые абстрактными, основанными на применении малоизвестной за пределами узкого круга математиков теории матриц (так называется метод Гейзенберга), совпадают с результатами волновой механики (метод де Бройля), оперирующей совершенно иными и более доступными математическими средствами.
Успехи новой квантовой механики, которую некоторые предпочитали называть волновой механикой, омрачались глубокой, скрытой в ней принципиальной трудностью. Она переносила на частицы вещества — электроны и протоны — все противоречия и неясности, которые вновь ввела в оптику теория фотонов.
Теперь электроны и протоны, эти несомненно реальные корпускулы, оказались обладателями каких-то скрытых от непосредственного наблюдения волновых свойств. Свойств, проявляющихся в атомных спектрах, когда электрон выступает не как свободная частица, а как часть атомной системы.
Разумеется, если учёные хотели быть последовательными в этом утверждении, им нужно было продемонстрировать очевидный всем процесс, где проявляются эти волновые свойства частиц. Им необходимо было допустить, например, что поток электронов, проходя, через отверстие, должен обнаружить яв ление дифракции — такое же, как, скажем, у потока фотонов. Об этом, кстати, и говорил де Бройль, ожидая опытного подтверждения теории. Об этом же говорили и скептики, но как о парадоксе, которому суждено опровергнуть волновую механику.
Опыт наконец сказал своё слово. В Нью-Йорке — Девиссон и Джермер, в Абердине — Томсон и Рид, в Москве — Тартаковский независимо обнаружили дифракцию электронов при их прохождении через кристаллы или тонкие металлические фольги. Электроны вели себя, как волны света, морские волны, как любые традиционные объекты природы, обладающие волновыми свойствами! Но каждый электрон при этом оставался частицей…
Так был продемонстрирован дуализм электронов, вернее, дуализм их волновых и корпускулярных свойств. Впоследствии этот дуализм захватил в свою сферу протоны, а затем и все вновь открываемые частицы.
Очередной триумф теории одновременно расширил и углубил трещины в науке о материи, выявил неудовлетворительное состояние глубинных основ познания природы вещества.
Вопрос «волны или частицы?» требовал ответа.
После первых успехов и первых восторгов, как это часто бывает, наступило отрезвление. Опыт показал, что во многих случаях теория расходится с экспериментом, и не только малыми численными различиями. Например, иногда в спектрах атомов наблюдались линии, не предусмотренные теорией, и среди наблюдаемых линий отсутствовали предсказанные теорией.
Вскоре и эта загадка была решена. Ответ нашёл английский физик Дирак, один из тех «сердитых» молодых людей, которых не удовлетворяла классическая физика. Он утверждал, что причиной неудач является то, что ни де Бройль, ни Гейзенберг, ни Шредингер в своих теориях не учли теории относительности. Что же касается последующих попыток ввести в теорию соответствующие поправки — они были некорректными…
Дирак написал новые уравнения, объединившие принцип квантования и теорию относительности. Они оказались ещё более абстрактными и необычными, чем все предыдущие. Но их решения получались гораздо более близкими к реальности. В частности, из уравнений Дирака автоматически вытекал ответ на вопрос, волновавший физиков в течение трёх лет, предшествовавших работам Дирака.
Никто не мог понять, почему в спектрах некоторых веществ наблюдаются не только одиночные линии, но и двойные, вернее сдвоенные.
Два молодых физика Уленбек и Гаудсмит — это было в 1925 году — решились на авантюрный шаг. Они рискнули приписать электрону помимо заряда и массы ещё одно свойство — уподобили его вращающемуся шарику. Только в этом случае можно с лёгкостью объяснить необъяснимые квантовой теорией двойные спектральные линии. В соответствии с этой гипотезой, электрон ведёт себя как миниатюрный волчок. Его ось, подобно оси любого волчка, стремится сохранить своё направление, а вращательное движение его заряда приводит к появлению собственного магнитного поля электрона. Новое свойство получило наименование «спин» (от английского слова «вращаться»). Гипотеза спина хорошо объясняла непонятные до того особенности спектров, но казалась в высшей степени искусственной, ибо все попытки связать между собой известные характеристики электрона с моделью вращающегося шарика приводили к противоречивым и очевидным нелепостям.
Теория Дирака объясняла магнитные и механические характеристики электрона, не прибегая ни к каким моделям. И эти характеристики были в полном соответствии с опытом. Теория Дирака тоже исходила из предположения, что электрон обладает тремя равноправными свойствами — массой, зарядом и спином, но теперь не нужно было пытаться связать их между собой гипотезой о вращающемся шарике.
Наряду с блестящим решением загадки спина и преодолением многих расхождений первых вариантов квантовой теории с опытом теория Дирака привела к одному парадоксальному ре зультату, противоречившему всему, к чему привыкли физики.
Уравнения говорили о том, что электрон может находиться в состояниях с отрицательной энергией…
Явление, совершенно неслыханное: чтобы электрон начал двигаться, у него нужно отнять энергию. Чтобы привести его в состояние покоя — нужно придать ему энергию!
Эти выводы вызвали длительные споры. Споры не о том, верна ли теория, ибо во всех других случаях за неё был опыт, а о том, как понимать, как объяснить это её удивительное предсказание.
Состояние общей растерянности ещё более усугубилось, когда Дирак предложил выход, не менее парадоксальный, чем парадокс, который следовало объяснить. Он предположил, что его первоначальное толкование результата теории ошибочно, что теория не приводит к отрицательной энергии электрона, а предсказывает существование новой частицы, во всех отношениях тождественной электрону, но имеющей не отрицательный, а положительный заряд.
Физики скептически отнеслись к этой идее. Для них было достаточно известных элементарных частиц — электрона, протона и фотона, из которых так просто складывался весь мир.
Неопределённость господствовала ещё четыре года. Теория справлялась со всеми более сложными задачами, предсказывала новые эффекты, которые вскоре подтверждались опытами, а загадка отрицательной энергии и положительного электрона продолжала смущать тех, кто стремился к ясности и непротиворечивости.
В 1932 году Андерсон, а затем Блекнет и Оккиалини обнаружили при наблюдении космических лучей следы частиц, которые не поддавались объяснению, если не признать их следами положительных электронов. Впоследствии положительные электроны — позитроны — были получены и в искусственных ядерных реакциях.
По значению и по психологическому воздействию триумф теории, предсказавшей в то время существование новой элементарной частицы, можно сравнить лишь с открытием неизве стной ранее планеты Нептун. Теперь мы привыкли к открытию всё более и более удивительных микрочастиц, к предсказанию их свойств, которые затем подтверждаются опытом, и эти сенсации называем просто завершением очередной научной темы.
Наряду с триумфами квантовая теория продолжала встречаться с трудностями. Нерешённый вопрос — волны или частицы? — обращённый то к веществу, то к полю, — порождал новые противоречия.
Например, признав свет потоком фотонов, было естественно считать, что внутренняя полость раскалённой печи наполнена «фотонным газом». Но попытка применить к этому «газу» формулу Планка приводила не к ней, а к давно отвергнутой, ошибочной, «доквантовой» формуле Вина.
Индийский физик Бозе предположил, что корень ошибки — в применении к фотонам тех методов статистики, которые были разработаны для обычных частиц. Но обычные частицы, как думали в то время, вечны, они не рождаются и не гибнут, а фотоны рождаются при испускании и гибнут при поглощении. Иными словами, обычные частицы различимы, их можно, например, перенумеровать. Конечно, не практически, но принципиально это возможно. Фотоны же неразличимы, их нельзя перенумеровать даже в принципе. Если при выводе формул, описывающих статистические свойства частиц, учесть их неразличимость и применить эти формулы к фотонам, то вместо неверного результата Вина получается правильная формула Планка.
Эйнштейну пришлось редактировать немецкий перевод статьи Бозе, в которой излагались эти идеи. Одновременно он познакомился с диссертацией де Бройля, излагавшей волновую механику. Эйнштейн обнаружил глубокую связь этих внешне столь далёких теорий. Он показал, что идеи Бозе могут быть применены не только к фотонам, но к фотонному газу и к обычным газам, если число частиц в них не постоянно. На этом пути он получил ряд новых результатов в старой и, казалось, завершённой области молекулярной физики. Всё более очевидным становилось то, что классичес кая физика является частным случаем квантовой.
Порванные нити старых и новых теорий сближались…
Но для полной стыковки прежней, классической физики и новой время ещё не наступило.
Де Бройль продолжал упорствовать в своём мнении, склоняясь к концепции частиц, считая их волновые свойства в существенной мере формальными, а их появление в теории оправданным только для предсказания статистических свойств, наблюдаемых в опытах, где участвует много частиц.
Шредингер придерживался радикальной точки зрения, заключающейся в том, что частицы сохраняются в науке лишь в силу привычки, в то время как реальными являются волны света и волны на воде, связанные с частицами.
Де Бройль пытался построить компромиссную теорию, в которой частицы выступают как некоторые особенности, «узлы» в волне, но не смог справиться с математическими трудностями на пути описания этой идеи уравнениями. Без уравнений теория мертва. Она не может быть проверена опытом, и де Бройль отложил её до лучших времён.
Однако было в этой точке зрения нечто столь серьёзное, что вызывало симпатию даже Эйнштейна, скептически настроенного по отношению ко многим формальным идеям квантовой физики. Размышляя о механизме вкрапления материи в электромагнитное поле, Эйнштейн писал: «Вещество — там, где концентрация энергии велика, поле — там, где концентрация энергии мала. То, что действует на наши органы чувств в виде вещества, есть на деле огромная концентрация энергии в сравнительно малом пространстве. Мы могли бы рассматривать вещество как такие области в пространстве, где поле чрезвычайно сильно. Таким путём можно было бы создать основы новой философии».
Но в этой новой философии Эйнштейн видел всё-таки прежний фундамент: наглядное представление о предметах спора. Молодые творцы квантовой физики его не поддер живали. Гейзенберг, например, ни о каком компромиссе с прежними физическими воззрениями не помышлял. Он утверждал принципиальную невозможность объективного познания всех свойств частиц одновременно.
Он говорил, что, производя над квантовой системой измерения, чтобы описать исходные данные опыта, мы обязательно вносим в систему возмущения. Такие возмущения не могут быть учтены или вычислены. Поэтому состояние и последующие изменения системы оказываются в существенной мере неопределёнными. В результате, теория не может точно предвычислить результаты опыта. Предсказания теории могут иметь только статистический — вероятностный — характер.
Гейзенберг сформулировал свою идею в виде принципа неопределённости. В простейшем виде его суть состоит в том, что принципиально невозможно совершенно точно определить все характеристики квантовой частицы одновременно. Например, нельзя одновременно точно определить положение и скорость электрона, а значит, невозможно определить точную траекторию его движения.
Споры молодых рассудил Бор. Он предложил оригинальное решение дилеммы «волна или частица». Это решение подсказала Бору идея Гейзенберга, Бор заметил, что при учёте принципа неопределённости волновые и корпускулярные свойства не могут войти в противоречие. Чем точнее определяются волновые свойства частицы, тем неопределённее становятся её корпускулярные характеристики, и наоборот. Бор назвал оба аспекта дополнительными и, придав этому философский смысл, пытался успокоить сомнения физиков. Но принципом дополнительности Бор только разжёг огонь под костром тлеющих сомнений.
Смутные идеи дополнительности таили в себе глубокие трудности при описании причинной связи явлений микромира. Учёные старой школы — Лоренц, Планк, Эйнштейн и их последователи относились с большим сомнением к подобным идеям. Однако все попытки создать квантовую те орию, включающую классические представления о связи причин и следствий, начала и конца явлений микромира, так до сих пор не увенчались успехом.
По-прежнему оставался загадкой «вечный» вопрос о том, обладают ли волновыми свойствами отдельные частицы или же волновые свойства не присущи каждой индивидуальной частице, а возникают лишь как характеристика поведения совокупности частиц.
Пытаясь выяснить это, Фабрикант с сотрудниками провёл опыт с дифракцией электронов в таких условиях, когда электроны пролетали через их прибор поодиночке.
Результаты такого опыта должны были чётко ответить на вопрос о том, обладает ли каждый индивидуальный электрон волновыми свойствами или нет.
Не вдаваясь во все подробности и допуская некоторую схематизацию, опыт можно описать так: электроны достаточно редко вылетают из источника к экрану. По пути они должны пройти сквозь перегородку с двумя малыми, близко расположенными отверстиями. «Редко» — значит через такие промежутки времени, чтобы каждый электрон заведомо достиг экрана, прежде чем вылетит следующий. «Малые, близко расположенные» надо понимать так же, как при опытах с дифракцией рентгеновских лучей или дифракцией света — настолько малые и настолько близкие, чтобы дифракционные картины, образуемые каждым отдельным отверстием, перекрывались.
Если одно из отверстий было закрыто, опыт показывал, что точки попадания отдельных электронов в экран со временем дают картину, соответствующую дифракции волн де Бройля. Точка попадания каждого электрона определяется законами вероятности, а вероятность может быть предвычислена при помощи волновой теории.
Если же открыты оба отверстия, электроны по-прежнему попадают на экран по закону случая, но вероятность при этом соответствует дифракции волн де Бройля на двух отверстиях. Можно сказать, что электрон, пролетая через одно из отверстий, «чувствует», открыто другое или нет. В зависимости от этого изменяется вероятность его попадания в ту или иную точку экрана. Столь осознанное поведение электронов казалось просто мистикой.
Учёные увеличивали интенсивность пучка электронов так, чтобы сквозь прибор пролетало одновременно много электронов. Но это не изменяло результатов опыта. Разница состояла лишь в том, что та же картина получалась на экране соответственно более быстро.
Так опыт подтвердил, что движение каждого индивидуального электрона подчиняется вероятностным законам квантовой теории.
Положение с тех пор не изменилось. Вопрос «волна или частица» не получил радикального ответа. Учёные сошлись на компромиссном ответе: волна и частица. В одних условиях превалируют волновые свойства, в других — корпускулярные. Приходится привыкать к тому, что природа элементарных частиц сложнее, чем это думали, и всё ещё остается недостаточно изученной. Мы не знаем, почему существуют именно те элементарные частицы, которые нам известны; не можем предсказать, какие из них ещё ждут своего открытия. Не знаем, почему они обладают определёнными значениями массы, заряда и спина. Не знаем, сколько новых свойств проявится у этих частиц в добавок к тем, которые уже известны и получили удивительные названия — изотопический спин, странность, шарм (очарование)…(Действительно, выявляются всё новые и новые свойства элементарных частиц, а сами они предстают перед нами всё менее и менее элементарными. Считавшиеся неделимыми протоны и нейтроны оказались построенными из ещё более элементарных частиц — кварков, сцепленных между собой глюонами. У кварков и глюонов выявилось новое свойство, новое «квантовое число», условно названное цветом. Его сходство с цветом светового луча состоит в том, что и оно может принимать три основных значения (условно — «красный», «зеленый», «синий»), суммирование которых даёт бесцветную, «белую» частицу. — Прим. В.Г. Сурдина)
Ситуация в физике элементарных частиц прекрасно иллюстрирует положение диалектического материализма о познаваемости мира и о безграничности этого процесса. Мы всё лучше разбираемся в свойствах микромира, познаём его все глубже, но перед нами возникают все более широкие перспективы, нам открываются всё более тонкие детали. И каждому следующему поколению выпадают равные шансы на прозрения и заблуждения, на волнующие сенсации.
С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ?
Мир, в котором мы живём, лишь в малой степени доступен нашим органам чувств. Однако разум человека позволил ему проникнуть далеко за границы видимого и осязаемого. При этом наиболее существенное продвижение обеспечили не микроскопы и телескопы, непосредственно увеличивающие возможности глаз, а ускорители элементарных частиц, радиотелескопы, разнообразные приборы для исследования спектров и многие другие, среди которых особое место занимают электронные вычислительные машины. Можно сказать, что ЭВМ вооружают не органы чувств, а мозг — орган познания.
Именно мозг, а не органы чувств позволяют нам всё глубже проникать в микромир и макрокосмос. Ведь без приборов, порождённых мыслью учёных, инженеров и конструкторов, мы бессильны при обработке сотен тысяч фотографий, среди которых лишь на нескольких зафиксировано рождение неизвестной частицы или протекание загадочной реакции; без приборов мы не могли бы узнать что-либо о таинственных ядрах галактик и многое другое…
Нас уже не удивляет то, что новое в мире скрывается за пределами видимого и для его исследования необходимо создавать всё более сложные приборы.
Поразительно, что такое положение сложилось не только в глубинах атома, но и в современной астрономии, особенно в космологии, изучающей строение и развитие Вселенной.
В течение более двух тысячелетий астрономия основывалась на непосредственном наблюдении светил. Галилей, направив свою зрительную трубу в небо, обнаружил не только пятна на Солнце и спутники Юпитера, но и мириады звёзд, недоступных невооруженному глазу.
Увеличение размеров и точности телескопов позволило наблюдать всё более далёкие и всё менее яркие светила. Пришло время, и астрономы научились рассматривать даже объекты, совершенно не излучающие видимого света. Читатель вправе усомниться — телескоп не может зарегистрировать невидимую звезду! Речь не об этом. И даже не о наблюдении в недоступных глазу областях спектра, когда применяются специальные приборы, регистрирующие инфракрасное или ультрафиолетовое излучение. Речь идёт о косвенном наблюдении, если можно так выразиться.
Астрономы обнаружили очень маленькие периодические движения некоторых «неподвижных» звёзд. Какой они сделали вывод? Эти движения, по их мнению, свидетельствуют о том, что колеблющиеся звёзды обладают незримыми спутниками. При помощи спектрального анализа света загадочных звёзд и путём сложных расчётов удаётся получить много сведений об этих удалённых мирах. В одних случаях спутники оказались меньшими, чем видимая звезда, — это никого не удивило, их можно уподобить планетам (Позже открытие планет этим методом не подтвердилось. Наземные телескопы пока не могут измерять положения звёзд с такой точностью, чтобы по их периодическому смещению на небе обнаруживать присутствие рядом с ними планет. Но это оказалось возможным с помощью метода доплеровской спектроскопии, измеряющего периодическое движение звезды вдоль луча зрения наблюдателя. Начиная с 1995 г. этим методом у ближайших к Солнцу звёзд обнаружено около 200 планет. — Прим. В.Г. Сурдина).
В других — не только превосходят по массе видимую звезду, но остаются невидимыми! Ничего подобного астрономы раньше не знали и аналогий этому не находят. Обнаружение звёздных пар, в которых невидимая компонента превосходит видимую, поставило астрономов перед сложной задачей.
Эта задача осталась, по существу, нерешённой и по сей день. Но чтобы предугадать направление её возможного решения, оглянемся на путь, в конце которого остановился Ньютон, и попробуем ухватиться за кончик этой нити Ариадны. Может быть, она приведёт нас к пониманию секрета возникновения и невидимых, и видимых звёзд, и всего многообразия подлунного мира…
После того как была отвергнута догадка Аристарха о движении Земли и планет вокруг Солнца в угоду системы Птолемея, утвердившего неподвижную Землю в центре мироздания, прошли века.
Понадобилось мужество Коперника, чтобы восстать против мертвящей схоластики, освящённой клерикалами и поддерживаемой авторитетом священного писания. Мужество, подобное доблести сапёра, незримо и тихо подводящего грозную мину под крепость врага. Упорная работа в мрачном, грозящем обвалом штреке, рядом со страшной взрывчаткой требует не меньшей смелости, чем лихая атака.
Кеплер и Галилей, каждый по-своему, продолжили дело Коперника. Кеплер описал движение планет на языке математики. Галилей показал людям малое подобие Солнечной системы в виде спутников Юпитера.
Но людям недостаточно увидеть и даже описать видимое. Они хотят знать, почему происходит то, что наблюдают.
Ответить на вопрос «почему?» обычно много труднее, чем описать, «как» протекает то или иное явление. Труды армии учёных подготавливают фундамент для прорывов, которые под силу лишь гениям.
Загадка движений планет покорилась Ньютону. Для этого ему пришлось понять, записать в виде простой формулы, а потом применить закон всемирного тяготения. Закон, управляющий движением планет и звёзд, полётом пуль, падением яблока и грозными океанскими приливами. Законы Кеплера оказались простыми следствиями закона тяготения.
Всё казалось предельно ясным. Единый закон управляет множеством разнообразных явлений. Великая тайна мироздания открылась людям во всей своей гармоничной простоте. Учёные и простые люди преклонялись перед гением Ньютона, достигшего пределов познания.
Неудовлетворённым оставался прежде всего сам Ньютон. На фоне его грандиозных достижений ещё раз проявили свою мощь объективные законы познания. Объяснив, почему планеты движутся по своим орбитам, почему орбиты имеют форму эллипсов и многое другое, Ньютон хотел знать, как началось движение планет. Закон тяготения и все законы механики оказались недостаточными, чтобы ответить на этот вопрос. Ньютон так и не сумел понять, с чего всё началось. Ему пришлось обратиться к воле божьей, к первому толчку, причина и природа которого лежали за пределами механики, созданной Ньютоном.
Ньютон передал нерешённую загадку потомкам, и она казалась доказательством благости божественного промысла, создавшего мир, свидетельством тщетности попыток понять, как протекал процесс созидания.
С этим не захотели мириться философ Кант и математик Лаплас. Оба они стремились понять строение и развитие мира без ссылок на божью волю. Они нашли в законах Ньютона всё нужное для этой цели. И создали свою версию возникновения мира. Их гипотеза вышла далеко за пределы астрономии и физики, став гимном и знаменем освобождения человеческого разума от всяких догм.
Гипотеза Канта — Лапласа исходит из данных астрономических наблюдений. Астрономы обнаружили в бескрайних глубинах Вселенной огромное количество туманных образований. Одни из них имеют спиральную форму. Другие оказываются шаровыми скоплениями множества звёзд. А есть и такие, что сохраняют вид газовых облаков, и исследования спектров их свечения подтверждают их газовую структуру.
Не являются ли газовые шаровые туманности первоначальной стадией эволюции звёздных миров? Это было простое и заманчивое предположение. Сжимаясь под влиянием сил тяготения, туманности вполне могут распасться на части, из которых впоследствии постепенно образуются звёзды.
Напрашиваются два варианта эволюции. Один приводит к шаровым звёздным скоплениям, в которых звёзды расположены более или менее равномерно. Другой ведёт к образованию вращающихся спиральных скоплений, в которых звёзды сосредоточены в рукавах, закрученных вокруг центра туманности.
И почему бы при этом не допустить, что процессы, ответственные за распад первоначальной туманности (по крайней мере в спиральных скоплениях), не только продолжаются до стадии образования звёзд, но и приводят к появлению их спутников-планет?
Математические расчёты, проведённые Лапласом с учётом законов механики Ньютона, подтвердили полное соответствие этой гипотезы законам всемирного тяготения.
Согласно ей первичная туманность, вращаясь, распадается на части, из которых постепенно возникают Солнце, планеты и их спутники. Не удивительно, что наградой авторам этой впечатляющей научной сенсации был триумф и признание.
Великое значение гипотезы Канта — Лапласа, не оставившей в модели мироздания места для Бога, не умаляется тем, что со временем она оказалась совершенно несоответствующей действительности.
Главная неувязка проявилась при распределении между Солнцем и планетами в момент рождения первоначального количества вещества и энергии. Ведь если все они рождены в одной туманности, то должны были поделить между собой в соответствующих пропорциях и её массу, и энергию вращения. Но то, что дарила новорожденным гипотеза Канта — Лапласа, противоречило законам механики при всех разумных предположениях о свойствах первоначальной туманности. Не давали баланса и вращательные движения Солнца и планет — они не укладывались в разумную схему.
Нет, Кант и Лаплас не дали убедительного ответа на вечный вопрос о происхождении Солнечной системы.
На смену пришла гипотеза астронома Джинса: планеты возникли из Солнца под влиянием притяжения другой звёзды, случайно прошедшей мимо Солнца на достаточно малом расстоянии.
Джинс рассчитал, что при этом, в соответствии с законами Ньютона, на Солнце возникает огромная приливная волна. Она не падает обратно, а распадается на части. Планеты и их спутники, возможно, — остывшие части такой раскалённой приливной волны. При этом непосредственно объясняется и существование нагретых земных недр — остатков первоначального костра, и отсутствие атмосферы на Луне, и многое другое, что, впрочем, объяснялось и гипотезой Канта — Лапласа.
Несостоятельность гипотезы Джинса вскрылась скорее, чем пороки её предшественницы. Она, как и гипотеза Канта — Лапласа, не могла объяснить, почему некоторые члены семейства Солнечной системы вращаются на встречу остальным. Выявились и другие противоречия.
«Проклятый» вопрос о происхождении Солнечной системы не сходил с повестки дня научных дискуссий.
Следующим крупным шагом стала гипотеза известного советского учёного-математика, астронома и полярника Шмидта. В ней были отзвуки прежних мнений, нечто общее с гипотезой Канта — Лапласа. Но содержались и существенно новые идеи: планеты, по мысли Шмидта, возникли как результат объединения твёрдых частиц, входивших в газово-пылевое облако, первоначально заполнявшее окрестности Солнца. Как объясняется в этой гипотезе разогрев недр крупных планет? Радиоактивными процессами. А странные обратные движения некоторых небесных тел? Они могут по логике рассуждений возникнуть в ходе объединения частиц, получивших такие движения в результате случайных столкновений в первоначальном газово-пылевом облаке. Несоответствие в распределении массы и вращательного движения между планетами и Солнцем, оказавшееся непреодолимым для гипотезы Канта — Лапласа, объяснялось дополнительной гипотезой: газово-пылевая туманность не возникла вместе с Солнцем, а была им захвачена впоследствии при встрече в просторах космоса.
Распределение масс и движений ничем не связаны и определяются произволом случайности.
Гипотеза Шмидта до сих пор считается наиболее привлекательной. Однако и против неё имеются возражения. Загадка происхождения Солнечной системы так и не решена окончательно.
Не следует забывать, что гипотеза Шмидта, как и её предшественницы, рискует объяснить лишь образование планет Солнечной системы. Ни одна из гипотез не проливает света на развитие Вселенной как целого, на проблему возникновения звёзд, на образование и эволюцию звёздных скоплений и газовых облаков.
В прошлом веке, когда гипотеза Канта — Лапласа ещё не была отвергнута, положение казалось вполне удовлетворительным. После того как её неприменимость к образованию планетных систем была общепризнана, большинство учёных предпочитали сохранить её для объяснения ранних стадий развития Вселенной, для описания эволюции газовых туманностей в звёздные скопления. Но прежняя уверенность всё более слабела по мере накопления новых наблюдений.
Решающий перелом в космологии, как и во многих других областях, вызвала теория относительности. Сразу после создания общей теории относительности, включившей в свою сферу поля тяготения, Эйнштейн применил её к решению задачи о строении Вселенной.
И это было подобно тому, словно человечество построило новый телескоп, обладающий необыкновенной зоркостью. Правда, самую впечатляющую находку заметил не Эйнштейн, а мало кому известный в то время ленинградский математик Фридман, интересовавшийся до того главным образом проблемами метеорологии. Он обнаружил, что Эйнштейн не увидел странного вывода, вытекающего из уравнений общей теории относительности.
Фридман ещё раз обнаружил, что уравнения иногда оказываются «умнее» своего создателя. Фридман понял, что одно из возможных решений эйнштейновских уравнений общей теории относительности описывает эволюцию Вселенной как её постоянное расширение. В соответствии с этим можно строить достоверное предположение о том, что вся масса Вселенной была первоначально сосредоточена в чрезвычайно плотном и горячем сгустке. А затем началось расширение, и это расширение происходит до сих пор… Причём скорость расширения возрастает по мере увеличения расстояний… Необычность выводов Фридмана, помимо прочего, состояла в том, что любая точка пространства рассматривалась им как центр расширяющейся Вселенной.
Никто, даже Эйнштейн, не поверил Фридману. Но вскоре он понял, что решение Фридмана не содержит ошибки. Он сообщил об этом в специальной статье, в которой отметил и то, что ранее заблуждался и не понял работу Фридмана.
Прошли годы, решение, найденное Фридманом, получило неожиданную опору в наблюдении астронома Хаббла.
О сенсационном наблюдении Хаббла много писали, все о нём знали, но то, что обнаружил Хаббл, не перестаёт поражать воображение: все отдаленные туманности убегают от нас с огромными скоростями, причём скорость каждой туманности тем больше, чем дальше она отстоит от Земли. Многие астрономы подтвердили правильность наблюдений Хаббла, но объяснить причины этого удивительного разбегания не мог никто. Это была ещё одна загадка, которую природа подбросила человеку в дополнение ко многим и многим все ещё не решённым.
Впоследствии оказалось, что решение Фридмана спо собно привести к различным вариантам эволюции Вселенной. Она может не только безгранично расширяться, но и совершать пульсации, при которых стадии расширения сменяются стадиями сжатия. Но так ли это? Здесь приходится полагаться только на формулы, воображение и интуицию. Учёные до сих пор не могут прийти к единодушию в этом вопросе. Опыт, который помог бы сделать окончательный выбор, ещё не даёт достаточно точных результатов. (В самом конце XX века астрономы обнаружили, что расширение Вселенной не подчиняется ни одному из тех вариантов, которые считались единственно возможными в момент написания этой книги. Судя по последним данным, взаимное удаление галактик и их скоплений происходит не с замедлением скорости, которое должно было наблюдаться из-за взаимного притяжения галактик, а напротив — с ускорением, причиной которого считается новое явление — всемирное антитяготение. Пока не ясно, чем оно вызвано. Неизвестный вид материи, ответственный за антитяготение, называют тёмной энергией, квинтэссенцией и т. п. Любопытно, что и это новое свойство Вселенной также хорошо описывается теорией Фридмана. — Прим. В.Г. Сурдина)
ПОИСКИ СВИДЕТЕЛЕЙ
И Ньютон, и Эйнштейн, и Фридман лишь в малой степени ответили на вопрос, «как» развивалась Вселенная. Но почему всё произошло так, а не иначе, есть ли в природе свидетель возникновения мира — на эти вопросы все ещё нет ответа.
Вселенная задаёт учёным всё новые и новые загадки. Но разум человека мужает, и на многие вопросы уже найдены ответы. А если не найдены, то нащупаны пути, которые должны привести к ним. По одному из них учёных повела радиоастрономия. Возникновение радиоастрономии, исследующей радиоволны, приходящие к нам из глубин Вселенной, привело к обнаружению удивительных объектов, получивших название квазары. Квазар — это квазизвёздный источник. Размеры его схожи с размером отдельной звёзды, а излучаемая энергия близка к излучению огромных звёздных скоплений. Природа квазаров и причина извержений столь колоссальных количеств энергии всё ещё не поддаются пониманию(Как стало понятно в последние годы, квазары — это невероятно активные ядра крупных галактик. Причиной активности в большинстве случаев, по-видимому, является расположенная в центре галактического ядра гигантская чёрная дыра с массой в десятки и даже сотни миллионов масс Солнца. Своим притяжением она разрушает пролетающие мимо звёзды и поглощает их вещество. Падение вещества в чёрную дыру происходит со скоростью, близкой к скорости света. Взаимное трение слоёв газа сильно нагревает их и делает мощным источником рентгеновского и оптического излучения. За счёт этой же энергии часть вещества отбрасывается от чёрной дыры в виде быстрых и тонких струй. — Прим. В.Г. Сурдина).
Пока астрономы делились догадками по поводу этого нового вида звёзд, был открыт ещё один класс таинственных объектов, заставивших учёных вернуться к одной из гипотез, считавшейся ошибочной. Группа английских радиоастрономов обнаружила при помощи радиотелескопа неожиданные сигналы, приходящие из космоса один за другим с периодичностью, превосходящей точность хода большинства часов. Прежде чем думать о природе этих сигналов, нужно было убедиться в том, не вызваны ли они помехами промышленного происхождения или не излучаются ли какой-либо специальной радиостанцией. Проверки показали, что сигналы приходят из космоса.
Нельзя было сразу исключить и волнующую возможность того, что сигналы были искусственными и приходили от планеты, обращающейся вокруг одной из отдалённых звёзд. Но в этом случае, при наблюдении в течение нескольких недель, в этих сигналах должны были бы обнаружиться характерные изменения, обусловленные движением планеты. Доктор Хьюиш, руководитель группы астрономов, проводившей эти наблюдения, сказал:
«Эти недели в декабре 1967 года были, несомненно, самыми волнующими в моей жизни».
Ожидаемые изменения сигнала не были обнаружены. Гипотеза о контакте с внеземной цивилизацией отпала.
После недолгих сомнений астрономы поняли, что им
удалось найти экспериментальное подтверждение одной из мало популярных космологических гипотез, представлявших сплав теории относительности и физики элементарных частиц. Корни этой гипотезы уходят в глубь проблемы источника энергии, поддерживающей свечение Солнца и звёзд.
Первоначально, в соответствии с гипотезой Канта — Лапласа, казалось, что этим источником являются силы тяготения. При сжатии туманностей и при дальнейшем сжатии звёзд силы тяготения вызывают нагревание сжимающегося вещества. Однако по мере уточнения теории и накопления экспериментальных данных выяснилось, что сил тяготения недостаточно для объяснения эволюции звёзд.
Геологи установили, что возраст Земли много больше, чем время, за которое Солнце должно было бы излучить все запасы энергии, могущие образоваться за счёт сил тяготения. Значит, внутри Солнца действуют какие-то другие источники энергии.
Попытка объяснить длительное свечение звёзд энергией радиоактивного распада, вселившая поначалу большие надежды, окончилась неудачей, когда были достаточно точно изучены законы радиоактивных превращений и подсчитана относительная доля различных элементов во Вселенной.
На смену пришла гипотеза термоядерного синтеза.
Эта гипотеза, сыгравшая роль и при создании водородной бомбы, казалась надёжно подтверждённой, в частности, опытами с этим страшным оружием.
Однако в самое последнее время уверенность в справедливости этой теории, во всяком случае в верности лежащей в её основе цепочки ядерных реакций, была поколеблена экспериментом.
Дело в том, что в ходе предполагаемых ядерных реакций в недрах Солнца должно выделяться огромное количество нейтрино. Оставалось одно — проверить это предположение, поймать нейтрино. Но нейтрино — удивительные элементарные частицы. Нейтрино, как и фотон, не может находиться в покое, всегда движется со скоростью света8, не имеет заряда и, в отличие от фотонов, почти не взаимодействует с веществом! Вернее, это взаимодействие столь слабо, что нейтрино может почти наверняка проскочить сквозь толщу Земли, ни за что не «зацепившись». Лишь малая часть всего потока нейтрино, исходящих из Солнца, может задержаться в земной толще из-за взаимодействий с ядрами атомов, образующих земные породы.
Неуловимость нейтрино долго мешала экспериментальному подтверждению их существования. Прошло много лет после того как Паули, физик-теоретик, в 1931 году постулировал их существование, а нейтрино всё ещё оставались неуловимыми. Лишь в 1956 году были наконец зафиксированы нейтрино, исходящие из ядерного реактора. Но солнечных нейтрино попрежнему ни в одной лаборатории мира изловить не удавалось.
(Оказалось, что это не так: как показали эксперименты 1998–2002 гг., нейтрино трёх известных сортов — электронное, мюонное и тау — могут превращаться одно в другое, а значит, нейтрино имеет массу покоя (хотя и очень маленькую), движется со скоростью меньше скорости света — Прим. В.Г. Сурдина)
Надо было изучить свойства, характер, все особенности этих элементарных частиц, чтобы понять, каким прямым или косвенным образом можно опознать их. Большой опыт в этой области физики имеет советский учёный академик Понтекорво. Он внёс значительный вклад в изучение нейтрино. Он же предложил и схему эксперимента для поимки солнечных нейтрино. Понтекорво решил использовать для этой цели перхлорэтилен — вещество, широко применяемое для чистки одежды. Нейтрино должны превращать ядра хлора-37, содержащиеся в этой жидкости, в
КВАНТЫ И МУЗЫ
Независимо от выяснения деталей реакции термоядерного синтеза все хотят знать, что ожидает Солнце и звёзды, когда в них истощатся ресурсы термоядерного горючего? Мы хотим знать, что будет, когда вырабатываемая из него энергия уже не сможет сдерживать сжатия, обусловленного силой тяготения?
Особенно остро этот вопрос стоит для массивных звёзд. Например, звезда, масса которой в 10 раз превышает солнечную, светит в 10 тысяч раз сильнее Солнца. При этом такие звёзды могут сиять лишь 10–20 миллионов лет. Что с ними будет позже? Расчёты показывают, что эти звёзды не могут пройти путь, уготованный Солнцу.
Солнце, по исчерпании ресурса своих термоядерных реакций, через десяток миллиардов лет превратится в маленькую яркую звёздочку, подобную известным астрономам белым карликам. При этом силы тяготения сделают его вещество в миллион раз более плотным, чем вода на поверхности Земли. Затем начнётся длительный этап дальнейшего сжатия и постепенного охлаждения.
Ещё в 1929 году астрофизик Фаулер пытался изучить этот этап эволюции звёзд при помощи недавно созданной квантовой механики. Он обнаружил, что гравитационное сжатие может объединить всю массу звёзды в подобие огромного атомного ядра. После того как в 1932 году был открыт нейтрон, молодой советской теоретик Ландау предположил, что со временем этот процесс приведёт к превращению почти всей массы звёзды в сгусток нейтронов, обладающий плотностью, ещё в миллиард раз превышающей плотность белых карликов. Такое вырожденное нейтронное состояние может возникнуть в звезде только после окончания всех термоядерных реакций, когда тлеет остывающий «пепел» бывшего светила.
Здесь мы должны возвратиться к открытию английских астрономов. Сейчас твёрдо установлено, что они обнаружили именно нейтронную звезду. Уже известно несколько сотен таких звёзд, названных пульсарами. Некоторые из них с завидным постоянством излучают не только импульсы радиоволн, но и вспышки света.
(Уже обнаружено более 2000 нейтронных звёзд, в основном это радиопульсары, а также рентгеновские и оптические пульсары. — Прим. В.Г. Сурдина)
ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ.
Теперь мы знаем о пульсарах многое. Это очень малые объекты, диаметром в несколько километров. Оказалось, что вещество пульсара при температуре в миллиард градусов ведет себя так, как обычное вещество вблизи абсолютного нуля. Эта нейтронная сверхтекучая «жидкость» окружена тонкой железной «корой». Пульсар быстро вращается, излучая узкий пучок электромагнитных волн, оббегающий пространство подобно лучу прожектора. Когда этот пучок проходит через Землю, приборы регистрируют вспышку излучения пульсара. Период этих вспышек медленно возрастает по мере того, как звезда излучает свою энергию в пространство.
Однако периоды замедления иногда прерываются скачкообразным ускорением вращения. Это связано с «пульсаротрясениями»: натяжения в железной коре в процессе сжатия возрастают настолько, что она ломается и пульсар, уменьшившись в размерах, начинает вращаться быстрее.
Все эти сведения о пульсарах дали расчёты, проведённые на основе теории и наблюдений за изменением периодов их вращения. И эти расчёты бесценны для понимания, для пополнения наших знаний о природе небесных тел. Они не только предсказывают судьбу нашего Солнца и подобных ему небесных тел, но и проливают свет на будущее других светил. Те же расчёты свидетельствуют, что звезда, всего в полтора-два раза более массивная, чем Солнце, не может превратиться в белого карлика. Не станут белыми карликами и звёзды, обладающие ещё большей массой. Так люди узнали, что судьба у звёзд разная!
Очень часто знанию предшествует догадка, предчувствие. И около сорока лет назад, задолго до открытия пульсаров, известный индийский астрофизик Чандрасекар пришёл к тем же выводам, к которым сегодня привели расчёты.
Он писал: «История жизни звёзды малой массы должна существенно отличаться от истории жизни звёзды большой массы. Для звёзды малой массы естественно достигаемое состояние белого карлика является первым шагом к полному угасанию. Звезда с большой массой не может превратиться в белого карлика, и нам необходимо искать другие возможности».
Сейчас это общепризнанный результат. Но тогда этому никто не поверил. Вот что писал, возражая Чандрасекару, маститый астроном Эддингтон: «Звезда будет продолжать излучать и излучать, сжиматься и сжиматься до тех пор, пока она, я полагаю, не достигнет радиуса в несколько километров, тогда гравитация окажется достаточно сильной, чтобы “запереть” излучение, и звезда наконец-то сможет обрести покой».
В 1972 году Чандрасекар сказал по этому поводу:
«Если бы Эддингтон здесь остановился, мы могли бы воздать ему должное за первое предсказание существования “чёрных дыр”»…
Но… Он не остановился. Вот что мы читаем дальше у Эддингтона: «Я чувствую себя насильственно подведённым к выводу, который является почти доведением до абсурда релятивистской формулы вырождения… Я уверен в существовании закона природы, предохраняющего звезду от вступления на этот абсурдный путь».
Так Эддингтон свернул с пути, ведущего к замечательному открытию. А ведь у него уже было больше данных, чтобы приблизиться к истине, чем, скажем, у Лапласа. Однако тот почувствовал возможность существования того, что мы называем «чёрной дырой», почти двести лет назад! Он даже вычислил, какими должны быть масса и радиус звёзды, чтобы ни вещество, ни свет не могли покинуть её поверхности. Лаплас писал об этом в 1798 году. В то время расчёт Лапласа казался курьёзом, далёким от реальности. Однако его результат точно совпадает с тем, который получается из общей теории относительности! Звезду, которая втягивает в себя не только частицы, но и электромагнитные волны, теперь называют «чёрной дырой».
Прежде чем остановиться на этом явлении природы подробнее, ответим на вопрос: что может произойти со звездой, которая слишком массивна для того, чтобы спокойно пойти по пути эволюции через состояние белого карлика к пульсару?
Расчёты показывают, что, скорее всего, процесс приведёт к катастрофе. Сжимаясь под действием гравитационных сил, более не сдерживаемых истощившейся энергией термоядерного синтеза, звезда потеряет устойчивость и испытает подобие колоссального взрыва. При этом огромная часть массы её будет выброшена в пространство. Люди неоднократно наблюдали такие взрывы в виде появления необычайно ярких, быстро угасающих звёзд. Одна из таких «сверхновых» наблюдалась примерно тысячу лет назад, и её остатки мы знаем в форме Крабовидной туманности.
Если выброшенная масса будет такой, что остаток звезды может эволюционировать по пути белого карлика, она постепенно превратится в стабильную нейтронную звезду, в знакомый нам пульсар. Именно это и произошло со «сверхновой» в Крабовидной туманности.
Однако такой вариант не может быть единственным. Более того, он представляется мало вероятным, а значит, сравнительно редким.
Скорее всего, звезда, первоначально в 10 раз превосходившая по массе Солнце, не попадёт в узкий «коридор» такой эволюции. В этом случае гравитационное сжатие перейдёт в коллапс, и звезда сожмётся до состояния, предвиденного Лапласом: всё более возрастающие гравитационные силы «запрут» её излучение. Она перестанет быть видимой.
Таких «чёрных дыр» может быть очень много. Предполагается, что в центрах галактик существуют огромные «чёрные дыры» с массой от десяти тысяч до десяти миллионов солнечных масс, непрерывно поглощающие окружающее вещество, а иногда и целые звёзды.
Эту теорию трудно подтвердить опытом, ибо «чёрную дыру» нельзя видеть непосредственно. Но если она имеет спутника в виде обычной звёзды, то, наблюдая её излучение, можно заключить, что незримым партнёром является именно «чёрная дыра».
Астрономы уже изучили движение десятков звёзд, намекающих на то, что их партнёрами являются «чёрные дыры». Но ни одна из них пока не обнаружила всей совокупности признаков, которые должна демонстрировать такая пара.
Одним из решающих доводов в пользу того, что невидимый партнёр является «чёрной дырой», должно быть мощное рентгеновское излучение. Оно неизбежно возникает, когда поле тяготения «чёрной дыры» втягивает в себя вещество из окружающего пространства, придавая частицам этого вещества всё возрастающее ускорение. Будучи партнёром обычной звёзды «чёрная дыра» постепенно всасывает в себя газовую оболочку своего партнёра. Возникшее рентгеновское излучение — словно сигналы бедствия. Но до Земли они не доходят. Они тонут в толще атмосферы.
Что ж, спросит читатель, позывные «чёрной дыры» так и останутся не услышанными?
Рентгеновское излучение из космоса стало предметом тщательного изучения после того, как космические лаборатории, вращающиеся вокруг Земли, были оснащены специальными приёмниками рентгеновских лучей — рентгеновскими телескопами. Эти телескопы обнаружили и позволили изучить рентгеновское излучение, исходящее от Солнца, звёзд и различных галактик. Что же мы узнали о «чёрных дырах» от этих разведчиков?
Все наблюдения как бы группируются в две категории. В одних случаях (их большинство) источники рентгеновского излучения совпадают с видимыми объектами. В других — такое совпадение отсутствует. Вот тут-то можно предположить, что сигналит именно «чёрная дыра»! Однако доказать это пока невозможно.
Когда источник рентгеновского излучения совпадает с видимым объектом, можно по ряду признаков судить о природе источника. Тщательное исследование показало, что природа всех известных до сих пор источников рентгеновского излучения может быть понята и объяснена без привлечения гипотезы «чёрных дыр».
До последнего времени было известно только одно исключение: рентгеновский источник Лебедь Х-1. Рассмотрение его свойств было одной из наиболее волнующих тем, которые обсуждала советско-американская рабочая группа по теории космических источников рентгеновского излучения, собравшаяся в августе 1977 года в научном городке Академии наук СССР Протвино вблизи Серпухова.
Итоги дискуссии послужили темой статьи, написанной совместно Лайманом из Гарвардского университета США, Сюняевым из Института космических исследований АН СССР, Шакурой из Государственного института им. Штернберга в Москве, Шапиро из Корнельского университета США и Эрдли из Вольского университета США.
Статья начинается так: «Мы были бы счастливы, если бы Лебедь Х-1 оказался “чёрной дырой”. Но, честно говоря, полной уверенности в этом у нас нет. Несмотря на энергичные поиски “чёрных дыр” в природе, Лебедь Х-1 остался пока единственным достоверным кандидатом в “чёрные дыры”».
В августе 1978 года появился ещё один кандидат в «чёрные дыры», ещё один рентгеновский источник, во многом похожий на Лебедь Х-1, но о нём пока известно очень мало.
Регулярные исследования источника Лебедь Х-1 ведутся уже свыше девяти лет. О нём известно, что его размеры малы, а масса больше, чем возможная для нейтронной звезды или белого карлика.
Видимый объект в Лебеде Х-1 звезда-сверхгигант. Её масса примерно в 25 раз больше массы Солнца. Это было установлено в 1971 году, когда внезапно резко изменился спектр рентгеновского источника и одновременно в этом же месте возник слабый источник радиоизлучения. Положение нового радиоисточника, измеренное при помощи радиотелескопов с чрезвычайно высокой точностью, совпало с видимой звездой, известной в астрономических каталогах под индексом V=1357Cyg. Так счастливый случай, природа которого ещё полностью не изучена, помог установить, что изменение характера рентгеновского излучения с одновременным возникновением радиоисточника связано с двойной звездой V=1357 в созвездии Лебедя.
Об этой звезде теперь известно многое. Видимая звезда вращается по своей орбите со скоростью не менее 73 км/сек., совершая оборот за 134,4 часа. Радиус орбиты, по которой движется видимая звезда, по крайней мере в 8 раз превышает радиус Солнца, а масса невидимого объекта заключена в пределах от 8 до 11 солнечных масс.(По более поздним и более точным оценкам масса невидимого объекта в системе Лебедь Х-1 заключена в пределах от 10 до 20 масс Солнца, что ещё больше укрепляет уверенность в том, что это «чёрная дыра». К 2006 году уже несколько десятков подобных объектов астрофизики называют «надежными кандидатами в “чёрные дыры”». Подробнее об этом см.: А.М. Черепащук, А.Д. Чернин «Вселенная, жизнь, чёрные дыры», Фрязино: Век-2, 2004. — Прим. В.Г. Сурдина )
Таких массивных нейтронных звёзд или белых карликов быть не может.
Для поддержания интенсивности рентгеновского излучения, наблюдаемого от Лебедя Х-1, нужно, чтобы от видимого сверхгиганта к «чёрной дыре» ежедневно перетекала масса вещества, равная всего десяти или тридцати миллиардным долям массы Солнца, так что процесс перетекания может продолжаться очень долго.
В излучении источника Лебедь Х-1 есть ещё много деталей, не имеющих однозначного объяснения. Например, неизвестна причина изменений интенсивности излучения, при которых его яркость быстро возрастает, а затем медленно уменьшается.
Учёные, выдвигающие самые разные предположения на этот счёт, единодушны в одном: исследования источника Лебедь Х-1 дадут многое для понимания эволюции Вселенной и природы элементарных частиц. Эти исследования перспективны для понимания процессов, происходящих в квазарах и в ядрах активных галактик, во-вторых, можно ожидать существование сверхмассивных «чёрных дыр», скрывающих в себе массу, в миллион или миллиард раз превышающую массу Солнца.
Позднее появились сообщения об обнаружении объектов, необычные особенности которых проще всего объяснить существованием в них сверхмассивной «чёрной дыры». Однако, кроме случая Лебедь Х-1, эти предположения не могут пока считаться полностью доказанными.
Одно из сообщений касается ядра галактики М87. Необычайно большой поток энергии, выделяемой ядром этой галактики, и спектральные особенности этого излучения наиболее непротиворечиво объясняются предположением о том, что в ядре этой галактики скрыта сверхмассивная «чёрная дыра», масса которой составляет примерно десять миллиардов солнечных масс.
Поток энергии, выделяемой этой галактикой, близок по своей величине потокам энергии, выбрасываемой квазарами — этими всё ещё непонятными объектами.
Доказательство или опровержение наличия сверхмассивной «чёрной дыры» в ядре галактики М87 даст возможность глубже понять природу таких удивительных объектов, как активные галактики и квазары.(С помощью космического телескопа «Хаббл» за последние 10 лет астрономы обнаружили в ядрах многих галактик признаки присутствия сверхмассивных «чёрных дыр» с массами от миллионов до миллиардов масс Солнца. Не только галактики с активными ядрами, но и нормальные, спокойные галактики нередко содержат такие удивительные объекты. Даже в ядре нашей Галактики с очень большой вероятностью обнаружена «чёрная дыра» с массой около 4 млн. масс Солнца, которая — что удивительно — не проявляет высокой активности. — Прим. В.Г. Сурдина)
Можно было бы рассказать ещё о многих удивительных явлениях в гигантских просторах Вселенной и микроскопических процессах, связанных с взаимодействием элементарных частиц.
Но об этом невозможно рассказать всё — каждый день прибавляет нам новые открытия и новые сомнения. Истина подобна горизонту — путь к ней не имеет конца. Но чем дальше, тем
ГЛАВА 2
ГИПЕРБОЛОИДЫ И ГИПЕРБОЛЫ
Если нация хочет застраховать себя от потери самых сенсационных открытий, она должна обеспечить поддержку научным направлениям, которые находятся на переднем крае познания, даже если они кажутся бесполезными.
Ч. Таунс…И ЧЛЕН ЛАПУТЯНСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Банкетный зал наконец затих, и юноша, долго взывавший к порядку, мог начать свою речь. Он открыл адрес в красивом переплете, и… вот что мы услышали:
«ДОРОГОЙ КОЛЛЕГА!
В день Вашего юбилея Вас приветствует и поздравляет Лапутянская академия наук.
Вы являетесь славным продолжателем научных исследований по квантовой электронике, начатых в нашей академии примерно 250 лет назад. Упоминание об этих исследованиях содержится в летописи академии, отрывок из которой позвольте здесь прочесть.
Летописец пишет: “Первый учёный, которого я посетил, был тощий человек с закопчённым лицом и руками, с длинными, всклокоченными и местами опалёнными волосами и бородой. Его платье и кожа были такого же цвета. Восемь лет он разрабатывал проект извлечения солнечных лучей из огурцов. Добытые таким образом лучи он собирал в герметически закупоренные склянки, чтобы затем пользоваться ими для согревания воздуха в случае холодного и дождливого лета”.
И далее пишет летописец: “…Учёный не сомневался, что ещё через восемь лет он будет иметь возможность продавать солнечные лучи для губернаторских садов по умеренной цене, однако жаловался, что запасы его невелики, и просил меня дать ему что-нибудь в качестве поощрения, тем более что огурцы в этом году были очень дороги. Я предложил профессору несколько монет”»…
Дружный смех долго не давал оратору закончить это приветствие, но тренированный физик перекричал аудиторию и прочёл адрес до конца:
«Вы видите, дорогой юбиляр, что наука всегда зависела как от состояния сельского хозяйства, так и от расположения благодетелей.
Поняв это, Вы научились добывать деньги из такого пустяка, как атомы и молекулы…
Велики Ваши заслуги перед физикой. Вы заменили огуречное семя более твёрдым телом и, вооружившись им, уверенно идёте к высотам науки…
Учитывая Ваши успехи и, главным образом, Ваше личное обаяние, Лапутяпская академия наук избрала Вас почётным членом.
Мы надеемся, что теперь, став членом нашей академии, Вы получите доступ к отчёту за 1726 год, написанному неким Джонатаном Свифтом (под шифром “Путешествия Гулливера”), и найдёте там много свежих идей для вашей дальнейшей деятельности.
Позвольте поздравить Вас и вручить Вам мантию почётного члена Лапутянской академии наук».
Под одобрительные возгласы молодые физики натянули на высоченную фигуру юбиляра — Александра Михайловича Прохорова — чёрную мантию и повесили на шею эмблему: огромный огурец на тесёмке. Чёрную шапочку юбиляр надел сам — его двухметровый рост не позволял сделать это его инициативным ученикам…
Это было 11 июля 1966 года, когда Александр Михайлович праздновал своё пятидесятилетие и одновременно избрание его действительным членом Академии наук СССР.
…Большинство исследователей видят основную цель своей деятельности в открытии нового. Они ставят и решают важнейшие вопросы. Как устроен атом? Что обеспечивает сходство потомков с предками? И, установив, что вокруг атомного ядра вращаются электроны, а наследственная информация заключена в генах, считают свою задачу выполненной.
Но есть другой тип учёных. Для них главным является вопрос «почему?» Они не могут успокоиться, не выяснив, в силу каких причин атомы стабильны, хотя законы классической механики и электродинамики предсказывают неустойчивость его планетарной модели.
История науки свидетельствует, что попытки ответить на вопрос «почему?» часто приводят к радикальной ломке устоявшихся взглядов, к настоящей революции идей.
Именно к таким результатам в конце концов привели первые «почему?», заданные природе Александром Михайловичем Прохоровым, будущим академиком, лауреатом Ленинской и Нобелевской премий, Героем Социалистического Труда.
…До войны выпускник Ленинградского университета Саша Прохоров успел проработать в ФИАНе (Физическом институте имени П. Н. Лебедева АН СССР) лишь два года. Чуть попробовал теории, немного приобщился к эксперименту. Лабораторная работа часто прерывалась экспедициями. Ничего выдающегося создать не успел.
Потом фронт, тяжёлое ранение, госпитальная койка…
Многие не вернулись домой. Советский народ дорого заплатил за свою великую победу.
Прохоров возвратился. Вернулся к физике, но не в прежней научной теме. Война не отпускала его и в тылу.
Он не мог думать о мирной жизни. Продолжал сражаться и в лаборатории — разрабатывал новые системы радиосвязи для фронта.
Первое время из-за ранения Прохоров не участвовал в полевых испытаниях аппаратуры. Зато вволю размышлял над теоретическими проблемами.
Было известно, что точность радиолокационного дальномера зависит от качества входящего в его состав генератора радиоволн. Но почему даже у лучшего прибора, стабилизированного кристаллом кварца, «ходит» частота? Так бывает у неважных радиоприемников, и они теряют нужную волну. В дальномерах это недопустимо. Как увеличить стабильность генератора радиоволн? Вклад в решение этой задачи сделал Прохорова кандидатом наук.
В это время Владимир Иосифович Векслер открыл принцип синхротрона — совершенно нового ускорителя элементарных частиц. Частицы приобретали здесь недостижимую в других ускорителях скорость и энергию.
Но чем большую энергию придавал частицам ускоритель, тем большая её часть исчезала неведомо куда.
Ускоритель становился похожим на кипящий чайник: как ни прибавляй огонь, температура воды не увеличивается — только струя пара всё сильнее бьёт из носика.
Потребовалось провести сложные исследования, прежде чем удалось понять — энергия ускоряемых частиц «испарялась» в виде радиоволн.
Каждый участник этой работы сделал свои выводы: конструкторы задумались над улучшением конфигурации составных частей синхротрона, теоретики кинулись проверять расчёты, а Прохоров… Озадачил коллег своим подходом к явлению: нельзя ли, задумался он, превратить синхротрон в некое подобие радиолампы, обратить мешающее явление в полезное?
На эту работу пришлось затратить несколько лет. В итоге — отрицательный ответ: нет, использовать принцип синхротрона для создания радиоламп невыгодно. Но на пу ти к неутешительному выводу удалось провести столь глубокие теоретические и экспериментальные исследования, что учёный совет ФИАНа постановил: это докторская работа, её автор достоин носить звание доктора физико-математических наук.
А Прохорова уже тревожит новый вопрос: все генераторы радиоволн созданы руками человека — неужели в природе нет естественных источников? Речь шла, конечно, не о звёздах, не о космических генераторах радиоволн, а о более доступных человеку.
Этот вопрос возник не случайно. Испытывая радиолокаторы, инженеры потратили немало времени, чтобы понять одно странное обстоятельство. Иногда радиоволны от локатора не достигали цели, а исчезали в пути. Что с ними происходило?
Этот вопрос оказался тесно связан с тем, над которым думал Прохоров.
Начались годы огромного творческого напряжения, счастливых озарений, работы без перерывов, когда радость открытий подавляла усталость. В этой работе участвовал коллектив, созданный Прохоровым, и прежде всего его ближайший сотрудник, учёный большого дарования — Николай Геннадиевич Басов, впоследствие академик, лауреат Ленинской и Нобелевской премий, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.
Общая задача захватила Прохорова и Басова. Они задумали серию опытов. Брали разные газы и облучали их радиоволнами. И им открылась удивительная картина. Газы далеко не одинаково относились к пронизывающим их радиоволнам. Большая часть радиоволн оказывалась для них «неинтересной», и они пропускали их без задержки.
Но по отношению к некоторым длинам волн, разным для различных газов, положение менялось. Жадно, как любимую пищу, многие из газов поглощали вполне определённые радиоволны. Определённые своей длиной, своей частотой колебаний.
Вот куда пропадали «радиоразведчики», посланные радиолокатором в поисках цели! Их «поедали» газы, составляющие воздух…
Создавалось впечатление, что молекулы этих газов, как миниатюрные радиоприёмники, настроены на определённую длину волны.
В эти годы аналогичным исследованиям начали уделять внимание многие лаборатории мира, особенно университетские, где, в отличие от лабораторий фирм и заводов, занимались фундаментальными проблемами.
Постепенно метод просвечивания газов радиоволнами вошёл в промышленность для анализа различных газовых смесей.
Но это был побочный результат. Главное — впереди.
Итак, было доказано, что молекулы газов способны поглощать радиоволны. Но все ли вещества поглощают радиоволны? И только ли поглощают? Нет ли среди них таких, которые умеют излучать? Короче говоря — нет ли в природе естественных генераторов радиоволн?
Прохоров и Басов делают решающий шаг. Они выдвигают предположение, логично, закономерно вытекающее из одной, пользовавшейся большой популярностью работы, выполненной Эйнштейном вскоре после Первой мировой войны. Это был шаг, давший жизнь замечательному открытию. Молодые учёные поняли: если молекулы способны поглощать радиоволны, значит, они могут, даже должны излучать их!
Молекула в качестве генератора радиоволн? Это было совершенно неожиданное заключение. Оно звучало неправдоподобно.
Если недавно Прохоров изумлял коллег своими попытками использовать в качестве генератора радиоволн такую махину, как синхротрон, то теперь, к удивлению окружающих, он ударился в другую крайность — начал мечтать об использовании в роли генератора невидимых и неосязаемых атомов и молекул!
К такому повороту мыслей ещё никто не был подготовлен. К этому надо было привыкнуть! Ведь с понятием радиотехнического прибора в то послевоенное время были связаны громоздкие ящики, набитые электронными лампами, катушками индуктивностей, трубочками сопротивлений, конденсаторами, источниками электропитания.
А тут — невидимая крупица материи. Но с какими необыкновенными свойствами! Электронные лампы и детали изнашиваются и портятся. Молекула же вечна! Она не старится, не срабатывается. Если её изолировать от внешних воздействий, она никогда не изменит длину излучаемой волны. Этот генератор, созданный природой, самый устойчивый, неизменный в своей работе прибор.
Прохоров хорошо знал, сколько труда стоят попытки сконструировать неизменные, или, как говорят инженеры, стабильные генераторы радиоволн.
Да, от заманчивой мысли уже трудно было отказаться. Молекула в роли радиопередатчика — идея настолько привлекательная, что она полностью подчинила себе жизнь и мысли Прохорова и Басова на многие годы…
…Два молодых человека не отрываясь смотрели на экран осциллографа. Они видели светящуюся линию, середина которой плавно уходила вниз и вновь вздымалась к прежнему уровню. Кривая больше всего напоминала парящую птицу. Так изображают птиц дети. Так рисовали их и старые японские мастера.
Один из физиков медленно вращал ручку прибора, и изгиб кривой постепенно уменьшался, пока она не превращалась в прямую линию. Затем на месте провала возникал плавный подъём. Действуя очень осторожно, можно было заставить кривую вознестись вверх так, как она только что изгибалась вниз. Потом кривая опять выпрямлялась, и, наконец, на ней снова возникал провал.
Ещё несколько дней назад это казалось очень интересным и важным. Но теперь изящная кривая вызывала досаду и отвращение. Ведь не для этого же, в самом деле, разбирали они прибор, полировали его детали, вновь и вновь откачивали из него воздух!
— Рискнём? — спросил Прохоров.
Басов только кивнул. Движение руки. Стрелка вольтметра подскочила ещё на несколько тысяч вольт. Вчера при этом неизбежно возникал пробой. Но теперь всё было спокойно.
В который раз медленно вращается ручка прибора. И опять кривая становится прямой и начинает изгибаться вверх. Вдруг на её вершине возникает узкая полоска.
Прохоров и Басов переглянулись. Неужели?!
Всё так же методично движется рука, вращающая рукоять прибора. Медленно увеличивается и расширяется полоска. И вот в её середине отчётливо виден поясок.
Типичный бантик, — сказал один.
Работает, — отозвался второй.
Так в Лаборатории колебаний Физического института Академии наук СССР родился молекулярный генератор, поразительный прибор, сердцем которого был не мотор, не шестерни, не какие-нибудь другие детали. Главную роль в нём играли невидимые глазу молекулы аммиака, которые делали то, чего никто никогда от них не ждал. Они излучали радиоволны.
Именно бантик на капризной кривой и возвестил учёным о долгожданной минуте. Никто не знает, как распространяются слухи. Физики убеждены, что они летят быстрее, чем свет. А это значит, что они не материальны. И на сей раз слух непостижимо проник через стены, полы и потолки. Открылась дверь, и в комнату начали входить научные работники, лаборанты, механики… Каждый хотел взглянуть на бантик, поздравить, а если позволят, и покрутить ручку. Конечно, такой чести удостоились далеко не все. Для этого нужно было пользоваться большим уважением или принять хоть малое участие в работе, которая ещё безнадёжно далека от завершения. И первым по праву положил руку на рукоять прибора Бардин, талантливый механик, сделавший, как говорят физики, «всё железо». А «всё желе зо» — это и тончайший резонатор из специального сплава — суперинвара, и корпус из нержавеющей стали… Бардина сменил Никитин, монтировавший радиосхемы, — радиотехник и студент-заочник, вскоре ставший инженером, а впоследствии научным сотрудником, кандидатом и доктором наук. И только потом к прибору прорвался маститый теоретик и неожиданно для всех закрыл вентиль баллона, из которого поступал аммиак. Бантик исчез и ко всеобщему восторгу возник вновь, как только был открыт вентиль.
— Наука торжествует, — изрёк теоретик и отошёл в сторону.
Так физики праздновали победу. И при этом говорили только о том, что надо проверить, измерить, переделать. И праздник перешёл в трудовые будни. И по-прежнему по утрам уборщица, выметая обрезки проводов и капли олова, вздыхает: «Кванты, кванты…» — и толкует своим подругам, работающим на других этажах:
— А мы запустили молекулярный генератор.
…Научные открытия часто рождаются близнецами. В 1954 году в США заработал прибор, которому его создатель Таунс и его сотрудники Гордон и Цайгер дали странное имя мазер. Оно было составлено из первых букв фразы, описывающей на английском языке принцип действия прибора. После первых сообщений всем стало ясно, что в Физическом институте в Москве и в Колумбийском университете в Нью-Йорке независимо проводилась работа с одинаковым результатом.
Вскоре молекулярный генератор появился и в Институте радиотехники и электроники Академии наук СССР, и в метрологическом институте в Харькове, и во многих других местах. А затем в работу включилась промышленность. Басов и Прохоров были вдохновителями и идейными руководителями всех основных работ в новой области науки, развившейся из их пионерских исследований.
За открытие нового принципа и создание молекулярных генераторов и усилителей Басов и Прохоров в 1959 году были удостоены Ленинской премии.
Вы заметили, мы упомянули о молекулярных усилителях. Да, молекулы породили не только идеальный радиопередатчик, но и бесшумный радиоприёмник. В обычном радиоприёмнике даже при отсутствии помех все время слышно слабое шипение. Это шумят электронные лампы. Молекулы же — самый бесшумный «прибор» на свете. Поэтому молекулярный усилитель улавливает такие далёкие сигналы, которые безнадёжно потонули бы в шуме радиоламп.
Однажды — через несколько лет после описываемых событий — академик Котельников делал доклад о своих замечательных работах по радиолокации планет. Один из слушателей спросил: почему радиолокационный сигнал, полученный им от планеты Меркурий, оказался много яснее, чем сигнал от планеты Венера? Это был далеко не праздный вопрос. Ведь Венера в четыре раза больше Меркурия и она приближается к Земле гораздо ближе, чем он. Следовало ожидать, что сигнал от Меркурия будет гораздо слабее, чем от Венеры.
Ответ Котельникова был прост. Да, сигнал много слабее, но наблюдался он несравненно более ясно потому, что в это время планетный радиолокатор уже был оснащён новым молекулярным усилителем. Этот прибор, основанный на использовании законов квантовой физики, изготовили в Институте радиотехники и электроники АН СССР под руководством профессора Жаботинского.
Всем памятна и первая межпланетная радиосвязь, когда через планету Венера радиотелеграф передал слова ЛЕНИН, СССР, МИР. Это осуществили советские учёные тоже с помощью нового усилителя.
Об этой — радиоастрономической — ветви квантовой электроники мы ещё поговорим подробнее. А сейчас пойдём по пути от мазера к лазеру.
Квантовая радиоэлектроника начала своё триумфальное шествие с радиоволн. Но Басов и Прохоров в Москве и Таунс в Нью-Йорке открыли ей дорогу к световым волнам.
Однако первый успех в этой области пришёл не к ним. Впервые квантовый генератор оптического диапазона построил американский учёный Мейман. Он изготовил из рубина стерженёк, тщательно отполировал и посеребрил торцы, затем осветил его мощной лампой-вспышкой. И свершилось чудо. Из торца стержня вылетел нестерпимо яркий луч красного света! Американцы дали новому прибору имя лазер.
Этот универсальный прибор наших дней на вид странно прост. Почти примитивен. Кусок искусственного рубина или специального стекла… Лампа-вспышка, только размерами отличающаяся от применяемых фотографами… И больше ничего. Но один из зарубежных исследователей, случайно попавший под луч лазера на расстоянии мили от него, получил тяжёлое повреждение зрения. Яркость этого луча в миллион раз больше яркости Солнца! Луч лазера мгновенно пробивает отверстие в стальных пластинах. Вот почему лазерный луч стал незаменимым инструментом для обработки алмазов и сверхтвёрдых сплавов, его применяют для ускорения потоков заряженных частиц и управления химическими реакциями.
Басов вскоре после изобретения молекулярного генератора увлёкся идеей создания лазеров на полупроводниках. Здесь открывалась заманчивая перспектива прямого преобразования электричества в световые волны. И уже его первая совместная работа с Вулом и Поповым заложила теоретические основы для построения таких приборов. Но трудности на пути к практике были столь велики, что долгое время в создание лазеров на полупроводниках не верил никто, кроме самих участников работы.
Однако Басов, Крохин и Попов всё же додумались, как, пропуская через полупроводник электрический ток, полностью, почти без потерь, превращать его в луч света. Работа закипела в лабораториях Басова и Вула в Москве и Наследова и Рывкина в Ленинграде. Ленинградцы первые получили обнадёживающие результаты. Вскоре удивительный ла зер засветился и в США, и в СССР. Большой цикл работ советских учёных, приведших к созданию полупроводниковых лазеров, был удостоен Ленинской премии за 1964 год. А потом Басов и его сотрудники опять добились успеха. Их новый лазер светился благодаря бомбардировке полупроводника пучком электронов.
Над созданием и применением новых приборов — мазеров и лазеров — теперь работают тысячи учёных в сотнях лабораторий. Но главную, ведущую роль здесь сыграли Басов, Прохоров и Таунс. Это признала мировая научная общественность. Их деятельность достойно оценила шведская Академия наук, присудив им Нобелевскую премию.
…10 декабря 1964 года… Зал Стокгольмского концертхауса переполнен. Под звуки фанфар входят Басов, Прохоров и Таунс. Учёные идут тем же путём, каким до них входили сюда многие замечательные исследователи.
Этот зал помнит Эйнштейна, Планка, Бора…
Высокий статный старик — король Швеции — приветствует новых лауреатов. Адольф VI, король-профессор, который каждый год брал трёхмесячный творческий отпуск для научной работы, отлично понимал значение открытия, сделанного одновременно и независимо в СССР и США. Но для королевы и её фрейлин, да и для большинства сидящих в зале речь одного из шведских академиков, произнесённая на родном шведском языке, была не более понятна, чем средневековая латынь.
— Наша лаборатория, как видите, выросла, но дело, конечно, не в количественном росте. Главное — существенно изменилась тематика, — рассказывает Прохоров. — Прежде для нас важнейшим был молекулярный генератор, от него пошло все мазеростроение. Мы исследовали кристаллы рубина. Создавали сверхчувствительные усилители. Новый этап развития квантовой электроники — создание лазеров, исследование вещества с помощью лазера и для создания новых типов лазеров, применение лазеров в различных областях науки и техники.
Войдём же в Лабораторию колебаний ФИАНа и попытаемся увидеть всё своими глазами.
Сектор мощных лазеров. Здесь всё крупномасштабно — и сами лазеры, и вспомогательные устройства. Лазеры установлены на массивных металлических столах, тянущихся вдоль длинных комнат. Их окружают выпрямители, блоки питания, жгуты электрических проводов, внушительные системы охлаждения. Оптические зеркала и призмы корректируют, направляют луч лазера. В углу лаборатории вижу резиновые калоши на Гулливера — с высоким напряжением работать небезопасно. На рабочих столах — непременно синие защитные очки.
Многие мощные лазеры, созданные здесь, уже работают на заводах. Они сваривают металлы, которые обычным способом не свариваются, например титан и нержавеющие стали. Режут, штампуют, плавят массивные металлические детали, с искусством виртуозов обрабатывают миниатюрные часовые механизмы. Как рассказывает заведующий одним из секторов мощных лазеров профессор Карлов, лаборатория даже занималась раскроем рулонных материалов. Раскрой их лазерным лучом оказался экономически выгодным. Это делается в непрерывном потоке, по точно рассчитанной программе.
— Создание лазеров для промышленности основная наша задача, — говорит Карлов, — но не единственная. Александр Михайлович Прохоров поставил перед нами новую, сложную и пока никем до конца не решённую проблему. Как вы знаете, молекулы веществ колеблются. Частоты колебаний разных молекул различны. Возникла мысль — нельзя ли, раскачав молекулы лазером, разорвать в них внутренние связи и заставить осколки молекул вступить в новые, недоступные обычной химии соединения? Мы реализовали эту идею и осуществили трудную реакцию соединения бора с водородом, получили так называемые высшие бораны. Рождается новая наука — лазерная фотохимия, она поможет получать сверхчистые химические соединения, в том числе избранного изотопического состава. Например, тяжёлую воду без малейшей примеси обычной воды. Это будет переворотом в промышленности будущего. Задача трудная, она ещё в начальной стадии созревания, но в неё вовлечены немалые силы.
Карлов уже выполнил несколько работ, ставших основополагающими в радиоастрономии и радиоспектроскопии. В Крымской астрофизической обсерватории он занимался повышением чувствительности космических приёмников. Когда родились молекулярные генераторы, включился в мизерный проект.
У Карлова три мечты.
— Мне хочется иметь в руках лазерный импульс, — говорит он, — очень-очень-очень большой и посмотреть эффекты взаимодействия его луча с веществом. Это раз. Мне хочется осуществить управляемую лазерным лучом экзотическую химическую реакцию, которая никем никогда не была осуществлена. Два. Мне хочется получить ясность в вопросе лазерного разделения изотопов. Это три.
Три мечты, и каждая — не просто этап в планомерном развитии традиционной области исследований, а скачок в область, где действуют ещё неведомые людям законы. И каждая — фактически уже не мечта, а повседневная работа. Карлов подводит к установке, где осуществляет вместе с сотрудниками разделение изотопов редкоземельного элемента европия. Европий загружается в тугоплавкий тигель. Нагревается до тысячи градусов. Раскалённый газ поступает в стальную камеру — через стеклянное окошко видно оранжевое облачко. Это смесь атомов европия. До рождения понятия «изотоп» эти атомы считались абсолютно идентичными в своём физическом и химическом проявлениях. Но сегодня физики так уже не думают. Они знают: эта идентичность кажущаяся. На самом деле атомы европия бывают двух сортов, двух изотонических составов, чуть-чуть различающихся атомным весом: европий-151 и европий
153.
Разделить их между собой — задача неимоверной трудности. Атомы — не предметы, которые отличаются по виду, цвету, весу. Их можно попытаться разделить каким-нибудь косвенным путём, скажем, придумать реакцию, в которой эти два сорта атомов будут вести себя по-разному. Но в известных физических и химических экспериментах изотопы ведут себя одинаково. И изотопы не только европия, но и других элементов, можно сказать — всех элементов.
Многие элементы Периодической таблицы Менделеева обладают двумя, или несколькими, или даже целым «букетом» изотопов. И хоть атомы-близнецы так похожи друг на друга, что их трудно отличить, каждый «сорт» обладает уникальными качествами, которыми не обладает другой.
Химически чистые изотопы сделали возможным реализацию многих ранее недоступных технологических процессов. Например, использование в атомной энергетике только титана-50 намного увеличивает срок службы реакторов. Часто химически чистый изотоп применяется исследователями как индикатор. Например, химики осуществляют контроль за течением некоторых химических реакций в промышленных установках с помощью введения в процесс изотопа. Агробиологи используют изотопы, чтобы следить за тем, как растения усваивают удобрения.
Поэтому учёные и ведут настойчивый поиск возможностей быстрого, дешёвого, легкоосуществимого разделении изотопов. Пока методы разделения не имеют ни одного этого качества Они трудоёмки, громоздки, дороги. Дороги поэтому и сами химически чистые изотопы. Так, килограмм осмия-187 на мировом рынке стоит 14 миллионов долларов, кальция — 46–88 миллионов долларов.
Совершенно сенсационными оказались опыты лазерщиков. Они обнаружили, что лазеры обладают безошибочной избирательностью по отношению к изотопам. В смеси изотопов они легко опознают атомы определённого сорта.
Я спрашиваю Карлова, в чём секрет такой наблюдательности лазеров? Каким методом они пользуются?
Карлов рассказывает, что никакой неожиданности в этой ситуации вообще-то нет. Для физиков не секрет, что на атомы каждого вещества можно воздействовать квантом света определённой длины волны. И на изотоп в том числе. Просто ни один источник света, кроме лазера, не может излучать постоянную длину волны. А лазер может. Лазер способен генерировать очень чистую световую «ноту». Вопрос в том, чтобы подобрать излучение лазера, способное вступить в резонанс с излучением изотопа.
— Мы используем для разделения изотопов европия два лазера, — уточняет Карлов, — один настроен так, что его луч возбуждает только европий-151 и не действует на европий
153. Другой — наоборот.
Квантами света физики разделяют изотопы, словно овец в стаде! «Чёрных» — в одну сторону, «белых» — в другую!
Остроумно! Но можно ли сказать, что это «дёшево и сердито»? — спрашиваю Карлова.
Лазерные методы, — говорит он, — могут конкурировать с прежними по количеству получаемого продукта при несравненно меньших размерах установок, затратах энергии, с лучшим использованием сырья. Что же касается элементов, которые сейчас во всех странах добываются граммами (например, изотопы осмия, калия, иридия, иттербия), то в этой области лазерный метод будет, несомненно, вне конкуренции. Думаю, что затраты на селективное, выборочное получение изотопов подавляющего большинства элементов Периодической таблицы Менделеева с помощью лазеров будут в сотни раз меньше по сравнению с традиционными способами…
Карлов с большим волнением говорит о чудесах, которые оказались по плечу лазерам. Но я, слушая его, испытывала волнение от другой мысли: разве не чудо то, что оказалось по плечу современному физику, ему самому — Карлову Николаю Васильевичу? То, что составляет будни его сегодняшней работы, вчера считалось темой фантастических романов.
Что ещё сказать о Карлове? Он обаятелен, молод, хотя приходится причислять его к «старикам». Он один из тех сотрудников Прохорова, которые начинали вместе с ним с нуля, ещё в домазерную эпоху. Как ветеран лаборатории, Карлов несёт солидную нагрузку. Он и заведующий ответственным сектором, и профессор Физико-технического института, и секретарь партбюро Лаборатории колебаний. Впрочем, мне придётся ещё не раз говорить о «старых» сотрудниках, о всех тех, кто начинал свою работу у Прохорова ещё студентом и вырос вместе с лабораторией. И это отнюдь не из-за возраста. Все они — кандидаты и доктора наук — наставники молодежи, приходящей сегодня в лабораторию.
…В Физико-техническом учебном институте существует полезная традиция. Преподаватели рассказывают выпускникам о своих лабораториях, и это помогает им выбрать место работы. То же было и в год выпуска Вадима Федорова. Один из сотрудников акустической лаборатории ФИАНа так рассказывал об акустике, что перед удивлённым деканом легли сплошь заявления с просьбой направить в эту лабораторию. Только Фёдоров просился к Прохорову — так он и работал здесь с 1968 года, в паре с Бункиным, главой теоретического сектора, первым из прохоровских сотрудников, избранным членом-корреспондентом АН СССР. Бункин кончал МГУ и был аспирантом у профессора Рытова, одного из ведущих советских физиков-теоретиков, учителя Прохорова. Бункин решил уже немало сложных проблем в новой науке, рождённой лазерами и мазерами, — квантовой электронике. Работа его сектора переплетается практически с тематикой всех других секторов лаборатории.
Последние годы Бункина-теоретика и Федорова-экспериментатора объединяет интерес к проблеме взаимодействия лазерного излучения с веществом. С одной из сторон этой задачи я познакомилась, когда Федоров демонстрировал работу мощного лазера. Звук выстрела, металлическая мишень обзаводится порядочной дыркой, и всё затихает. Будто ничего не произошло. Приблизительно так я всё себе и представляла, но заранее была подготовлена к тому, что луча этого лазера не увижу; так как он лежит в невидимой для человеческого глаза области — инфракрасной. И всё же через синие очки я была ослеплена мгновенно вспыхнувшей молнией, шнуром связавшей лазер и мишень! Что это?!
— Это не лазерный луч, а ответ мишени на световую пулю, — объяснил мне Федоров. — Ведь на металл обрушивается световой импульс мощностью в несколько мегаватт на квадратный сантиметр — шквал, мощность целой электростанции! Металл вскипает, испаряется, и навстречу лазеру устремляются раскалённые до тысяч градусов пары. Явление, никогда ранее не наблюдаемое оптиками…
Казалось бы, побочное явление, стоит ли обращать на него внимание?
Но такова специфика научной работы — в ней не бывает, не должно быть ничего необъяснённого, случайного. Это на заводе лазер — послушный работник. Здесь он — необъезженный конь. Но из лаборатории на завод он придёт прирученным, покорным. Без неожиданностей. Неожиданности достаются физикам.
И видимая молния оказалась не простым и не случайным явлением. И далеко не тем, чем можно пренебречь. Это защитная реакция мишени. Она затрудняет работу лазера. Разряд как бы экранирует мишень от попадания на неё следующей лазерной пули, бережёт себя от неё. Это похоже на реактивную силу двигателя, на хвост стартующей ракеты. Несколько лет над объяснением этого явления бьются экспериментаторы и теоретики.
Профессор Бункин говорит: «Это лишь часть общефизической проблемы взаимодействия лазерного луча с веществом. Прежняя физика этих забот не знала, никогда ещё человек не имел дело с такими интенсивными потоками света. В этой области всё новость, открытие. Лазерный луч, ударяясь в мишень, перерождает металл, превращает его в совершенно другое вещество — диэлектрик. Как, почему это происходит? Какими методами исследовать новое вещество в момент катастрофы, как изучить процессы между мишенью и лазером?
Задача теоретиков — построить модель явления, задача экспериментаторов — диагностировать процесс. Они фотографируют, изучают спектры, мерят температуру. И им приходится нелегко: для регистрации таких высокотемпературных, быстротечных процессов нет готовой аппаратуры. Её надо создавать самим. Ждать помощи некогда — лазер нужен производству.
Трудно даже сказать, кому лазер нужен больше — производству или науке…»
Как рассказывал мне Прохоров, глава этой, теперь уже гигантской лаборатории, исследования по взаимодействию мощного лазерного излучения с веществом дают столько неожиданных эффектов, столько порождают надежд на новые практические применения лазеров, что трудно сказать, какие стороны этого явления надо изучать прежде всего и какие использовать. Конечно, важно решить технологические задачи обработки материалов, особенно сверхтвёрдых. Но невероятно любопытно изучить процессы в нагретых лазерным лучом жидкостях и жидких металлах. Нельзя не увлечься и перспективой, которую сулит образование плазмы при пробое воздуха вблизи поверхности твёрдой мишени лазерным излучением — ведь возникающие при этом импульсы давления на мишень могут быть использованы для создания лазерных реактивных двигателей!
Слушая Прохорова, я всё время ощущала, как в нём переплетается трезвость исследователя с озорством безудержного мечтателя. Он говорит о том, что сейчас происходит в лаборатории, а думает о том, чего здесь ещё нет, но что обязательно будет!
Переходим в следующий сектор прохоровской лабора тории. Здесь нас ожидает особенный лазер. Вы, наверно, думаете — очень мощный? Да, мощный. Но главная его особенность в другом. Он, если можно так выразиться о приборе, — голубых, благородных кровей. Излучает одну волну, рождает «звук» на одной «ноте».
Это лазер — плод исключительного инженерного искусства и физического чутья доктора технических наук Александра Ивановича Барчукова, человека необычной судьбы и сложного характера. До ФИАНа был фронт, служба в полку «Нормандия — Неман», потом — только ФИАН, только служение одной, раз и навсегда выбранной цели. В Барчукове, давнем сотруднике Прохорова, сочетается недюжинный талант инженера-изобретателя и тонкого экспериментатора-физика. Чтобы сделать лазер мощным, надёжным, мало указаний теории. Тут есть чёткие границы движения вперёд. А изобретательским ухищрениям практически нет предела. Всегда можно придумать такие ходы, которые улучшат характеристики прибора.
Вот результат особого инженерного видения Барчукова: огромный лазер длиною в 100 метров (длина в данном случае способствует повышению мощности) «уложен» на «этажерке», легко уместившейся в маленькой комнате.
Такую творческую индивидуальность не создаёт ни один факультет, ни один институт. Она зреет в гуще коллективного творчества той лаборатории, где работает человек, имеющий особые природные данные. Но не везде и они получают развитие. Барчукову повезло. Повезло и лаборатории.
…Луч лазера, испаряющий металл, воспламеняющий плазму, может быть нежнее человеческих рук. Он может, проникнув под кожу, не повредив её, в нужной точке сделать целительную операцию.
— Наша лаборатория предложила использовать лазер для лечения глаукомы, — рассказывает Прохоров. — Профессор Краснов уже провёл успешно множество операций. Мы с ним постоянно контактируем и делаем сейчас улучшен ный вариант. Лазер работает в импульсном режиме, короткими частыми толчками и пробивает капиллярный проток вместо того, который закупорился в результате болезни.
— И нигде в мире такие операции не проводятся?
— Работа Краснова получила большой международный резонанс. Она вошла в цикл его замечательных исследований, заслуженно удостоенных Ленинской премии.
Прохоров достает несколько зарубежных газет — там сообщается о работах советских физиков и медиков и говорится, что такие операции будут взяты медициной на вооружение.
Руководитель работ кандидат физико-математических наук Тамара Михайловна Мурина последние годы часто выезжает в Киев, где в институте имени Гамалея идут настойчивые эксперименты в области лазерной медицины. Объекты наступления — рак кожи, волчанка, врождённые дефекты кожи. Лазер используется и просто для поверхностного облучения, результаты позволяют надеяться на терапевтическое лечение злокачественных заболеваний, родимых пятен, заболеваний сосудов.
Впрочем, родимые пятна, оказывается, тоже сосудистое заболевание. Любопытно, что красный цвет петушиных гребешков — результат закупорки сосудов: в гребнях кровь не циркулирует. Под облучением лазера петух теряет свой победный вид — его гребень становится белым.
Использование лазерного луча в качестве скальпеля уже имеет свою историю. Он помог осуществить операции на печени, селезёнке. Такие операции при помощи простого ножа часто бывали невозможны — так кровоточили эти органы. Хирурги говорят: ткань плачет. Лазерный нож режет и одновременно заживляет — кровотечения не возникают.
— Тамара Михайловна, с каким инструментом вы работаете? Это лазер обычного типа или он имеет свои особенности?
— Наш лазер работает на особом кристалле-флюорите с диспрозием, который создан у нас в лаборатории, в секторе у В.В. Осико. Кристалл определяет все те эффекты, которые мы наблюдаем в наших медицинских экспериментах. На других волнах пока не обнаружены те лечебные результаты, которые даёт наш лазер.
Много времени ушло в лаборатории на «воспитание» кристалла. Был он в работе капризен, неустойчив. Его облучали гамма-лучами, вводили добавки — теперь он вполне надёжен. Как видно, он даст начало новому ceмейству лазерных материалов, которым суждено трудиться на медицинском поприще.
Слушая Тамару Михайловну, наблюдая её мягкую, почти домашнюю манеру поведения, я думала о том, как сложна, обязывающа её профессия. Тамара Мурина кончала Бауманский институт, диплом делала под руководством Прохорова на фиановском ускорителе, а сейчас участвует в сложнейшем синтезе физики и медицины. Сколько же этой женщине надо над собой работать, чтобы объять такой диапазон знаний, сказать своё слово в науке!
Говорят, хорош тот генерал, за которым идёт армия.
Счастлив тот учёный, который сумел воспитать единомышленников.
Сколько людей в прохоровской лаборатории — столько же индивидуальностей. Но в каждом — частица Прохорова, его характера, эрудиции, его мироощущения. И это естественно: для старых сотрудников он — старший испытанный товарищ. (Таков он, например, для заведующего механическими мастерскими Дмитрия Константиновича Бардина, рабочего паренька, который вместе с Басовым и Прохоровым делал первый мазер. Тогда все трое были одновременно и головой, и руками.) Для молодых Прохоров — учитель, всемирно признанный авторитет, доброжелательный, опытный руководитель. На четвёртом этаже нового здания — две двери с табличкой «Кафедра взаимодействия излучения с веществом». Это базовая кафедра Московского физико-технического института, который и даёт основные кадры лабораториям типа прохоровской. Заведующий кафедрой — Прохоров. Преподаватели — сотрудники лаборатории. Студенты начиная с четвёртого курса работают в лаборатории. Тот, кто прикипает сердцем, остаётся здесь и после окончания института.
Для прохоровцев лазеры — основное занятие, смысл их научной деятельности. Увлечение и работа. Но ни самого Прохорова, ни его сотрудников невозможно упрекнуть в узости интересов. Во-первых, потому, что исследования в целях создания новых типов лазеров связывают их с самыми различными областями физики и техники. Во-вторых, и в этом «повинен» сам Прохоров, однобокость, однонаправленность не совместимы с характером и научным темпераментом прохоровцев. Сам он принадлежит к когорте учёных, которых ни на минуту не оставляет первозданное любопытство ко всему необъяснённому. Поэтому и его собственные интересы, и интересы сотрудников выплёскиваются далеко за рамки чисто лазерных проблем.
Здесь не хватило бы места, чтобы рассказать о всех, кто трудится на главном направлении. Но надо же сказать несколько слов и о тех, кто «отклоняется в сторону».
Ненасытность прохоровских интересов передалась его ученикам и сотрудникам. Прохоров полностью полагается на их знания, чутьё, поддерживает, помогает, выращивает в каждом то неповторимое, что питает науку новыми соками.
Это доверие помогло родиться в лаборатории многим замечательным открытиям. Одно из них — сюрприз для… ювелиров. Да, в лаборатории, где из радиофизики родились лазеры, где обсуждались и создавались теории и приборы, имеющие отношение к самым высоким сферам довременной физики, были созданы драгоценные камни, подобные бриллиантам, фиановские бриллианты самого различного цвета — по заказу. Этих драгоценностей природа не знает, не знал их и человек. Они родились в ФИАНе и поэтому получили название фианиты. Спрос на них велик. Они уже давно продаются в ювелирных магазинах, их экспортируют в другие страны.
Повторяю: фианиты родились там, где совершенно не думали о потребностях ювелиров, а занимались фундаментальными исследованиями. Теперь можно сказать, что фианиты именно поэтому и появились. Только глубокое изучение свойств кристаллов натолкнуло на способ их получения.
Вячеслав Васильевич Осико, доктор физико-математических наук, не думал о дамских украшениях. Он настойчиво искал новые материалы для лазеров. Делал искусственные рубины, гранаты, более совершенные, чем лучшие из природных, стремился сочетать в своей работе самые современные методы и приёмы. Прохоров с большой серьёзностью и терпением относился к поискам Осико, предоставив ему и нужные средства, и помещения: у Осико отдельный корпус и большой штат сотрудников. Они гордятся своими трудягами, лазерными кристаллами, гораздо больше, чем сверкающими фианитами.
…Неожиданный научный выход дали работы ещё одного из давних сотрудников — Виктора Георгиевича Веселаго. Он создал самую мощную в Европе магнитную установку — сооружение в три этажа, — на которой ведутся важнейшие исследования свойств вещества. Эта работа, так сказать, в русле тематики лаборатории. Но есть и другая — из области теории относительности, выдающая романтический стиль научного мышления Веселаго и имеющая пока мало сторонников. Но среди них — один из великих могикан: французский физик Луи де Бройль, который независимо пришёл к тем же выводам.
И ещё одна работа доктора физико-математических наук Веселаго выделяет его как ученого с оригинальным самостоятельным мышлением: он «сочинил» необычайные вещества с невиданными свойствами и придумал ситуацию, в которой такие вещества могут существовать. Пока нельзя говорить о практическом выходе этих идей, но ведь в науке многое начинается с вопроса «почему?» Изучаются необык новенные свойства веществ, а потом уж думают, как реализовать условия, при которых они осуществимы.
Так возникло особое звучание научной школы Прохорова. Возникла легенда и о самом Прохорове: у него необыкновенное чутьё на перспективность работ, он заранее знает, какая идея пойдёт, какая — пустая трата времени.
Прохоров — сторонник фундаментальных исследований. Без них, считает он, невозможен нормальный рост науки в техники. Поэтому-то он всегда в мобилизационной готовности. В фундаментальных исследованиях видит бездну возможностей, неожиданностей.
— Существуют два вида, две категории фундаментальных исследований, — говорит он. — К первому из них относятся те, что не нацелены прямо на решение практических задач. Таковы, например, астрофизические исследования, исследования твёрдого тела при сверхнизких температурах и сверхсильных магнитных полях и т. п. Второй тип исследований связан с решением конкретных задач, таких, например, как управляемый термоядерный синтез, высокотемпературная сверхпроводимость, синтез кристаллов с заданными свойствами и т. п. Оба типа фундаментальных исследований должны развиваться одинаково интенсивно, взаимно обогащаясь.
На что же нацеливает лабораторию Прохоров — на связь с промышленностью или на разработку новых научных принципов?
— Как правило, лишь хорошо подготовленный в теоретическом плане учёный, — считает Прохоров, — может создать новые технологические процессы, новые материалы, всё то, что действительно является потребностью практики. Фундаментальные исследования с неизбежностью приводят к выходу в практику, и наоборот, принципиально новые задачи техники, например космической техники или энергетики, неизбежно приводят к постановке фундаментальных исследований в физике, математике и других областях науки.
Нормально развивающаяся физическая лаборатория должна вести работы в перспективных, поисковых областях, постоянно поддерживая контакт с промышленностью, учитывая фундаментальные направления и развитие народного хозяйства, потребности общества.
В одних случаях мы разрабатываем теорию, изучаем явление, и это неизменно приводит к практическим результатам. В других — целенаправленно ищем решение технической проблемы. Таково научное кредо нашей лаборатории.
Знакомясь с работой и жизнью Лаборатории колебаний ФИАНа, я подумала, что она похожа на ветвистое дерево. От ствола идут ветви первого поколения — это те сотрудники Прохорова, которые составляли старую небольшую лабораторию времён рождения молекулярного генератора. Сегодня они руководят коллективами, сравнимыми по масштабам с прежней лабораторией. А от этих ветвей идут веточки следующего поколения. Это молодёжь, работающая по десять — пятнадцать лет. Мандельштам, внучка основателя лаборатории, замечательного советского учёного академика Л. И. Мандельштама, Виноградов, Козлов, Щелев и Коробкин — лауреаты премии им. Ленинского комсомола, Дианов — лауреат Государственной премии СССР, вместе с Прохоровым удостоенный недавно премии ФИАНа, Сычугов и Золотов — пионеры техники оптической связи лаборатории и многие другие.
Что же превращает этот коллектив в единый организм, единую семью? Общность интересов. Взаимопонимание и осознание общей цели. Энтузиазм. Дружба. Конечно, не та, прежняя, семейная дружба, объединявшая маленький коллектив, который мог уместиться на нескольких байдарках или за одним столом. Дружба стала другой. Теперь лаборатория в четыреста человек вряд ли может разом ходить в гости друг к другу. Но общность коллектива стала осознанней и целеустремленней. Появилась новая задача — сделать свой труд эффективным, выдержать соревнование с другими коллективами и у нас в стране, и за рубежом.
Над этим думает каждый в отдельности и все вместе.
Каковы же планы этого коллектива на ближайшее деся тилетие? Будет ли это продолжение тем, начатых сегодня, или что-то принципиально новое?
С этими вопросами я обратилась к Прохорову. Думаю, что короткий отрывок из интервью даст понять, какими интересами живёт и будет жить лаборатория Прохорова. Вот что я услышала.
— Мы всё время меняем тематику, — сказал Александр Михайлович, — хотя это, может быть, и не бросается сразу в глаза. Мои сотрудники очень мобильны. Они с удовольствием расширяют диапазон исследований и сами, и под моим влиянием. Большую часть изысканий займёт, конечно, изучение твёрдого тела. Твёрдое тело — это орешек, который будет разгрызать ещё не одно поколение физиков. Ведь от его свойств, возможностей зависит развитие и науки и техники. Изучение твёрдого тела влияет и на перспективу развития лазерных приборов. И оно же — твёрдое тело — даёт новую жизнь электронно-вычислительной технике.
Я вспоминаю, что уже не раз слышала в лаборатории трудное словосочетание — «супермикроэлектроника твёрдого тела», и прошу Александра Михайловича рассказать, что оно означает.
— Это новая и весьма тонкая сфера исследований, — говорит он, — и мы ею занимаемся очень серьёзно. Создавая ЭВМ, которые представляют собой не что иное, как искусственный мозг, мы всё время, вольно или невольно, опираемся на свойства живого мозга. Чем отличается память человека от памяти машины? Элементной базой. В человеческой памяти работают клетки органического происхождения, в машинной — работает неорганика. В первом поколении машин это были электронные лампы, во втором — полупроводниковые элементы, транзисторы. В последние 10–15 лет происходит революция в этой области — физики пытаются применять в качестве основ памяти элементы из твёрдого вещества с подходящими свойствами. Вы, наверно, слышали об интегральных схемах? Это мозг нового поколения машин, и состоит он из сверхтонких плёнок твёрдого тела. Преимущества в том, что объём машин меньше — ведь на месте одной прежней электронной лампы умещается целая «академия наук»!
Но разве дело только в объёме? — спрашиваю я. — Не важнее ли уловить секрет жизнедеятельности клеток, принцип их действия, чтобы нечто подобное попытаться воплотить в ЭВМ? И вообще возможно ли это? Ведь механизм процессов памяти формируется на молекулярном уровне. И этим объясняются свойства памяти и принцип её действия. А у лампы, полупроводника или даже плёнки твёрдого тела совсем иная природа, а следовательно, и иной принцип действия. Какую цель ставят поиски — добиться сходства или понять различие? И нужно ли искать сходство?
Мы ищем сходство не в принципе действия живого и искусственного, интеллекта, а в его результатах. От ЭВМ мы даже ждём большего. Большей скорости работы, большей надёжности, долговечности. Все параметры искусственного мозга должны перекрыть возможности живого мозга. И мы возлагаем большие надежды на элементы твёрдого тела не только потому, что это сулит нам уменьшение объёма ЭВМ. А главное потому, что исследования внушили нам уверенность в большой перспективности этих элементов памяти. У нас возникла надежда, что элементная база на твёрдом теле сможет не только соперничать, но и превзойти возможности интеллекта, созданного природой. Пока, конечно, лидируют биологические элементы памяти. Но ручаюсь, очень скоро искусственные помогут нам создать новую машинную цивилизацию.
Утратив связь этих проблем с тематикой лаборатории, я спрашиваю Прохорова:
— А при чём тут лазеры?
Он смотрит на меня с недоумением, будто я забыла, для чего в природе Солнце.
— Лазеры? Но ведь это орудия изучения твёрдого тела. Они не только помогают исследовать свойства веществ, но дают часто единственную возможность изменять состояние материалов. Например, уплотнять атомы. Лазер может обжать вещество на четыре порядка! А уплотнение — это путь к ещё более компактным элементам ЭВМ.
Вот почему в тематике нашей лаборатории и такая сверхмодная наука, как супермикроэлектроника, и разделы старомодной традиционной физики — исследование твёрдого тела, влияния давления на плотность и другие свойства веществ. Это естественно. Всякий шаг вперёд — и в жизни, и на войне, и в науке — вынуждает подтягивать тылы к переднему фронту. И надо сказать, что сегодняшний уровень физики подводит нас к одной плодотворной и решающей идее, подсказанной не только логикой развития науки, но и самой жизнью, — применению лазеров для получения термоядерной энергии.
Энергетический кризис в капиталистическом мире напомнил всем о необходимости быстрее найти пути к новым источникам энергии. Один указал академик Арцимович. Это установки типа Токамак, применяемые и у нас, и за рубежом. Но другой — лазерный — путь может оказаться более коротким. Мы идём по нему вместе с академиком Беликовым и другими.
Прохоров акцентирует внимание и на другом важнейшем направлении, уже вам знакомом: применении лазеров для управления химическими реакциями, для разделения изотопов. Это путь получения новых веществ, неизвестных в природе, недоступных традиционной химии.
— А разве менее увлекательна возможность лазерного воздействия на биологические процессы? — размышляет он вслух. — Ведь лазерный луч может воздействовать на тончайшие детали генетического механизма наследственности! Но всему своё время. Ни я, ни мои сотрудники не могут сделать всего. Да это и не нужно. В стране есть много квалифицированных научных коллективов, которые ведут интересные и важные исследования.
…Да, стиль учёного так же неповторим, как манера письма художника. Своеобразие научного почерка, остро та интуиции, необычная логика мысли — вот что приводит к открытиям, что действительно меняет облик окружающего нас мира. Это и есть как раз то, что характерно для Прохорова.
БЕГУЩИЕ ФОКУСЫ
Доверие к авторитетам… Есть ли в мире что-нибудь прочнее? Впрочем, может быть, с ним поспорит вера в привычку?
Века и века луч света слыл символом прямизны. Понадобилось мужество Френеля и его уверенность в правоте математики, чтобы признать за светом способность огибать препятствия. Но учёнейшие из учёных — члены французской Академии наук — ему не поверили. И выдвигали очевиднейшие опровержения, основанные на многовековом опыте.
Из формул Френеля следовало, что за непрозрачным экраном тень от свечи возникает не внезапно. Как бы набираясь сил, она появляется тонкими силуэтами, повторяющими контур экрана. Формулы утверждали, что контуры тени должны чередоваться со всё более слабеющими контурами света. Все подсознательно чувствовали, что это предсказание противоречит здравому смыслу.
Но на этом не кончались фантазии Френеля, этого опального инженера, изгнанного со службы во время наполеоновских «Ста дней». Физик-самоучка предсказывал, что за отверстием в непрозрачном экране свет должен перемежаться с темнотой. Такого никто никогда не видел, и все были уверены, что этого не может быть.
Рассудил опыт, который со времён Галилея и Ньютона утвердился в науке в качестве высшего авторитета. Но не безликий и безымянный «многовековый», а специально поставленный французским физиком Араго, простой, наглядный для каждого, по крайней мере, каждого студента университета. И нехитрый опыт Араго, и волновая теория Френеля вошли в золотой фонд науки. Их не опровергли, а лишь дополнили труды многих поколений учёных.
Темперамент, по-видимому, более чем что-либо другое определяет сферу деятельности учёного. Определяет главное — займётся ли человек развитием, дополнением, уточнением чужих результатов или он будет выдвигать и отстаивать свои собственные новые идеи? Чтобы подтвердить эту мысль, хочу рассказать об учёных, смело противопоставивших свои научные концепции прохоровским, и о том, что из этого получилось…
Не успел Гурген Ашотович Аскарьян по-настоящему акклиматизироваться в Физическом институте АН СССР имени Лебедева, как его коллеги поняли — такой не удовлетворится уточнением высказанных другими идей. Темперамент не тот. Ни привычка к освящённым веками истинам, ни доверие к авторитетам не смогут сдержать бурной генерации идей и безудержной фантазии.
Среди множества вопросов, преследовавших Аскарьяна, к теме нашего рассказа относится один: что будет, если луч лазера попадёт в прозрачную для него среду? Природа среды неважна, существенна прозрачность. Не должно быть потерь энергии. Они только затуманят ответ на вопрос, который пытался дать ещё академик Вавилов, — как влияет вещество на свет, если мощность света велика? Тогда он не был ясным — не существовало столь мощных источников света, как сегодняшний лазер.
Размышления. Сопоставления, казалось бы, далёких фактов. Наскоро написанные и зачёркнутые формулы. Уныние и надежда… И вдруг озарение. Вывод, от которого отскакивают все возражения.
На этот раз он означал: должно существовать множество прозрачных веществ, в которых лазерный луч не будет расходиться, как расходятся лучи света от прожектора, фонаря. Не будет, хотя этого следовало бы ожидать на основе бесспорной теории Френеля.
Нет, Аскарьян не думал опровергать её. Он в ней не со мневался. Просто понял, что в наш лазерный век изменились условия. На авансцене появились новые источники света, новые взаимодействия и силы, совсем незнакомые Френелю. Надо было приучить себя к мысли, что в век новой оптики надо быть готовым к новым явлениям.
Полузабытый теперь нидерландский учёный Снеллиус впервые установил закон преломления света. Это была сенсация, потому что за этой формулой учёные гонялись много веков. И вот Снеллиус открыл (а Декарт подтвердил), что при переходе границы между двумя прозрачными средами падающий луч изламывается, давая начало лучу преломлённому. Первоначально учёные имели дело только с переходом света из воздуха в другую прозрачную среду или обратно. Угол между падающим и преломлённым лучами в этих случаях определяется только свойствами среды. Точнее, лишь её характеристикой, называемой показателем преломления. Великий Максвелл считал эту величину одной из важнейших постоянных и ввёл её в свои знаменитые уравнения.
Впрочем, уже в то время опыт намекал, что показатель преломления не является постоянной величиной в полном смысле этого слова, а сохраняется только при определённых внешних условиях. Он изменяется с температурой и давлением, под действием электрического и магнитного полей. Это знали все мало-мальски знакомые с оптикой. В своё время учёные, интересовавшиеся оптикой в достаточной мере, выяснили, как зависит показатель преломления от внешних условий. Большинство до наших дней считало эти знания вполне достаточными.
Лазеры открыли широкий путь в область, в которую ещё не входил никто, кроме Вавилова и его учеников, в область нелинейной оптики. Да и они лишь вступили на её порог, только доказали реальность её существования, только почувствовали, что физические «постоянные», на которых многие законы покоятся как на прочном фундаменте, в этой неизученной области ненадёжны! «Постоянные» могут изменяться и при абсолютно неизменных внешних ус ловиях. Они должны каким-то образом зависеть от мощности самого света и чувствовать её изменения…
Интуиция вела Вавилова правильным путём, но она подсказывала ему прозрения, которые невозможно было доказать в те времена.
При жизни Вавилова источники света были столь маломощны, что требовалось всё огромное искусство и его, и сотрудников, чтобы продемонстрировать реальность таких процессов.
И вот положение в корне меняется. Мощность лазерного луча может быть столь велика, что от неё, если Вавилов прав, должен зависеть показатель преломления даже в неизменных условиях. Должен зависеть уже не только теоретически, но и реально. И это можно наблюдать, можно увидеть, как лазерный луч будет при известных условиях сам себя изгибать!
— Новые явления, порождённые мощностью и когерентностью лазерного луча, этим не ограничатся. На пути луча должны наблюдаться и другие отступления от френелевских законов распространения света, — размышлял Аскарьян…
Из законов Френеля следует, например, что никому не удастся получить совершенно параллельный пучок света, даже если попытаться вырезать середину у достаточно широкого пучка. В любой среде любые пучки света расширяются как лучи прожектора. Расширение пучков света не зависит от природы вещества. В пустоте оно такое же, как в любой прозрачной среде. И не зависит от интенсивности света. Значит, лазерный луч любой мощности также подвластен законам Френеля, как свет далёких звёзд?
Идея Аскарьяна состояла в том, что под действием мощных лучей лазеров в некоторых веществах должны возникнуть новые процессы, способные преодолеть расширение пучков света, которые будут бежать не расширяясь, а ещё более мощные — даже сжимаясь!
Допустим, лазерный луч действительно нарушает закон Френеля, требующий расходимости световых потоков. Высказать идею мало. Надо доказать её. Надо обнаружить механизм, позволяющий потоку лазерного света поступить иначе, чем имеют право поступать обычные световые лучи. Но с чего начать доказательство? Какой путь избрать? На чём остановились предшественники?
Около ста лет назад шотландский учёный Джон Керр открыл явление, обнаружить которое хотел ещё великий Ломоносов. В одной из своих программ Ломоносов писал: «Надо сделать опыт, будет ли луч света иначе преломляться в наэлектризованном стекле и воде?» Этого же безуспешно пытался достичь гений эксперимента — Фарадей.
Керр оказался удачлив, он установил, что преломление света в стекле радикально изменяется, если поместить его между обкладками конденсатора, заряженного до высокого напряжения. Можно представить себе радость учёного, обнаружившего то, к чему безуспешно стремились его великие предшественники! Узкий луч света, идущий через стекло, при включении электрического напряжения внезапно расщеплялся на два, расходящихся под углом друг к другу. При выключении напряжения эффект исчезал. Да, в электрическом поле стекло вело себя иначе, чем обычно. Электрическое поле превращало стекло в подобие исландского шпата — кристалла, в котором ещё в 1670 году копенгагенский профессор Бартолин обнаружил расщепление лучей света — двойное лучепреломление. Тогда это было воспринято чуть ли не как фокус. Позже это явление наблюдали во многих кристаллах. А затем оказалось, что его можно вызывать искусственно и в тех кристаллах, где оно в обычных условиях не наблюдается, и даже в стекле. Для этого достаточно нажать на них или подвергнуть неравномерному нагреву. И вот ему, Керру, удалось получить двойное лучепреломление под действием электрического поля!
Но… настоящего учёного отличает прежде всего спо собность к самокритике. Впрочем, как и каждого настоящего человека, независимо от его специальности. Итак, Керр знал, что двойное лучепреломление в стекле может быть вызвано и электрострикцией — деформацией тел под действием внешнего электрического поля. Подобная деформация, как и простое нажатие, меняет свойства стекла: теперь они зависят от направления. Значит, необходимо ещё убедиться, действительно ли обнаружено новое явление — двойное лучепреломление в результате непосредственного влияния электрического поля — или в процессе участвует электрострикция.
Но Керр знал и другое. Электрострикция не способна вызвать двойное лучепреломление в жидкостях. Однако Керр нашёл жидкости, в которых наблюдается этот новый — электрооптический — эффект, вошедший в науку под названием явления Керра. Впоследствии Керр обнаружил, что двойное лучепреломление в некоторых веществах можно вызвать и при помощи магнитного поля, но это выходит за пределы нашей темы.
Для нас существенно, что электрооптический эффект не сводится к возникновению двойного лучепреломления. Электрическое поле, не только постоянное, как в опытах Керра, но и меняющееся во времени, в том числе и электрическая часть световой волны, приводит к изменению показателя преломления прозрачных тел. Причём он увеличивается вместе с ростом интенсивности света. Это один из процессов, способных в соответствии с идеей Аскарьяна привести к компенсации расходимости световых пучков.
О своих соображениях Аскарьян рассказал на семинаре по квантовой электронике, происходящем в ФИАНе с участием большинства московских и многих иногородних специалистов, а затем опубликовал свои результаты в известном во всём мире «Журнале экспериментальной и теоретической физики».
Эта небольшая статья отличается характерным для Аскарьяна богатством и новизной содержания. В ней показа но, что явление имеет не только теоретическое, познавательное значение, но и чисто практическое, очень важное и перспективное. По мнению Аскарьяна, поперечную неоднородность поля интенсивного электромагнитного луча можно по желанию использовать для втягивания электронов и атомов к оси пучка или для выталкивания их наружу и таким способом сжимать газ. Можно создать в газе канал для прохода электронов или плазмы. Сделать «пробку» у отверстия, соединяющего сосуды, в которых различны давления газа. Применить для нагрева плазмы, её транспортировки, создания плазменных токопроводов. И, конечно, для создания волноводов и самофокусировки. Специалистам, работающим в наиболее сложных областях физики плазмы, это показалось чудом: будто бы обыкновенному смертному сообщили, что теперь можно ходить по морю словно по суше. Открывался мост в страну покорённой энергии плазмы!
Шёл 1962 год… А в 1963 году в тоненькой книжечке журнала «Письма ЖЭТФ» Пилипецкий и Рустамов сообщили о первом экспериментальном наблюдении нового явления — самофокусировки световых лучей. В их опытах были фотографически зарегистрированы тонкие светящиеся нити в жидкостях, через которые проходил предварительно сфокусированный луч рубинового лазера. (В наши дни самофокусировка проявляется в большинстве опытов, связанных с прохождением гигантских импульсов света лазеров через жидкости. Её можно наблюдать и в газах, и в твёрдых телах.)
Новые факты требовали осмысления и теоретического анализа. Первым рассчитал профиль светового пучка, самоканализирующегося под влиянием высокочастотного эффекта Керра, молодой физик из Горького, теперь уже профессор, Таланов.
Таланов принадлежит к третьему поколению замечательной советской школы физиков, основанной академиками Мандельштамом и Папалекси. Эта школа прославила нашу страну крупнейшими открытиями в области нели нейной теории колебаний, радиофизики, оптики и многими другими. В третье поколение входят академики Гапонов, Гинзбург и создатели квантовой электроники академики Прохоров и Басов, начинавший свою научную работу под руководством Прохорова, но бывший первоначально учеником академика Тамма, сотрудника Мандельштама. Ко второму поколению этой школы относятся такие выдающиеся учёные, как академики Андронов и Леонтович.
Пусть читатель простит меня за этот экскурс в научную генеалогию. Она здесь совсем нелишняя. Ведь мало где преемственность поколений выступает так отчётливо, как в науке.
А теперь ненадолго перейдём к истории и упомянем о географии.
В годы первой пятилетки наш народ начал поход за большую науку. Расширялись старые научные центры, создавались новые. Один из них был заложен на Волге в старом промышленном городе Горьком. Школа Мандельштама послала туда крепкое ядро. В него вошли талантливые молодые физики Андронов, Горелик, Грехова и другие. Они поддержали и умножили традиции школы. И, в свою очередь, вырастили поколение учеников. К ним и относится Таланов.
Прежде чем заняться теорией самоканализирующихся световых пучков, Таланов успел внести существенный вклад в нелинейную теорию колебаний и в теорию распространения электромагнитных волн. Самоканализация электромагнитных волн — один из типичных примеров того, как нелинейности среды определяют наиболее существенные черты наблюдающихся в ней явлений. Здесь Таланов был во всеоружии. Его теория была построена для распространения интенсивного пучка электромагнитных волн в плазме. Но в ней полностью содержалась оценка и описание любой аналогичной ситуации. Она была словно специально создана, чтобы нарисовать основную картину явления — формирование волноводного канала в любой среде, где ка нал может поддерживаться действием самого поля. Это касалось и «нашего» случая — с лучом лазера.
Впоследствии Таланов углубил общую теорию этого явления, получил ряд новых важных результатов. Но о них позже. Теперь мы должны пересечь океан.
Одновременно с работой Таланова в журнале «Письма в Физические обозрения», печатающем только те статьи, которые и автор и редактор считают срочными, появилась статья Чао, Гармайр и Таунса «Самофокусировка луча оптического мазера». Американский физик Таунс, один из творцов квантовой электроники и мазера, не применяет слово «лазер», предпочитая ему сочетание «оптический мазер». Не наше дело обсуждать терминологические споры. Мне они кажутся лишёнными глубокого смысла. Ведь лазер и оптический мазер означают одно и то же.
Статья начиналась так: «Ниже мы рассмотрим условия, при которых электромагнитный луч создаёт себе диэлектрический волновод и распространяется не дифрагируя». Авторы не были знакомы с работой Аскарьяна, но позднее, узнав о ней, признали его приоритет. В отличие от Таланова, рассмотревшего в своей первой работе лишь движение электромагнитной волны в плоском канале, они рассчитали цилиндрический канал, возникающий в подавляющем большинстве опытов с лазерами. Их короткая статья содержит глубокое и ясное рассмотрение физической сущности двух процессов, способных вызвать самофокусировку и канализацию света, — электрострикции и керр-эффекта.
Таунсу и его сотрудникам удалось рассчитать, при какой мощности в данных условиях будет подавлена дифракционная расходимость луча и он окажется захваченным в канал. Правда, значение критической мощности было вычислено только при учёте электрострикции. Существенным ограничением явилось и то, что математические вычисления относились только к состоянию, при котором луч уже захвачен в канал. Как это произошло и возможен ли вообще процесс захвата — осталось за пределами математического рассмотрения.
Статья Таунса с сотрудниками стимулировала целый ряд исследований. Американец Келли, по-видимому, первым увидел процесс схлопывания первоначально параллельного пучка света и установил, на каком расстоянии после вхождения света в нелинейную среду происходит самофокусировка. Интересно, что, указывая на своих предшественников, Келли располагает их в таком порядке: Аскарьян, Таланов, Таунс с сотрудниками.
Келли получил свои главные результаты при помощи численных расчётов. Вскоре Таланов, а затем сотрудники Московского государственного университета Ахманов, Сухоруков и безвременно скончавшийся академик Хохлов опубликовали аналитическое решение той же задачи. Однако приближённые методы, которые пришлось применить для решения этой весьма сложной задачи, теряли силу вблизи точки схлопывания. Численное решение Келли тоже не говорило ничего о том, что же происходит с пучком вблизи точки схлопывания и за ней.
Мнение, высказанное впоследствии Келли, а также Талановым, таково: лазерный луч за точкой схлопывания переходит в очень тонкую и чрезвычайно интенсивную световую нить. То же писали Таунс и другие. Лишь Хохлов и его товарищи из МГУ допускали, что за точкой схлопывания возможно образование более сложного и своеобразного узкого световода, подобного нити с периодически изменяющимся поперечным сечением.
Последующие теоретические работы исходили из того, что за точкой схлопывания возникает волноводный режим распространения света. Они были посвящены выяснению отдельных деталей, повышению строгости математических выкладок, уточнению расчётов.
Все, решительно все экспериментальные работы тех лет подтверждали предсказание теории. В них сообщалось о том, что за точкой схлопывания наблюдается волноводное распространение света в виде очень тонких нитей. Экспериментаторы соревновались в уточнении мельчайших подробностей, изучении разнообразных частных случаев, в увеличении точности измерений.
Все сходились на том, что эта область квантовой электроники в основном завершена. Были написаны итоговые статьи и монографии. Интересы исследователей постепенно перемещались в другие области науки.
Как это часто бывает, благополучие чревато катаклизмами. Они тем неожиданнее, чем более основательным кажется возведённое здание. Но катаклизмы безошибочно указывают, что под фундаментом нет достаточно надёжной основы. Хорошо, если слабина своевременно обнаружена. Её можно ликвидировать и продолжать украшать и наращивать башни. Однако нужно, чтобы делом занялся не эстетархитектор, а любитель основательности, не гнушающийся сумрачной серости грунтов и обыденности фундаментов.
В нашей истории, к счастью, такой любитель нашёлся. Молодой сотрудник Лаборатории колебаний ФИАНа, представитель четвёртого поколения школы Мандельштама, Владимир Николаевич Луговой обратил внимание на известное всем тонкое место теории самофокусировки. В нём, как в одной точке, сошлись сомнения всех теорий. Большинство авторов понимали трудности, возникавшие при попытке точно описать поведение лазерных лучей вблизи точки схлопывания. Понимали и даже не пытались детально разобраться в том, что там происходит. Ведь приходилось ограничиваться приближёнными теориями. А они говорили разное.
Из одних получалось, что по мере приближения к этой точке лучи, ранее изгибавшиеся к оси, постепенно начинали подходить к ней всё более полого. В других продолжения всех лучей должны были бы сойтись в точке схлопывания, как в фокусе. В третьих теориях эти лучи выпрямлялись и входили в область, где теория теряла силу. Но не будем уг лубляться в различные варианты.
Во всех случаях оставалось совершенно неясным, как же лучи света ведут себя там, куда теоретики не могут проникнуть? Что с ними происходит дальше? Не берёт ли дифракционная расходимость верх над нелинейными процессами там, где лучи сходятся слишком сильно? Не начинают ли там преобладать какие-то ещё не учтённые явления?
Если лучи идут к оси всё более полого, то сходятся ли они где-нибудь в точку или плавно переходят в тонкий канал, как думало большинство? Если же они, выпрямляясь, вонзаются в точку схлопывания, как в фокус линзы, то почему они не расходятся за ним? А может быть, они там вновь изгибаются и плавно входят в узкий канал? Или за фокусом лучи действительно расходятся, чтобы собраться вновь в следующем фокусе?
Эксперименты, впервые вполне уверенно произведённые Чао, Гармайр и Таунсом, обнаружили узкий канал, в который обращался луч, пройдя в среде путь, предсказанный ему теорией. Последующие опыты в большинстве случаев давали аналогичные результаты. Правда, в некоторых условиях возникали какие-то обрывки светящихся нитей, которые можно было толковать в пользу гипотезы периодически сужающихся каналов.
При очень больших мощностях картина чрезвычайно усложнялась. Вместо одного узкого канала возникало несколько, а иногда и множество тонких нитей.
Экспериментаторы ставили удивительные по ясности замысла опыты. Они наблюдали то, что никогда не пришло бы в голову ни Ньютону, ни Фарадею, ни Френелю — королям оптики. В те годы они и не помышляли о том, как глубок океан тайн света.
Но современных теоретиков все эти находки экспериментаторов не смутили. В нелинейных средах возможно и не такое. Теория убедительно показала, что уже на ранних стадиях фокусировки исходный пучок может распасться на несколько частей, тяготеющих к различным областям. В статьях замелькало магическое слово «неустойчивость».
Действительно, из более точных уравнений следовало, что при очень больших мощностях пучки становятся неустойчивыми и стремятся распасться на отдельные нити. Казалось, все хорошо, но… что же всё-таки происходило с пучками там, вблизи точек схлопывания?
Луговой не мог удовлетвориться общепринятым, основанным на опыте представлении о том, что там безусловно возникает узкий канал. Его не удовлетворяло это «безусловно», этот постулат, который нужно было принять на веру, как постулат о параллельности в геометрии Евклида.
Свыше двух тысячелетий на этом постулате строилась геометрия, а затем и физика. До тех пор, пока не нашлись люди, отказавшиеся принимать его на веру. Что будет, если не принимать этот постулат, спросили они себя. Можно ли обойтись без него? Невозможно, ответила строгая математика. А они попробовали — Лобачевский и Риман. И создали две новые геометрии. Две неевклидовы геометрии. Они работали независимо и, конечно, случайно избрали различные из двух существующих возможностей — параллельные линии в бесконечности сходятся и параллельные линии в бесконечности расходятся. Оба варианта столь же правомочны, как постулат Евклида.
Теперь неевклидова геометрия — полноправный отдел математики и надежный инструмент физики. Вселенная, изучаемая в огромных масштабах, не может быть описана при помощи только евклидовой геометрии. Вблизи больших масс отклонения от неё заметны и при сравнительно малых расстояниях. Это установил создатель теории относительности Эйнштейн, а затем подтвердил опыт.
Но если даже чисто геометрический постулат может оказаться лишь частным случаем более общего явления, то как можно примириться с постулатом в физической теории!
И Луговой сообщает о своих сомнениях тому же семинару, перед которым за пять лет до этого Аскарьян выдвинул идею самофокусировки и самоканализации света. Он обращает внимание на то, что приближённые аналитичес кие методы, основанные на предположении о неизменной форме пучка, не могут дать правильной картины за точкой схлопывания. Он показал, что при распространении интенсивного светового пучка в нелинейной среде его форма существенно изменяется.
Статья Лугового, содержащая эти соображения и результаты, появилась в журнале «Доклады Академии наук СССР» в 1967 году. Но во всех экспериментальных работах, продолжавших появляться до следующего года, сообщалось о том, что за точкой схлопывания пучка наблюдается волноводное распространение света в виде очень тонких ярких нитей.
Только Прохоров поддержал своего молодого сотрудника. Он сам включился в эти исследования и привлёк к ним Дышко, специалистку по вычислительной математике. Раз приближённые аналитические методы оказались непригодными, пришлось призвать на помощь электронную вычислительную машину. Предстояла сложная трудоёмкая работа.
Решили отказаться от каких-либо предвзятых предположений о судьбе пучка за точкой схлопывания. Машине были предложены уравнения, описывающие наиболее простую задачу: на плоскую границу вещества, о котором известно, что в нём наблюдается квадратичный эффект Керра, падает пучок света. Машина должна была определить, что будет происходить с ним по мере продвижения в глубь вещества.
Легко представить волнение, с которым исследователи ожидали результат, зреющий в электронных недрах вычислительной машины БЭСМ-6.
Проработав положенное время, машина сообщила: при этих условиях волноводного режима нет. За точкой схлопывания образуется некоторое число фокусов — областей с очень высокой концентрацией энергии и чрезвычайно малыми размерами.
Ответ не только в корне расходился со всеми варианта ми существующих теорий, но и противоречил всем известным экспериментальным данным.
Было от чего прийти в уныние. Ведь учёные надеялись получить строгую и надёжную картину перехода от постепенной самофокусировки через точку схлопывания к тонкой нити. Но ошибки не было. Уравнения верны, и машина сработала правильно.
Тогда они предложили машине вторую задачу, точнее соответствующую условиям большинства опытов. Перед попаданием в нелинейную среду пучок света предварительно проходил собирающую линзу. Машина решила и эти уравнения. Ответ был тем же. Никакой нити. Цепочка отдельных фокусов.
В чём же дело? Может, постановка задачи в чем-то не соответствует реальности? Возможно, цепочка фокусов — результат того, что из всего многообразия явлений при расчёте учитывался только эффект Керра? Вполне вероятно и такое предположение — возникновение тонких нитей вызвано не эффектом Керра, а каким-то другим процессом…
Уравнения были усложнены. Теперь они отражали и действие вынужденного комбинационного рассеяния. Явления хорошо изученного, проявляющегося особенно сильно при больших интенсивностях света и известного как одна из причин самофокусировки.
Снова часы ожидания перед машиной. И новый ответ. Многофокусная структура должна существовать! Учёт вынужденного комбинационного рассеяния приводит только к изменению численных величин. Узкого канала не возникает и в этом случае.
Казалось, оставался единственный путь. Перебирать один за другим все эффекты, способные привести к формированию тонких каналов. Записывать всё новые, вероятно, всё более сложные уравнения. И уповать на мощь БЭСМ-6. Возможно, тогда наконец будет обнаружен эффект, ответственный за волноводное распространение света, за образо вание тонких ярко светящихся нитей.
Нужна вера и интуиция для того, чтобы избрать другой путь. Отвергнуть очевидность многочисленных опытов. Отказаться от обаяния общепризнанных теорий. Сойти с проторенной тропы.
Прохоров и Луговой решили по-новому взглянуть на ответы машины. Не как на ошибку. Не как на результат неверного выбора исходных физических данных. А как на правильный вывод, соответствующий слишком упрощённо сформулированной задаче.
Упрощение действительно имело место. Гигантский импульс лазера длится мгновение, точнее — десятки наносекунд, проще — сотые доли от миллионной доли секунды. А они предлагали задачи, в которых пучки света действуют непрерывно с постоянной мощностью. И в зависимости от этой мощности получали различные расстояния от множества фокусов.
Вот где причина! Во время гигантской вспышки лазера мощность света меняется от нуля до огромной величины. Расстояния до фокусов не могут при этом быть постоянными. Они должны изменяться вместе с увеличением мощности. Фокусы должны перемещаться.
Бегущие фокусы? Да, бегущие фокусы. Вот где разгадка тайны. Может быть, они бегут так быстро, что и для глаза, и для приборов сливаются в непрерывную яркую нить?
Новые сложные расчёты подтвердили догадку. Да, конечно, фокусы движутся. При условиях, характерных для большинства экспериментов, выполненных в различных лабораториях, фокусы летят со скоростью, близкой к миллиарду сантиметров в секунду. Скорость, всего в тридцать раз меньшая, чем скорость света!
Не мудрено, что траектория их движения выглядит как яркая светящаяся нить.
Теперь слово опять должно быть предоставлено эксперименту, поставленному в полном соответствии с условиями, для которых Прохорову и его сотрудникам удалось сформулировать задачу и выполнить соответствующие расчёты.
Первое сообщение о том, что наблюдаемые сбоку тонкие световые нити представляют собой след движущихся фокусов, явилось плодом совместной работы сотрудника Прохорова Коробкина и американского физика Аллока. Работа была выполнена в США, где Коробкин работал в течение нескольких месяцев. Затем Лой и Шен сообщили, что в результате самых тщательных исследований, выполненных в соответствии с условиями теории Прохорова и его сотрудников, они не обнаружили волноводного распространения света, но наблюдали движущиеся фокусы.
Наконец, Прохоров с возвратившимся домой Коробкиным, Серовым и Щелевым не только наблюдали движущиеся фокусы, но и измерили их скорость. Она хорошо совпадала с предсказаниями теории.
Казалось, достаточно. Но Прохоров и Луговой не прекратили работы. Вместе с Абрамовым они доказали, что не только гигантские, но и в тысячу раз более короткие импульсы, те, которые принято называть сверхкороткими, тоже образуют движущиеся фокусы.
Подведём итоги. Твёрдо установлено теоретически и экспериментально, что мощный лазерный импульс, падающий на вещество, в котором возможен эффект Керра, самофокусируется. В результате возникает цепочка фокусов, чрезвычайно быстро движущихся по направлению к лазеру.
А как же тонкие нити? А самоканализация света и его волноводное распространение, предсказанные Аскарьяном? Что делать с многочисленными теориями маститых авторов? Как относиться ко всем экспериментам, подтвердившим эти теории?
Не литератору решать научные проблемы…
Факты — упрямая вещь. Но важно и толкование фактов.
Бегущие фокусы стали объективной реальностью. Они существуют, и условия их существования точно установлены.
Ясно и то, что теория волноводного распространения света ещё не завершена. Слабые места её известны. Не исключено, что и расчёты, аналогичные тем, что проведены Дышко, Луговым и Прохоровым, но выполненные для более сложных условий, соответствующих большинству прежних опытов, приведут к нитям или множеству нитей, а не к движущимся фокусам, соответствующим более простым условиям.
История ещё не закончена. Невозможно предсказать, кто и где сделает следующий, решающий шаг. Но не сомневаюсь, что это будет человек или группа людей, столь же бесстрашно критикующих общепринятые теории, как Аскарьян и Луговой, обладающих чувством нового и глубокой интуицией Прохорова.
Словом, то будут люди, не боящиеся идти против течения, люди, жаждущие прозрения, не пугающиеся сенсации.
ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ
Наталью Александровну Ирисову я знаю много лет. И никогда не переставала удивляться ей — она ухитряется не стареть. Набирается какой-то деятельной силы, заразительной энергии. Это одна из тех редких женщин, которые идут сквозь годы, не утрачивая ни цвета лица, ни веры в счастье, ускоряя жизненный темп и поражая творческой отдачей.
Если вы увидите её на теннисном корте, в саду с граблями, за рулём «Волги» рядом с сыном, вы ни за что не поверите, что Ирисова, доктор физико-математических наук.
Она попала в Физический институт АН СССР им. П.Н. Лебедева совершенно случайно. Это было в Казани. Шёл 1941 год, первый год войны. Эвакуированная из Ленинграда студентка первого курса физфака бежала в госпиталь. Все подруги работали для фронта — кто сиделками в госпиталях, кто подсобными на заводах. Не имея военной специальности, Наташа хотела стать хотя бы санитаркой.
По пути столкнулась со старым знакомым, другом ро дителей.
— Наташа? Куда спешишь?
Рассказала. Он задумался — знал, что девушка проявляла способности к науке. Ещё в Ленинграде на математическом конкурсе в Доме пионеров она, школьница младшего класса, удивляла тем, что легко решала задачи из программы старших классов. А как решала — объяснить не могла. Решала — и всё. Решала «животом». Потом легко поступила в университет.
Наташа, мне нужна лаборантка, пойдёшь?
Нет, я хочу работать для фронта.
Но мы тоже работаем для фронта, — обиделся он.
Это был Вул, физик, будущий академик, лауреат Ленинской премии, заведующий лабораторией полупроводников ФИАНа.
В те тяжёлые для страны годы Советское правительство старалось сберечь научные кадры. Физический институт был эвакуирован в Казань, и учёные, не отпущенные на фронт, вели интенсивные исследования, выдвигаемые нуждами Великой Отечественной войны. Всё это Вул объяснил Наташе, и она стала лаборанткой, а затем после окончания университета и аспирантуры научным сотрудником института. Того самого института, где руководила небольшим, но весьма продуктивным и сплочённым научным коллективом.
Очень важно иметь хорошие природные данные. Но не менее важно попасть в среду, где эти способности будут развиты и укреплены, получат верное направление.
Ирисовой повезло. Она попала в знаменитую Лабораторию колебаний, которая сегодня известна во всём мире как место, где родились молекулярные генераторы. О мазерах и лазерах теперь не знает разве что снежный человек. Но эта лаборатория знаменита не только как родина уникальных приборов, здесь формировалось немало незаурядных учёных.
Лаборатория колебаний с самого основания является замечательной школой физиков. Мы уже говорили, что она дала науке немало одарённых учёных. Организаторы её академики Мандельштам и Папалекси. Люди большого интеллекта, они имели особый «нюх» на незаурядность, яркую индивидуальность и особый дар, помогавший им развить в учениках редкие качества ума и таланта. Сюда, в Лабораторию колебаний, как мы уже знаем, пришли с фронта студент Ленинградского университета Прохоров и студент Московского инженерно-физического института Басов, ставшие «маршалами» советской науки.
В Лаборатории колебаний все были проникнуты стремлением к познанию основных закономерностей, объединяющих между собой разнообразные явления. Главным руководством служила общая теория колебаний. Она позволяла с единой точки зрения изучать работу лампового генератора радиоволн и деятельность человеческого сердца, распространение радиоволн и распространение звука, таинственный Люксембургско-Горьковский эффект и прохождение света через кристаллы.
Здесь учили пользоваться безмерной мощью математики, но старались по возможности привлекать наиболее простые и наглядные методы. Через оптические явления перебрасывались мосты в мир атомов, в квантовую область. Отсюда проходили пути к предельным скоростям, в мир теории относительности. И главное, тут учили замыкать связь между идеей и её техническим воплощением. Идти от глубокой теории к промышленному прибору — вот завет основателей Лаборатории колебаний, оставленный ими ученикам. А те в свою очередь передают его дальше.
Такова традиция Лаборатории колебаний, печать которой лежит и на молекулярных генераторах, созданных Прохоровым и Басовым путём синтеза сложнейшей теории и искуснейшего эксперимента. В русле этой традиции все работы нынешней Лаборатории колебаний, и в том числе та, которой руководит Наталья Александровна Ирисова, — ра бота, удостоенная премий, наград и признания всех учёных, кровно заинтересованных в развитии новой области науки — квантовой радиофизики.
После того как в Лаборатории колебаний был создан лазер, её тематика обрела контуры, которые можно охарактеризовать двумя словами: лазер плюс вещество. Расшифровывается это так: учёные проводят исследования различных веществ с целью создания новых, более совершенных лазеров — это одно направление. И другое — применение излучения лазеров для исследования строения вещества. Так осуществляется теснейшее слияние науки и техники — характерная черта научно-технической революции.
Ирисова подключилась к фундаментальным исследованиям — занялась изучением свойств различных твёрдых тел. Она просвечивала их электромагнитными волнами и, изучая поглощение волн, расшифровывала строение и свойства молекул исследуемых веществ. Это был известный способ, но… с изюминкой.
До того физики обычно работали с оптическими или радиоволнами. А Ирисова повела свои наблюдения в диапазоне, расположенном между ними — в субмиллиметровом диапазоне. Это вызвало недоумение коллег. Субмиллиметровые — это «подмиллиметровые» волны: длиною в десятые, сотые и тысячные доли миллиметра. «Зачем нужны эти исследования нашей лаборатории?» — спрашивали одни. «Чем Ирисова собирается измерять эти волны?» — спрашивали другие. Ведь этот диапазон — ничейная земля. Радиоинженеров он уже не интересует. Оптики его ещё не освоили. Здесь не создано никакой измерительной аппаратуры. «Наконец, какое практическое применение уготовано этим исследованиям?» — задавали вопрос третьи.
Внутренняя мотивация в творчестве — явление тонкое, чреватое открытиями, прозрениями. Кто знает, почему нас влечёт к одному делу и не привлекает другое…
Что же задумала Ирисова? Лазер её не интересовал. Её занимали свойства загадочных веществ, стоящих как бы особняком от остальных. Сверхпроводники, сегнетоэлектрики — о них написаны статьи, книги, созданы гипотезы и теории, объясняющие их свойства, описывающие поведение. Но все это пока частично предположения. Известно, как эти вещества ведут себя, но… не до конца понятно почему. Они имеют странные свойства, и как раз эти-то свойства обещают технике заманчивые перспективы!
Ирисова, женщина увлекающаяся, темпераментная, дала себе слово не отступать перед задачей, никем ещё не решённой. Она мечтала: если удастся заменить все существующие электропровода сверхпроводящими, произойдёт переворот в энергетике!
Видя моё недоумение, пояснила:
Дело в том, что сверхпроводники проводят электрический ток без всяких потерь на нагревание. Мы ведь знаем, что передача электроэнергии по проводам имеет существенный недостаток — огромные потери из-за нагрева проводов. При транспортировке электроэнергии на большие расстояния потери составляют, увы, большой процент. Можно только мечтать об устранении нагрева проводов — это будет просто революция, экономия огромная. Но обычные металлические провода греются, и энергетики ничего не могут с этим поделать. Но вот, представим себе, провода сделаны не из обычных материалов, а из сверхпроводящих — они ведь не греются и не рассеивают драгоценную энергию в воздух…
Да, это была бы революция в энергетике, — не могу не согласиться с Ирисовой. — Так в чём же дело? Почему не начать замену обычных проводов на сверхпроводящие? В чём загвоздка?
А в том, — вздыхает Наталья Александровна, — что все эти чудеса со сверхпроводниками происходят только при очень низких температурах, чуть ли не вблизи абсолютного нуля. При нормальной же температуре ничего подобного не наблюдается!
Замечательные свойства сверхпроводников, оказывается, можно наблюдать только в лабораториях. Для этого созданы специальные криогенные установки. Такие установки — плод большого труда, они дороги, громоздки. Их можно применять и для промышленных нужд, но, согласитесь, упрятать в них высоковольтные линии электропередачи, которые опоясывают весь земной шар, задача фантастическая, невыполнимая!
— Как же вы думаете поступить?
Выход в другом. Надо разгадать механизм сверхпроводимости, а затем попытаться воспроизвести нечто подобное при нормальных температурах. Изучить, покорить сверхпроводники — вот о чём необходимо думать сегодня. Своими экспериментами мы хотим внести дополнительную ясность в поведение этих веществ. Связать микроэффекты с макросвойствами. Узнать, какие механизмы ответственны за необыкновенные свойства вещества.
А при чём здесь субмиллиметры? — решаюсь вернуть наш разговор к тематике лаборатории.
Эти вещества особенно чётко проявляют свой характер в этом необычном диапазоне. Атомы сверхпроводников и сегнетоэлектриков откликаются только на волны короче миллиметра. Слышали, как отзывается струна скрипки на зов другой, настроенной в резонанс? Вот мы и хотим вступить в резонансные отношения с этими веществами, облучая их субмиллиметровыми волнами и надеясь получить их спектры. А уж по спектрам изучать особенности строения атомов и молекул. Эти особенности, как видно, ответственны за поведение веществ.
В 60-х годах, когда начались эти исследования, бурно развивались лазеры. А эксперименты Ирисовой и её сотрудников не только не работали на лазеры, но вообще не обещали быстрого успеха. Несколько первых лет требовалось только для создания измерительной аппаратуры. Напомню — её просто не существовало. Ещё несколь ко лет — выработка методики измерений. Надо было исследовать и измерять, изучать десятки различных веществ, чтобы отработать и приборы, и методы их использования. Набирали, как говорится, статистику — изучали тефлоны, кварцы, резину, пористые вещества. Это был второй этап исследования.
— Вначале было очень трудно, — вспоминает Ирисова, — родился сын, я разрывалась между домом и институтом, работа шла туго, и не было человека, который не спрашивал бы: почему Ирисова возится с субмиллиметрами?
Прошло некоторое время, и всё пошло по-другому. Ирисова и её молодой сотрудник Виноградов сделали первый измерительный прибор субмиллиметрового диапазона. На вид — удивительно несерьёзный прибор. Он не похож ни на радиотехнический — с лампами, транзисторами, конденсаторами. Ни на оптический — с линзами, призмами, зеркалами. Основной элемент его — рамки с сеточками из тончайших металлических проволочек. Они столь тонки, что рамки, на которых натянуты, кажутся пустыми.
— Это очень цепкие сети для волн длиною в десятые и сотые доли миллиметра, — смеётся Ирисова, видя, с каким скепсисом я верчу в руках это дамское рукоделие.
— На что же годно это радиотехническое решето? — рискуя обидеть Ирисову, спрашиваю я.
— При помощи комбинаций таких сеточек можно измерить длину, мощность волн, которые никаким иным образом не определяются. Можно разделить эти волны на пучки, отражать их, создавать для них резонаторы.
Казалось бы, изящная лабораторная работа — и всё, работа, имеющая право на существование, но… заслуживает ли она внимания серьёзного исследователя?
Сеточки, похожие на приспособление для вышивания, оказались необычайно оригинальной находкой, новым словом в измерительной технике субмиллиметровых волн. Они стали основой очень нужного прибора — спектроскопа, параметры которого существенно превосходят характерис тики всех известных отечественных и зарубежных спектроскопов. Уже несколько лет как этот прибор передан в производство, и наша промышленность выпускает его серийно. На прибор получен десяток заграничных патентов. Не удивительно, что эта оригинальная работа удостоена одной из главных премий АН СССР — премии А.С. Попова.
— Но к третьему этапу работы, к основной цели — исследованию свойств сверхпроводников и сегнетоэлектриков — приступать было ещё рано, — продолжает рассказ Наталья Александровна. — Нам не хватало прибора, на экране которого можно было бы наблюдать невидимое излучение, идущее из недр исследуемого вещества. Ясно было одно: увидеть электромагнитное излучение можно только на люминесцентном экране. Поэтому мы объединили наши силы с Лабораторией люминесценции ФИАНа. Начались поиски подходящих материалов для экрана. Попробовали один — не получилось, другой, третий — опять безрезультатно. Начали усложнять материал, делать его многослойным. Все шло как в банальном детективе — я даже принесла из дому свою шелковую кофточку. Нужен был тонкий материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. А что может быть лучше шёлка? Покрыли его аквадагом — взвесью графита в сахарном сиропе — и увидели! Правда, изображение было слабым, неясным. Попробовали слюду, лавсан. Замысел был несложен, но исполнение требовало современной технологии. И, наконец, последний вариант: на синтетическую плёнку лавсана в вакууме нанесли слой металла и сверху покрыли слоем люминофора. И эту плёнку натянули на бабушкины пяльцы…
Считаю, что ослышалась. Ирисова смеётся, — говорит то ли в шутку, то ли всерьёз:
— Идея прибора — плод чисто женской логики. Да, да! Если хотите, в этой логике моя слабость, но и сила. Мне легче думать конкретно, труднее — абстрактно. Я мыслю предметно, могу мысленно «потрогать» каждый миллиметр прибора. Впрочем, я оговорилась. Что значат старые привычки: говоря о малом, в быту говорим — миллиметр. В нашем при боре толщина каждого из слоёв «сэндвича» — доли миллиметра. Слой лавсана — три тысячные миллиметра (три микрона), металла — сто ангстрем (десятитысячных долей микрона), люминофора — опять три микрона.
Если не считать трудности изготовления такого «сэндвича» из слоёв неощутимой толщины, прибор очень прост. Но это не значит — примитивен. Поиски простого решения — одна из труднейших задач в науке, технике, да и в искусстве. Сложное решение обычно говорит о беспомощности. Простое — о том, что всё лишнее отметено. Помните, одно из определений скульптуры: камень, из которого удалено всё лишнее?
Так родился простой, но важнейший прибор. Радиовизор — назвали его учёные. И с ним сразу же произошло чудо.
Радиовизор, созданный, казалось бы, для чисто специфических целей, не имеющий ничего общего с тематикой лаборатории, вдруг стал чуть ли не самым необходимым для этой самой лаборатории. Вообще для лазерщиков.
А случилось это вот почему. Мощный лазер для резки, сварки, штамповки металла работает на волне в 10 микрон. «Нежный» диспрозиевый лазер, созданный в той же лаборатории против опасной болезни глаз — глаукомы — и нашедший применение для лечения злокачественных заболеваний кожи, имеет волну длиною 2,36 микрона. Излучение этих лазеров и почти всех других происходит как раз в том диапазоне волн, для регистрации которых и создан радиовизор. И если на экран радиовизора направить лазерный луч даже невидимого глазом инфракрасного диапазона, вскрывается вся его незримая структура. Невидимый луч становится видимым! Расходящийся он или сужающийся, сколько в нём «мод» (типов колебаний) — видно воочию. Радиовизор позволяет увидеть и распределение поля субмиллиметровых и даже миллиметровых и сантиметровых радиоволн (от 1 микрона до 10 сантиметров).
На экране отчётливо видны интерференция воли, дифракция и другие эффекты классической оптики. Теперь этот прибор можно использовать не только в лаборатории исследователя, но и на школьных уроках физики для наглядной демонстрации волновых свойств электромагнитного излучения.
Конечно же, и лазерщики, и вообще физики приняли такой прибор с восторгом.
— Главное, — объясняет Ирисова, — стало возможным настраивать лазер по картинке на экране радиовизора. Как? У лазера существуют настроечные винты. Но раньше их крутили вслепую, не зная, что при этом происходит. Теперь всё изменилось.
Радиовизор сегодня выпускается нашей промышленностью, заказы на него идут из многих научно-исследовательских лабораторий. Иностранцы, посещающие Лабораторию колебаний, подолгу задерживаются в секторе Ирисовой. Кто бы мог подумать, что совсем недавно эту тему называли оторванной от жизни!
— А действительно, — думаю вслух, — чудо — не только сам прибор. Чудо — то, что сделан он в лаборатории, где этот прибор вовсе не планировался. Ведь никто не думал, что результат сработает на тематику. Как же удалось столько лет работать вроде бы «на сторону»?
Ирисову вопрос не удивляет.
— Так оно, в сущности, и происходило, — соглашается она. — Нашим исследованиям просто повезло. Нас поддержал Александр Михайлович Прохоров. Учёный крупного масштаба, он умеет заглядывать вперёд, считает, что в лаборатории должны быть поисковые темы, пусть не сразу дающие выход в практику. Он уважает мнение и интуицию сотрудников. Если человек верит в своё начинание, его надо поддержать, считает он. Толк будет. Даже тогда, когда мы сами отчаивались, Александр Михайлович говорил: когда берёшься за новое дело, не следует бояться мёртвой полосы. Пока соберёшься с мыслями, накопишь опыт, должно пройти время. Идея должна созреть. Никакой спешкой этот процесс не ускоришь. Время окупится.
И действительно, оправдалась уверенность Прохорова: разумно поставленное фундаментальное исследование всегда даёт важные результаты. Этого же мнения придерживаются многие учёные, в том числе и Таунс. Он пишет: «В большинстве случаев результаты бывают ощутимыми, если превыше всего ставится интерес к идее, а не к тем выгодам, которые можно из неё извлечь. Успех может быть неизмеримо большим, если поощрять то, что делается на основе стремления к знаниям и открытиям как таковым».
Что ж, конфликт между рационализмом и бескорыстным служением идее не нов ни для науки, ни для искусства. О качестве музыки не судят по кассовой выручке. Значение научного открытия не всегда пропорционально затраченной на работу сумме денег.
Фундаментальные исследования, однако, не только дань врождённой любознательности или её следствие. Это и расчёт на то, что они повысят уровень культуры, повлияют на производительность труда и в конечном счёте пополнят благосостояние общества, послужат развитию цивилизации. Не в этом ли особенность современного этапа развития науки, приметы научно-технической революции? Наука стала производительной силой.
ЛАЗЕРЫ И БУДУЩЕЕ
…Если подойти к ФИАНу со стороны улицы Вавилова, то рядом с корпусом прохоровской лаборатории увидишь здание-двойник. Это Лаборатория квантовой радиофизики, которой руководил директор института академик Басов.
Здесь тот же «бог» — лазер. И в этой лаборатории учёные, вооружённые лазером, во многих областях науки, техники, промышленности обогнали сегодняшний день.
Лаборатории Басова и Прохорова, несомненно, лидеры в квантовой радиофизике. Но, разумеется, они в нашей стране не единственные — лазерная тематика сегодня так активно внедрилась во все сферы теоретического поиска и практического использования его результатов, что рассказать о всех достижениях лазеров просто невозможно. Поэтому попытаемся отобрать из огромного многообразия лазерных тем те, которые решают кардинальные проблемы будущего, кризисные проблемы.
Главная забота современного человечества — поиски новых источников энергии.
Зажечь лазерным лучом земное солнце — неиссякаемый источник термоядерной энергии — эта мечта овладела учёными, когда лазер был ещё немощен и мало изучен. И когда поиск путей к управлению термоядерной реакцией шёл совсем по другому пути. Уже более четверти века передовые страны тратят большие средства на развитие исследований по магнитному удержанию термоядерной плазмы. Образцом для подражания служит Солнце, практически неисчерпаемый источник энергии. Физики XX века пришли к выводу, что энергия, заставляющая светить Солнце и другие звёзды, возникает в результате превращения водорода в гелий. Взрыв первой водородной бомбы, осуществлённый в 1952 году, подтвердил мощь этой реакции и возможность осуществления её на Земле. Оставалось, казалось бы, немногое: найти средний путь между мгновенным взрывом, происходящим в бомбе, и медленным, но огромным по масштабам и неподвластным человеку процессом, протекающим в недрах звёзд. Нужно было превратить термоядерный синтез в управляемую, контролируемую реакцию и использовать её для мира, а не для войны.
Рассмотрим вместе с учёными эту возможность.
Для того чтобы два ядра тяжёлого водорода дейтерия могли слиться друг с другом, образуя ядро гелия и высвобождая порцию энергии, они должны столкнуться между собой с огромными скоростями. Только при этом могут быть преодолены силы взаимного отталкивания одноимённых зарядов ядер. Силы, защищающие ядро от ему подобных, крепче лат средневековых рыцарей. Чтобы придать ядрам дейтерия нужную скорость, следует на греть их до температуры в несколько десятков миллионов градусов. Но одного этого недостаточно. Чтобы реакция успела развиться в устойчивый процесс, такую температуру нужно поддерживать достаточно долго. Ведь ядра невозможно точно направить одно на другое с тем, чтобы они обязательно столкнулись между собой. Столкновение — дело случая. И чтобы такие случаи реализовались в достаточном количестве, нужно на некоторое время удержать раскалённый газ в ограниченном объёме, несмотря на огромные скорости, заставляющие его рассеиваться в пространстве.
Попробуем на минуту представить себе, что происходит в глубине Солнца или солнцеподобного светила — механизм процесса при температуре в миллионы градусов. В таком пекле атомы не могут «выжить» и сохраниться в целом виде. Огромная температура разрывает их на части, отрывает электроны от ядер. Они движутся независимо и с большими скоростями. Но сила притяжения не даёт им разлететься, в недрах звёзд образуется особое состояние вещества — раскалённая, плотная плазма, удивительное состояние материи, больше всего напоминающее газ, а точнее ту плазму, которая существует внутри трубок газосветных реклам или возникает в лампах-вспышках, применяемых фотографами. Разница лишь в температурах и давлениях. Здесь, в земных условиях, это тысячи градусов и доли или единицы атмосфер. Там — миллионы. Здесь далеко не все атомы разрушены, не все ядра оголены, не все электроны освобождены. Там — все.
Различен и состав вещества. Здесь, в лампах, это инертные газы или их смесь. Там — преимущественно водород. Плазма, бурлящая в недрах звёзд, состоит главным образом из протонов — ядер водорода — с незначительной примесью ядер других лёгких элементов и, конечно, электронов.
Внутри звёзд протекают сложные ядерные реакции, в результате которых четыре протона объединяются между собой, образуя ядро атома гелия — альфа-частицу. При этом выделяется энергия, поддерживающая сияние звёзд.
В каждом таком акте слияния испускается малая порция энергии. Но размеры звёзд огромны, велика и энергия, выделяющаяся в течение миллиардов лет. На Земле невозможно воспроизвести точно условия, существующие в недрах звёзд. Нужно добиться слияния протонов более простым, доступным путём. Чтобы это был не взрыв, а безопасный управляемый процесс.
Получение горячей плазмы в земных условиях — цель и надежда всей будущей энергетики. Казалось бы, всё ясно: надо нагреть плазму и удержать её частицы от разлетания. Но как нагреть и как удержать?
Первый обнадёживающий путь указал академик Тамм: создать и нагреть плазму электрическим разрядом и удержать её силой магнитных полей в особых «магнитных бутылях». По этому пути пошли многие учёные. Исследователи увлекались то одной, то другой конструкцией остроумных и, казалось, надёжных устройств — как правило, это были громоздкие приборы, скованные массивными электромагнитами. Но наградой были лишь неудачи. Из этих «магнитных бутылей» плазма вытекала, словно молоко из дырявых пакетов. Рукотворное солнце не зажигалось… Этот путь дал лишь опыт, понимание трудностей задачи, но не практический результат.
Самый конструктивный способ, основанный на принципе магнитного удержания плазмы, был предложен и разработан учёными под руководством академика Арцимовича. Они придумали магнитную бутылку, лишённую горла. Их магнитная ловушка имеет форму пустого бублика. Бублика с двойными стенками. Первые, видимые, отделяют внутреннюю полость от внешнего воздуха. Там будет создана и нагрета плазма. Вторые — невидимые, образованы магнитными полями. Они отделяют плазму от стенок бублика, чтобы частицы раскалённой плазмы не соприкасались с ними, не охлаждались ими и не нагревали их.
Прибор, вернее, сложная и крупная установка, реали зующая эту идею, получил название токамак. Его основа — тороидальная камера, расположенная внутри тороидального магнитного поля, — позволяет нагревать плазму до гигантских температур и удерживать её некоторое время в этом состоянии. Советские учёные показали, что это один из надёжных путей к цели, получив температуру внутри токамака в 10–15 миллионов градусов. За ними пошли учёные всех промышленно развитых стран. Недавно американские ученые, применив дополнительный нагрев, достигли в своем Токамаке температуры в 60 миллионов градусов.
Это — надёжный путь покорения энергии ядра. Однако пока никто не прошёл его до конца. Никто не добился вожделенной цели — не зажёг рукотворное солнце.
Главная причина в том, что при помощи электрического разряда невозможно осуществить достаточно быстрый нагрев. Когда температура плазмы доходит до десятков миллионов градусов, ни одна, даже самая мощная, ловушка не способна удержать плазму от расширения.
Ещё не были запущены даже первые модели Токамаков, а экономисты уже провели расчёт на эффективность. Они сравнили, сколько энергии на единицу веса топлива выделится при термоядерном способе и расщеплении тяжёлых ядер урана или плутония в обычных атомных энергетических установках. Расчёт показал, что термоядерные электростанции будут выгоднее атомных, выгоднее даже самых выгодных на сегодняшний день. Был сделан и другой подсчёт, так сказать на «чистоту» процесса. И в этом плане термоядерный синтез оказался самым прогрессивным и гигиеничным. Он не даёт тех побочных отходов, которые всё-таки получаются при атомных расщеплениях (имеются в виду радиоактивный цезий, стронций и другие радиоактивные продукты, эти неизбежные спутники деления тяжёлых ядер). При термояде нет и угрозы ЧП: установка не расплавится, не взорвётся. Если процесс выйдет из-под контроля, пойдёт не по программе, то он просто заглохнет, прекратится.
Сама природа — главный пропагандист идеи термояда. Запасы тяжёлого водорода, дейтерия — этого основного термоядерного топлива — неисчерпаемы. Одного лишь дейтерия из морей достаточно для практических нужд на миллионы лет вперёд. А ведь водород содержится в воде повсюду!
Вот почему никакие трудности с магнитными ловушками не могли уже заставить физиков отказаться от намерения найти способ зажечь рукотворную звезду.
И вот — новая идея: изящная, гениально простая и на первый взгляд легко осуществимая!
В вакуумную камеру выстреливается льдинка замороженного водорода (вернее, смеси тяжёлого водорода — дейтерия и сверхтяжёлого водорода — трития). Вспышка лазера встречает льдинку в центре камеры. Мощность лазерного луча столь велика, что льдинка, температура которой первоначально близка к абсолютному нулю, мгновенно превращается в крупинку солнца. Температура её приближается к бушующей в недрах звезды, а плотность всё ещё очень высока. Ведь за мгновение, пока длится вспышка, частицы, уже набрав колоссальную скорость, ещё не успели заметно сместиться в пространстве, а давление лучей лазера вызывает в раскалённой плазме ударную волну, сжимающую плазму в сверхплотный сгусток.
В этой адской температуре порваны все связи между ядрами и электронами. Атомов дейтерия и трития уже нет. Пылает плазма из ядер и свободных электронов. Сталкиваясь между собой, дейтоны и ядра трития вступают в реакцию, в результате которой возникают ядра гелия. Температура при этом ещё больше нарастает. Сопутствующие реакции порождают свободные нейтроны. Еще несколько мгновений — и рукотворная звёздочка погаснет. Плазма, быстро остывая, разлетится по вакуумной камере…
Это — биография одной льдинки. Но если в камеру впускать череду льдинок, скажем, по 2–3 в секунду, то зажжётся гирлянда пылающих «солнц». А дальше? Дальше тепло от нагретых стенок камеры можно утилизировать самым обычным, элементарным путём. Скажем, отводить его для получения горячего пара. Пар направлять на турбины тепловой электростанции. Или использовать для других нужд.
Вот какая перспектива волновала воображение физиков, увлекшихся идеей использовать лазер для получения термоядерной энергии. Возможно, именно так человечество овладеет термоядерной энергией, сохранив уголь и нефть, торф и древесину от уничтожения в топках?
Идея лазерного зажигания термоядерной плазмы воскрешала надежды, она убивала сразу несколько «зайцев», решала вопрос о получении высокой температуры, а главное — проблема длительного удержания термоядерной плазмы оказывалась обойдённой.
Вот почему лазерный термояд кажется привлекательным. Он свёл между собой людей различных характеров, темпераментов, научных склонностей. Для нас же, советских людей, особенно приятным было то, что родина его — Советский Союз. Вот что об этом пишет журнал «Форчун» («Судьба»), выходящий в Нью-Йорке: «Лидерами в области лазерного термоядерного синтеза стали советские ученые. Сама “гонка” за овладение лазерным термоядом началась в 1963 году — после того, как исследователи из Физического института имени Лебедева в Москве, работающие под руководством Николая Басова, сообщили об успешном использовании лазера для получения определённого количества нейтронов, что свидетельствовало о достижении, хотя и в слабой, “мимолётной” форме, реакции ядерного синтеза».
Крюков, молодой учёный, физик «божьей милостью», как говорят о нём друзья, создал первую установку и, сфокусировав мощный лазерный импульс, получил первые термоядерные нейтроны, те самые вестники успеха, о ко торых пишет журнал «Форчун». «И хотя, — продолжает журнал, — известие из Физического института было встречено на Западе с достаточной долей скептицизма», Крюков именно в этих первых нейтронах видит залог всех дальнейших успехов.
— Первые нейтроны, — говорит он, — имели огромное психологическое значение. Они не просто иллюстрировали наш успех. Лазерный термояд занял своё законное место в физике плазмы среди других способов реализации термоядерного синтеза. Ведь до того мало кто в него верил.
Крюков оказался прав. «Вскоре западные учёные убедились в успехе их советских коллег, сумев воспроизвести этот опыт в своих лабораториях. В лабораториях Комиссии по атомной энергии США начались регулярные исследования проблемы лазерного термояда. Этот метод достижения ядерного синтеза примерно в то же время стал темой исследований во Франции, ФРГ, Англии, а затем в Японии» («Форчун»).
Пройдут десятилетия, и человечество будет вспоминать о сегодняшних экспериментах с гордой снисходительностью, как о первых шагах к великому свершению.
Физики, работающие над проблемой лазерного термояда, отлично понимают, что до полной победы ещё далеко. Полезной термоядерную реакцию можно будет считать тогда, когда выделенная энергия превысит затраченную на её создание. Пока полученная реакция энергетически убыточна. Сейчас идёт накопление знаний, а не энергии. Долгая, кропотливая, изнурительная работа. Оттачивается методика эксперимента, совершенствуются установки, набирается статистика, изучается сама плазма, разрабатывается аппаратура для её диагностики. Эта работа — на десяток лет. Но без неё плазма покорена не будет. Эта работа приносит те сведения о процессе, которым нужно научиться управлять. Она определяет весь дальнейший ход исследований: подсказывает, какие механизмы нужно усмирить в плазме, какие лазеры создавать, чтобы их мощь стала достаточной для обжатия и нагрева ядерного топлива.
А теперь сравним две публикации. Одна — из уже цитированного нами журнала: «Благодаря относительной безопасности реакции синтеза установки лазерного термояда могут быть использованы для удовлетворения потребностей в энергии небольших поселений, отдельных предприятий, комплексов, ликвидируя проблему высокой стоимости создания специальных зданий для энергетических блоков или линий дальней передачи энергии. Лазерные термоядерные реакторы можно будет даже создавать настолько “миниатюрными”, что они станут “энергетическими сердцами” морских лайнеров и поездов. А несколько таких реакторов, соединённых вместе, образуют энергетическую станцию».
Обратите внимание на стиль — деловито, буднично, аргументировано, на профессию автора статьи, Лоренса Лессинга, — он журналист, на дату — 1974 год.
И вторая публикация — из газеты «Геральд Трибюн». Крупный заголовок: «Лорд Резерфорд смеётся над теорией обуздания энергии в лабораториях!» Смеётся не обыватель, смеётся не журналист, а отец ядерной физики, смеётся над самой мыслью об обуздании энергии ядра, смеётся в 1933 году — после того как убедился в возможности расщепления ядра…
Разрыв во времени между этими публикациями — 41 год. Не сенсационный ли скачок в сознании людей? Не сенсационный ли темп созревания человеческого интеллекта? Всего несколько десятилетий ушло на то, чтобы от факта расщепления ядра прийти к мысли об использовании энергии этого расщепления.
А ведь от первой догадки об атомной структуре материи до первого доказательства этого прошло более двадцати веков…
У лазерных поисков есть ещё одно из главных направлений. Помимо термояда — это обеспечение связи в будущем, средств переработки информации и передачи её на большие расстояния. Широко известно, что наше поколе ние буквально захлёстнуто потоками информации — это и обилие научных открытий и технических достижений, и просто расширяющийся обмен информацией между людьми. С каждым годом этот поток всё больше и больше — его нужно быстро перерабатывать, осмысливать, использовать. Естественно, вся надежда — на ЭВМ. Но их быстродействия уже недостаточно, к тому же они громоздки и не экономичны. Радиоволны и электроника не удовлетворят будущие поколения. С переработкой большой массы информации смогут справиться лишь световые волны. Этим вопросом ведает новая область электроники — оптическая. На наших глазах рождается новая наука — оптоэлектроника.
Когда мы проводим себе в квартиру телефон, то не думаем, на какие расходы идёт государство, используется всего-то несколько метров медного провода.
Но стране нужны миллионы телефонов. Нужны линии связи между городами, сёлами, государствами. Это уже тысячи тонн меди. А медь — тот металл, запасы которого кончатся прежде всего.
— Какой же выход? — спросите вы.
Представьте себе АТС будущего: её основные элементы «соты», напоминающие пчелиные, только во много раз более мелкие. Это миниатюрные лазеры. Вы поднимаете трубку — включается «ваш» лазер, на его луч «нанизывается» ваш голос и бежит по одной из стеклянных нитей, скрытых в кабелях, проложенных под землёй. Нити эти почти ничего не стоят — ведь кремний, из которого варится стекло, самый распространённый и дешёвый материал.
— За чем же дело стало? — спросит читатель и от инженеров получит более чем странный ответ: за прозрачными стеклянными волокнами…
Стеклянные провода действительно могут с успехом заменить медные, но, чтобы они транспортировали свет на сотни километров без потерь, сделать их нужно из очень прозрачного стекла.
Вы, наверно, подумали — как оконное? Так же решила и я, слушая объяснения одного из авторов стекловолоконной линии связи.
— Что вы! — даже обиделся он. — Попробуйте сложить десяток стёкол вместе — сквозь них ничего не разглядишь. Для передачи света на большие расстояния оконное стекло совсем не годится. Уже много лет физики, конструкторы, инженеры бьются над созданием таких стеклянных волокон, чтобы они были по-настоящему прозрачны для света: не искажали его, не создавали помех, то есть не вносили ошибок в передаваемую информацию.
Такие поиски велись у нас в Советском Союзе, в США, Японии, Англии, Франции, ФРГ, в социалистических странах. Листая научные журналы, можно убедиться, что учёные уже приближаются к цели, к тому, что станет основой стекловолоконной связи будущего.
Уже сейчас по стеклянным проводам, заменившим медные в ряде экспериментальных систем, на многие километры бегут световые волны, рождённые лазерами и более простыми полупроводниковыми источниками света. Поэтому параллельно с созданием новых коммуникаций идёт интенсивный поиск новых лазеров, которые будут питать волокна информацией.
Полупроводники оказались для квантовой электроники рогом изобилия. Они стали основой очень миниатюрных и экономичных лазеров. Одна из разновидностей — инжекционный лазер. Он не только мал по своим размерам, но обладает ценнейшим достоинством — неприхотливостью к источникам питания. Для того чтобы такой лазер начал излучать свет, его достаточно присоединить к источнику электрического тока напряжением около десяти вольт. А нанизать на его луч голос или другую информацию очень просто — для этого надо лишь менять в ритм с голосом силу электрического тока, протекающего через лазер. Лазер это почувствует и отзовётся соответствующим изменением своего мерцания.
Я видела такой лазер. Маленький кристаллик, укреп лённый на медной пластине. Включили ток, и тёмная мошка вспыхнула ярко-пунцовым светом — электрический ток исторг из плоти полупроводника сноп пурпурных лучей. Можно представить себе, как эти лучи побегут по стеклянным проводам — интенсивность их будет световым аналогом музыки или речи.
На дальнем конце световода изменения силы света ощутит фотоприёмник и превратит их в переменный электрический ток, который заставит работать или телефонную трубку, или телевизор, или любой другой приёмник информации, например блок памяти ЭВМ. Этот лазер — только одно из многих действующих «лиц» оптической системы связи. Как он будет работать в сочетании со всеми другими деталями? Ведь его партнёры должны уметь взаимодействовать со светом, а не с электрическим током, как это происходит в современных системах связи.
Когда я задала этот вопрос лазерщикам, они удивились. Неужели я ещё не видела, как это происходит в действительности? И отвели меня в лабораторию, где системы оптической связи уже стали будничным объектом исследования.
Вот что я увидела.
К маленькой металлической коробочке величиной с пачку сигарет присоединён кабель, более тонкий, чем обычный карандаш. Он исчезает в отверстии стены. Оттуда выходит точно такой же кабель, конец которого присоединён к другой коробочке несколько больших размеров.
— Это наша световодная линия связи, — пояснил молодой учёный. — Одна маленькая коробочка содержит оптический передатчик, другая является приёмником оптических сигналов. Дальние концы кабелей соединены с такими же блоками, расположенными в другом здании. Сейчас мы изучаем особенности эксплуатации световодной системы связи.
По такой линии можно передать и телефонный разговор, и программу цветного телевидения, словом, любой вид информации. Такие линии могут соединяться между собой через коммутаторы, что обеспечит связь любого количества абонентов. Самое важное то, что существуют электронные схемы, позволяющие одновременно и независимо передавать по одному световоду десятки тысяч телефонных разговоров, многие программы телевидения и огромный объём другой информации. Существенно и то, что световодные линии не боятся грозовых и промышленных помех, они много компактнее и легче, чем обычные медные кабели.
Эти качества световодных кабелей открывают им путь на борт самолётов и кораблей, в системы промышленной автоматики, управления и вычислительные комплексы. Они проникнут и в ЭВМ, соединяя между собой блоки и связывая ЭВМ с их периферийным оборудованием.
Полупроводниковые лазеры и другие полупроводниковые оптические элементы вместе со световодами, имеющими вид тончайших плёнок и волокон, станут основой новых оптических ЭВМ следующих поколений. В них свет будет служить не только для передачи, но и для обработки информации.
Лазеры, почти невидимые глазом, и проводящие свет прозрачные плёнки и волокна толщиною в тысячные доли миллиметра, линии задержки импульсов, специальные оптические системы памяти, основанные на принципах голографии, — таковы ЭВМ будущего. Уже сегодня в лабораториях можно увидеть совершенно удивительные, невиданные прежде образцы узлов оптических ЭВМ. Образец блока ввода информации в ЭВМ на оптических деталях — это множество мельчайших лазеров, просвечивающих фотопластинку, на которой при помощи голографии закодирована любая информация. Ею могут быть книги, кинофильмы, телефильмы. Текст одной страницы занимает площадь размером в острие иглы! На одной пластинке может быть умещён текст «Войны и мира».
Когда-нибудь библиотеки или кинотеки будут хранить не книги, а такие вот пластинки. В небольшой комнате уместится богатство Библиотеки имени В. И. Ленина. И на экранах своих телевизоров мы сможем увидеть любой кинофильм, любую книгу, даже страницу и отдельную строчку. Опытные образцы таких систем уже есть. Но важно, чтобы они стали доступны всем. Скоро так и будет.
Работы в области оптоэлектроники настолько перспективны и важны, что сегодня эту науку можно считать одним из китов, на которых будет построена связь и вычислительная техника будущего.
И ещё одна важнейшая сфера лазерных исследований — создание новых, более совершенных, удобных и более мощных лазеров.
Первые лазеры, начавшие работать в 1960 году, внешне ничем не были похожи друг на друга. Общим был цвет испускаемых ими лучей — красный. Но эта общность, конечно, возникла случайно. Не случайным были чрезвычайно слабая расходимость лучей (много меньшая, чем расходимость лучей лучшего прожектора) и крайняя узость их спектра, несравнимая с шириной спектра любого другого источника света. И то, и другое — результаты применения пары параллельных зеркал, между которыми располагалось светящееся вещество лазера.
Дальше начинались различия. В самом первом из лазеров свет исходил из кристалла рубина, который облучался ярким белым светом ламп-вспышек. Рабочим веществом другого лазера служила смесь гелия и неона, а возбуждение свечения вызывалось электрическим током, проходящим через эту газовую смесь, — то же фактически происходит в обычных неоновых трубках газосветной рекламы. Свет первого лазера испускался редкими короткими импульсами, второй светил непрерывно.
Последующее развитие лазеров первоначально пошло по пути поиска других кристаллов и других газов, способных к лазерной генерации света. Это, конечно, был наиболее очевидный, но далеко не единственный путь. Вскоре к кристаллам и газам присоединились полупроводники и стекло, затем жидкости (наиболее эффективными оказались растворы органических красителей).
Возникли новые режимы работы лазеров, новые методы возбуждения. Для этой цели удалось применить электронные пучки, энергию ударных волн и быстрое охлаждение горячих газов, истекающих из специальных сопел. Лазеры «научились» испускать всё более короткие импульсы света. Длительность их стала меньше, чем миллиардная доля секунды.
Все эти результаты появились как следствие естественного развития новой области науки. Однако уже первые шаги в этом направлении открыли возможности новых практических применений лазеров. Как только это было осознано и оценено, началась планомерная разработка специализированных лазеров, отвечающих конкретным запросам науки и техники. В свою очередь, появление новых лазеров открывало всё новые пути их использования. Этот замкнутый процесс ещё далеко не закончен. Но уже теперь он зашёл так далеко, что нам придётся ограничиться лишь несколькими примерами, не пытаясь описать здесь сколько-нибудь полно новые типы лазеров и все их применения.
Проблема лазерного термояда потребовала создания лазерных систем огромной мощности и очень большой энергии, излучающих лазерные импульсы с большой точностью в заданные моменты времени. Иначе невозможно одновременно — со многих сторон — поразить мишень из термоядерного горючего. Мощность, развиваемая таким лазером, превосходит мощность самой большой гидроэлектростанции. Но конечно, вследствие ничтожно малой длительности лазерного импульса излучаемая энергия не очень велика, хотя она и превосходит энергию среднего орудийного выстрела.
Для промышленных целей — сверления и обработки поверхности рубинов, алмазов, твёрдых сплавов — применяются твёрдотельные лазеры (обычно на стекле) или лазеры ГИПЕРБОЛОИДЫ И ГИПЕРБОЛЫ на смеси углекислого газа с азотом и гелием.
Лазеры на стекле, окрашенном ионами редкоземельного элемента неодима, работают не только в промышленности, но и в медицине, где они помогают излечивать некоторые формы рака и служат хирургам в качестве инструмента для бескровных операций. Без них не обходятся дальномеры и оптические локаторы, они позволяют обнаруживать загрязнения в атмосфере и измерять скорость ветра и течения воды.
Лазеры на углекислом газе используются для сварки и резки металлов, для раскроя материи и кожи. Они также приносят пользу медикам и химикам, технологам и физикам.
Большая часть лазеров излучает свет с вполне определённой длиной волны, изменять которую удаётся только в очень узких пределах.
Последующее развитие лазеров пошло в двух противоположных направлениях.
Одно из них — создание сверхстабильных лазеров, длина волны которых фиксирована с огромной точностью. Она известна и остаётся неизменной в пределах миллионной части от миллиардной доли своей величины. Это наибольшая точность, достигнутая в науке и технике.
Второе направление — разработка лазеров, длина волны которых может по желанию оператора изменяться в широких пределах и устанавливаться в точности на заданное значение. Для этой цели обычно применяются лазеры, рабочим веществом которых служат растворы красителей. Такие лазеры незаменимы для решения сложных задач разделения изотопов и для управления химическими реакциями. Лазерный метод позволяет более экономично, чем какой-либо другой, отделять один изотоп лёгких элементов от его двойников. Сейчас усилия многих учёных направлены на создание эффективного метода разделения изотопов урана, этого основного горючего для атомных электростанций. Лазер помогает химикам получать новые соединения, недоступные традиционным химическим методам. Ему по корились даже инертные газы. В течение долгого времени они оправдывали своё название, не вступая в химическое соединение с другими элементами. Сравнительно недавно учёным с помощью лазера удалось заставить их при известных условиях нарушить свою инертность. Полученные соединения были взяты в качестве рабочих веществ новых лазеров, которые обещают стать весьма эффективными.
Квантовая электроника не только открывает новые возможности другим областям науки и техники, но и активно использует их новейшие достижения. Например, полупроводниковые лазеры, в которых первоначально применяли лишь соединения индия с сурьмой, теперь работают и на более сложных соединениях трёх и четырёх элементов, а также на элементах из кремния и германия высшей чистоты.
После появления лазеров было реализовано и одно из поразительных изобретений — голография. Мощные газовые и твёрдотельные лазеры позволяют зафиксировать и воспроизвести объёмные изображения предметов. Записывать и анализировать разнообразную сложную информацию. Производить измерения различных величин, таких, как скорость и смещение, изменение температуры и давления, производить анализ состава крови и расшифровку текстов, решать множество других разнообразных научных и технических задач, каждая из которых вполне заслуживает отдельного подробного описания.
Итак, перед нами раскинулась и засверкала радуга возможностей, которые таятся в новой области науки — квантовой электронике.
Мы узнали о решительной готовности лазерщиков перевести на принципиально новые рельсы развитие целых областей промышленности и техники. Покорение энергии ядра даст неиссякаемые энергетические ресурсы.
Осуществится давняя мечта человечества напоить водой пустыни, превратить районы вечной мерзлоты в сады, преодолеть космические дали…
Создание принципиально новой техники связи, оптической связи, вызовет революционные преобразования в культурной жизни общества, в сфере образования, в общении людей между собой.
Внедрение лазерной химии откроет путь к получению материалов, неизвестных природе, к созданию веществ с заранее намеченными свойствами.
И всю эту россыпь возможностей породило одно открытие, один скромный прибор — молекулярный генератор, рождённый одновременно и совершенно независимо в Москве в ФИАНе и в Колумбийском университете в НьюЙорке. Этот маленький прибор принёс не только огромные перемены в промышленность, науку и технику. Он проиллюстрировал сюрпризность научных исследований, возможность совершенно неожиданных открытий, таящихся в традиционных областях знания, что пойдёт на пользу следующим поколениям.
В этом смысле поучительна сама история создания молекулярных генераторов.
Оба молекулярных генератора в техническом отношении были братья-близнецы. Но совершенно по-разному сложилась их судьба. И это тоже вклад квантовой электроники в историю науки, бесценный вклад в будущее.
В нашей стране открытие Басова и Прохорова было воспринято как серьёзное и требующее внимания и заботы. Молекулярный генератор сразу получил «зелёный свет».
В этом, конечно же, немалая заслуга прежде всего авторов открытия. Сами того не сознавая, они оказались двумя половинками одного мощного интеллекта, и их прорыв в неведомое был впечатляющим и весомым.
Солдаты Отечественной войны, возвращённые победой к любимой работе, они испытывали особый творческий подъём, жажду созидать. Это придавало им сверхчеловеческую трудоспособность, стимулировало врождённую потребность в генерации идей. К тому же они были молоды и умели верить в чудо. Никакой боязни ошибки, только дерзкая вера в успех, в самих себя, в волшебство науки.
И главное, что способствовало успеху советских создателей квантовой электроники, — это поддержка их научной инициативы в Академии наук и в организациях, планирующих развитие науки и техники, атмосфера здорового сотрудничества, царящая в среде наших учёных и инженеров, доброжелательность, объективность, понимание путей и перспектив научно-технического прогресса.
Совершенно о другом отношении к новому прогрессивному явлению красочно, но с чувством глубокой тревоги пишет один из создателей квантовой электроники Таунс: «Основа квантовой электроники — радиоспектроскопия — родилась в трёх главных компаниях, разрабатывавших в США радары и другое военно-радиотехническое оборудование, и в Колумбийском университете, сотрудничавшем с ними. В промышленных лабораториях надеялись, что новая область физики даст значительные практические результаты. Американцы, практичный народ, охотно принимают то, что сулит быстрые прибыли. Я сам писал справку дирекции исследовательского отдела лаборатории «Белл Телефон» с целью убедить её в пользе радиоспектроскопии. Однако спустя несколько лет промышленные лаборатории, первыми начавшие работу в этой области, прекратили её, и исследования по радиоспектроскопии полностью сосредоточились в университетах. Там радиоспектроскопия привлекла значительное количество способных студентов и опытных профессоров, поскольку она открывала возможности для изучения поведения атомов и молекул».
До сих пор вызывает недоумение то обстоятельство, что большие промышленные лаборатории, интенсивно занимавшиеся проблемами электроники, не понимали в то время, что исследования по радиоспектроскопии газов имеют большое значение для их деятельности, В компании «Дженерал Электрик» учёные, работавшие в этой области, постановлением дирекции были переключены на другую работу, казавшуюся более пер спективной в коммерческом отношении. Дирекция лаборатории «Белл Телефон» оказалась более осторожной и решила всё же продолжить эти исследования. Однако, учитывая недостаточную ценность тематики для электроники и техники связи, продолжила её разработку силами… одного научного сотрудника.
Положение не изменилось и после создания мазера. Даже в конце 60-х годов, когда Таунс вместе с Шавловым, работавшим в фирме «Белл Телефон», перенесли идею мазера в оптический диапазон, фирма отказалась запатентовать новый прибор.
Причина отказа была сформулирована таким образом: оптические волны никогда не были сколько-нибудь полезными для связи, и, следовательно, изобретение имеет слабое отношение к деятельности фирмы!
Так случилось, что пальма первенства в создании лазера досталась Мейману, работавшему в другой американской компании, как видно, более чутко улавливающей новые веяния.
Эта ситуация красноречиво подтвердила, что предвидение, своевременное признание нового — один из решающих моментов в развитии науки.
Таунс, размышляя о судьбе лазера и в связи с ней о судьбах всех новых идей, делает такой вывод: «Неожиданность в развитии техники является нашим неизменным спутником». И это-то затрудняет внедрение в жизнь всего нового. Неопределённость, расплывчатость в определении цели, которые часто сопутствуют новым открытиям, затрудняют их признание, а следовательно, финансирование. То ли дадут новые идеи выход в практику, то ли нет…
— Представим себе, — предлагает Таунс, — положение человека, взявшегося тридцать лет назад планировать такие технические усовершенствования: более чувствительный усилитель, более точные часы, новый метод сверления, новый инструмент для глазной хирургии, более точное измерение расстояний, трёхмерную фотографию и т. д. Хватило ли бы у него дальновидности и смелости предложить широкое изучение взаимодействия волн СВЧ диапазона с молекулами в качестве основы для разрешения любой из этих проблем?
— Конечно же нет! — отвечает себе Таунс. — За более чувствительным усилителем он обратился бы к специалистам в этой области, которые, затратив значительные усилия, подняли бы чувствительность в два, но не в сто раз. Для изготовления более точных часов он, вероятно, нанял бы тех, кто имеет соответствующий опыт в вопросах хронометрии; для повышения интенсивности источников света он подобрал бы совершенно другую группу учёных или инженеров, которые едва ли могли бы надеяться на увеличение интенсивности в миллион и более раз, даваемое лазером. Чтобы повысить точность измерений или улучшить фотографию, он попытался бы усовершенствовать уже известные методы и, вполне возможно, добился бы некоторого улучшения, но не на порядок же величины!
И когда переворот во всех этих областях произвела одна-единственная наука — квантовая электроника, когда она предложила для решения всех этих проблем совершенно новые идеи — это было так неожиданно и неправдоподобно, что поддерживать, а тем более развивать их отказывались буквально все промышленные фирмы, которые предпочитают подсчитывать будущие прибыли и дивиденды, а не рисковать во имя прогресса науки.
Ясно, что недооценка потенциальных возможностей радиоспектроскопии — не случайная ошибка одной организации или отдельного лица, а довольно обычная реакция на новое, непривычное.
Сама эта ситуация — тоже вклад квантовой электроники в будущее. Предостережение, основанное на опыте становления новой науки.
ГЛАВА 3
Исследование новых явлений может неожиданно привести к практически важным результатам.
А. М. ПрохоровМАГИ В СТРАНЕ МАГОВ
СКВОЗЬ «МАГНИТНЫЕ ОЧКИ»
Вокруг меня — взволнованные лица, горящие глаза. Это всё молодые и уже немолодые учёные, физики, жадно слушающие докладчика. Сквозь уравнения и формулы, написанные на доске, они видят будущее.
В городе Черновцы в университете собрались учёные со всей страны, чтобы обсудить одну из таинственных проблем современной физики.
Один за другим физики поднимались на кафедру, чтобы рассказать о том, что они увидели в недрах вещества через «магнитные очки». Это были самые последние открытия, о которых их авторы не успели ещё написать ни одной научной статьи, и тем более о них не упоминает ни один учебник.
…Но прежде чем продолжить наше повествование, нам придётся перенестись из XX столетия в XIX, из Советской Буковины в Голландию.
Маленькая страна Голландия известна большинству как страна тюльпанов и сыра. Но истинную её славу создал скромный молодой человек, впоследствии один из величайших физиков — Лоренц.
Студент Лейденского университета, он в восемнадцать лет получил диплом кандидата наук с отличием и жадно искал в науке необыкновенных деяний. Фортуна улыбнулась ему и подсунула в библиотеке физической лаборатории пачку нераспечатанных конвертов. Там лежали никем пока не читанные журналы, и в одном из них малоизвестный в Лейдене англичанин Максвелл рассказывал об удивительной тайне, открытой ему уравнениями: Вселенная, оказывается, купается в океане электромагнитных волн, и всё, что мы видим вокруг, — игра волн и материи. Правда, полученные результаты Максвелл излагал очень скупыми фразами, почти терявшимися среди математических выкладок. Физики старшего поколения знали за ним эту особенность, может быть, поэтому работы Максвелла никто в Лейдене не читал, все привыкли к тому, что его трактаты трудны для понимания.
Это были 70-е годы прошлого столетия. В то время ещё не нашёлся ум, способный оценить новую вспышку максвелловского гения. Не только в Лейдене, но и в других научных центрах математическая форма, непривычная для физиков тех лет, затрудняла понимание сути дела, а сама идея Максвелла была столь ошеломляюща, что прошло ещё много десятилетий, пока она получила общее признание.
Лишь через двенадцать лет, живший в Германии талантливый экспериментатор Генрих Герц обнаружил на опыте электромагнитные волны, а затем молодой инженерэлектрик русского флота Александр Попов применил их для связи — вернее, для радиосвязи, как говорят теперь.
Лоренц понял идеи Максвелла сразу, поверил ему и без колебаний пошёл за ним, а затем и дальше, уже своим собственным путём. Его вклад заключался в том, что он не только проник в смысл максвелловской теории и развил её дальше, но объединил электромагнитную теорию с не родившимся ещё электроном и создал таким образом электронную теорию вещества.
Согласно новой теории, в безбрежный океан электромагнитных полей вкраплены отрицательные электрические заряды — электроны, сочетания которых с положительными образуют все существующие тела. Взаимодействие полей и зарядов создаёт всё многообразие мира.
На основе новой теории Лоренц не только сумел объяснить ряд фактов, не понятных современникам, но и предсказал явления, о существовании которых не подозревал дотоле ни один человек.
…Принято считать, что поколения людей сменяют друг друга каждые четверть века. Конечно, мы живём дольше. Но история показывает, что в среднем каждые двадцать пять лет в активную жизнь вступают массы людей, вооружённых новыми умениями, обладающих новыми стремлениями, опирающихся на современные знания. Среди учёных смена поколений происходит ещё чаще. Каждое десятилетие в лаборатории вливается молодёжь, готовая к тому, чтобы обогнать своих учителей, взглянуть на старые проблемы свежими глазами, найти новые, неожиданные решения.
Наверно, это имел в виду Макс Планк, говоря:
«Обычно новые научные истины побеждают не так, что их противников убеждают и они признают свою неправоту, а большей частью так, что противники эти постепенно вымирают, а подрастающее поколение усваивает истину сразу».
Великий Лоренц, дожив до рождения теории относительности и квантовой физики, с восхищением приветствовал все новшества, но… в пределах классической физики, в пределах той модели мира и образов, в которых сам был воспитан.
Ничто не казалось ему более ясным, чем взаимодейст вие электромагнитного поля с электроном — это ключевой акт, на котором основана работа электрических двигателей. Ничто не представлялось ему более красноречивой иллюстрацией этого акта, чем оптический спектр вещества.
Как и любой физик, он отлично знал, что каждое вещество имеет свой паспорт — спектр. В нём нет ничего, кроме светлых и тёмных полосок. Не посвящённому в тайны науки человеку эти полоски не скажут ничего. Но физик по этим линиям может угадать характер и строение вещества, даже если оно находится от него на расстоянии многих световых лет. Так люди узнали о составе звёзд и планет, о строении межзвёздной среды, о существовании на Солнце ещё не открытого на Земле элемента, названного затем гелием.
Линии спектра отражают многие тайны жизни макро— и микромира.
Когда Лоренц задумался над магией спектров, часть из этих тайн была расшифрована. Но гораздо большая их масса дразнила своей неразрешимостью. Одна из тайн особенно волновала воображение Лоренца: некоторые линии спектров атомов расщеплялись. Иногда они как бы расплывались или же удваивались, даже утраивались.
Было установлено, что так проявляется влияние магнитного поля на исследуемое вещество. Но детали, подробности, глубина явления ускользала от исследователей. Лоренц сознавал, что его теория неспособна описать, объяснить это загадочное поведение линий спектров. Лишь через десятилетия с помощью квантовой физики было установлено, что причина крылась в магнитных свойствах электронов и ядер атомов.
Изучение этих свойств стало задачей физики начала прошлого века. Но ни Лоренц, ни другие великие физикиклассики не могли с ней справиться. Ответ должна была дать новая физика. «Старикам» мешали запреты классической физики. Они даже признавали, что квантовая механика позволяет правильно рассчитать все детали расщепления спектральных линий. Признавали, но не хотели прими риться с тем, что квантовая механика не могла нарисовать детальной картины явления и принуждала их мыслить абстрактно, оперировать только формулами.
Для людей, взгляды которых сформировались на основе классической физики, возникало затруднение: формулы квантовой физики заставляли их отказываться от привычной связи между причинами и следствиями, требовали признания невозможности точного и полного описания событий, происходящих в микромире.
С радикальными идеями квантовой физики Лоренц не примирился до конца своих дней. И так и не нашёл правильную дорогу в «Страну магов», где формировались законы магнетизма.
Тайне отношений электромагнитного поля и материи посвятил свою жизнь младший соотечественник Лоренца, его ученик и наш современник Гортер.
Он был молод, рождён XX веком, новые представления физики не казались ему ночным кошмаром. Он поклонялся старому богу, классической физике, и её жрецу, своему учителю, но уже не мог не верить новым богам — квантовым закономерностям и их апостолам — Бору, Гейзенбергу, де Бройлю, Дираку. Вооружённый их идеями, Гортер продолжил исследования магнитных свойств вещества.
Он играл в простую игру. Брал самодельный электромагнит, между его полюсами всовывал кусочки различных материалов — металлов, кристаллов, ампулы с жидкостями — и то включал, то выключал электрический ток в обмотке электромагнита. Гортер как бы просвечивал вещества магнитным полем, смотря, что при этом происходит. Игра простая, но она привела Гортера к пониманию важных законов строения вещества.
Намагничивая различные кристаллы и жидкости при помощи сильного электромагнита и наблюдая, как исчезает эта намагниченность после выключения внешнего поля, он сумел получить ряд новых и ценных сведений о строении вещества, о влиянии теплового движения атомов на по ведение твёрдых тел и жидкостей.
Казалось, само время шло навстречу Гортеру. Оно подбросило ему ещё одного помощника — радиоволны. Родилась электронная лампа. Из рук связистов она перешла в лаборатории физиков, и всё большему числу учёных становилось ясно, что, просвечивая вещества радиоволнами, можно проникнуть в тайны их строения даже более успешно, чем с помощью одного лишь магнитного поля.
Физики-теоретики, опираясь на уравнения квантовой механики, предсказывали, что, пробираясь сквозь дебри, образованные внутренней структурой реальных тел, радиоволны разных частот ведут себя различно. Они по-разному поглощаются веществом, и это поглощение сильно зависит от частоты радиоволны.
И где-то, на какой-то частоте — специфической для данного вещества — должен возникнуть особый эффект: пик поглощения, резонанс, таинственное явление, которое обещало пролить свет на многие непонятные стороны поведения веществ. Во многих веществах следовало ожидать появления нескольких резонансных пиков, характерных именно для них.
Теория подсказывала, что многообещающими должны быть исследования кристаллов, особенно в том случае, когда во время облучения радиоволной они находятся в поле сильного магнита. Наиболее интересными казались исследования именно тех кристаллов, магнитные свойства которых изучал Гортер и его ученики.
Какие же явления происходят при этом в недрах кристаллов? Некоторые атомы, входящие в кристаллы, ведут себя как маленькие магнитики, стремящиеся, подобно стрелке компаса, повернуться в направлении внешнего магнитного поля. Но хаотическое тепловое движение не даёт им послушно следовать велению магнитного поля. Ведь случайные толчки мешают и стрелке компаса правильно указывать на север.
Ещё сильнее, чем случайные толчки, на крошки-магни тики могут действовать толчки регулярные, особенно если они попадут в резонанс с их колебаниями. Кому неизвестна катастрофа, вызванная тем, что шаги отряда солдат попали в резонанс с колебаниями моста и разрушили его! Вспоминаются и случаи, при которых вибрации двигателей вызывали разрушения морских судов и самолётов. Резонанс, столь приятный в музыке, может оказаться весьма опасным в одних случаях и очень полезным в других, если суметь им разумно воспользоваться.
Читатель, наверное, уже догадался, что такие толчки в кристаллах могут создаваться радиоволнами. Тогда-то и происходит то внезапное, бурное поглощение энергии радиоволн атомами вещества, которое и названо резонансным поглощением.
Теоретики были убеждены, что, изменяя настройку генератора радиоволн, можно легко обнаружить эти резонансы.
Что могло быть проще — вращай ручку настройки лампового генератора и наблюдай!
Дело было за экспериментаторами.
И не только Гортер, многие экспериментаторы пытались обнаружить эти загадочные резонансы, но тщетно. Никто не понимал, в чём была причина неудач… Гортер подошёл почти вплотную к открытию, но… прошёл мимо, хотя шёл к нему тем путём, что и советский учёный Евгений Завойский.
Обратимся теперь к научным событиям, происходившим в первой половине 30-х годов XX в. в Казани. Этот древний город с устоявшимися культурными традициями славится своим университетом.
В нём учился великий Ленин. В его стенах работали замечательные математики, в том числе один из создателей неевклидовой геометрии Лобачевский, один из крупнейших химиков прошлого Бутлеров и наши современники, замечательные химики — отец и сын Арбузовы.
Победное окончание Великой Отечественной войны совпало с одним из величайших достижений современной физики, незадолго до этого ещё раз прославившим Казанский университет.
Евгений Константинович Завойский со студенческих лет вынашивал идею об использовании электромагнитных волн для изучения строения и свойств веществ. Его, как и Лоренца, завораживали тайны, скрытые в оптических спектрах атомов.
Сочетание этих линий, их расположение в спектрах, появление и исчезновение стали предметом раздумий Завойского.
Ещё в предвоенные годы стало ясно, что исследование спектров не должно ограничиваться оптической областью. Многое могли бы поведать спектры в радиодиапазоне. Но лишь прогресс в радиотехнике дециметрового и сантиметрового диапазона, связанный с созданием радиолокации, открыл возможности для успешных спектроскопических исследований в этом диапазоне. Рождалась радиоспектроскопия.
Зарубежные учёные использовали новые возможности для исследования газов. Теория предсказывала, а опыт раз за разом подтверждал, что именно в газах можно наблюдать возникновение резонансов при поглощении радиоволн. Расшифровка этих резонансов позволяла узнавать всё новые детали строения молекул. И эта область экспериментальной работы привлекала всё большее число исследователей.
Теоретики, пролагая путь экспериментаторам, ставили всё более интересные задачи в радиоспектроскопии газов. Многие из учёных обращались к загадке неуловимых резонансов в магнитных кристаллах. Проблемы, возникавшие здесь, были нелёгкими. Но недаром физики шутят: был бы факт, а теория найдётся. Появились расчёты, показывающие, что резонансы, которые искал Гортер и его последователи, вообще не должны наблюдаться.
Большинство физиков, занимавшихся радиоспектро скопией, спокойно восприняли эти результаты. Учёные, работавшие в других областях, просто не обратили на них внимания. Завойский же, глубоко обдумывавший сущность процессов взаимодействия радиоволн с веществом, не мог согласиться с подобными выводами.
Он восстал против авторитета теоретиков. Он понял, что неудачи попыток Гортера и других исследователей могут объясняться тем, что расчёты, на основе которых велись эксперименты, не опирались на правильные опытные данные. В эти расчёты помимо универсальных констант, таких, как постоянная Планка и некоторые другие, входили величины, ранее полученные из опытов, основанных на применении постоянного магнитного поля.
Постоянное магнитное поле! А если?..
Говорят, что не меньше, чем открытием Америки, Колумб прославился решением знаменитой задачи о крутом яйце. Чтобы поставить его вертикально, он просто надбил его. Как «немного» нужно, чтобы стать знаменитым!
Теперь нам кажется, что Завойский сделал очень небольшой шаг. Но этот шаг шёл в сторону от проторенной дороги. И он привёл молодого физика к успеху.
«Почему все изменяли настройку генератора радиоволн, оставляя магнитное поле неизменным? — недоумевал Завойский. — Такова традиция… Но есть ведь и другой путь. Пусть им ещё никто не шёл. Здесь есть свои трудности, но нет никаких разумных запретов». И Завойский решился. Вместо того чтобы вращать ручку своего генератора, перестраивая его частоту, как это делали исследователи до него, он оставил генератор в покое. Решил искать резонанс, меняя величину магнитного поля того магнита, между полюсами которого располагался кристалл. Для этого он плавно изменял величину электрического тока, протекающего по обмотке электромагнита, и непрерывно наблюдал, как радиоволны поглощаются веществом.
Так, в 1944 году был впервые обнаружен замечательный эффект, долго ускользавший от самых опытных экспери ментаторов, носящий несколько непонятное для непосвящённых наименование — электронный парамагнитный резонанс. Теперь мы с уверенностью относим открытие Завойского не только к самым замечательным, но и к самым плодотворным открытиям XX века.
Завойский обнаружил механизм, приводящий к поглощению радиоволн в кристаллах. Выяснилось, что этим механизмом управляли электроны — те самые электроны, что входят в состав некоторых ионов, образующих кристалл. Электроны оказались миниатюрными приёмниками радиоволн!
Перед экспериментаторами раскрылись необычайные потенциальные возможности использования этого тонкого, гибкого, легко управляемого механизма для создания принципиально нового вида радиоприёмников. Ведь эти электроны связаны электрическими силами с атомными ядрами, а через них с самим кристаллом. Следовательно, настройка этих приёмников зависит как от строения кристалла, так и от входящих в него ионов. Изменяя структуру кристалла и вводя те или иные ионы в виде добавок, можно влиять на настройку этого удивительного радиоприёмника!
Так родилась фантастическая идея радиоприёмника, радикально отличающегося от всего известного ранее. В таком приёмнике деталями служат не радиолампы, а электроны — ещё более мелкие кирпичики материи, ещё более удивительные «радисты», чем атомы и молекулы аммиака, прирученные позже Басовым и Прохоровым.
Открытие Завойского легло в основу нового типа усилителей радиоволн с чрезвычайно низким уровнем собственных шумов. И именно этот усилитель сделал возможной удивительную сенсацию, облетевшую весь мир, — локацию Венеры, Меркурия и Марса. Об этом рассказ впереди.
«Магнитные очки» стали ещё более зоркими, более резкими, и учёные смогли разглядеть сквозь них в микромире то, о чём даже не подозревали. «Магнитные оч ки» стали модным методом физического исследования. С их помощью сделано много ценнейших открытий в области строения вещества, и особенно твёрдого тела и полупроводников.
Электронный парамагнитный резонанс раздвинул возможности химии. Сейчас его взяли на вооружение биологи, они приступили к изучению парамагнитного резонанса в биологических объектах, в живых клетках и организмах.
Открытие Завойского не только явилось триумфом нового экспериментального метода, но и подтверждением теоретических прогнозов. Оправдалось предположение о том, что при взаимодействии электронов с радиоволнами проявляются свойства вещества, остающиеся скрытыми, когда опыт сводится лишь к наблюдению за его намагничиванием и размагничиванием. Начинался новый этап в наступлении на тайны материи.
Многие учёные увлеклись исследованием парамагнитных веществ, поисками новых эффектов и практических возможностей.
Прохоров вместе со своим аспирантом Маненковым одними из первых приступили к исследованию парамагнитного резонанса, стремясь проникнуть в сокровенные тайны нового явления. Главные усилия Прохорова и Маненкова были направлены на исследования парамагнитного резонанса в рубине. Они изучали природные и искусственные рубины. Выращивали их в лаборатории, заказывали на заводах.
Рубины давно славятся своей твёрдостью, поэтому широко применяются в качестве сырья для подшипников, используемых в часах и различных точных приборах. Но Прохорова и Маненкова привлекала в рубине не его твёрдость, а совсем иные достоинства. Наши учёные уже далеко продвинулись в исследованиях и частично опубликовали их, когда почта принесла в библиотеку института очередной номер журнала «Физические обозрения» из США.
В этом номере опубликована статья Николая Блумбер хена, в которой он предлагает использовать для усиления и преобразования сверхвысоких частот совершенно неожиданные материалы: фторсиликат никеля и этил-сульфат гадолиния. Блумберхен был уже достаточно авторитетным исследователем, чтобы к его статье отнестись с большим вниманием. Соотечественник Лоренца и Гортера, он родился в 1920 году, окончил Лейденский университет, защитил докторскую диссертацию и затем пересёк океан в поисках более широкого применения своих способностей. В Америке его фамилию начали произносить на американский лад, и она зазвучала как Бломберген.
Блумберхен — физик-теоретик, отличающийся чётким и рациональным подходом к задачам и умением выявлять пути экспериментальной проверки и практического применения своих результатов. В этот раз его статья под названием «Квантовый парамагнитный усилитель» имела подзаголовок: «Предложение усилителя нового типа».
Что поражало в этом названии? Слово «квантовый» напоминало усилитель Басова, Прохорова, Таунса. Слово «парамагнитный» заставляло связать прибор с работами Гортера и Завойского. Что же Блумберхен взял от одного и что от другого направления? И почему из всех заманчивых возможностей, открытых новым явлением, Блумберхен сосредоточил внимание на одном: усилении радиоволн?
Многие стремились создать квантовые усилители радиоволн. Однако практические перспективы открывались лишь в диапазоне коротких радиоволн, длиной в несколько десятков метров. Но мало кто надеялся и пытался реализовать эти возможности, ибо было ясно, что новые, сравнительно сложные усилители не могли конкурировать в этом диапазоне с обычными радиолампами и транзисторами.
Блумберхен пошёл своим путём, в котором оказались сплавленными два направления, исходящие из его родного университета. Он предложил применить явление парамагнитного резонанса, предсказанного Гортером, и работать в области сверхнизких температур при температуре жидкого гелия, впервые полученного в Лейдене Камерлинг-Онесом.
В статье Блумберхена приведены не только уравнения, описывающие действие нового усилителя, но и оценки, показывающие, что такой усилитель должен обладать несравненно большей чувствительностью при приёме слабых сигналов, чем все известные ранее. Физиков особенно заинтересовал один аспект статьи. Автор указывал на радиоастрономию как на область, где применение подобного усилителя наиболее эффективно. Все сразу оценили эту рекомендацию однозначно: возникала возможность осуществить давнее намерение учёных — попытаться принять слабое радиоизлучение из космоса на волне 21 см, что подтвердило бы реальное существование космического водорода.
Блумберхен в своей статье обсуждает работу усилителя, который мог бы принять это радиоизлучение, и обращает внимание на то, что предлагаемый усилитель не только может использоваться в радиоастрономии, но способен расширить и возможности радиолокации.
Примерно через год американский учёный Сковил с сотрудниками осуществили идею Блумберхена. Их квантовый парамагнитный усилитель, в котором работали кристаллы этилсульфата гадолиния, погружённые в жидкий гелий, обладал всеми свойствами, предсказанными Блумберхеном.
Публикация Сковила открыла путь потоку статей о квантовых парамагнитных усилителях. Разные авторы применяли различные парамагнитные кристаллы, их усилители отличались конструктивными особенностями и длиной усиливаемых волн. Но принцип был единым. Вскоре выяснилось, что наилучшим и наиболее эффективным кристаллом для таких усилителей является всё-таки рубин.
Повезло ли Прохорову или тут сработала его прославленная интуиция, но именно на рубине, как мы уже знаем, сосредоточилось его внимание.
Прохоров с группой своих аспирантов и сотрудников проводил обширные и глубокие исследования парамагнит ных свойств рубина, исходя именно из того, что совокупность свойств этого драгоценного кристалла как нельзя лучше удовлетворяет требованиям, возникающим при создании квантовых усилителей дециметрового и сантиметрового диапазонов радиоволн.
История создания этих усилителей впервые продемонстрировала, что Прохоров является не обычным кабинетным учёным, а научным работником нового типа, способным не только выдвигать идеи и лично вести сложную исследовательскую работу, но и одновременно выполнять функции учёного-организатора, сплачивающего большие и разнородные коллективы для решения крупной комплексной задачи. Теперь уже поиски велись во многих научно-исследовательских институтах, причём они были не только экспериментального и теоретического плана, но и конструкторского. Идеи воплощались в приборы нового типа.
Но исследования не прекращались. Прохоров вместе с Маненковым продолжали изучать различные процессы, сопровождающие явление парамагнитного резонанса. Вместе с Карповым он исследовал трудности, которые должны были возникнуть при соединении будущего усилителя с антенной, стремился оценить важнейшую характеристику усилителя — рождающиеся внутри него шумы. На крупных магнитах НИИ ядерной физики МГУ Прохоров со своими аспирантами проводил физические исследования парамагнитного резонанса. А в ФИАНе, помимо глубоких физических исследований, уделял много времени поиску новых технических решений. Многие из них были затем использованы при разработке промышленных образцов квантовых парамагнитных усилителей, которая под его общим руководством с успехом велась в нескольких отраслевых институтах.
Целая серия усилителей со стерженьками, изготовленными из рубина и помещёнными в волновод специального типа, была разработана и выпущена коллективом, руководимым Штейншлейгером, который активно участ вовал в применении этих усилителей для радиоастрономических исследований.
В непосредственном контакте с Прохоровым работал коллектив Института радиотехники и электроники АН СССР (ИРЭ). Здесь Жаботинский и Францессон создали квантовые парамагнитные усилители нового типа, специально приспособленные для работы в дециметровом диапазоне волн. На волне, излучаемой космическим водородом, и на более длинных волнах они по всем основным характеристикам превзошли усилители лучших зарубежных моделей. Не удивительно, что коллектив создателей этих приборов, включающий сотрудников исследовательских организаций Академии наук и промышленности, был удостоен Государственной премии.
Несомненно, что высокое совершенство квантовых усилителей Института радиотехники и электроники обусловлено тем, что их создатели, начав с фундаментальных исследований, довели их до практического применения при решении сложной комплексной задачи. Эта задача — радиолокация планет — была поставлена директором ИРЭ академиком В.А. Котельниковым.
Владимир Александрович Котельников начал свой путь в науке с исследования проблем передачи информации, возникающих при создании любых линий связи. В предвоенные годы и во время войны многочисленные специалисты стремились увеличить пропускную способность линий связи, уменьшить влияние помех. Между учёными и инженерами шло в этой области настоящее соревнование. Но если вначале им удавалось достигать быстрых и существенных результатов, то постепенно продвижение начало замедляться, а затем стало совсем медленным и очень трудным. Однако большинство не находило здесь ничего особенного. Казалось, так и должно быть. Всё легкое, лежащее на поверхности исчерпано, и нужны новые глубокие идеи. Будут идеи — возобновится и продвижение. Так считало подавляющее большинство специалистов. Так думал и Котельников. Он тоже искал новую радикальную идею. Искал и не находил.
Упорные размышления привели его к совершенно неожиданному результату. Он понял, почему замедлилось и затруднилось продвижение. Он сумел увидеть и доказать, что учёные и инженеры уже близко подошли к пределу, заложенному в самой природе сигналов и помех.
Очень может быть, что во время длительных размышлений, сложных расчётов и тонких экспериментов Котельников подсознательно опирался на историю развития тепловых двигателей, творцы которых настойчиво боролись за повышение их коэффициента полезного действия, не умея ещё понять запрета природы, проявляющегося в неудачах любых попыток на этом пути. Возможно, он вспоминал и бесчисленных изобретателей вечного двигателя, заранее обречённых на разочарования, но ещё не осознающих, что они восстали против законов термодинамики.
Котельников понял, что шумы и помехи, неизбежные в системе связи, ограничивают её пропускную способность не потому, что учёные и инженеры не придумали достаточно остроумных способов борьбы с этими помехами. Они — в природе используемого метода, их можно уменьшить, но не уничтожить. Он разработал теорию помехоустойчивости, положившую конец безосновательным надеждам на возможность появления радикальной идеи, способной неограниченно повышать пропускную способность линий связи. Теория говорила — это невозможно так же, как создание вечного двигателя. Как знаменитое второе начало термодинамики заложило прочный фундамент под теорию и проектирование тепловых машин, теория потенциальной помехоустойчивости составила рациональную основу теории связи.
Эта научная находка стала фундаментом, платформой последующих достижений Котельникова и его научного авторитета. Его избирают председателем научного Совета по радиоастрономии АН СССР. Ему доверяют руководство все ми работами в этой новой и трудной области космических исследований. Он встаёт во главе всех работ по созданию уникальных радиотелескопов. Затем его избирают вицепрезидентом Академии наук СССР.
В 1974 году в День радио академику Котельникову вручают награду, которой удостаиваются наши и зарубежные учёные за выдающиеся достижения в области радиотехники, — Золотую медаль имени А. С. Попова. Кроме существенного вклада в теорию связи, имелись в виду пионерские работы по радиолокации планет.
За эту тему он взялся в конце 50-х годов прошлого века. Его новое увлечение было продиктовано закономерностями научно-технического прогресса. И Котельникову, и другим учёным было ясно, что за искусственными спутниками настанет очередь посылать приборы к планетам и что астрономические данные о размерах Солнечной системы недостаточно точны, чтобы обеспечить попадание космического аппарата на избранную планету. Уточнить эти данные могла только радиолокация.
Радиолокация планет, как, впрочем, и вся радиоастрономия, потребовала творческих усилий не только учёных, но и больших конструкторских и производственных коллективов. Ведь планетный радиолокатор или радиотелескоп — гигантское сооружение, напоминающее циклопические построения, знакомые нам по иллюстрациям к фантастическим романам.
И вот настал день, вошедший в историю науки как день величайшей сенсации.
ЗЕРКАЛО ДЛЯ ВЕНЕРЫ
Нажатие кнопки — и огромная стальная конструкция, похожая на опрокинутый на ребро купол спортивного зала, пришла в движение. Обтянутое металлической сеткой ажурное семидесятишестиметровое зеркало английского радиотелескопа Джодрелл Бэнк отыскивало скрытую зимними тучами Венеру. Но вот его движение замедлилось. Оно стало таким же незаметным, как перемещение небесных светил. Это означало, что автоматы нашли Венеру и теперь ведут антенну вслед за ней. И вдруг чувствительный радиоприёмник, присоединённый к антенне, обнаружил сигнал…
А в это время мощные передатчики советского центра дальней космической связи продолжали облучать Венеру узким пучком радиоволн. Это была странная передача. Долгими часами советские ученые следили за излучением радиоволн. Они не передавали никаких сигналов. Более того, принимали все меры, чтобы ничто не исказило монотонной идеальности уходящего в космос луча.
Но радиоволны, через шесть минут достигавшие антенны, расположенной в северной Англии вблизи Манчестера, уже не были идеальными. Покрыв путь в 80 миллионов километров, они приходили крайне ослабленными, смешанными с шумами. Зато они несли в себе сигналы! Драгоценные сигналы, посланные самой Венерой, содержащие в себе информацию о её поверхности, о скорости вращения вокруг собственной оси, о направлении этой оси в пространстве.
Английские астрономы напряжённо следили за аппаратурой, записывающей сигналы. Впоследствии они и их советские коллеги обработали записи и извлекли из них то, что сообщила о себе Венера. И со временем перед нами легла карта этой загадочной, скрытой сплошными облаками планеты, которую люди окрестили нежным именем богини.
Так начался новый этап исследования нашей Солнечной системы, возникший как естественное развитие работ по радиолокации планет, систематически проводимых академиком Котельниковым и его сотрудниками, удостоенными за это Ленинской премии. Раньше приёмник и передатчик космического радиолокатора стояли рядом. Теперь их разделяли тысячи километров. Такого в истории радиолокации ещё не бывало. Это решение оказалось результатом длительных многолетних поисков.
В 1928 году учёных взволновало сообщение о космических эхо, обнаруженных радиостанциями, занимавшимися изучением ионосферы. Высота ионизированных слоёв определялась по времени, прошедшему после того, как был послан радиосигнал и возвратилось эхо. Обычно это время составляло около тысячной доли секунды. И вдруг — тридцать секунд! За это время радиоволны могли пробежать 9 миллионов километров. От чего они отразились? Гипотезы следовали одна за другой. Некоторые подозревали Луну. Но советские учёные — академики Мандельштам и Папалекси — доказали, что существовавшие в то время передатчики и приёмники не могли обеспечить приёма радиосигналов, отражённых от Луны.
Тогда так и не был найден виновник происшествия. Но мысль о локации планет уже не покидала учёных.
Вскоре в обстановке строгой секретности учёные ряда стран предприняли первые попытки определить положение самолётов при помощи радиоволн. Теперь мы знаем, что в Советском Союзе радиолокационные станции получили практическое применение уже в 1939 году. В середине 40-х годов венгерские и канадские учёные впервые зарегистрировали радиоволны, отражённые от Луны.
Ну а опыты с планетной радиолокацией? Только в 1957 году, когда первый советский спутник открыл нам путь в космос, она вдруг реально приобрела практическую ценность. Мечты Циолковского о полётах к другим планетам превратились в задачу близкого будущего. Однако оказалось, что, даже создав достаточно мощные ракеты, невозможно направить их к цели с нужной точностью.
Это может показаться странным. Ведь высокая точность астрономических расчётов общеизвестна. Но астрономы вычисляют положение планет при помощи своей астрономической единицы длины — среднего расстояния от Земли до Солнца. А выразить эту единицу в земных метрах с нуж ной точностью никто не умел. Лучшие измерения астрономов содержали ошибку в многие тысячи километров. Это предвещало верный промах. Казалось бы, можно послать радиосигналы на Луну — самое близкое небесное тело, чтобы, определив расстояние до неё, рассчитать размеры небесного треугольника, в вершинах которого находятся Солнце, Земля и Луна. Задачка казалась проще простой — по катету определить гипотенузу, это посильно ученику седьмого класса. Но для этого нужно было ещё измерить угол между Луной и Солнцем, а сделать это точно пока невозможно. Пришлось обратиться к планетам. Правда, здесь возникло новое осложнение — планеты слишком далеки. Их трудно достать радиолокатором. И физики выбрали Венеру — она ближе других подходит к Земле. Но можно ли, и при каких условиях, получить радиоэхо от Венеры?
Наблюдения начались 18 апреля 1961 года, когда расстояние до Венеры было минимальным для этого года и участники работы ещё были под свежим впечатлением триумфального полёта Юрия Гагарина. Радиоволны путешествовали в пространстве пять минут. Легко представить себе напряжение этих минут! Всё было предусмотрено и многократно проверено. Сигнал ушёл. Найдёт ли он Венеру? Вернётся ли? Будет ли принят?
Но ждать пришлось не пять минут, а гораздо дольше. Нужно было ждать, пассивно наблюдая за автоматической работой планетного локатора. Ведь отражённый сигнал настолько слаб, что его невозможно увидеть на фоне шумов приёмника. Только после долгой и сложной обработки результатов удастся выяснить, приходит ли вожделенное эхо.
Наконец, обработка принятых сигналов закончена. Победа! Аппаратура сработала безупречно. Астрономическая единица длины определена. Конечно, ошибка возможна, но теперь она — не более тысячной доли процента… Сколько же это в километрах? Целых две тысячи! Разве можно на этом остановиться?
Летом 1962 года коллектив, руководимый Котельнико вым, сделал следующий шаг. Венера к этому времени, увы, удалилась. Тогда решено было лоцировать Меркурий. Но это гораздо труднее. Во-первых, в это время Меркурий был в два раза дальше от Земли, чем Венера во время опытов 1961 года. Во-вторых, Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы.(Это не совсем так: точные измерения астрономов показали, что радиус Плутона вдвое меньше, чем радиус Меркурия. — Прим. В.Г. Сурдина)
Его поверхность в шесть-семь раз меньше, чем поверхность Венеры. Значит, должно уменьшиться и радиоэхо. Для всех известных радиоприёмников принять это эхо — задача безнадёжная. Но не для парамагнитного усилителя, работающего на рубине.
Его-то и использовали при радиолокации Меркурия. Информативность системы возросла сразу в 40 раз.
Итак, жидкий гелий залит. Рубин охладился почти до абсолютного нуля. Все блоки космического локатора проверены. Опыт начался. Но с увеличением расстояния возросло и время путешествия радиоволн. Их возвращения нужно было ждать 10 минут. Правда, магический кристалл сделал ответный сигнал более ясным, и для получения результата требовалось гораздо меньше времени, чем в первых опытах.
Когда закончилась обработка принятых сигналов, стало ясно, что радиоволны отражаются от Меркурия примерно так же, как от Луны. И можно было впервые проверить наши предположения о свойствах поверхности Меркурия. Эта работа принесла советским учёным не только научные достижения, но и мировой рекорд дальности радиолокации.
Осенью того же года, когда Венера вновь приблизилась к Земле, на неё снова направили луч космического радиолокатора. Именно тогда на Венеру и обратно простой азбукой Морзе были переданы понятные во всём
180 мире слова: «Ленин, СССР, Мир». Но это был не единственный результат. Точность астрономической единицы длины увеличилась более чем в пять раз. Впервые удалось оценить характер отражения радиоволн от поверхности Венеры.(Радиолокация Венеры с Земли и с борта искусственных спутников Венеры позволила составить подробнейшие карты её поверхности, впервые показавшие истинное лицо этой планеты, постоянно закрытое от нас плотным слоем облаков. — Прим. В.Г. Сурдина)
А за Венерой начался штурм Марса. Он приблизился к Земле на столько, что оказался в зоне досягаемости планетного локатора и был взят на прицел. Радиоэхо показало, что поверхность Марса, представляющаяся глазу ровной пустыней, в действительности обладает сложным рельефом, более гладким в одних частях и изрезанным в других. Кстати, эти результаты впоследствии подтвердились фотографиями, полученными учёными при помощи космической лаборатории «Маринер IV».
Ну а Юпитер? Удалось ли учёным привлечь и эту отдалённую планету к экспериментам? Гигантские размеры Юпитера отчасти компенсировали увеличение расстояния. Радиосигналы, направленные на него, путешествовали около часа. Они принесли сведения об отражающих свойствах этой планеты и новый рекорд дальности радиолокации. Аналогичные радиолокационные исследования планет стали уже проводиться в США и Англии.
А затем учёные вновь вернулись к Венере — ведь они ещё не узнали ни свойств её поверхности, ни точной скорости вращения, ни положения оси.
Ожидая, пока Венера вновь приблизится к Земле, Котельников и его сотрудники начали готовить эксперимент ещё более сложный, чем раньше. Чтобы точнее провести анализ эха, отражённого Венерой, они решили удалить на большое расстояние приёмную часть от передающей. Сделать это вовсе не просто. Радиоприёмная часть современного планетного локатора — не миниатюрная «Спидола». Это огромные тысячетонные антенны со сложнейшей автоматикой, позволяющей вести их за планетой, даже если её скрывают густые облака. Строительство такого радиоприёмника стоит дорого и требует длительного времени.
Гораздо проще воспользоваться готовой антенной. Нужно лишь, чтобы она находилась в руках у людей, способных увлечься исследованием планет и, кроме того, обладающих мастерством, остроумием и терпением, необходимым для тонкой работы по анализу космического эха. Ведь информация, которую оно несёт, записана не словами, а ничтожными изменениями принятого сигнала по сравнению с посланным.
По удачному совпадению, в 1963 году в Советском Союзе гостил директор обсерватории Джодрелл Бэнк профессор Бернард Лавелл. Оказалось, что и он мечтает о подобной работе, но не имеет нужного передатчика. В разговоре с академиком Котельниковым он предложил объединить усилия. Предложение было с энтузиазмом принято. Началась подготовка к совместной работе.
И вот в начале 1966 года из Москвы была отправлена телеграмма: «Англия. Радастра. Маклесфилд. Лавеллу. Будем работать по Венере 8 и 9 января с 11 до 14. Котельников».
Восьмого января мощные передатчики советского центра дальней космической связи в течение трёх часов направляли на Венеру узкий пучок радиоволн. Отразившись от Венеры, они возвратились на Землю, были приняты станцией Джодрелл Бэнк и записаны автоматическими самописцами. Англичане тотчас сообщили: «Москва, Аэлита. Сигнал от Венеры принят».
Телеграфный адрес Института радиотехники и электроники Академии наук СССР — находка сотрудников. Это связано с полукомичной историей. Телеграфу были предложены институтом на выбор пять слов. Все они оказались занятыми другими учреждениями. Тогда учёные дали на выбор пять названий планет. Телеграф ответил: все планеты заняты, назовите новые слова. Из вновь названных слов оказалось свободным лишь одно — Аэлита.
— Огорчительно рассказывать об этом теперь, после нигде не зафиксированных, а следовательно, совершенно недоказуемых наблюдений, и, разумеется, мы не претендуем на какоенибудь утверждение приоритета этим плачевно-запоздалым рассказом; просто нам показалось небезынтересным, говоря о ходе одного крупного открытия — электронного парамагнитного резонанса, упомянуть о несостоявшемся другом, несомненно, не менее значительном. Почему же всё-таки это открытие не состоялось? Дело в том, что Завойскому не удалось до начала войны добиться хорошей повторяемости результатов: эффект то появлялся, то исчезал, причём чаще его не было на месте. Теперь-то нам понятно, что главной причиной этого была топография постоянного магнитного поля, которое создавалось старомодным электромагнитом невысокого качества. Когда образец попадал в относительно более однородный участок поля, сигнал появлялся, а на участках менее однородных он уширялся настолько, что становился ненаблюдаемым. Имей Завойский ещё 2–3 месяца для экспериментов, он, без сомнения, нашёл бы причину плохой воспроизводимости результатов, и таким образом мы получили бы полную уверенность в реальном существовании резонансного магнитного поглощения на кристаллах. Но трудные условия военного времени не позволяли должным образом проводить опыты. Сообщению же в печати о единичных успешных наблюдениях ядерного магнитного резонанса на фоне частых неудач препятствовала, вдобавок, неполная уверенность в самой возможности этих наблюдений, вытекавшая из роковой для нас статьи Гайтлера и Теллера, и неудачи Гортера.
Поэтому мы ограничились лишь осторожным намёком в статье, написанной в начале 1944 года, о проведённых нами методом сеточного тока измерениях нерезонансного электронного парамагнитного поглощения.
Мы писали там: «Принимая во внимание малую изученность парамагнитной абсорбции и имея кроме того в виду попытаться в дальнейшем измерить ядерные магнитные моменты, мы решили повторить упомянутые опыты Гортера…» Эта фраза осталась в печати единственным следом от нашей работы по ядерному магнитному резонансу…
Нобелевскую премию за открытие ядерного магнитного резонанса получили американцы Блох, Пэрсел и Паунд.
Каким путём шла эта группа? Как удалось им напасть на след капризного резонанса?
Феликс Блох после работы вышел из душной лаборатории и залюбовался красотой уходящего зимнего дня. Шёл густой, неторопливый снег. Снежинки ложились на землю непринуждённо и легко. Как говорил впоследствии Блох в своей нобелевской речи, именно тогда ему пришла в голову неожиданная мысль: а ведь в каждой снежинке — миллионы протонов! И они кружатся, покорные земному магнитному полю! Зачем же тратить силы, средства и время на создание специальных установок, обеспечивающих предельно однородное магнитное поле? Ведь сама природа идёт нам навстречу: мы всю жизнь проводим в весьма однородном магнитном поле Земли. Нужно лишь обеспечить, чтобы это магнитное поле не искажалось кусками железа или магнитными полями, окружающими электрические провода.
И Блох создал чрезвычайно простую установку. Ампула с небольшим количеством воды помещалась внутри проволочной катушки, соединённой с несложной радиосхемой. Через эту катушку нужно было пропускать электрический ток такой величины, чтобы в центре катушки, где помещалась ампула с водой, создавалось сильное магнитное поле. Оно заставляло протоны — ядра атомов водорода, составляющие две трети от всех ядер в воде, — подобно ма леньким магнитикам, ориентироваться вдоль оси катушки.
Стоило Блоху выключить ток, как намагничивающее поле исчезало и протоны оказывались всецело во власти магнитного поля Земли. А оно заставляло их совершать принудительное движение, напоминающее движение волчка, ось которого описывает конус вокруг линии отвеса. Но в отличие от волчка линиями, вокруг которых по конусу двигались оси невидимых протонов, являлись линии магнитного поля Земли.
В то время как миллиарды и миллиарды протонов, содержавшихся в воде, заключённой в колбочке, дружно совершали свой ритмический танец, безмерно слабое магнитное поле, связанное с собственным магнетизмом каждого из них, примерно 2,5 тысячи раз в секунду пересекало витки маленькой катушечки, возбуждая в ней переменный ток. При этом миллиарды миллиардов протонов вращались более согласованно, чем вальсирующие пары на танцевальной площадке, ибо одинаковым был не только ритм их вращения, но и фаза. Так вращаются пары в хороших ансамблях, руководимых опытными балетмейстерами: вот лицом к нам обращены все танцовщицы, а в следующий момент они обращены к нам спиной, и мы видим лица их партнёров.
Так воображаемые танцоры-магнитики, связанные с протонами, двигались в опытах Блоха параллельно друг другу, и действие их складывалось в заметную величину.
Получалась миниатюрная динамо-машина, статором которой являлась катушечка, а вращающимся ротором — сонмы «вальсирующих» протонов.
Каждый раз, когда Блох включал, а затем выключал ток в своей большой намагничивающей катушке, он мог слышать в наушниках, присоединённых к схеме, постепенно слабеющий звук. Это «пели» «вальсирующие» протоны.
Звук затихал, как только из-за теплового движения молекул воды и влияния магнитных сил, действующих между ядрами и электронами, «вальсирующие» протоны хотя бы на мгновение сбивались с ритма. В результате таких сбоев исчезал порядок, первоначально созданный в системе протонов сильным магнитным полем катушки. Период вращения сохранялся, но магнитики уже смотрели кто куда и действовали вразнобой.
Стремление и умение обходиться простыми средствами характерно не только для Блоха-экспериментатора, но и для Блоха-теоретика. Он не пытался проследить за поведением каждого протона из бесчисленного количества участвовавших в опыте и учесть все силы, действующие на него. Он понял, что основное и существенное для понимания опыта можно извлечь, рассматривая всю совокупность протонов как некий магнит. Намагниченность этого магнита равна нулю, когда оси протонов хаотически смотрят во все стороны. И становится ощутимой, когда сильное внешнее магнитное поле заставляет их поворачиваться в одном направлении.
Блох знал, что и стрелка компаса никогда сразу не устанавливается в сторону севера. Она качается вокруг этого направления до тех пор, пока сила трения не погасит её размахи.
Роль силы трения в уравнениях Блоха играли процессы, чрезвычайно широко распространённые в природе: это они заставляют остывать нагретые тела, это они постепенно уменьшают высоту отскока мячика, упавшего на пол. Словом — это релаксационные процессы, приводящие к превращению всех форм энергии в тепло и к его рассеянию в пространстве. Процессы, являющиеся неизбежным следствием великих законов термодинамики.
Блох не только уловил момент, когда ядра атомов водорода — протоны — стали подобны идеальному радиоприёмнику, но и создал теорию, объясняющую это явление.
Уравнения Блоха позволили понять многие детали поведения намагниченных ядер и электронов, неясные ранее процессы и явления, обусловленные ими. Впоследствии уравнения Блоха были усовершенствованы, а постоянные величины, введённые им в качестве характеристик изучаемого вещества, были вычислены на основании общих и чрезвычайно мощных методов квантовой физики…
Так искусный эксперимент оплодотворил теорию, а теория в свою очередь объяснила мотивы интуитивного выбора опыта.
…Итогам прошлого, плодам настоящего, планам на будущее и была посвящена ассамблея в Черновцах, с которой мы начали этот рассказ. В ней участвовали учёные, отдающие свои силы исследованию магнитных процессов, главную роль в которых играют электроны и атомные ядра.
«Провоторовская идея», «провоторовская концепция», «провоторовский подход» — это частое повторение, звучавшее в большинстве докладов, не могло не зацепить внимания журналистов.
Кто же такой этот Провоторов?
И по складу ума и по образованию Провоторов — физик широкого диапазона. Он рано понял, что теория размагничивания противоречива. И начал искать возможность связать концы с концами. Суть его теории попробую продемонстрировать наглядным опытом.
Заглянем в лабораторию некоего физика в тот момент, когда он занят совсем, казалось, не профессиональным делом: запалив горелки, ставит на газовую плиту ведро и маленькую кастрюльку с водой, а затем опускает в них по сырому яйцу.
Подождём вместе с ним до тех пор, пока вода в каждом из сосудов закипит и он не выключит горелки. Что произойдёт после этого? Ничего. Физик сядет на табурет перед плитой и, глядя на ведро и кастрюльку, конечно, погрузится в раздумья…
Что ж, и нам придётся составить ему компанию.
Можно ли предсказать, что будет с каждым из яиц после того, как вода в соответствующих сосудах остынет настолько, что яйца можно безопасно извлечь рукой?
Каждая хозяйка знает, что, вынув яйцо из только что остывшей маленькой кастрюльки, его нужно быстро положить на стол, иначе рискуешь обжечь руку. Внутренность яйца ещё долго остаётся горячей и вновь нагревает скорлупу, не охлаждаемую более водой.
Но в остывшем ведре всё яйцо, включая его внутреннюю часть, успеет остудиться практически до той же температуры, что и окружающая его вода. (Конечно, если подождать достаточно долго, то успеет охладиться и яйцо, лежащее в кастрюльке.)
Учёные, развивающие вплоть до начала 60-х годов теорию парамагнитной релаксации — так в учебниках именуется процесс размагничивания вещества, — единодушно исповедовали «ведёрную» модель явления: электроны и ядра внутри твёрдого тела ведут себя подобно яйцу в большом ведре. Взаимодействие всех частей сложной системы, именуемой веществом, происходит так, как между яйцом и водой в ведре: температура «яиц» и «воды» в любой момент времени практически совпадает.
И только молодой советский физик Провоторов обратил внимание на то, что это убеждение, по существу, ни на чём не основано. Он утверждал, что гораздо лучшей моделью могло бы послужить яйцо в маленькой кастрюльке. Не предположив, что температура в разных частях яйца различна, невозможно понять, как сваренное в маленькой кастрюльке яйцо может сохранить жидкий желток, окружённый твёрдым белком. Это небольшое на первый взгляд уточнение привело Провоторова к далеко идущим последствиям.
У него начала созревать теория, которая сегодня во всём мире называется провоторовской. Он же придал своей концепции безупречную математическую форму.
Однако случилось так, что его теория некоторое время напоминала чеховское ружьё, праздно висящее на стене. Большинство физиков не придало значения работам Провоторова, не усмотрело в них возможности получения новых результатов.
Никто не ожидал, что его «ружьё» может выстрелить.
Некоторые коллеги, те, которые обычно при появле нии незаурядных неопробированных работ презрительно говорят: «Это чушь», а потом, после их признания: «Это банально, это давно вытекает из моих работ», — критиковали Провоторова.
Мыслящие же более объективно говорили: да, это новая теория, и её новые усложнённые уравнения хорошо описывают известные явления, но и старая теория описывает их достаточно точно. Зачем же усложнять?
А были и такие, кто просто не понял, что к чему. Некоторые не понимают и по сей день. Физики приводят такой курьёзный пример. В 1961 году в Москве была организована французская выставка с научной экспозицией. Она сопровождалась пояснениями и лекциями французских учёных. Одну из них читал видный специалист по ядерному магнетизму Анатоль Абрагам.
В своей области Абрагам — авторитет, и послушать его пришли многие советские специалисты, работающие над теми же проблемами.
Был там и Провоторов и подарил Абрагаму одну из своих статей. Он ждал, что же скажет ему старший коллега? Но коллега ничего не сказал и, как потом признался, не мог ничего сказать. Он не понял.
Даже после того, как Провоторов защитил докторскую диссертацию, написал несколько статей и его теория стала популярной, многие ещё спрашивали: «А зачем это нужно?»
Неизвестно, как долго продолжалось бы такое положение, если бы провоторовские идеи не привлекли внимания молодой женщины-физика Май Родак.
Отношение ко всем жизненным проблемам у Май всегда было серьёзным и решительным. Так повелось ещё с военной юности.
После двух курсов одесского физфака она ушла на фронт. Сначала ушёл в ополчение отец, подала заявление в военкомат мать. Май ждала своей очереди. Ещё до войны сдала комплекс ВС-2 — ворошиловский стрелок… Ожидая ответа военкомата, училась на курсах медсестёр. Но меди цину не любила и выпросила назначение в зенитную артиллерию. Так она попала в самое пекло — под Сталинград.
Потом — МГУ, после окончания — шесть лет преподавания и, наконец, научная работа в Институте радиотехники и электроники (ИРЭ) Академии наук СССР. Здесь включилась в одну из самых интересных тем современной физики: создание квантовых парамагнитных усилителей — мазеров.
Не будем обсуждать вопрос, может ли женщина быть хорошим физиком: об этом рядили более чем достаточно. Не будем снова ссылаться на Ковалевскую, обеих Кюри, Мейтнер, Курносову, Масевич, Ирисову — их имена неотделимы от истории науки. Наверно, Родак — серьёзный теоретик, если добрая половина выступавших на черновицкой ассамблее в своих докладах упоминала её работы, ссылалась на её авторитет. Коллеги окружали её в перерывах плотным кольцом.
Её теория, ставшая развитием провоторовской, ещё очень нова, ещё так животрепещуща, что в неё «входят», как в ледяную воду, — с опаской, но с надеждой на освежение, на обновление идей, научных взглядов.
Продумывая детали провоторовской точки зрения на свойства целого класса веществ, называемых парамагнитными, Родак почувствовала, что в этом подходе таятся возможности, намного более серьёзные, чем обещанные общепризнанными теориями ученика Гортера — Блумберхена и лауреатов Нобелевской премии Парсела и Паунда. Теориями, прочно вошедшими во все учебники.
Исследуя парамагнитные вещества при помощи радиоволн, учёные наблюдают результат поглощения атомами или ионами сравнительно слабых радиоволн, испускаемых маломощными источниками. Конечно, приборы регистрируют не единичные акты, при которых отдельный ион или атом поглощает квант электромагнитной энергии — фотон радиодиапазона, а суммарный эффект, складывающийся из множества таких актов.
Если в ходе опыта изменяется не мощность, а только длина волны, воздействующей на вещество, то на экране осциллографа или на ленте самописца возникает кривая, отображающая зависимость величины (или степени) поглощения от длины волны. Это уже знакомая нам спектральная линия, расположенная в диапазоне радиоволн.
Обычно форма спектральной линии симметрична, она выглядит одинаково по обе стороны от вершины, спускаясь от неё плавными крыльями. Она похожа на равносклонную горку…
Все это — от момента облучения вещества радиоволной до появления спектральной линии, соответствующей этому опыту, — совсем недавно считалось непротиворечивым, безапелляционным, доказанным всеми опытами и теориями парамагнитных явлений.
Май Родак сломала эту красивую горку и вместо неё нарисовала довольно странную асимметричную кривую. И на протесты упрямо отвечала, что именно такая горка соответствует истинному положению вещей в парамагнитных веществах.
Проследим же за ходом её рассуждений. Всё началось с того, что она решила вернуться к вопросу о том, что произойдёт, если увеличить мощность источника радиоволн. Учебники, исходя из общепризнанной теории Блумберхена, отвечали: по мере увеличения мощности ширина кривой, изображающей спектральную линию, будет увеличиваться, а её высота — уменьшаться до тех пор, пока при достаточно большой мощности кривая не исчезнет. Здесь не было ничего страшного. Это явление называется насыщением. Вещество насыщается радиоволной — так предсказывала теория.
Теория же предсказывала ещё один, удивительный эффект.
Пусть кроме маломощного генератора радиоволн, длина волны которого изменяется для наблюдения за спектральной линией, на вещество действует второй генератор. И пусть длина волны его во время опыта остаётся постоянной, а мощность изменяется. Что станет с наблюдаемой спектральной линией по мере увеличения мощности второго генератора, если длина его волны расположена в пределах спектральной линии?
Теория отвечала: спектральная линия будет насыщаться. По мере увеличения мощности второго генератора её ширина будет расти, а высота уменьшаться, пока она не исчезнет совсем. Об этом мы уже знаем. Для учёных это явление было непреложной и доказанной истиной. Так, говорила теория, будет всегда, если длина волны второго генератора останется в пределах спектральной линии.
Всё казалось столь ясным, что никто не проделал соответствующего опыта! Такова психологическая сила общепризнанной теории.
Родак усомнилась. Она знала, что процессы передачи энергии между частицами вещества сложнее, чем предполагалось при построении общепризнанной теории. (Вспомним о нашем мысленном опыте: яйцо в маленькой кастрюльке остывает иначе, чем в ведре. Изменения температуры яйца могут отставать от изменений температуры воды!) Мощный генератор нагревает вещество. Его энергия, поглощённая парамагнитными частицами, постепенно распределяется между всеми частицами вещества. Если следовать Провоторову, нужно выяснить: не возникнет ли и здесь отставание температуры одних групп частиц от температуры других групп частиц?
Родак занялась расчётами. Её предположения подтвердились. Формулы показали, что результаты опыта должны напоминать поведение яйца в кастрюльке, а не в ведре. Температура различных частиц в парамагнитном веществе может различаться. Родак приняла эту революционную, расходящуюся с учебниками позицию и свежим взглядом оглядела «поле боя»: взаимодействие радиоволн с парамагнитными частицами. И ей открылось то, что для других исследователей казалось невероятным. Прежде всего, форма спектральной линии в опыте, не поставленном никем, должна исказиться! Более того, при некоторых условиях поглощение слабого сигнала первого (перестраиваемого) генератора должно в веществе смениться усилением его сигнала! Это казалось крамолой, но так получалось, и из этого вытекали поразительные следствия — возможность создания нового чувствительного механизма усиления радиоволн!
Так просто и непринуждённо Родак добилась эффекта, ради которого многие учёные шли на ухищрения и сложности!
Вынужденное излучение в парамагнитных кристаллах и диапазоне сантиметровых радиоволн наблюдалось до тех пор только в мазерах, в приборах, где искусственно создавались условия, вынуждающие атомы излучать радиоволны. При этом (по предложению Басова и Прохорова) использовались две спектральные линии — так называемая система «трёх уровней» энергии. Эффективная, но довольно сложная система «дрессировки» атомов, целью которой было одно: заставить атомы излучать или усиливать радиоволны.
Для этого атомы должны поглощать радиоволны на более высокой частоте, чем частота тех радиоволн, которые подлежат усилению или излучению атомами.
Родак фактически указала на возможность получения непрерывно действующего мазера в пределах одной спектральной линии. Всем, кто хоть как-нибудь соприкасался с мазером, такой эффект казался совершенно невозможным.
Сотрудники Родак, первыми узнавшие об этом предсказании, отнеслись к нему с должным недоверием, но, разобравшись, поняли: так должно быть. Вопрос лишь в том, можно ли создать условия, при которых неожиданное явление станет доступным наблюдению.
Экспериментальную часть работы взял на себя младший коллега Родак, сотрудник той же Лаборатории квантовой радиофизики ИРЭ, Вадим Ацаркин (эта работа стала частью его докторской диссертации, которую он блестяще защитил). Ацаркин уже имел необходимый опыт в этой сложной области физического эксперимента и понимал, что цели легче достигнуть, воздействуя на парамагнитный кристалл импульсами радиоволн. В промежутках между импульсами Ацаркин наблюдал за поведением спектральных линий на экране осциллографа.
На обложке программы черновицкой конференции были изображены две кривые: плавная спектральная линия в виде равносклонной горы, отражающая прежний взгляд на процесс, и причудливая несимметричная горка. Эта картина — более детальная и истинная, чем прежняя, которую иллюстрировала приглаженная горка.
Организаторы не случайно избрали эти графические кривые эпиграфом программы. Совокупность их символизирует эволюцию знаний. Скачок от одной к другой является не только первым бесспорным доказательством неполноты теории Блумберхена — Парсела — Паунда, но и новым торжеством советской науки.
Такие кривые были получены Ацаркиным и Родак не только в опытах с атомными ядрами, но и с электронами. На них они воздействовали сантиметровыми волнами, дав надежду на новые возможности использования этого метода в практике физического исследования.
Серия экспериментов Ацаркина была столь впечатляюща, что их повторили и полностью подтвердили в Лейденской лаборатории, а затем и в других научных центрах.
Блумберхен, побывав в Москве и ознакомившись с работами Родак и Ацаркина, высоко оценил их и признал эффективность провоторовского подхода к исследованию парамагнитных веществ. Поехав после этого в Грузию, он рассказал о новых работах грузинским физикам. Так бывает в науке: личное общение даёт много больший эффект, чем чтение статей. Может быть, тбилисские теоретики и были знакомы со статьями москвичей. Но понастоящему заинтересовались новой областью лишь после беседы с Блумберхеном. Толчок был дан, грузинские физики связались с московскими и включились в развитие провоторовских идей. Группа физиков во главе с членом-корреспондентом АН Грузинской ССР Хуцишвили сумела глубоко развить многие аспекты теории, подход к которым без использования идей Провоторова был невозможен. Им так же, как и московским физикам, удалось предсказать и наблюдать в этой области несколько тонких эффектов, придавших явлению более общее значение. Особенно привлекло внимание учёных математическое изящество дополнений, которые сделали тбилисские физики. Эта группа особенно сильна благодаря плодотворному влиянию прославленной школы грузинских математиков. Их сложные физические исследования обычно оформлены с безукоризненной математической аккуратностью. Своей главной задачей в данном вопросе они сочли создание более простой математической модели явления и более простого эксперимента, облегчающего исследования.
Хуцишвили вместе с Буишвили и другими учениками и сотрудниками и раньше успешно развивали направление, которое учёные называют динамикой спиновых систем, по существу описывающей движение атомных магнитиков под влиянием различных воздействий. Им удалось многого достичь при помощи традиционных методов. Но провоторовский подход позволил продвинуться значительно дальше, туда, где прежние оказываются неэффективными.
В последнее время в этом коллективе появились и экспериментаторы, сумевшие в сотрудничестве с теоретиками исследовать ряд тонких эффектов, ускользавших от других учёных.
Идеи Провоторова получили отзвук и на родине парамагнитного резонанса — среди казанских физиков, и во многих зарубежных лабораториях. В работе над физическими следствиями, вытекающими из провоторовских идей, открывалось большое поле деятельности.
На этом провоторовский подход не исчерпал скрытых в нём возможностей. Родак и Ацаркину удалось совершить ещё один прорыв в прочно устоявшейся и ставшей традиционной области физики.
Речь идёт о важной ветви экспериментальной ядерной физики, о создании так называемых поляризованных ядерных мишеней, которые физики обстреливают пучками частиц высоких энергий, получаемых при помощи ускорителей, или пучками нейтронов.
Цель обстрела: изучить процесс столкновения частиц «снарядов» с частицами-«мишенями». Ведь между ядрами атомов, образующих мишень, и пучками частиц, падающих на неё, возникают разнообразные ядерные реакции, начиная от простых взаимодействий, при которых лишь меняется характер движения сталкивающихся частиц, до сложнейших, сопровождающихся рождением новых элементарных частиц! Тут и возникает возможность разобраться в деталях этих взаимодействий: установить характер сил, действующих между частицами, выяснить свойства этих мельчайших частиц, выявить, имеются ли среди них истинно простейшие частицы мироздания, и, если повезёт, попытаться восстановить сложную иерархию различных семейств этих частиц, объединяемых общими свойствами.
Но и без того сложную картину таких взаимодействий ещё более усложняет хаос, царящий в глубинах материи. Этот хаос вызван естественными причинами, это результат непрерывного теплового движения частиц. Чтобы избавиться от него или хотя бы ослабить естественный фон, учёные идут на всякие ухищрения. В частности, понижают температуру мишени как можно ниже, в область, близкую к абсолютному нулю. Но и этого мало. Хотя тепловые движения при этих температурах существенно ослабляются, всё равно оси частиц мишени располагаются по всем направлениям случайно, хаотично. Так выглядят туловища муравьёв, зафиксированных моментальным фотоснимком. И если «нападающие» частицы что-то меняют в этом беспорядке, понять, что же именно изменилось, очень трудно.
Для того чтобы извлечь максимум информации из ядерных экспериментов, нужно, чтобы ядерные частицы на воображаемой фотографии в начале процесса напоминали не хаос муравейника, а строй солдат, выровненный по команде. Вот тогда изменения в расположении частиц будет легко зафиксировать.
Что же предпринять для установления порядка среди частиц мишени? Вот над чем думали экспериментаторы. И решили использовать для этой цели тот факт, что многие атомные ядра являются маленькими магнитиками. Может быть, попытаться ориентировать их при помощи сильного магнитного поля? Так возникла идея «магнитного кнута».
Но и это не очень дисциплинировало частицы. Тогда кроме «магнитного кнута» французские учёные Абрагам и Проктор применили «радиотехническую плётку». И действительно, магнитное поле плюс радиоволны определённой частоты позволили добиться большей упорядоченности ядер. Наилучший эффект при этом достигается, если радиоволны действуют непосредственно не на ядра, а на электроны парамагнитных атомов, вводимых в небольшом количестве в состав вещества мишени. Дело в том, что магнитные свойства электронов примерно в 2000 раз сильнее, чем магнитные свойства ядер, и поэтому воздействие радиоволн на них оказывается во столько же раз более эффективным. Электроны же, в свою очередь, очень хорошо передают полученную упорядоченность ядрам атомов мишени.
Все эти тончайшие манипуляции с микрочастицами придали вес французским экспериментам. Метод, теоретически и практически разработанный Абрагамом и Проктором, нашёл широкое применение в ядерной физике и вошёл в учебники и методические пособия.
Каково же было недоумение и даже возмущение специалистов, когда московские физики Ацаркин и Родак выдвинули возражения против этого замечательного метода. Какие основания? Что заставило их сомневаться? Оказывается, возражения основывались на анализе явления, который они провели, применив провоторовский подход, с таким успехом использованный ими ранее.
Ацаркин и Родак уже не могли опереться на представление о единой температуре, якобы характеризующей поведение всех частей атома, — представление, лежащее в основе метода Абрагама и Проктора. Теперь московские физики были убеждены, что теория, базирующаяся на идеях Провоторова, и опыт свидетельствуют о том, что такая единая температура устанавливается в веществе далеко не мгновенно. Нужно было заново проанализировать всё происходящее в опытах, отказавшись от устаревших догм. Нужно было решиться признать и необходимость новых математических методов для расчёта взаимодействия частиц с электромагнитными полями.
Предварительные оценки показали, что модель Абрагама — Проктора действительно не является полноценной основой для расчёта и получения поляризованных мишеней. Более того, она является лишь частным случаем, освоенным раньше других благодаря своей простоте.
Развитие теории и экспериментальные исследования проводились на этот раз практически параллельно, подкрепляя и дополняя друг друга. И закончились новым торжеством провоторовского подхода.
Оказалось, что новый метод позволяет достичь большей степени упорядоченности частиц мишени, чем это удавалось сделать раньше. Более того, можно успешно обеспечить поляризацию ядер даже в тех мишенях, в которых на основе метода Абрагама — Проктора получить это, казалось, совершенно невозможно. Так возник новый мост между «чистой» теорией и потребностями техники. Рассказанное можно считать внедрением нового круга идей в ядерной физике.
Но и этим не кончились прорывы в область слабых и труднонаблюдаемых эффектов! Основываясь на том же провоторовском подходе, Ацаркин понял, что, воздействуя на температуру отдельных групп частиц в парамагнитном кристалле, можно усилить сигналы о процессах, сведения о которых при обычных условиях терялись в шумах и поэто му не поддавались наблюдению.
К ним относятся, например, магнитные явления в парамагнитных веществах при низких частотах. Ацаркину вместе со студентом Рябушкиным удалось на опыте с электронами подтвердить значительное усиление таких слабых сигналов.
И снова перенесёмся в Казань, не только родину парамагнитного резонанса, но и его столицу, ибо здесь и после отъезда Завойского в Москву растёт, развивается мощная школа учёных, всесторонне исследующих физику парамагнитных явлений.
Наибольшим авторитетом среди них пользуются членкорреспондент АН СССР Козырев и профессор Альтшуллер, известные физики-теоретики, глубоко изучившие разнообразные проявления парамагнетизма.
Как ни странно это звучит для непосвящённого, но явление парамагнитного резонанса тесно смыкается с акустикой, учением о звуке. При этом возникает изящная цепочка, на одном конце которой находится генератор радиоволн, возбуждающий парамагнитный резонанс в кристалле, а на другом — приёмник ультразвуковых колебаний. Обнаружено, что при парамагнитном резонансе значительная часть энергии радиоволн, поглощаемых кристаллом, превращается в фононы — кванты звука. Возможна и другая ситуация, при которой на кристалл одновременно действует радиоволна и ультразвуковая волна. При этом явление парамагнитного резонанса сильно зависит от частоты и интенсивности ультразвуковых колебаний.
Но это не всё. Цепочка может протянуться и дальше. Ультразвуковые колебания, возникающие при парамагнитном резонансе, могут проявляться в изменении оптических свойств кристалла. Козырев, Альтшуллер и их сотрудники теоретически и экспериментально изучили интенсивное рассеяние света в парамагнитных кристаллах, показывающее, что такая цепочка взаимосвязанных явлений действительно существует. Много интересных работ, в которых объединя ются парамагнитный и акустический резонансы, выполнил, в частности, молодой казанский физик Голенищев-Кутузов.
Все эти взаимосвязи — не просто олицетворения изящества физического эксперимента. Главное — это указание на глубокое единство природы. Единство, о котором мы часто только догадываемся, не всегда ещё умея обнаружить его.
Иногда, когда речь заходит об оптическом спектре вещества, для облегчения понимания его сути популяризаторы прибегают к аналогии со спектром звуков музыкального аккорда. Мол, подобно тому, как звучащий аккорд посылает в пространство набор звуковых волн, светящееся тело излучает спектр электромагнитных волн разной частоты. При этом имеется в виду, что аналогия эта чисто формальная.
Не показывают ли опыты казанцев, что она более реальна, чем можно думать?
…Наука представляет собой чрезвычайно сложную структуру. Она не терпит застоя и всегда находится в развитии. Сейчас, в эпоху научно-технической революции, наука требует участия больших коллективов людей и привлечения огромных материальных средств. Та страна, которая сумеет лучше использовать свои ресурсы, получит соответствующее преимущество в мирном научно-техническом соревновании. Поэтому учёные и администраторы уделяют много внимания изучению законов развития науки и техники. В этом направлении делаются лишь первые шаги. Однако уже ясно, что развитие науки определяется множеством сложных факторов. Часть из них обусловлена внутренней логикой науки, многочисленными связями между отдельными направлениями и областями знания, законами человеческого мышления. Не менее важна та часть факторов, определяющих развитие науки, которая связана с потребностями людей, со стимулами, возникающими в сфере личного потребления и в ходе производственных процессов.
Не будет преувеличением мысль о том, что через канал потребностей мы с вами, каждый из нас в отдельности, даже тот, кто не участвует непосредственно в производстве материальных ценностей, оказываем влияние на развитие науки, на ход научно-технической революции.
Во многих случаях мы, может быть, и не непосредственно, но весьма настоятельно требуем применения и дальнейшего развития методов, основанных на явлениях, которые на первый взгляд кажутся любопытными только для специалистов, только для исследователей, профессионально интересующихся загадками природы. Пример — парамагнитный резонанс. Казалось бы, далёкая от жизни сфера? Однако все мы настоятельно заинтересованы в развитии и совершенствовании этого метода, в его освоении и применении.
В качестве примера возьмём область химии.
В химии, особенно органической, учёные и инженеры имеют дело с чрезвычайно сложными молекулами, состоящими из тысяч, а иногда из сотен тысяч атомов. Установить структуру этих молекул, изменять их строение и свойства в нужном направлении — задача не простая. Здесь могут помочь исследования парамагнитного резонанса, позволяющие весьма точно расшифровывать строение сложных молекул, определять расстояния между атомами и многое другое.
В геологической разведке, в космических исследованиях необходимо точно измерять слабые магнитные поля и их небольшие изменения в пространстве и во времени. Наиболее точными и чувствительными приборами, способными непрерывно регистрировать малейшие изменения магнитного поля, являются квантовые магнитометры, использующие парамагнитные свойства ядер атомов рубидия.
Одной из актуальных задач современности является передача электроэнергий от крупных электростанций к потребителям. При этом необходимо до минимума снизить потери энергии в линиях передач. Один из путей — использование сверхпроводящих кабелей. Но учёные, как мы уже знаем, ещё не могут создать материалы, обладающие сверхпроводимостью при температурах, превышающих 250°
Цельсия. В отдалённых мечтах — сверхпроводимость при комнатной температуре. Первая задача — создать сверхпроводник хотя бы при температуре жидкого азота (примерно 180° Цельсия). Для достижения этих целей нужно глубоко изучить законы сверхпроводимости, в том числе свойства вещества при самых низких температурах. Температуры, предельно близкие к абсолютному нулю, необходимы и для решения других важных задач, а получить их можно, используя парамагнитные свойства электронов и ядер.
В биологических и многих химических процессах играют большую роль особые активные осколки молекул, называемые свободными радикалами. Имеются подозрения, что некоторые из них канцерогенны, то есть способствуют развитию рака. Много свободных радикалов содержится в частицах дыма, образуется при обугливании органических веществ, например, их можно обнаружить в остатках подгоревших на сковороде продуктов. (Именно поэтому гигиенисты настоятельно рекомендуют не курить, не допускать подгорания пищи и тщательно мыть сковороды после каждого употребления.) Все свободные радикалы обладают электронным парамагнетизмом. Поэтому метод парамагнитного резонанса незаменим при их исследованиях, позволяя обнаруживать в ничтожных концентрациях.
Связи науки с жизнью так же глубоки и беспредельны, как сама жизнь. Примерами этой связи можно заполнить бесчисленные тома. Это, конечно, излишне. Ясно и без того, что титаны прошлого, такие, как Лоренц, и наши замечательные современники, такие, как Завойский, Котельников, Прохоров и многие другие, трудятся для прогресса, для пользы всех людей и опираются при этом на коллективный труд человечества, в котором есть крупица, вложенная каждым из нас.
— Поезжай в Страсбург, — сказал профессор, — к Августу Кундту. Я сам учился в его лаборатории.
И Пётр поехал.
В стенах Страсбургского университета шла активная научная жизнь. Август Кунд создал в Страсбурге школу физиков, одну из лучших в Европе. Лебедев попал здесь в среду, из которой быстро отсеивались неспособные и слабовольные. Выдерживали только трудолюбивые и самоотверженные. Иногда ценой собственного здоровья.
В конце 1887 года, в печати появилась статья Генриха Герца о замечательных экспериментах, подтвердивших существование электромагнитных волн, предсказанных Максвеллом. Эмиль Кон уже в следующем году прочёл совершенно новый курс оптики, полностью основанный на электромагнитной теории света.
Электромагнитные волны, эта плоть мира, его пульс и дыхание, овладели воображением молодого учёного. Ему не нужно было доказывать факт существования электромагнитных волн, это уже сделал Герц. Лебедеву же захотелось ощутить их материальное действие, их давление на предметы. Какова величина этого давления?
Но в первых попытках он терпел неудачи. Сказывалось сохранившееся с детства стремление к быстрому успеху, к немедленной славе. Он начал не с того конца — сразу с глобальной проблемы, вместо того чтобы продвигаться вперёд, решая более элементарные задачи. Честолюбие заставляло его избирать чрезмерно трудные задачи, а Кундт не препятствовал ему, не желая изменить установленного им стиля. Но поняв, что способному ученику грозит провал, что ему необходимо жёсткое повседневное руководство, он рекомендовал Лебедеву сделать сначала работу «обыкновенного масштаба», чтобы впоследствии вернуться к своим сверхтрудным задачам.
Кундт дал ему рекомендацию к профессору Кольраушу, известному многими выдающимися работами в области электрических и магнитных измерений. Кольрауш считался прекрасным методистом, умевшим ненавязчиво управлять каждым шагом своих учеников. От него Лебедев воспринял уважение к планомерной целеустремлённой деятельности, стремление к систематическому продвижению к цели, умение преодолевать экспериментальные трудности.
У Кольрауша Лебедев за один год сдаёт экзамены и за щищает диссертацию, ставшую исходной точкой главного труда всей его жизни. Эта работа — результат происшедшего в нём перелома: «Я стал старше, спокойнее, поверил всем существом моим, а не только головой, что осчастливить мир и сделать работу нельзя в две минуты, что для всего надо время, — писал он матери. — Лучшего развлечения, чем физика и лаборатория, я не знаю!» И ещё изумительное признание: «Я никогда не думал, что к науке можно так привязаться…»
В заключение своей работы у Кольрауша Лебедев выступил с двухчасовым докладом на коллоквиуме. Удивительный доклад. Ничего подобного учёные не слышали ни до, ни после, вплоть до наших дней. Доклад начинающего учёного содержал детальный план научных работ, рассчитанный на десятилетия интенсивных исследований. Его реализация показала, что путь, намеченный молодым учёным, вёл в бессмертие. Именно в этом докладе Лебедев поставил главную цель: измерить давление света. Осуществление этой мечты поразило научный мир. До сих пор эта работа по своему экспериментальному совершенству осталась непревзойдённой. На её выполнение ушли двадцать лет жизни…
Осенью 1891 года в Москву прибыл человек, стремившийся к одному: серьёзной научной работе. После Страсбурга, в котором научная жизнь била ключом, он надеялся встретить здесь ещё лучшие условия для работы. Поначалу всё действительно складывалось неплохо. Профессор Столетов добивается зачисления Лебедева на должность преподавателя. Лебедев не предполагал, сколь не простым делом это окажется. До отъезда из Москвы он совершенно не интересовался политикой, был от неё далёк. Теперь на собственном примере убеждается: политика оказывает неизбежное влияние на жизнь учёного, на саму науку.
Царское правительство стремилось вытравить из сознания народа освободительные идеи 60-х годов. Прогрессивные профессора подвергались преследованиям. Научная работа была в загоне и требовала невероятных усилий. Лаборатория, созданная Столетовым, пользовалась, главным образом, приборами, поступавшими в дар от отдельных профессоров или меценатов. «Чиновники народного просвещения даже не сделали маленькой библиотеки при физической лаборатории», — сетовал Лебедев.
Не было при лаборатории и механической мастерской, без которой экспериментальная работа невозможна. Когда Лебедев представил профессору Соколову, заведовавшему лабораторией после Столетова, смету на приобретение инструмента и токарного станка на сумму в 300 рублей, это привело профессора в ужас, он привык к грошовым ассигнованиям.
Лебедев к тому времени уже разобрался в ситуации и знал, что чиновники не смогут понять, зачем в физической лаборатории токарный станок. Он заменил в смете слова «токарный станок» на «прецизионная дребанка». Хитрость удалась. Наукообразный немецкий термин не вызвал сомнений (чиновнику было невдомёк, что «дрейбанк» — по-немецки токарный станок). Лебедев долго работал на этой дребанке собственными руками и приучал к этому своих учеников.
В соответствии с программой, сформулированной перед отъездом из Страсбурга, жизнь Лебедева в Москве была полностью посвящена науке. Первая его научная работа, опубликованная на русском языке (диссертация была напечатана только на немецком), соответствовала духу прощального доклада Лебедева на коллоквиуме Кольрауша. Из неё видно, что поначалу он наметил решить частную задачу: объяснить силы, действующие между молекулами, измерить их электромагнитные взаимодействия.
Но тут молодого учёного поджидала первая волнующая неожиданность: эти взаимодействия оказались более универсальными, чем можно было думать. Лебедев установил, что они могут играть существенную роль в космосе… Более того: именно они играют главную роль в образовании кометных хвостов! Так молодой русский физик оказался при частным к загадке, в течение тысячелетий будоражившей воображение людей.
Действительно, что может быть интереснее и страшнее, чем непонятное! А что поспорит по непонятности с хвостатыми звёздами, время от времени появлявшимися на небе, чтобы предсказать мор, нашествие чужеземцев или другие бедствия?
Кометы появлялись во все века. Редко или часто. Очень яркими или малозаметными. Древние мудрецы предполагали, что свойства комет являются следствием действия жара Солнца на атмосферу Земли. Только великий Тихо Браге доказал, что кометы существуют не в атмосфере Земли, а движутся далеко за орбитой Луны. Кеплер, высоко ценивший точные наблюдения Тихо Браге и, как все в его время, считавший свет потоком частиц, объяснял возникновение кометных хвостов давлением частиц света, испускаемого Солнцем. Кометами интересовался Ньютон. Он включил кометы в состав Солнечной системы и научил людей вычислять их орбиты. Вскоре скромный астроном Галлей сделал это для 24 комет и обнаружил, что три из них двигались по очень близким путям. Каждый вправе готовить свой триумф. Для Галлея бессмертие засияло в тот миг, когда он счёл эти кометы за одну и предсказал её новое появление. Человечеству пришлось подождать три четверти века, чтобы проверить это предсказание и причислить имя Галлея к бессмертным.
Всю осень 1882 года (тогда Лебедеву было шестнадцать лет) одна из комет, обладавшая очень ярким хвостом, изо дня в день появлялась на утреннем небе. Некоторое время она была видна даже днём. Особый резонанс явление кометы имело в Москве. Это не удивительно. Здесь жил и работал профессор Бредихин, известный астроном и крупнейший специалист в области изучения комет.
Юноша Лебедев был возбуждён этим событием не меньше, чем его сверстники. Они мастерили самодельные телескопы и вели наблюдение за редкой небесной гостьей.
Повторяю, это было в 1882 году. Прошло девять лет. В печати появляется работа Лебедева «Об отталкивающей силе лучеиспускающих тел». Здесь впервые дано количественное обоснование роли светового давления в образовании кометных хвостов. Лебедев обратил внимание на то, что между любыми телами всегда существует сила лучистого отталкивания, и показал, что в космосе для малых тел она способна конкурировать с силой тяготения. Основные результаты были получены им ещё в Страсбурге. Он писал оттуда матери: «Найденный закон распространяется на все небесные тела. Сообщил Винеру. Сперва он объявил, что я с ума сошёл, а на другой день, поняв в чём дело, очень поздравлял».
Имя Лебедева сразу приобрело известность. Его работа заслужила и высокую оценку Бредихина.
Впрочем, Лебедев понимал, что полученные им формулы пригодны только для тел, размеры которых превосходят длину световой волны, скажем, для пылинок, но не для молекул. До полного решения загадки кометных хвостов ещё предстоит долгий путь. Он предостерегал читателя от попытки распространить его результаты на молекулы. Молекула не шарик. Она имеет сложное внутреннее строение. Её взаимоотношения со светом определяют не геометрические размеры, а прежде всего её резонансные свойства. Молекула — резонатор, активно вступающий во взаимоотношения с электромагнитной волной. Понимая это, он избежал ошибки, в которую и после его работ впадали многие, даже знаменитый Сванте Аррениус.
До того как начать опыты с молекулами, каждую из которых нельзя ни увидеть, ни положить на весы, следовало проделать измерения с более крупными объектами, которые могли бы воспроизвести основные черты исследуемого процесса.
В качестве таких объектов Лебедев избрал резонаторы. Резонаторы Герца для электромагнитных волн, шарики на пружинках для изучения волн на поверхности воды и, наконец, маленькие пустые трубки, аналоги флейт или мини атюрных органных труб для случая звуковых волн.
Через три года Лебедев публикует в солидном немецком журнале результаты первой части исследования: действия электромагнитных волн на резонаторы.
Через два года в том же журнале появилась следующая статья, в которой точно такие же результаты сообщены для волн, бегущих по воде.
Наконец, ещё через год первая часть программы завершена публикацией результатов исследования звуковых волн.
Замечательной особенностью этой комплексной работы является не только изложение чрезвычайно тонких и трудных новаторских опытов, но чёткое единообразное рассмотрение волновых процессов и резонаторов совершенно различной природы: электромагнитных, гидродинамических и акустических. Лебедев писал: «Перенося исследования на колебания, отличные по своей физической природе, и находя связь между законами их действия на резонаторы, мы тем самым расширяем приложимость найденных законов и на те случаи, в которых как механизм самого колебания, так и механизм воспринимающего его резонатора может остаться неизвестным».
Таким образом, Лебедев заложил основы весьма мощного единого волново-колебательного подхода к явлениям природы, блестяще развитого последующей школой советских физиков: школой Мандельштама и Папалекси. И этот же подход к явлениям природы был взят за основу создателями молекулярных генераторов Басовым и Прохоровым.
Лебедеву потребовалось ещё два года, чтобы решиться представить этот цикл работ физико-математическому факультету Московского университета в качестве докторской диссертации. В ней Лебедев подвёл итог своим попыткам изучить действие волн на резонаторы, на моделях определить силы, приводящие к взаимодействию посредством излучения.
По ходатайству физико-математического факультета Московского университета Лебедев был допущен советом университета непосредственно к защите докторской диссертации без сдачи магистрских экзаменов и защиты магистрской диссертации. В 1900 году Лебедеву присуждена докторская степень.
Итак, XIX век окончился для Лебедева защитой диссертации. В первый год XX века он становится профессором Московского университета.
Звания, должности — всё это как бы внешние аксессуары научной деятельности Лебедева. В глубинных её слоях идёт напряжённый поиск решения главной проблемы. Сделано немало — ему удалось установить, что давление лучей Солнца действительно является причиной образования кометных хвостов. Теперь на очереди следующая часть задачи, практическая: надо изучить и измерить величину этого давления.
Цель намечена. Но поначалу следовало ещё сделать более простое, но тоже никому не удававшееся измерение. Сделать решающий шаг от модели к реальному процессу. Измерить давление света на твёрдые тела. Это было тем более необходимо потому, что из работ Бредихина вытекало: хвосты комет могли состоять не только из газовых молекул, но, в основном, из мельчайших твёрдых пылинок.
Систематическая и глубокая подготовка позволила Лебедеву в короткий срок — за три года — закончить измерение давления света на твёрдые тела. Существенные опыты были начаты сразу после завершения исследования акустических резонаторов. Но идейная подготовка, конечно, началась много раньше.
Лебедев мысленно прошёл по маршрутам своих предшественников: и малоизвестных и великих, таких, как создатель волновой теории света — Френель, отец электроники — Крукс. Все они терпели в этом вопросе неудачи. В своих изысканиях он обращается к великому Кеплеру и к полузабытому Лонгмонтанусу, которые почти за три века до него связывали возникновение кометных хвостов с давлением солнечного света. Он анализирует схему опыта, предложенную самим Максвеллом, и приходит к убеждению, что таким путём невозможно достичь цели — измерить давление света на материальные тела.
Главным противником, обрекавшим на неудачи всех предшественников, оказались силы, открытые Круксом и названные им радиометрическими. Не вдаваясь пока в их сущность, отметим самое важное — сколь ни слабы эти круксовы силы, они в десятки раз превосходят силу светового давления. И она остаётся неуловимой, словно слабая радиопередача, утопающая в шуме и тресках, свойственных самому радиоприёмнику.
Лебедев понял роль круксовых сил и наметил свой путь борьбы с ними. Работа требовала огромного напряжения. Пригодились большой опыт, приобретённый во время предшествующих экспериментов, и юношеская склонность к изобретательству. Пришлось мобилизовать все свои знания, интуицию, накопленные за годы работы.
Лебедев изготавливает прибор за прибором, служащие одной цели — уменьшить, подавить радиометрические силы, маскирующие действие световых лучей. Заглянем внутрь одного из них: мы увидим легчайшее слюдяное крылышко на коромысле, подвешенном на тончайшей нити. Вот крылышка коснулся луч света. И крылышко дрогнуло, повернулось, потянуло за собой коромысло. Угол его поворота должен быть пропорционален давлению света. Но… этому мешают радиометрические силы, приводящие к много большему повороту.
Откуда они взялись? Их создаёт сам же луч света. Он не только давит на крылышко, но и нагревает его поверхности. Причём неодинаково с обеих сторон.
Что же дальше? Молекулы воздуха, оставшиеся внутри прибора (тогда не умели получать хороший вакуум), наталкиваются на крылышко и отскакивают от него, словно мячи, брошенные на стенку. Причём от более тёплой стороны крылышка молекулы отлетают с большей скоростью, а значит, силы отдачи здесь больше. Вот крылышко и поворачивается, увлекая за собой коромысло.
Этот поворот «паразитный», незапланированный, поэтому путает карты экспериментатора. Лебедев сумел отделаться от этого явления. Он ввёл в прибор простые, но решающие по своим результатам усовершенствования. Мы расскажем лишь о главных, обеспечивших успех. Для ослабления радиометрических сил нужно было уменьшить разность температур освещённой и неосвёщенной стороны крылышка. Значит, следовало крылышки делать возможно более тонкими и применять материалы, хорошо проводящие тепло. Выбор пал на платину, алюминий и никель. Серебро, медь и ряд других металлов отпали, ибо их разрушают пары ртути, неизбежные в вакуумных установках того времени, когда откачка проводилась ртутными насосами, а криогенная техника была недоступна.
Лебедев сделал четыре совершенно одинаковых прибора — только лепестки в них были из разных металлов. В трёх — из платины, алюминия, никеля. А в четвёртом — из слюды. Он хотел сравнить работу этих четырёх приборов с целью тщательной проверки, исключающей всякие неожиданности. Но даже для самых тонких металлических лепестков радиометрические силы не падали до нуля. Не хватало разрежения, даваемого самым лучшим из существующих насосов. Работа, казалось, зашла в тупик.
В этом безвыходном положении ещё раз проявились талант экспериментатора и изобретательская жилка Лебедева. Он поместил в баллон экспериментального прибора каплю ртути. Включив насос, осторожно нагревал её всего на пять градусов выше комнатной температуры. Пары ртути помогли вытеснить остаток воздуха и увлечь его в насос. Затем Лебедев отделил свой прибор от насоса специальным затвором. Теперь в приборе остались практически лишь пары ртути и совсем, совсем мало молекул воздуха. Лебедев предпринимает последний шаг. Охлаждает прибор смесью льда и соли. Пары ртути конденсируются, и в приборе достигается вакуум такой степени разрежения, о которой его современники не могли и мечтать.
Радиометрические силы стали совсем малыми. Но не исчезли полностью. Теперь надо точно учесть их возможный вклад в результаты опыта.
Лебедев показал расчётом, что в лепестках, отличающихся только толщиной, радиометрические силы пропорциональны ей.
Он изготавливает платиновые лепестки толщиной в одну десятую миллиметра. И даже в пять раз более тонкие, всего в две сотые миллиметра. Проведя измерения с этими лепестками, он может вычислить, как велико было бы отклонение, вызываемое светом для лепестка нулевой толщины, когда радиометрические силы равны нулю. Это была бы величина светового давления.
Ещё один контроль. Лебедев знает, что, согласно теории, световое давление на зеркальную поверхность вдвое больше, чем на чёрную. И он полирует часть своих лепестков до зеркального блеска, а остальные покрывает платиновой чернью. Полученные результаты отличаются вдвое! Значит, измеряется именно давление света.
Однако Лебедеву мало доказать, что он наблюдает именно давление света. Нужно измерить его величину и сопоставить с величиной, получаемой из теории Максвелла. Для этого необходимо превратить измерительный прибор в подобие весов: точно откалибровать его, установить упругость нити подвеса, размеры коромысла и другие характеристики. Необходимо не менее точно измерить энергию пучка света, давление которого он определяет в своём приборе. Лебедев изготовил для этой цели и откалибровал два специальных калориметра и светоделительную пластинку, позволившую проводить измерения давления света и его энергии одновременно, чтобы исключить нестабильность источника света — вольтовой дуги.
Наконец предварительные опыты закончены. Начинается решающий эксперимент. Но перед этим Лебедев оценивает погрешности, вносимые его приборами. В сумме они могут достигать двадцати процентов искомой величины. Ведь давление, которое он хочет измерить, может составлять около трёх стотысячных дины. Такую силу испытывают весы под действием гирьки в три стотысячных миллиграмма. Для того чтобы в этих условиях получить достоверный результат, нужно провести множество измерений с лепестками различных типов, при нескольких режимах горения дуги, с различными линзами и зеркалами. Наконец, надо при этом достаточно точно учесть, насколько устойчив вакуум в результате манипуляций с каплей ртути. А как оценить его? Ведь ни один из существовавших тогда приборов не мог измерить величину достигнутого Лебедевым разрежения — столь малым получалось остаточное давление.
Удивительные, остроумнейшие решения позволили учёному совершить подвиг, сравнимый разве что с подвигом сказочного Левши, подковавшего блоху: он сумел измерить давление луча света, равное давлению пылинки весом в три стотысячные доли миллиграмма!
Первое сообщение о предварительных результатах своих опытов Лебедев сделал 17 мая 1899 года на заседании Естественно-научного общества в Лозанне в Швейцарии, куда ему срочно пришлось уехать для лечения болезни сердца, обострившейся в связи с непомерным напряжением этих лет. Более полный доклад прочитан им в августе 1900 года на Международном конгрессе в Париже и кратко опубликован в трудах конгресса и в «Журнале русского физико-химического общества». Основной текст, напечатанный позже в этом журнале, был переведён и опубликован рядом иностранных журналов. О Лебедеве стали говорить как о короле эксперимента.
Патриарх английских физиков, уважаемый всеми лорд Кельвин сказал на одном из съездов Тимирязеву: «…Я всю жизнь воевал с Максвеллом, не признавая его светового давления, и вот ваш Лебедев заставил меня сдаться перед его опытами».
Не менее знаменитый английский физик, лорд Рэлей, откликнулся на эксперименты Лебедева теоретической работой, показавшей универсальное значение результатов, полученных Лебедевым.
Известный немецкий астроном и математик Шварцшильд строго решил задачу, ранее поставленную Лебедевым (о давлении света на небольшие шарики), и обнаружил максимум давления при определённом соотношении длины волны света и диаметра шарика. Он сделал вывод, что давление света на молекулы, рассматриваемые как чрезвычайно малые шарики, будет ничтожно мало. Лебедев разъяснил, что возникновение максимума связано с резонансом, и ещё раз обратил внимание на то, что резонансы молекул обусловлены их внутренней структурой, а не простыми геометрическими размерами.
Выдающийся немецкий физик Пашен писал Лебедеву: «Я считаю Ваш результат одним из важнейших достижений физики за последние годы. Я оцениваю трудность Ваших опытов тем более, что я сам несколько времени тому назад задался целью доказать существование светового давления и проделывал подобные же опыты, которые, однако, не дали положительного результата».
Здесь не хватило бы места для приведения подобных оценок со стороны крупнейших учёных того времени: многие безуспешно пытались измерить давление света, а ещё большее число учёных интересовались этой труднейшей задачей.
Как это часто бывает в истории науки, ничего не зная о работах Лебедева, американские учёные Никольс и Хэлл двигались в том же направлении. Не прочитали они и его публикаций, отправляя 29 августа 1901 года в печать предварительное сообщение о полученных ими результатах. Оно вышло в ноябре того же года. Даже в декабре 1902 года, посылая в печать полный текст своей работы, они ещё не пишут ничего о результатах Лебедева.
Между тем годом раньше, в письме от 3 декабря 1901 го да, Никольс писал Лебедеву, который в то время лечился на курорте Наугейм: «Из Вашей статьи, пришедшей на прошлой неделе, мы впервые узнали, что Вы работаете над экспериментальной стороной вопроса. Из указываемых Вами статей (в женевских «Архивах естественных наук» и в «Докладах на международном конгрессе физиков») первая нам недоступна, а вторая до нас ещё не дошла, хотя несколько времени тому назад была заказана нашим книготорговцам».
Лебедев пишет по этому поводу 24 декабря того же года своему ученику Кастерину: «Сегодня получил длинное письмо от Никольса, где он утверждает, что ничего не знал о моих работах раньше: это у них в Америке бывает!»
В тот же день он пишет Никольсу: «…Тем существеннее то обстоятельство, что независимо (выделено Лебедевым) получены тождественные результаты».
В своё время некоторые авторы, в выражениях не всегда корректных, утверждали, что Никольс и Хэлл недобросовестные дельцы от науки, желавшие пристроиться к блестящим результатам Лебедева. Сам Лебедев никогда не подвергал сомнению их добросовестность и компетентность. Максимум, что он считал нужным сделать, это иронически отозваться о них, как об учёных, не следящих за научной литературой.
Более того. В своей знаменитой статье в разделе «Предварительные опыты» Лебедев сослался на работу Никольса, опубликованную в 1897 году и посвящённую изучению радиометрических сил.
Лебедев уважал своих соперников — Никольса, который был на три года моложе его и также учился в Германии и работал в лаборатории знаменитого экспериментатора Рубенса, где выполнил ряд блестящих работ, и Хэлла, уроженца Канады, грамотного исследователя среднего уровня. Лебедев отнёсся к их работе по измерению светового давления как к дополнительным контрольным опытам, внимательно и добросовестно сравнив её со своими результатами.
Основная задача в обоих случаях состояла в преодоле нии мешающего действия конвекционных радиометрических сил. Что же отличало эти работы друг от друга? Кто добился более чистых результатов? Как мы знаем, Лебедев достиг рекордно малого остаточного давления в сосуде, уменьшая источник помех — количество остаточных молекул газа. Он применял чрезвычайно тонкие металлические лепестки, и такой искушённый ценитель, как Пашен, считает это «ключом к разрешению вопроса». Излишне напоминать ещё раз о многих других, менее существенных особенностях его метода и прибора. Стоит лишь указать на крайнее изящество и простоту его аппаратуры, близкой по стилю к аппаратуре Фарадея, этого гения эксперимента.
Наиболее остроумная черта метода Никольса и Хэлла основана на том, что световое давление возникает мгновенно, а конвекционные и радиометрические силы — только после нагрева лепестков. Поэтому они использовали кратковременное включение света и баллистическую методику измерения.
Слабость метода Никольса и Хэлла проявилась в отношении к круксовым силам. Вместо того чтобы добиваться очень высокого вакуума, они, следуя указанию самого Крукса, попытались использовать счастливое мгновение. А оно должно было наступить при давлении порядка десяти миллиметров ртутного столба. В этот момент радиометрические силы меняют знак, проходя через нуль. Экспериментаторы старались обнаружить эту нулевую точку и работать возможно ближе к ней. Это было смелое и остроумное решение. Однако при этом давлении конвекционные силы ещё велики и требуют особых мер для борьбы с ними. Американцы (как это делал и Лебедев) для этой цели посылали свет то на одну, то на другую сторону лепестка.
Но методика Никольса и Хэлла не оправдала себя. Она была очень сложна. Сложна и дорога была их аппаратура. Несмотря на применение приборов высокой метрологической точности, они в первой публикации допустили ошибку в 22 % из-за неверного определения сопротивления болометра. Устранив этот дефект, они сочли достигнутую погрешность равной одному проценту, но беспристрастные учёные оценили её существенно выше.
Ошибка измерений американцев привела к тому, что выделить чётко световое давление на фоне мешающих факторов им не удалось.
Лебедев ясно понимал недостатки опытов Никольса и Хэлла, но не критиковал их в печати, указывая на независимость работы и различные методики. В последней же, оставшейся незаконченной, популярной статье он кратко рассмотрел недочёты этой работы, заключив, что её результат можно рассматривать как опытное доказательство существования светового давления (если принять на веру, что американские исследователи работали вблизи указанной Круксом нулевой точки).
«Мне кажется, — пишет Лебедев, — что было бы правильнее воспользоваться работой Никольса и Хэлла для обратного заключения, а именно: допуская существование светового давления, утверждать, что открытый Круксом любопытный переход радиометрических явлений через нуль при определённых давлениях не зависит от продолжительности свечения».
Только тонкий и благожелательный учёный мог позволить себе не отмахнуться от работы менее удачной, чем его, а отыскать в ней максимум полезного, найти то, что оправдало бы её проведение.
Лебедев необычайно точно определил уязвимость конкурирующей методики. Два остроумных приёма Никольса и Хэлла — использование явления Крукса и баллистической методики — требовали независимого доказательства их совместимости. Поскольку такого доказательства не дано, результат допускает двоякое толкование…
Работа Лебедева вышла далеко за пределы просто удачного эксперимента. Измерив давление света на твёрдые тела, подтвердив численно справедливость теории Максвелла, Лебедев тем самым доказал, что свет несёт не только энергию, но и импульс, а значит, в этом отношении он не отличается от других форм материи. Этот вывод, полученный Лебедевым из опыта, перекликается с важнейшим выводом о соотношении между массой и энергией, сделанным через несколько лет Эйнштейном в его теории относительности.
Всемирное признание — достойная оценка такому выдающемуся деянию.
Несмотря на крайнее переутомление и усиливающуюся болезнь, Лебедев не удовлетворился достигнутым. Программа, составленная перед отъездом из Страсбурга, требовала дальнейших тягчайших напряжений. Он хотел обязательно обнаружить давление света на отдельные молекулы, а ведь молекулы в миллиарды миллиардов раз более мелкие предметы, чем крылышки. И давление света в этом случае должно быть ничтожнее, неуловимее дыхания комара.
Лебедев изготовил не менее двадцати приборов, но в каждом проявлялись мешающие эффекты, неизмеримо превосходящие то, что нужно было наблюдать.
Друзья говорили Лебедеву, что он губит себя, губит, как машину, работающую на износ. Врачи требовали перерыва в работе, считая, что жизнь учёного в опасности и может быть спасена только длительным покоем. Тогда-то он и сказал: «Пусть я умру, а работу доведу до конца».
Лебедев продолжал работать ещё более напряжённо, чем раньше. Встретив очередную трудность в своём эксперименте, он переходил к приборам своих учеников. И те ещё и ещё раз поражались, как легко их учитель добивался того, что казалось им совершенно недостижимым. Тем временем Лебедев всё более чётко стал понимать, что ни слушание лекций, ни чтение, ни даже личная работа не обеспечивают формирование учёного. Без регулярного общения, обмена мнениями, без обсуждения и споров не рождаются настоящие физики. И Лебедев стремится создать в своей лаборатории атмосферу научного творчества, подобную виденной им у Кундта и Кольрауша. Теперь ему недостаёт только коллоквиума.
В 1902 году, приступив к новому циклу труднейших исследований, Лебедев организует свой коллоквиум. Первый в России. Сейчас такие занятия обычно называют семинарами. Лебедев проводил их еженедельно. Здесь обсуждались рефераты новейших научных работ. Праздником было сообщение о завершённой работе кого-либо из участников. Уровень, актуальность и глубина обсуждения проблем были столь привлекательны, что заседания посещали не только ученики Лебедева, но и крупные учёные, в том числе и нефизики: знаменитый естествоиспытатель Тимирязев, математики Млодзеевский и Лузин, врач Лазарев, которого посещения коллоквиума привели в число учеников Лебедева.
Лазарев сделал от имени заболевшего учителя первое предварительное сообщение об успехах в измерении давления света на газы. Было это 27 декабря 1907 года. Участники I Менделеевского съезда первыми услышали о том, что давление света на газы обнаружено, познакомились с основными идеями эксперимента и конструкцией прибора, услышали о невероятных трудностях проведения этой работы.
На её завершение ушло ещё около двух лет. Вот как описывает заключительный этап работы один из учеников Лебедева:
«В конце весеннего семестра, когда начинался летний перерыв в университетских занятиях (это время совпало с неудачной пробой одного из приборов для исследования давления света на газы), Лебедев по настоянию врачей был вынужден выехать на отдых за границу. Причём перед поездкой в Швейцарию, где должен был отдыхать, он заехал в Гейдельберг, который очень любил и где жил известный специалист по сердечным болезням Эрб. С ним Лебедев часто советовался.
После нескольких дней отдыха Лебедев решил заехать к астроному Вольфу в обсерваторию на горе Кенигштуль в окрестностях Гейдельберга. Вольф, ничего не зная о болезненном состоянии Лебедева, начал расспрашивать о том, как идёт работа со световым давлением. Лебедев признался, что до сих пор его постигают одни только неудачи. Вольф с жаром стал доказывать, что надо ещё раз попытать свои силы, что “только такой экспериментатор, как вы, — говорил он, — может справиться с этой задачей и что решение этой задачи для астрономов существенно необходимо”. Лебедев отшучивался, но, когда он ехал от Вольфа к себе в гостиницу по склонам Кенигштуля, ему вдруг пришла в голову новая мысль. На следующий день, вместо того чтобы ехать в Швейцарию, он садится в вагон и едет в Москву. Всё лето и осень — лихорадочная работа, и на съезде естествоиспытателей и врачей в декабре 1909 года Лебедев сделал доклад о своей работе, которая и до сих пор осталась непревзойдённой… Никто не отважился пойти по пути Лебедева!»
…Кто знает, как возникают идеи в уме человека. Конечно, основой являются длительные сосредоточенные размышления. Лишь они на базе всего предыдущего опыта создают ту среду, в которой вспыхивает озарение. Но сами по себе размышления редко дают что-либо радикально новое. Они, скорее, способны обеспечить постепенное продвижение, систематическое преодоление мелких трудностей, но не взлёт, не скачок.
Многие крупные учёные, обдумывая впоследствии свои собственные открытия, отмечают эту особенность человеческого интеллекта. Открытие возникает в мозгу внезапно, подобно ракете, взмывающей в вышину.
Может быть, озарение постигло Лебедева в душном экипаже, раскалённом лучами Солнца, когда он, естественно, обратил внимание на несовершенство вентиляции. Решающая идея, обеспечившая путь к успеху, сводилась к способу выравнивания температур внутри прибора, в котором луч света, давление которого на молекулы газа надо было измерить, приводил к неравномерному нагреву газа.
Здесь тоже недоставало «вентиляции», способной выровнять температуру. Возможно, свежий воздух горных вершин, освежающий утомлённого путника, навёл Лебедева на мысль добавить к измеряемому газу водород.
Этот самый лёгкий газ, почти не поглощая свет, энергично выравнивает температуру в смеси газов. Этому способствует малая масса его молекул, быстрота их передвижения.
Недаром Лебедев сказал, что готов пожертвовать жизнью для завершения работы. Осознав всю мощь новой идеи, он не мог ехать лечиться и возвратился в лабораторию.
Последний из серии приборов, на котором были выполнены решающие опыты, не отличался в принципе от прибора, описанного Лебедевым в 1907 году. Конечно, он был сделан лучше, точнее, изящнее, но главное достижение заключалось в другом — в применении водорода.
Программа, составленная в юности, была завершена. Она заняла двадцать лет. Это было настойчивое движение к труднейшей цели по пути, отдельные этапы которого явились вершинами экспериментального искусства.
С полным правом и со скромным достоинством Лебедев завершает итоговую статью, вышедшую в 1910 году, словами: «Таким образом, гипотеза о давлении света на газы, триста лет тому назад высказанная Кеплером, получила в настоящее время как теоретическое, так и экспериментальное обоснование».
Снова, как прежде, достижение Лебедева вызвало восторженные отклики учёных. Выдающийся астроном Шварцшильд писал ему: «Я хорошо помню, с каким сомнением услышал в 1902 году о Вашем предположении измерить давление света на газ, и я преисполнился тем большим удивлением, когда прочёл, как Вы устранили все препятствия».
Известный физик Пойнтинг был так потрясён результатами русского учёного, что, отбросив свои дела, приступил к сходным опытам. Ему удалось измерить давление лу чей света, падающих на препятствие не перпендикулярно, а под углом. Расчёты для этого случая сразу же после первых публикаций Лебедева сделал казанский физик Гольдгамер. Позже Алиса Гольсен, ученица профессора Герлаха, используя новейшую вакуумную технику, провела блестящие опыты, спустившись в такой вакуум, где с радиометрическими силами можно было уже совершенно не считаться. Величина светового давления надёжно заняла своё место в формулах и уравнениях астрофизики.
Так Лебедев первым достиг вершины в экспериментальном исследовании свойств света, заслужил славу, которая не тускнеет и в наши дни.
Но лишь тот, кто не знает Лебедева, может подумать, что он почил на лаврах или хотя бы снизил напряжение своей работы.
Лебедев был хорошим альпинистом. В этом отношении, как и во многих других, он проложил верную дорогу русским и советским физикам. Физики и сейчас составляют существенную часть бесстрашного племени альпинистов.
Покоряя очередную, недоступную ранее вершину (и в горах, и в науке), Лебедев присматривался к другим вершинам — готов был выбрать следующую, ещё более трудную цель.
Ещё не успев закончить цикла работ по измерению давления света на газы, он начал обдумывать труднейшую задачу, тревожившую наиболее крупных физиков и не потерявшую актуальности в наши дни.
Речь идёт о природе магнетизма небесных тел. В то время этот вопрос считался тесно связанным с вопросом об эфире, этой гипотетической межзвёздной среде, вошедшей в обиход науки с незапамятных времён. В эфир верил Аристотель, об эфире писал Декарт, помощником в своей теории света избрал его Френель… Даже когда Максвелл обнаружил материю, наполняющую Вселенную — электромагнитное поле, он не решился на радикальную ампутацию эфира от тела науки. Более того, он продолжал в него верить! Иначе зачем ему было сочинять какую-то странную модель мира, в которой электромагнитное поле существовало не само по себе, как самостоятельная субстанция, о чём лаконично говорили его же четыре знаменитых уравнения, а интерпретировалось как натяжения эфира.
В общем, никто не мог решиться выбросить эфир на свалку истории, где уже несколько десятилетий покоился теплород, другой представитель семейства невесомых субстанций, недоступных ни чувствам, ни приборам.
Инертная традиция заставляла думать, что электромагнитные волны Максвелла распространяются в эфире. Иначе всё повисало в пустоте, а это пугало. (Один из примеров, свидетельствующий, что не природа, как думали древние, а мысль человеческая боится пустоты.) Учёные ещё не решались на героический отказ от эфира, они занимались бесполезной тратой сил, пытаясь примирить эфир с действительностью и со своими представлениями о ней. И в первую очередь пытались понять, почему эфир (по утверждениям противоречивых гипотез вещество вязкое, словно студень) не мешает движению небесных и земных тел?(Над этой проблемой работал в те годы и малоизвестный в наше время российский инженер Иван Осипович Ярковский (1844–1902). Он разрабатывал оригинальную концепцию эфира, предполагая, что уплотнённый эфир может превращаться в обычное вещество; в некоторой степени эта идея созвучна знакомому нам взаимопревращению излучения и вещества (аннигиляция и рождение пар частица-античастица). А размышляя над движением небесных тел сквозь эфир, Ярковский предложил в 1887 г. новый механизм, компенсирующий сопротивление эфира и использующий эффект отдачи при излучении (лебедевское давление света!). Недавно этот эффект, названный именем Ярковского, был обнаружен в движении небольших астероидов и искусственных спутников Земли. Подробнее см.: Сурдин В.Г. «Неуловимая планета». Фрязино: Век-2, 2006. — Прим. В.Г. Сурдина)
Никого не удивило, что к десятку противоестественнейших гипотез, связанных с вопросом об эфире, прибавилась ещё одна гипотеза, утверждающая, что при движении небесных тел сквозь эфир возникает эфирный ветер. На его поиски устремились экспериментаторы. И среди них замечательный физик американец Майкельсон. Он не обнаружил эфирный ветер. Можно было поверить его мастерству и наконец сказать: нет эфирного ветра, значит, нет и эфира. Но этого не случилось. Учёные продолжали отрабатывать другие версии, подтверждающие реальность эфира. Например, версию о том, что магнетизм небесных тел является следствием их движения сквозь эфир.
В доказательство этого включился и Лебедев. Он начал с более простого эксперимента. Ещё в 1902 году поставил опыт для обнаружения электрического тока, который, по тогдашним же представлениям, должен возбудиться в куске проводника при его движении через эфир. Результат был отрицательный. Причём Лебедев достиг замечательной точности: он установил, что и трёх десятимиллионных долей вольта не возникло в его приборе, которые можно было бы отнести за счёт эфира.
Такая точность сделала бы честь любому экспериментатору. Казалось бы, это даёт Лебедеву право утверждать, что никакого эфира в природе не существует. Но решающее слово должны сказать теоретики.
Лишь через три года Эйнштейн в своей гениальной теоретической работе показал, что иного результата и быть не могло.
И всё-таки вопрос о природе магнетизма небесных тел оставался открытым. Кусок провода — не звезда, не планета. Нужно усложнить опыт, искать иные доказательства. И это мучило Лебедева.
Он строит новую установку, более близкий аналог вращающемуся небесному телу, обладающую удивительной по тем временам скоростью — 35 000 оборотов в минуту!
Вот итог опытов на этой установке:
«§ 13. Как показали опыты, приведённые выше гипотезы образования магнитных полей вокруг вращающихся тел оказались не выдерживающими прямой опытной проверки».
Но Лебедев не отступает. Встретив неприступное препятствие, альпинист ищет другой путь. Вперёд к вершине!
Он пишет Тимирязеву: «…И вот я сейчас занят проектами новых опытов; они окажутся чудовищно трудными и потребуют огромных затрат, так как возможны только с огромными массами. Но положительный результат их может оказать очень большое влияние на всё учение об электричестве. Как видите, проекты грандиозные, и если Эрб даст мне здоровье, то я их осуществлю. Тут стоит работать».
Но ему не было суждено покорить эту вершину. Не изнурительное напряжение титанической работы, а мрачная атмосфера российской реакции того времени подорвала его здоровье. Вызвала его преждевременную кончину.
Став после получения докторской степени профессором Московского университета, Лебедев сконцентрировал в нём всю свою научную и педагогическую деятельность. Он сплотил и воспитал большую группу учёных, создав на базе университета прекрасную научную физическую школу.
Невозможно осознать события последнего трагического года жизни великого физика, не учитывая общественной жизни России того времени. Последняя четверть XIX века была мрачным периодом для университетов. Устав 1884 года ликвидировал существовавшую ранее далеко не полную автономию университетов и распространил на них власть попечителя учебного округа. Начались гонения на прогрессивных профессоров, репрессии против студентов.
Реакция, последовавшая за поражением революции 1905 г., обрушилась и на университеты. Ректор Московского университета и его помощники были уволены за протест против циркуляра Кассо. Многие профессора сочли своим долгом подать в отставку.
Лебедеву было особенно трудно принять в этой ситуации правильное решение. Он говорил: «Историки, юристы и даже медики, те могут сразу уйти, а у меня ведь лаборатория и, главное, более двадцати учеников, которые все пойдут за мной. Прервать их работу не трудно, но ус троить их очень затруднительно, почти невозможно. Это для меня вопрос жизни».
Рушились планы новых, только развивающихся исследований.
Были и личные причины. Тяжёлая болезнь сердца. Материальные трудности. Ведь Лебедев не имел совместительства. Всё время и силы он отдавал университетской лаборатории, науке, ученикам. Не имел он и надежд на пенсию. Терял и крышу над головой: уходя в отставку, он должен был оставить казённую университетскую квартиру.
Сестра Лебедева вспоминает: «Если бы вы знали, какую ужасную трагедию он переживал. Он чувствовал и видел, что погибало дело его жизни, дело, которое он с таким трудом создал. За эти дни он очень изменился: поседел, похудел, но решил поступить так, как поступил бы гражданин. Он решил уйти».
Борьба за свободу и справедливость потребовала его участия. И он не отступил. Вслед за ним ушли его ученики.
Узнав о тяжёлом положении Лебедева и плохом состоянии его здоровья, знаменитый физико-химик Сванте Аррениус пригласил его в институт Нобеля в Стокгольме, гарантируя должность директора лаборатории, большую сумму денег на научную работу и высокий оклад.
Но Лебедев предпочёл остаться без всяких средств, но со своими учениками.
К счастью, самый тяжёлый период продолжался недолго. Научная общественность, ученики сплотились вокруг больного Лебедева, как некогда вокруг Столетова. Началась энергичная кампания за создание для него на общественных началах условий для научной работы и сносной жизни.
Вскоре он при поддержке друзей создаёт при городском Университете имени Шанявского частную лабораторию. Под неё была передана квартира в доме № 20 по Мёртвому переулку (улица Островского). Лебедев с семьёй поселился в верхнем этаже. В соседней квартире — его ученик и помощник, будущий академик Лазарев, который пользовался у учителя неограниченным доверием. Конечно, оборудования поначалу не хватало, но работы возобновились. Плохо было и то, что коллоквиум, который регулярно проводил Лебедев в университете, потерял право на легальное существование. Для того чтобы создать возможность регулярных научных собраний, друзья организовали Московское физическое общество, председателем которого был избран Лебедев.
На общественные средства началось строительство Физического института, специально предназначенного для Лебедева и его школы. Он сам принимал участие в проектировании здания института. (Около двадцати лет ФИАН находился на Миуссах в Москве, в здании, строившемся для Лебедева, лишь впоследствии ФИАН переехал на Ленинский проспект.)
Лебедев формулирует программу дальнейших работ своей школы. Программу, которая является естественным развитием его первого юношеского плана, той его части, которая относилась к отдалённым трудным целям: «Исследование полного спектра вещества открывает перед нами возможность проникнуть в геометрическое распределение зарядов в отдельных атомах и молекулах, изучить строение их и подойти к решению самых разнообразных физико-химических вопросов. Это огромная задача, которую электронная теория материи ставит спектральному анализу, открывает спектроскопии необозримое поле интересной и плодотворной работы, но она требует для своего решения ряда систематически проводимых исследований в разных частях спектра».
Ученики с энтузиазмом встретили эту программу учителя. Дело пошло на лад. Но… Волнения обострили болезнь Лебедева. Он скончался в марте 1912 года.
Перед ним было столько вершин, которые манили его и которые он мог бы покорить. Ему было всего сорок шесть лет. Пора зрелости лишь начиналась.
Смерть Лебедева потрясла научную общественность.
Тимирязев писал: «Убивает не один только нож гильотины. Лебедева убил погром Московского университета»… «Успокоили Лебедева. Успокоили Московский университет. Успокоят и русскую науку».
К счастью, эти горькие прогнозы не оправдались. Творческая мысль замечательного русского учёного продолжает жить и набирать силы — в открытиях его учеников, в достижениях всей физики.
ПРЕОДОЛЕНИЕ
…Это случилось в три часа июньской ночи в поезде Ленинград — Москва. Пассажиры были разбужены сообщением по радио: в поезде умирает человек, и любого врача просят срочно зайти в последний вагон.
Много раз тревожный голос повторял свой призыв, пока в купе, где лежал умирающий, не вошёл запыхавшийся человек. Он приложил ухо к его груди и послал в вагон-ресторан за льдом — решил положить ему холодный компресс… Но результат оказался совсем не таким, какого он ждал: пульс почти прекратился.
Поезд остановили в Клину, из медпункта прибежала женщина-врач. Она выбросила лёд, открыла окно, выгнала из купе всех посторонних. Объяснила жене заболевшего, что у него сердечный спазм и нужно было дать нитроглицерин и положить на сердце что-нибудь горячее. Вероятно, при спазме в сердце образовался сгусток крови. Сейчас она положит горчичники, и тромб, возможно, рассосётся…
Остальной путь доктор не выпускала руку больного. За окном рождалось утро, и его первые лучи осветили бледное лицо немолодого мужчины, разбросанную по соседней полке одежду и листы бумаги на полу, смятые суматохой. Врач машинально подбирала один лист за другим. Один из них, исписанный бисерным почерком, привлёк её внимание.
«…Нет, жизнь прожита не напрасно, — читала она, — хо тя я не открыл ни одного нового закона, не сделал ни одного изобретения, но тридцать лет работы в области радиоэлектроники несомненно принесли пользу моей стране. Не знаю, сколько времени мне ещё осталось жить и работать, но я горю желанием сделать ещё многое. Интерес к работе, к моему делу у меня не остыл. Признаков вялости, старости нет — только устаю скорее, чем раньше. Но ведь я и работаю много. У меня масса мыслей о том, как улучшить работу наших радиолокационных систем. К сожалению, мне много лет! Хватит ли времени и здоровья для того, чтобы серьёзно сдвинуть работу?»
Врач взглянула на больного — синие окружья глаз будили тоскливое предчувствие. Она прислушалась к пульсу, сменила подушку с кислородом, положила к ногам горчичники…
Его удалось довезти до Москвы. Но в больнице сказали — безнадёжен.
Так кончилась ночь с 19 на 20 июня 1956 года для заместителя министра обороны СССР, академика и адмирала Акселя Ивановича Берга, одного из самых активных зачинателей советской радиоэлектроники, радиолокации, кибернетики и одного из немногих современных учёных-универсалов.
…Чудеса случаются во все времена. Смерть отступила. Но после сердечного приступа потянулись тоскливые месяцы. Жизнь на грани бытия.
Когда я познакомилась с Акселем Ивановичем в октябре 1958 года, это был печальный человек. Без планов — какие планы, когда жизнь держится на уколах. Без надежд — какие надежды, если уже никогда не сможешь работать. Болезнь нашёптывала, что в шестьдесят пять лет нереально делать серьёзные прогнозы на будущее.
Если бы ему тогда сказали, что через год он будет в эпицентре борьбы за советскую кибернетику; что через три года, в возрасте 68 лет скажет «здравствуй!» своей новорожденной дочке; в семьдесят станет Героем Социалистического Труда, а в семьдесят пять снова будет умирать и воскре сать — вряд ли бы он в это поверил.
Не поверил бы? Но почему на столике у его кровати множатся и множатся книги? Почему дежурной сестре приходится силой и хитростью изымать у строптивого больного тетрадки, журналы, прятать очки и авторучку? Темы бесед с врачами всё дальше отходят от инфарктных: они спорят о каких-то живых автоматах, сравнивают схемы нервной системы и телефонных станций.
Если заглянуть в тогдашние записи Берга, сразу вспомнится его дневник военных и послевоенных лет: в них то же напряжение духовной жизни, та же страсть, та же целеустремлённость, только теперь точка притяжения мыслей иная. Не радиолокация, пропитавшая прежние страницы, а нечто другое, имеющее странное и мало кому знакомое тогда название — кибернетика.
В 20–30-е годы прошлого века радиотехника поразила воображение людей как удивительное средство связи на расстоянии. Во время Отечественной войны она послужила как первоклассное боевое оружие. В 50-х годах она даёт неожиданный выход в виде электронных вычислительных машин, продукта человеческого мозга столь дерзкого, что их стали возводить в ранг «искусственного мозга». Вокруг нового детища радиотехники закипели такие страсти, что волей-неволей электронно-вычислительные машины стали идеологическим оружием.
Газеты, журналы и книги всего мира запестрели всевозможными прогнозами о благах, которые несёт человеку «электронный мозг», и об опасностях, таящихся в его потенциальной мощи.
О кибернетике спорили учёные; чтобы не отстать от моды, художники придумали «кибернетическое» направление; служители церкви тоже не хотели плестись в хвосте и приняли участие в кибернетическом конгрессе в Бельгии; модницы, захлёбываясь от восторга, читали друг другу прогноз мод на 1987 год, составленный электронно-вычислительной машиной: подумать только, нас ждёт покрой пла тьев стиля ампир, дневные платья длиннее, чем вечерние…
Да и научные доклады иногда воспринимались как фантастические мечтания. Радиотехники говорили о хорошо известных вещах — электронике, автоматике, математике. Но потом вдруг оказывалось, что всё это имеет отношение к работе человеческого мозга. Биологи говорили о работе человеческого мозга, и это оказывалось связанным с законами, управляющими машинами. Аналогии между работой мозга и электронной машины то преувеличивались, то преуменьшались, но обсуждались, взвешивались и покоряли наиболее смелых.
Не удивительно, что кибернетика не вошла — ворвалась в эпоху. Но разобраться в её задачах, возможностях, трудностях было не так-то просто. Она требовала от науки высокого уровня. От учёных — широких знаний в разных областях: математике и биологии, физике и психологии, теории информации и семиотике. Такая энциклопедичность и сегодня редкое явление. XX век принудил учёных к узкой специализации. Давно слова «физик» или «химик» не определяют однозначно область, в которой работает исследователь. В наши дни легче найти человека с уникальной сферой деятельности и гораздо труднее — с широким кругозором. А кибернетика, потребовала именно таких эрудитов.
Когда перед Академией наук СССР встал вопрос о том, кто из учёных возглавит работы в области советской кибернетики, президиум Академии пришёл к единому мнению. В 1959 году во главе Совета по кибернетике был поставлен Аксель Иванович Берг.
Коллеги знали, что он только-только после тяжёлой болезни. И всё-таки настаивали.
Чтобы понять мотивы этого выбора, вернёмся на много лет назад.
…На рассвете 24 июня 1919 года «Пантера» вышла из Кронштадта в Копорский залив, где в густом тумане прятались корабли английских интервентов. Легендарной «Пантерой», одной из немногих советских подводных лодок, участвовавших в Гражданской войне на Балтийском море, и единственной, прошедшей сквозь обе мировые войны, командовал опытный моряк Бахтин. Штурманом на «Пантере» служил молодой подводник Аксель Берг.
Неисправность лага привела к серьёзным последствиям: подлодка прошла через наши минные заграждения. О грозной опасности, нависшей над судном, знали лишь командир и штурман. «Об этом мы не говорили со штурманом, — писал впоследствии в своих воспоминаниях Бахтин, — не желая возбуждать лишнего волнения в личном составе. Мы без слов понимали друг друга. Но этот час, пока мы не вышли на чистый фарватер, показался мне необыкновенно длинным…»
Утром в глубине Копорского залива были обнаружены две подводные лодки противника. Завязался морской бой. Преследуя, атакуя и укрываясь сразу от двух вражеских подлодок, «Пантера» действовала в беспримерно сложной обстановке. Минные заграждения, мели, банки, вражеские торпеды и противолодочные бомбы… И в этой круговерти опасностей — маленькая одинокая лодка. 15 часов длилось сражение. Тысячи мин сторожили лодку. И всё-таки мужество и мастерство советских моряков победили: «Пантера» благополучно вернулась в Кронштадт.
В совершившемся чуде был «повинен» и молодой штурман Берг, обладавший к тому времени уже немалым военным опытом.
С начала Мировой войны он плавал на линейном корабле, а с 1916 года был штурманом на одной из английских подводных лодок, входивших в состав русского Балтийского флота. Ведь Англия в Первую мировую войну была союзницей России. Английские моряки полюбили молодого русского офицера — они бок о бок сражались с общим врагом в тяжёлых условиях. Провоевали вместе и лето 1917 года. Но после Великой Октябрьской социалистической революции ситуация резко изменилась. Секретный приказ предписал британским морякам взорвать свои подводные лодки, находившиеся в Гельсингфорсе, только бы они не достались большевикам!
Зная пристрастие Берга к технике, англичане звали его в Англию учиться. Категорический отказ удивил их. Они не могли понять, что связывало с большевиками кадрового морского офицера, сына генерала, дворянина, почему их штурман предпочёл сражаться за власть рабочих и крестьян.
Прошло больше двадцати лет. Многое изменилось за это время в жизни Берга.
Стихли залпы революции. Берг, влюблённый в технику, своими руками монтировавший первые радиоприёмники, идёт учиться в Военно-морскую академию. К этому времени у него уже была обширная инженерная и радиотехническая подготовка. Подводные лодки снабжались самой сложной и современной техникой, и небольшие команды подлодок формировались так, чтобы каждый мог заменить товарища и у торпедных аппаратов, и у навигационных приборов, и перед пультом управления. Ведь подлодка — изолированный, оторванный от всего мира «островок», и её судьба почти полностью зависит от тренированности и квалификации команды.
Роль штурмана особенно ответственна. Днём подлодка всегда под водой, вдали от берегов, ориентиров никаких. Ночью она поднимается на поверхность, чтобы зарядить аккумуляторы. Издавна штурманы определяли местоположение кораблей по звёздам. Но измерить высоту звёзд или солнца при плохой видимости, да ещё при качке — трудная задача, требующая огромного опыта и умения. Берга этому учили ещё в Морском корпусе. Он страстно любил штурманское дело. И артистически владел астрономическими методами.
Но штурману недостаточно уметь определить положение звезды на небе. Он должен точно знать, в какой момент он делает свои измерения. Без этого он не может определить место корабля. Часы как бы связывают незримой нитью звезду и корабль. Чем лучше часы, тем точнее результат измерения.
В то время, когда Берг плавал штурманом на английской подлодке, англичане, французы и немцы начали передавать по радио сигналы точного времени для кораблей и подлодок. Сигналы передавались каждую ночь, и Берг, конечно, сразу понял, что в них спасение. Не имея, в сущности, никакого радиотехнического опыта и никакого специального оборудования, он натянул на корпусе подлодки изолированную рамочную антенну, добыл приёмник и приступил к первым опытам.
В надводном состоянии, когда работали дизели, лодку качало и антенну заливало водой. О приёме в подводном положении нечего было и думать, техника того времени исключала такую возможность. Дело осложнялось ещё тем, что работа с детекторным приёмником требовала немалой сноровки. Надо было нащупать на кристалле-детекторе «рабочую точку», и Берг обычно часами просиживал над капризным прибором, приноравливаясь к его причудам. Вскоре он применил радиолампы Папалекси и добился приёма радиоволн под водой. Это требовало особого искусства — антенна не должна была погружаться глубже, чем на два-три метра.
В полуночные часы на короткое время на лодке наступала мёртвая тишина. Затихали и машины, и люди:
Берг «ловил» Париж.
Так Берг стал радистом, а после окончания Военно-морской академии — одним из первых учёных-радиотехников.
Многие годы отдал он научной работе и воспитанию радиоспециалистов. Зайдите в любой учебный или научно-исследовательский институт этого профиля и спросите: «Есть ученики Берга?» Ручаюсь, вас тотчас окружит шумная, энергичная, разновозрастная толпа берговских учеников.
…1941 год. Военная гроза.
В начале войны гитлеровцы имели превосходство в воздухе. Чтобы победить врага, надо было его мощи противопоставить свою. Правда, советские учёные и инженеры уже давно создали вместо звукоулавливателей радиолокаторы, но довоенные установки катастрофически устарели. А фронт торопил: необходимы современные радары. Их нужно много, очень много.
Среди людей, которым партия поручает это дело, — Берг, профессор, доктор технических наук, видный специалист по радиоэлектронике.
Радиолокация — это не только формулы и уравнения, не только пухлые научные труды. Это реальные устройства и системы перехвата вражеских самолётов, вооружение для морского и воздушного флота. Кабинет учёного радиолокатору тесен. Радиолокатор рождается в современных научноисследовательских институтах, конструкторских бюро, заводах с совершенным и безупречным оборудованием. Как, где всё это организовать в условиях эвакуации, нехватки людей, станков, материалов?
И всё-таки совершенные советские радары были созданы, созданы в самый кратчайший срок. Нужно ли говорить, сколько трудов и усилий это потребовало? Шестнадцать — восемнадцать часов работы в сутки, бессонные ночи. Бергу понадобилось всё мужество моряка, опыт командира, знания учёного. Изнурительная и лишённая всякого намёка на романтику борьба за отечественную радиолокацию требовала предельного и непрерывного напряжения сил. Он жил в служебном кабинете, вдали от семьи, деля часы между лабораториями, заводами и неизбежными заседаниями. Порой казалось, не хватит сил.
«Мне страшно тяжело, — читаем мы в дневнике Берга, — я нервничаю, порчу себе кровь. Но чувствую в себе силы для продолжения порученного мне дела, хотя иногда мною овладевает отчаяние. Я беру себя в руки, стряхиваю уныние и апатию. Мы должны победить…»
Это был период наибольшего напряжения сил и способностей, высшего удовлетворения работой для Родины. Победа, завоёванная на фронтах и выкованная в лабораториях и на заводах, наконец, пришла. Но развитие радиоэлектроники и радиолокации не остановилось — напряжённый труд продолжался. Бергу присваивают воинское звание инженер-адмирала. Его избирают действительным членом Академии наук, назначают заместителем министра обороны СССР.
В те годы вместе с Бергом трудились учёные, имена которых сегодня широко известны. Они возглавили важнейшие работы по радиолокации. Однако нужны были не только руководители, но и инженеры, и техники. Аксель Иванович Берг обращает особое внимание на подготовку молодёжи.
Помню в 1947-м среди студентов нашего — Московского авиационного — института пронёсся слух, что на защиту дипломных проектов приедет Берг. Мы, студенты, конечно, были знакомы с научными трудами Акселя Ивановича, занимались по его учебникам, пользовались в курсовых работах созданными им методами расчёта. Для нас он был патриархом радиотехники. И когда в актовом зале в сопровождении «свиты» появился подтянутый адмирал, удивились не столько его молодости (хотя патриархи обычно представляются чем-то средним между мумией фараона Рамсеса II и портретом прадедушки), сколько причине его появления.
Дипломный проект защищал Женя Фиалко (прошу прощения, в будущем доктор наук, профессор). Работа была интересной: дипломник рассчитал радиолокационную станцию с очень большой дальностью действия. Для нас, студентов младших курсов, это было вершиной научной мысли. Но мы не ожидали, что дипломный проект сможет заинтересовать корифеев. И лишь впоследствии я услышала от Берга, что тогдашняя защита — создание новой радиолокационной станции — взволновала его куда больше, чем студентов.
В тот период было особенно важным вовремя поддержать смелую мысль, проложить ей путь из кабинета учёного к столу инженера, на завод. А Берг-штурман умел это делать как никто другой. К каждой задаче он относился, как к кораблю, который должен провести по опти мальному курсу.
И ещё десять лет позади…
Институт, министерство, радиосовет, заседания, научные конференции. Свеча горит с обеих сторон. Ни один организм не способен вынести такой нагрузки. Тогда-то и случилась катастрофа в железнодорожном вагоне — Берг потерял сознание. Врача поблизости не оказалось. Впоследствии выяснилось, что это был тяжелейший инфаркт. Но воля к жизни и железный организм победили.
Аксель Иванович боролся не только за свою жизнь. «На больничной койке, — вспоминал он, — я убедился в том, как плохо вооружены врачи против таких болезней, как инфаркт и другие сердечно-сосудистые заболевания. У врачей нет почти ничего, кроме тысячелетней трубочки-стетоскопа, громоздкого и ненадёжного электрокардиографа и аппарата для измерения кровяного давления, который состарился ещё в начале века».
Берг понял, что радиоэлектроника и он лично в долгу перед врачами и больными. Ещё в больнице и потом, в подмосковном санатории, он сводит между собой радистов и медиков, а вскоре и председательствует на конференции, где сотни инженеров, врачей и учёных обсуждали возможности применения радиоэлектроники в медицине и биологии. Энтузиазм Берга заразил и маститых учёных, и молодых инженеров. В борьбу за жизнь и здоровье людей включились новые силы.
Сейчас во многих клиниках и лабораториях работают кибернетические машины, помогающие врачам находить причины болезни, выбирать правильный путь лечения, управлять работой сердца, временно отключать больные почки…
Итак, мы произнесли слово «кибернетические». Да, Берг не только снова встал в строй: он увлёкся молодой наукой, загадочной незнакомкой, которую многие сначала приняли за авантюристку.
Вот как говорил об этом друг и сверстник Акселя Ивано вича академик Александр Львович Минц: «Признанный и прославленный учёный-радиотехник академик Берг изменил круг своих интересов. А это совсем не так просто после шестидесяти лет. Он возглавил в нашей стране молодую науку — кибернетику. Героизм этого перехода заключается не только в том, чтобы заново переучиваться в этом возрасте, но ещё больше в том, чтобы броситься в область, которая поначалу отдельными философами определялась как лженаука, как проявление буржуазного идеализма. Вот почему почитатели Берга именуют эту науку “ки-берг-нетикой”».
Да, академик, адмирал Берг опять в бою. И на сей раз он снова маневрирует среди «минных заграждений». Ибо каким иным словом можно назвать те препятствия, сквозь которые пробивался в 50-х годах прошлого века советский корабль «Кибернетика»!
На письменном столе Берга долгое время на видном месте лежала толстая папка. Когда-нибудь она будет занимать достойное место на стендах Музея науки, но не рядом с прялкой, каменным топором или сохой, а около кривого кинжала и отравленных стрел. Надпись на ней гласит: «Антикибернетика». В ней статьи невежественных и недальновидных авторов.
К счастью, антикибернетический период длился недолго. Уже в 1964 году американский журнал «Эр Форс» писал: «Большой упор Советского Союза на кибернетику представляет собой величайшую угрозу Западу», «Кибернетика привлекла внимание лучших умов в СССР».
Берг — в числе тех учёных, которые увидели в новом научном подходе закономерное движение мысли. А кроме того, в кибернетике, как в фокусе, скрестились все научные пристрастия Берга, возможность применить свои знания в решении более широких проблем.
Когда Берга спрашивали, почему он увлёкся кибернетикой, он советовал открыть Большую советскую энциклопедию и прочитать статью «Штурманская служба». В числе задач штурманского дела энциклопедия перечисляет: под готовка личного состава, приборов и оборудования, изучение района действия, подготовка расчётов, необходимых для принятия решений и составления штурманского плана, осуществление, путём комплексного применения всех методов, точной навигации.
Да ведь те же задачи ставит перед собой и кибернетика! Только в более широком аспекте, и не только перед моряками, но и перед штурманами, управляющими народным хозяйством.
Так как же мог Берг не увлечься кибернетикой — дочерью радиоэлектроники и сестрой штурманского дела? Даже само название «кибернетика» произошло от греческого слова «кормчий», а это синоним голландского «штурман».
Зная страстность натуры Берга и его бескомпромиссность, нетрудно представить себе, с какой энергией он ринулся в сражение за кибернетику. Десятки статей и докладов, разъясняющих её смысл, бурных, полемических, боевых; борьба за внедрение в промышленность электронно-вычислительных машин — технического арсенала новой науки; создание специальных научно-исследовательских учреждений — все средства были брошены Бергом на защиту кибернетики.
Совет по кибернетике, верховный кибернетический орган нашей страны, регулярно проводит конференции, семинары, совещания, на которых встречаются учёные и новаторы производства, теоретики и практики, люди разных профессий. Всех их захватил энтузиазм Берга. Математики работают вместе с хирургами, радисты помогают биологам, ихтиологи и орнитологи стремятся разгадать тайны ориентировки рыб и птиц. Цель работ — вскрыть те общие законы, которые действуют в природе и в любых сферах человеческой деятельности.
Берг был человеком очень современным. Ему пришёлся по душе тот темп, которым шагает наша жизнь. Он не желал ждать, пока кибернетика, по примеру своих бабушек, выпросит себе признание. Нет, и ещё раз нет! — говорил Берг. Ей нужно проложить дорогу в самые различные области техники, промышленности, всего народного хозяйства.
Аксель Иванович глубоко изучал проблемы, возникающие перед новой наукой, определял важнейшие направления, помогал преодолеть трудности, а зачастую и охлаждал слишком горячие головы, готовые провозгласить наступление «царства автоматов», предсказывающие возможность «бунта машин». Говорят, что даже создатель кибернетики Норберт Винер боялся такого будущего.
На заседаниях Академии наук СССР, на конференциях и встречах с писателями, журналистами, студентами академик Берг страстно убеждал:
«Мы будем строить коммунизм на базе самого широкого использования кибернетических машин. Связанные с производством, транспортом, энергетикой и сельским хозяйством электронные машины обеспечат наиболее совершенное планирование народного хозяйства, самое совершенное управление им, полную реализацию преимуществ социалистического общества».
Берг ни секунды не сомневался в грандиозных перспективах, которые открывает технике, промышленности, всему народному хозяйству наука, использующая общие законы управления в живом и неживом мире, в мозгу и электронной схеме, в организме и механизме.
«Заслуга Винера и его друзей очень велика, — говорил он. — Установив общность в закономерностях управления в живой природе, в человеческом обществе и в промышленном производстве, они открыли новую страницу в истории науки. Кибернетика начала новую жизнь. Сейчас это слово стало привычным и им широко пользуются, но ведь и задолго до появления такого термина человеку приходилось управлять сложными процессами в промышленности и действиями живых людей, организованных в большие коллективы. Это приходилось делать при недостаточности информации и негодными средствами. Поэтому и результаты во многих случаях получались неудовлетворительные.
Кибернетика — наука будущего, она смотрит вперёд, но рекомендует решения, основанные на изучении предшествующего опыта. А некоторые хозяйственники и администраторы до сих пор думают, что можно успешно строить коммунизм, производя все экономические расчёты на отсталой технике, на счётах врёмен Ивана Грозного.
Это грубейшее заблуждение. Его надо преодолевать всеми средствами! — Берг всегда страшно волновался, когда заходила об этом речь. — Вы говорите, что в Программе партии содержатся совершенно чёткие указания по этому вопросу и, следовательно, нет оснований для тревоги. Но Программу партии надо не только изучать и хвалить, но настойчиво и повседневно выполнять!»
Боец и учёный, он не боялся смотреть фактам в лицо и умел выбрать прямую дорогу к цели.
«Хотя русские расточают похвалы Норберту Винеру, у них есть свой родоначальник кибернетики — 70-летний Аксель Иванович Берг, адмирал и академик, которому в большой мере принадлежит заслуга в развитии советской радиолокации во время Второй мировой войны», — эту любопытную характеристику даёт Бергу тот же американский журнал «Эр форс» (1964 г.).
Вместе с кибернетикой в круг интересов Берга ворвались медицина и биология, педагогика и психология, геология и экономика… Я слышала такие мнения: Берг — универсал, Берг — разбрасывается. Ни то, ни другое. Трудно найти человека, столь неизменно остававшегося самим собой. Берг всегда и во всём был прежде всего штурманом.
…Юбилей, когда человеку шестьдесят или тем более семьдесят, всегда казался мне малорадостным актом. Как же была я поражена, попав на шумный, прямо-таки весёлый юбилей. Сколько было здесь шуток и смеха, сколько молодого задора!
Веселье достигло апогея, когда в конце заседания юбиляру вручили удивительный подарок. На трибуну поднял ся человек и поставил перед виновником торжества кибернетическую машину!
— Это машина-экзаменатор, — сказал он. — Студенты одного из вузов подготовили вариант, который требуется академику.
Машина давала ответы на вопросы: «Может ли машина стать академиком?» или «Может ли академик стать машиной?»
На последний вопрос ответы были такие: «Может, если он стал членом многих комиссий». Или: «Может, если работает, как автомат». Или: «Может, если будет высказывать чужие мнения». Машине не был чужд юмор.
Так чествовали в день семидесятилетия Акселя Ивановича Берга, человека жизнерадостного, деятельного, всегда бурлящего и искрящегося весельем и доброжелательностью. Поэтому и юбилей меньше всего напоминал торжественные, освящённые веками традиционные скучилища, грустное подведение итогов. Многолюдье Московского дома учёных напоминало встречу бывших студентов или однополчан. И не мудрено. Многие из собравшихся были связаны общей работой и общими интересами по три и четыре десятка лет.
Одних только писем Берг получил в день юбилея свыше полутора тысяч! И когда журналисты, окружив Акселя Ивановича, забросали его вопросами, он, окинув взглядом груду писем и, возможно, впервые в жизни растерявшись, сказал:
— Моя жизнь? Да вот она… Кто-то взял одно из писем наугад: «Нас разделяют тысячи километров, у меня в саду зреют апельсины, лимоны, распускаются чудесные розы, а у Вас, судя по сегодняшней газете, в Москве, где я родился… 12 градусов мороза и на крыше синеет снег. Вспоминаю Медовикова, Королькова, Карцева… Где они, все эти милые юноши?..
Вы, кроме моей матери, умершей в Севастополе, не пожелавшей эвакуироваться, Вы единственный человек, которому я пишу на нашу Родину после 35 лет. Огромное счастье в жизни оставить после себя что-либо действительно полезное для человечества.
Уважающий Вас
А.П. Павлов (выпуска 1911 г.)».
Болью, затаённой тоской веяло от этого письма. Мы с удивлением взглянули на Берга.
— Я отлично его помню. Оба мальчишками учились в Морском корпусе, вместе плавали на линейном корабле «Цесаревич», вместе в Первую мировую воевали с немцами. Я сменил его в 1916-м штурманом на английской подводной лодке «Е-8», входившей в состав русского Балтийского флота. А потом наши пути разошлись…
Павлов бежал из революционной России. Берг — дворянин, сын царского генерала — стал на службу революции.
— Приятная неожиданность: я получил письмо от бывшего младшего штурмана «Пантеры» Александра Ивановича Краснова. Ведь я думал, его, как и многих, нет в живых. Или вот…
«Приветствует и поздравляет Вас с семидесятилетием бывший комиссар штаба Петроградской морской базы и чрезвычайный комиссар по разоружению линкоров Плэттен Ян Янович. Смотрел на Ваше фото и сквозь него видел звёздные пути революции, по которым мы вместе шагали…»
Были среди писем весёлые, с шутливыми воспоминаниями, были грустные, деловые, длинные и совсем короткие, в несколько строчек телеграфного стиля. А за ними — долгая, бурная, наполненная до краёв жизнь.
— Восьмой десяток! В сущности, не так уж много, — резюмировал Берг.
Но год жизни человека, который в бытность свою на войне был тяжело отравлен газами, перенёс заражение крови после одной из травм, пережил несправедливый арест, тяжелейший инфаркт в результате неимоверной нагрузки, — год жизни такого человека, мне кажется, не совпадает с календарным. Он вмещает куда больше, чем 365 дней.
Всех, кто соприкасался в работе или личной жизни с Бергом, его пример учит многому, и прежде всего трудолюбию. И присвоение Акселю Ивановичу в день его семидесятилетия звания Героя Социалистического Труда — заслуженная награда за неустанный труд.
Знавшим его трудно поверить, что Берг мог сделать такую запись в своём дневнике: «Сегодня мне исполняется 50 лет. Начинается старость, шестой десяток. Старик на шестом десятке лет! Впереди постепенный упадок сил, болезни и старость. Но разве я действительно старик?..»
На восьмом десятке лет Берг снова ринулся в излюбленную стихию — стихию борьбы. На этот раз полем битвы стала одна из древнейших сфер человеческой деятельности — педагогика. Устоявшаяся, веками косневшая в неумении приспособиться к темпам жизни, главнейшая из наук — наука о воспитании человека.
XX век породил такой вихрь открытий во всех областях науки и техники, что небывалый прогресс знаний буквально захлёстывает людей. Наряду с гордостью за наш бурный век пришла растерянность. Мы уже не можем овладеть всё возрастающим потоком информации о новых и новых научных и технических достижениях. Иногда одна и та же работа повторяется дважды и трижды — легче открыть что-то заново, чем отыскать подобное в толще журналов и книг.
Распухают программы школ и университетов, увеличивается продолжительность обучения — их приходится вновь и вновь сокращать мерами, напоминающими хирургические операции.
Такой серьёзный физик, как Лео Сцилард, даже написал научно-фантастический рассказ о невероятной, трагической ситуации. Его герой заснул и проснулся через девяносто лет. Многое, конечно, поразило его в новом веке, но особенно забота людей о том, как остановить… прогресс науки — прогресс! — иначе он грозит «затопить» человечество.
Это ситуация из фантастического рассказа. А вот сегодняшний день: студент, окончивший вуз в наши дни, рис кует проснуться в одно прекрасное утро — лет эдак через пяток — и убедиться, что он, не перестав ещё считаться молодым специалистом, уже «устарел». Он ничего не смыслит в своей области! Объём научных работ, число печатных трудов за эти пять лет удвоились!
— Да, это особенность нашего времени, — говорил Берг. — Если наши деды и отцы могли пользоваться одними и теми же учебниками и знаний, приобретённых в молодости, им хватало на всю жизнь, мы и тем более наши дети должны учиться непрерывно до конца дней. Учиться совсем иначе, иными методами, в другом темпе. Назрела необходимость по-новому управлять процессом обучения, сделать его более экономным, быстрым, целенаправленным, словом — более эффективным.
Берг не сомневался, что эта задача по плечу кибернетике — с её опытом управления разнообразными технологическими процессами, с её умением использовать метод обратной связи. Придёт время, и новая область кибернетики — педагогическая кибернетика — сделает процесс обучения максимально плодотворным.
По инициативе Берга в нашей стране был создан Совет по программированному обучению. Главную роль в нём, конечно, играл Берг. И главную нагрузку в нём нёс тоже Берг. Потому что трудно на этом посту представить себе иного человека, чем он, человека, обладающего нужными для этого дела эрудицией, энергией, страстностью, опытом. Как в те дни, когда Берг был пионером вооружения советского флота, как во времена создания радиолокации, как в годы рождения кибернетики, перед ним был всё тот же враг — неверие, рутина, эгоизм, непонимание.
«В нашей стране вопрос преобразования системы обучения особенно актуален, — говорил Берг на первом заседании Совета по программированному обучению. — Ведь у нас учится не менее четверти всего населения. Вдумайтесь в это — каждый четвёртый человек сидит за партой, в аудитории или овладевает наукой дома, после работы.
Это значит, что значительная часть творческих сил народа расходуется не на сам производительный труд, а лишь на подготовку к нему. Нам особенно важно, чтобы эта часть народных сил тратилась наиболее разумно, эффективно и экономно. И наши учёные должны уделить особое внимание возможностям, открываемым идеей программированного обучения…»
Настала эра революции в педагогике. Раз наука развивается такими темпами, что прежние методы обучения не поспевают за эволюцией знаний, раз мало изменить учебники и увеличить количество школ и высших учебных заведений, надо использовать завоевания прогресса, дары НТР. Среди них есть замечательный подарок педагогике: ЭВМ. Надо лишь научиться конструировать специальные обучающие машины — их всеобъемлющая память, умение быстро анализировать ситуацию помогут обеспечить высококачественное обучение в самом далёком селе и ауле. Конечно, программу действий таких машин должны составлять опытные педагоги, и даже не одни, а в содружестве с психологами, физиологами, математиками и другими специалистами в области кибернетики и конструирования. Эта задача — почти совершенно белое пятно на карте научных завоеваний современности. Чтобы управлять процессом обучения, процессом человеческого мышления, надо иметь ключ к тайнам мозга. А наши знания тут ничтожны. Мы до обидного мало знаем самих себя. Мы не представляем, каким образом расцветают в нашем мозгу образы и ассоциации, почему одни из нас пишут стихи, а другие прозу, как зреют минуты вдохновения, почему иногда наш мозг изнемогает в поисках решения и вдруг оно является легко, непринуждённо? Как интересно и важно было бы узнать, почему именно Бетховен написал «Лунную сонату», почему так трепетны стихи Тютчева, почему люди плачут над новеллами Пиранделло или музыкой Шопена… Почему именно Эйнштейн создал теорию относительности и только Максвелл понял, что мир пропитан электромагнитной энергией; почему Сеченов и Павлов узнали хоть что-то из тайн человеческой психики; как Басов, Прохоров и Таунс додумались до идеи лазеров и мазеров и почему «несчастливую» тринадцатую задачу Гильберта не мог решить в течение полувека ни один математик, а решил Володя Арнольд, студент МГУ? А ведь зная ответы на эти вопросы, можно было бы формировать мышление, целеустремлённо обучать людей.
Как мозг проходит дистанцию от незнания к знанию, от открытия к открытию, как он использует полученный опыт?
На этот вопрос вам не ответит пока и самый мудрый человек на свете. И дело не в том, что у одних людей «извилин» больше, чем у других. Возможности у нас неисчерпаемы.
Даже если человека ничему не учить, у него всё равно накопится жизненный опыт, его мозг всё равно научится думать. Кататься на коньках и лыжах можно научиться самостоятельно, без всяких правил. Но можно обучиться и по правилам. Движения станут экономнее, дыхание правильнее, ту же дистанцию спортсмен пройдёт быстрее. А как научить человека думать более экономно, более целенаправленно, более эффективно, так, чтобы дистанцию от открытия к открытию он проходил скорее и чтобы озарения стали уделом не только счастливых одиночек?
Учёные всего мира трудятся над теорией мышления. Их созданы уже десятки. И у нас в стране есть несколько школ, но ни одна ещё не предложила убедительного решения. Пока нет ни одной исчерпывающей теории (об одной любопытнейшей, созданной японскими учёными я расскажу в этой книге). Впереди — работа, работа, работа.
Цель Берга-штурмана: направить работы в одно русло, воспитать квалифицированные кадры, создать научно-исследовательские центры, перевести всю деятельность на более высокий научный уровень с твёрдым теоретическим фундаментом…
Берг снова учится: читает массу книг по педагогике и психологии на многих языках, беседует с учёными, сталкивает их мнения, стараясь объединить усилия в единое мощное ядро. А объединить нужно то, что никогда ещё не объединялось: радиоэлектронику и психологию, педагогику и кибернетику. Потому что будущее программированного обучения — это обучающие кибернетические машины. Психологи должны составить программу умственных действий человека и перевести её на язык, доступный пониманию машины. А радиоинженеры — сконструировать электронные машины, которые обладали бы обширной памятью, вмещающей все знания, накопленные человечеством, и достаточно быстро действовали, не тормозя процесс обучения: машины дешёвые, экономичные, небольшие — в общем, удобные в пользовании.
— В области программированного обучения у нас долго царила странная ситуация, — с волнением рассказывал мне Берг. — Представьте себе, что каждый для себя строит космическую ракету. Строят ракету геологи, возжелавшие изучить минеральные богатства лунных недр; астрономы, увлечённые тайной атмосферы Венеры; физики, решившие обследовать источники космических лучей, и многие другие. Если бы так было на самом деле, геолог или астроном должен был бы быть одновременно и Главным теоретиком, и Главным конструктором, и химиком, и металлургом. Как это ни смешно, но именно так и происходило в области программированного обучения. Каждый педагог-энтузиаст сам составлял программу обучения, упрашивал кого-то из инженеров помочь ему сделать какую-нибудь обучающую машинку и мучился, приспосабливая к ней составленную им программу. Такой стихийный энтузиазм при всех добрых намерениях только дискредитировал проблему.
И работы в области программированного обучения какое-то время находились, по выражению Берга, в стадии неродившегося ребёнка. Многим казалось, что это лишь мо да, временное увлечение, из которого ничего не выйдет.
Теперь в этой области назревают огромные перемены. Вблизи это, может быть, не всем видно, но наши потомки скажут: революция в образовании началась в 60-х годах XX века. И с благодарностью назовут имя Берга, одного из её инициаторов и вдохновителей.
10 ноября 1978 года Акселю Ивановичу исполнилось 85 лет. Этот день, как, впрочем, почти все дни его жизни с ранней молодости, начался в пять часов утра. В шесть он был уже за рабочим столом. Он всегда считал, что три утренних часа стоят пяти дневных: голова свежа, телефон молчит, не все заботы проснулись…
В последние годы заботы стали хитрее, назойливее — они не засыпали, коротали с ним бессонницу, сторожили пробуждение после короткого сна. Сил у Акселя Ивановича убавлялось. Несколько тяжких операций, одна за другой, сердечные приступы после особенно напряжённых заседаний. Но когда даже после них он появлялся к завтраку свежевыбритым, в блистательном адмиральском мундире или элегантно-строгом штатском костюме, домашние облегчённо вздыхали: им казалось, что недавний приступ случайность, всё плохое позади. А лечащий врач, поражённый чудом человеческого упорства, говорил: Берг держится только на мужестве.
Юбилей 85-летия прошёл у Акселя Ивановича в напряжённой работе. Время ставило перед Советом по кибернетике всё более сложные задачи. Кибернетика вошла во все поры нашей сегодняшней жизни, промышленности, хозяйства, техники, науки. Нет такой сферы человеческой деятельности, где кибернетика со своей способностью находить наиболее эффективные пути движения вперёд, не совершала бы радикальных перемен. Эти перемены надлежит направить, запрограммировать, осуществить.
Стратегия и тактика победного шествия кибернетики разрабатывается в Совете по кибернетике. Все нити сходи лись в кабинете Берга…
Он всё отчётливее понимал, что совет должен быть реорганизован, укреплён для решения всё более объёмных и ответственных задач. Борьба за кибернетику — позади, впереди — борьба за прогресс с помощью кибернетики. Нужно быть опытнейшим штурманом, закалённым в боях командиром, чтобы наилучшим, наиэффективнейшим образом распорядиться той огромной армией учёных, инженеров, конструкторов и рабочих, огромным арсеналом технических средств, которые сегодня даёт наша страна в распоряжение науки управления.
И снова, как в пору боевой юности, свет в кабинете Берга не гас до утра. Он обдумывал, как повести эту армию к победе самым кратчайшим, самым скорым путём.
В напряжённых трудах прошли зима и весна. Стояли длинные июньские дни. Берг обдумывал реорганизацию совета.
Особое внимание Берг уделял работе математической секции совета. Её он считал мозговым центром кибернетической империи. Её реорганизовать требовалось в первую очередь. На заседание секции Аксель Иванович принёс два портфеля материалов, которые подбирал и готовил в течение последнего полугодия. Он забыл, что тяжело болен. Он помнил, что несёт очередную вахту и пока некому его сменить.
На этом заседании Берг произнёс полуторачасовую страстную речь. Ею он исчерпал отмеренные ему судьбой силы. Вечером того же дня машина «скорой помощи» отвезла его в больницу. Две недели шла борьба за жизнь. Когда возвращалось сознание, он вновь волновался заботами сегодняшнего дня, пытался чертить какие-то схемы, выводить формулы, спорить с оппонентами…
9 июля 1979 года он чувствовал себя лучше. Спокойно попрощался с женой. Сказал, что устал и хочет спать. Было девять часов вечера.
С больным осталась дежурная сестра. Она вслушивалась в его спокойное дыхание, следила за зубцами, возни кавшими на ленте электрокардиографа.
Внезапно зубцы исчезли, их сменила прямая линия. Попытки восстановить деятельность сердца не увенчались успехом. На этот раз чуда не произошло.
Рядом с уснувшим навсегда Бергом лежала небольшая красная книжка, последний из его дневников, которые он вёл с детства. На открытой странице — планы, которым не суждено сбыться.
…Эта книга — последняя из моих рукописей, которую Аксель Иванович Берг пристрастно, тщательно прочитал. Последняя, которую напутствовал в жизнь. Последняя, к которой написал послесловие. Я ничего не изменила в книге, только добавила этот очерк.
РАЗВЕДЧИЦА КОСМОСА
Когда я узнаю о запуске нового советского искусственного спутника Земли или космической ракеты, я вспоминаю Лидию Васильевну Курносову. Может быть, и этот посланец Земли несёт к звёздам пытливую мысль женщины, дерзнувшей задать вопросы космосу? Может быть, там, в мировом пространстве, снова забилось сердце прибора, послушного её воле?
И когда я думаю о ней, такой знакомой, живущей где-то рядом, в одном со мной городе, то таинственные космические эксперименты, всё это непостижимое и грандиозное, что совершается руками людей в бездне мирового пространства и кажется легендой, делается сразу ближе и понятнее, становится явью.
…Лидочка в детстве тенью бродила за братом. Ещё бы, он — старший брат, да вдобавок художник. Подражая ему, Лида везде и всех рисовала. Её завораживали своим сочетанием жёлтая и чёрная сангина. Ей нравилось, когда товарищи, днюющие и ночующие в их гостеприимном доме, с восхищением говорили: Лида непременно будет художником. Весёлые пионерские сборы, экскурсии, праздники не обходились без смешных плакатов, выполненных под руководством и при непременном участии председателя отряда Лиды Курносовой. Особенно памятен её сверстникам антирелигиозный транспарант «Пасхальный звон для старух и ворон», наделавший своим боевым задором и едким юмором много шума.
При бурной общественной деятельности учиться было некогда, и до четвёртого класса Лида отнюдь не блистала познаниями даже в объёме начальной школы.
А тут ещё в школе возник чуть ли не настоящий музыкально-драматический театр, руководить которым взялся известный композитор И. О. Дунаевский. Труппа делала такие успехи, что её приглашали на гастроли в другие города: в Ленинград, Петрозаводск, и она поражала своими дарованиями. Самым ярким из них была маленькая, тонюсенькая девочка с огненными чёрными глазищами, лихо отплясывающая кабардинку и другие национальные танцы. Ценители балетного искусства с важным видом судили о незаурядном темпераменте и технике юной танцовщицы, а Дунаевский довольно поддакивал и говорил: Лидочку мы готовим в Большой театр.
Но однажды на каком-то сверхважном выступлении не досчитались «примы-балерины». Обыскав все школьные закоулки, её нашли в… тире. В измазанной и помятой пачке, со «зверским» выражением лица, она стреляла из винтовки.
Всё чаще вместо сцены её видели на беговой дорожке, где она в рекордное время пробегала стометровку; на стадионе, где весьма неграциозно для будущей претендентки на место Улановой прыгала через планку, ставя школьные рекорды по прыжкам. Увлекшись спортивным комплексом «Готов к труду и обороне», девочка со столь «ветреным» характером стала безбожно закалять себя.
В старших классах пришёл интерес к точным наукам, и особенно к математике. Педагог Софья Ивановна Скобаланосич так увлекательно вела свой предмет, что для ребят стало делом чести соревноваться в преодолении математических высот.
Особую симпатию Софья Ивановна испытывала к Курносовой. Вызывая её к доске для решения наиболее трудных задач, она любовалась вдохновением и острой смекалкой своей ученицы, которая проявляла недюжинные математические способности.
Последние школьные годы, прошедшие под знаком математики, решили судьбу девочки.
— Лидочка, — говорила мама, — ну почему мехмат? Ведь есть в университете и другие специальности… география… литература…
Изучая абстрактные математические науки, студентка механико-математического факультета МГУ, кажется, и сама начала понимать, что немного ошиблась. Математика влекла её по-прежнему, но за формулами хотелось видеть жизнь, биение пульса современной науки. А пульс этот в 30-х годах бился горячо, учащённо. Наука набирала силы, готовясь к прорыву в самых важных направлениях. О современных загадках физики, о тайнах строения вещества, о далёких, тогда нехоженых космических путях вдохновенно рассказывал её большой друг Олег Вавилов. Этим была напоена атмосфера Московского университета. Этим дышала вся семья президента Академии наук СССР, в которую вскоре вошла Лидочка.
Под влиянием близких людей, всю жизнь отдавших физике, окончательно оформились вкусы, получили должное направление способности и окреп характер Лиды. Она стала физиком.
— Конечно, — говорил академик Сергей Иванович Вавилов, пряча лукавинку умных глаз, — хоть женщине и сподручнее заняться какой-нибудь редкой специальностью, ну, например, изучением японского языка, но ты сдюжишь…
Трагическая смерть Олега Николаевича Вавилова, мужа Лидии Васильевны, круто изменила её жизнь. Она была уже настолько сложившимся физиком, что никого не удивило решение академика Векслера, тогда заведующего Лабораторией космических лучей Физического института имени Лебедева — он пригласил Лидию Васильевну занять в его лаборатории место мужа.
Большой заботой и теплотой окружил коллектив новую сотрудницу. В течение трёх лет, не зная ни отдыха, ни покоя, она совершенствовалась в новой области. Под руководством Векслера и Черенкова, ныне лауреата Нобелевской премии, изучала взаимодействие космических частиц с атомами вещества. Только в качестве «снарядов» огромной силы, взрывающих атомы вещества Лидия Васильевна стала использовать не настоящие космические лучи, а искусственные, получаемые на первом советском синхротроне. Так было удобнее изучать строение атомов, разбиваемых на осколки частицами большой энергии. В 1954 году Курносова защитила диссертацию и получила звание кандидата физико-математических наук.
…Каждый километр трудной памирской дороги поднимал путников выше и выше, всё ближе к истокам загадочных ливней космических частиц, на ловлю которых направились московские физики.
В кузове машины — несколько по-зимнему закутанных людей. Между мешками, уткнувшись подбородком в сжатый кулак, неподвижно сидит молодая женщина. Уже много часов она не отрывает глаз от однообразной дороги. Здесь каждый поворот ей знаком, каждая примета будит воспоминания.
Когда это было? Совсем, совсем недавно. По той же дороге они ехали вместе. Это была их первая научная экспедиция. Да и вообще одно из первых длинных путешествий. Впереди были те самые тайны, о которых спорили до хрипоты в университетских аудиториях и коридорах, на лекциях и вечеринках.
Да и как было не спорить? Учёные всё глубже проникали в сердце атома. Всё очевиднее становилось, что в его ядре таится целый мир, ждущий своих исследователей. Догадку за догадкой вызывали какие-то странные радиосигна лы из космоса. Строились гипотезы относительно невидимых частиц, залетающих на Землю из Вселенной.
Да разве только они одни — Лида Курносова и Олег Вавилов — мечтали об изучении частиц, летящих на Землю из глубин Вселенной? Сколько их было — молодых, влюблённых в физику, ставших теперь кандидатами, докторами наук!
— Надо как можно скорее установить, откуда и почему льётся на Землю дождь космических частиц, — горячился Олег. — Надо выяснить, что представляют собой эти частицы. Тогда мы, наконец, узнаем, из чего состоят далёкие миры!
После окончания университета Олег посвятил себя изучению космических частиц. Лида, ставшая его женой, с увлечением помогала ему. Правда, она работала в другой области физики и даже в другом институте. Но зато с какой охотой во время отпуска становилась его добровольным и добросовестным помощником. Тогда и состоялся их первый поход к заснеженным вершинам Памира, где особенно удобно наблюдать «звёздный дождь». В те годы ещё не было турбореактивных лайнеров. Ехали на поезде в Ош, затем на грузовике по горным трактам. Дорога становилась всё более тряской, воздуха не хватало, трудно было дышать…
— Вылезай, прие-е-хали! Что это? Она, кажется, задремала… Друзья суетились, разминали затёкшие ноги, примери вались к тяжёлым тюкам.
Для многих это путешествие в одну из красивейших горных стран мира было веселее и интереснее любых туристских походов. Но для Лиды это была страшная дорога. Рубеж, за которым осталась бездумно уверенная в себе юность. И, пожалуй, именно в этой дороге Лида поняла своё настоящее призвание. Поняла, что поступила правильно, решив заменить в строю учёных погибшего мужа. Погибшего от несчастного случая в горах, которые он до самозабвения любил…
Приехали…
Вглядываясь в памирское небо, физики думали не о красоте звёзд, а лишь о полчищах невидимых частиц, ливнем падающих на Землю. Только они во всём мире и интересовали учёных.
В своём отношении к крошечным посланцам космоса физики разделились как бы на два лагеря. Одни из них рассматривали космические частицы как своеобразные снаряды, которые, врываясь в земную атмосферу, разбивают атомы воздуха на мельчайшие осколки. Эти-то крупицы материи и были предметом их пристального внимания. Ведь на Земле даже в наши дни ещё нет ускорителей, способных дать частицы такие же быстрые и энергичные, как космические. Поэтому-то учёным, исследующим строение атомов вещества, приходится прибегать к помощи космических частиц.
Другую группу физиков, и к ним принадлежит Лидия Васильевна Курносова, интересует не только то, что можно выяснить с помощью космических частиц, а сами эти частицы. Каков их химический состав, каковы пути в космосе, каким образом они приобретают не виданную на Земле скорость и энергию? Какую опасность представляют для будущих космонавтов?
Чтобы ответить на эти вопросы, учёные и отправились в долгое и трудное путешествие на Памир, поближе к исследуемым частицам.
Выгрузили ящики с приборами, инструментами, тюфяки с осторожно завёрнутыми в них хрупкими счётчиками космических частиц. Наскоро смонтировали наиболее простые установки.
Курносова начала готовить к работе и свой прибор. Но что это? Прибор был мёртв… Контрольный глазок даже не засветился.
Неизвестно, что повлияло — дальняя и трудная дорога или разреженный горный воздух, но прибор, прекрасно работавший в Москве, вышел из повиновения! Отчаянию не было предела.
— Ну что страшного? — успокаивали товарищи. — На такой высоте даже сердце работает с перебоями. Прибор надо наладить.
Легко сказать — наладить! Прибор сложен и громоздок. Чтобы проверить внутренние узлы, пришлось вынимать из него и снова вставлять десятки толстых свинцовых плит. И так бесчисленное количество раз. Одно это — дело нелёгкое. Кто бывал высоко в горах, знает, как тяжело даётся там каждое даже небольшое усилие. Но именно в таких случаях успех дела решают не только знания, но и… характер. Ведь в те годы на Памире ещё не было мастерских, квалифицированных механиков, точных контрольных приборов. Это всё пришло позже. А пока надо было обходиться простейшими средствами, делать всё своими руками.
Курносова часами не отходила от прибора. Руки замерзали так, что трудно было убрать мешавшую прядь волос. Лёгкие задыхались от недостатка кислорода. И всётаки надо было работать.
Лида победила, сломила упорство бездушных механизмов. И вовремя приступила к исследованиям. Эту первую самостоятельную работу на Памире Лидия Васильевна Курносова и считает началом своей жизни физика-космика.
Шли годы напряжённой работы. Летом — на Памире, зимой — в московских лабораториях за обработкой добытых материалов. Здесь было немногим легче, чем в горах. По десяти, двенадцати часов занимается исследованиями молодой физик Курносова. Под руководством замечательных учёных — академиков Скобельцына и Векслера она совершенствуется в труднейшей области физики.
Постепенно учёные стали поднимать приборы выше гор: на самолётах, воздушных шарах. И вот настал день, когда Лидия Васильевна и её товарищи ясно поняли, что изучать космические лучи в горах и в верхних слоях атмосферы — это полдела; ответ на многие нерешённые вопросы могут дать лишь приборы, находящиеся высоко над Землёй — там они встретят космические частицы, ещё не смешанные с атмосферой.
Лидия Васильевна решила создать приборы, изучающие космические лучи прямо в космосе. Заметьте, это было в 1954 году, в «докосмическую эру», когда многие и не помышляли о том, что люди так скоро преодолеют земное тяготение.
Приблизительно в это время мне и посчастливилось познакомиться с Лидией Васильевной. Встретила я её в одном из крупнейших научно-исследовательских институтов нашей страны — Физическом институте Академия наук СССР имени Лебедева. Здесь она начинала свою работу в юности, здесь, как мы уже знаем, по приглашению академика Векслера продолжила в Лаборатории космических лучей научную тему мужа.
Мне запомнилась небольшая комната, очень похожая на мастерскую, где чинят радиоприёмники и телевизоры. На столах и даже на полу стояли всевозможные, наполовину разобранные или не до конца смонтированные приборы.
За одним из столов примостилась темноволосая женщина. У неё было такое выражение лица, словно она разгадывала кроссворд. Ещё одна-две буквы, последнее недостающее звено, и слово, наконец, будет найдено!
Лидия Васильевна и вправду решала кроссворд, один из тех, которые загадывает человеку природа.
Мы познакомились. Лидия Васильевна протянула мне листок бумаги. Случайно он сохранился у меня. Чуть помятый, но ещё не успевший пожелтеть от времени, он сейчас перед моими глазами. На листе нарисован кружок. Наш земной шар. А вокруг — точки, точки, точки. Словно снег, который пошёл сразу и на севере, и на юге, и даже в тропиках. Рядом — снова шар и ещё кружок, побольше. «Это — Солнце», — с улыбкой сказала тогда Лидия Васильевна. С одной стороны оно вспучилось, и к Земле потянулось несколько зловещих щупалец. Весь листок сверху до низу исписан формулами, уравнениями, цифрами.
Предупреждая мой вопрос, Лидия Васильевна сказала:
— У каждого учёного есть своя заветная мечта. У меня — создать такие приборы, которые работали бы в совершенно необычных условиях. Не на Земле, а в космосе. Приборы, которые могли бы увидеть и рассказать о том, что пока нам, людям, недоступно. Ну хотя бы о том, почему «плюётся» Солнце… Слышали об этом? Загадочное и до сих пор до конца не понятое явление.
Иногда над Землёй вдруг проносятся удивительные магнитные шквалы, — рассказывала Лидия Васильевна. — Они охватывают весь земной шар, нарушают радиосвязь, сбивают с курса корабли и самолёты. Причина их возникновения долго ускользала от внимания учёных. Но вот, наблюдая Солнце в специальный прибор, астрономы заметили странное явление, которое, как оказалось, было тесно связано с загадочными магнитными бурями. Приблизительно за восемь минут до возникновения бури Солнце вспучивается и со страшной силой «выплёвывает» сгусток частиц. Это их я изобразила на рисунке в виде щупалец, протянутых от Солнца к Земле. С колоссальной скоростью эти частицы несутся к нашей планете, вызывая магнитные бури, сполохи северных сияний, наполняя наши радиоприёмники свистами и шорохами, заставляя ошибаться навигационные приборы.
Какие они, эти частицы? Определить это, оставаясь на Земле, невозможно. Частицы застревают в паутине магнитных полей нашей планеты и до земли не долетают. Тут нас могут выручить только приборы, вынесенные за пределы земной атмосферы. Они же помогут совершить и глубокую разведку космоса.
Создать такие приборы нелёгкая задача, — продолжала Лидия Васильевна. — Но путь уже известен. Сергей Николаевич Вернов и его сотрудники успешно преодолели основные трудности. Они разработали принцип устройства лёгких автоматических приборов и систему, передающую их показания на Землю.
Да, это единственный правильный путь, — задумчиво добавила она. — Лёгкие надёжные автоматы и надёжная телеметрия. Приборы должны проложить путь человеку.
Такой она запомнилась мне — вдохновенный учёный, размышляющий над глобальными проблемами Вселенной; труженик, неутомимо копающийся в сплетениях проводов, радиоламп, миниатюрных разноцветных деталей, наполняющих таинственные приборы.
Я ушла подавленная тем, что в области физики космических частиц даже перед учёными ещё так много неясного. Тогда я ничего не написала об этой встрече.
Прошло несколько лет. Человечество вступило в космическую эру. Сперва в космос были посланы приборы, потом животные. И, наконец, советский человек первым вышел в космические просторы.
Мы снова встретились с Лидией Васильевной.
И для неё эти годы не прошли незаметно. У неё сложилась новая семья. Муж, тоже физик, работает в той же лаборатории, рядом с ней. У них растёт сын.
На счету у Лидии Васильевны большая общественная работа в качестве секретаря партийной организации института, многие экспедиции на Памир. Запуск в стратосферу шаров-зондов и шаров-автоматов для изучения состава космических лучей подготовили Лидию Васильевну к ответственному и зрелому этапу жизни. Она стала одним из организаторов и участников изучения космоса при помощи искусственных спутников Земли.
Дни и ночи проходили в напряжённых, бесчисленных проверках идей, схем, расчётов. Малейшая небрежность, допущенная в сложнейшем приборе, собранном с точностью часового механизма, может привести к неточным результатам опыта. Вместе с этим погибнут тысячи часов напряжённого труда рабочих, инженеров, учёных, бессмысленно уйдут колоссальные средства.
Лидия Васильевна бурно переживала каждую неуда чу. Вплоть до седых волос — говорит она. Но внимание и поддержка всей страны, удовлетворение полученными результатами сделали её жизнь и работу такими насыщенными и радостными, что она не поменяла бы их ни на какие другие.
— Теперь приборы, о которых мы говорили в прошлый раз, созданы, — с гордостью сообщила она.
Побывав в космосе, они внесли в науку чрезвычайно ценные сведения, о которых знает сегодня весь мир. Уже существенно уточнён состав космических частиц. Учёные убедились в том, что они представляют собой в основном ядра атомов водорода. В космических лучах их оказалось абсолютное большинство — девяносто процентов. Девять процентов — это ядра атомов гелия. Оставшийся процент составляют ядра атомов более тяжёлых элементов: углерода, кислорода, азота, железа.
Так, благодаря приборам, летающим на советских космических ракетах и спутниках, физики убедились, что в составе космических лучей встречаются ядра атомов тех же элементов, которые имеются и на Земле, и на Солнце, и в звёздах.
Теперь мы представляем себе, из чего состоят далёкие миры, чем «плюются» Солнце и звёзды, каковы законы движения космических странниц, таких невинных на первый взгляд, но чрезвычайно коварных. И зная, как распределены в космосе эти невидимые, но опасные частицы, конструкторы звёздных кораблей так рассчитывают траектории полёта ракет, чтобы избавить космонавтов от вредного облучения.
Исследования космических лучей с помощью приборов, установленных на советских искусственных спутниках и ракетах, стали популярны во всём мире. Популярным стало и имя Лидии Васильевны Курносовой.
…Мадрид. Лидию Васильевну Курносову, советского делегата, бурно приветствует Всемирный конгресс астронавтов. Тут ей вручают «паспорт-билет» на Луну — эту иг рушку для взрослых, которую придумали учредители съезда, предвосхищая события.
…Париж. Французы организуют конференцию в память своей соотечественницы Ирэн Кюри, заглянувшей в глубь материи. Они бурно рукоплещут делегату Страны Советов Курносовой, отдавая дань уважения советской женщине-физику.
…Брюссель. Люди, съехавшиеся на Всемирную выставку, с напряжённым вниманием слушают объяснения Лидии Васильевны об устройстве советских искусственных спутников Земли.
Каждый новый спутник, каждая новая космическая ракета наряду с другими сведениями сообщают и новые данные о космических частицах. Так были открыты Верновым и Чудаковым в СССР и Ван Алленом в США внутренние пояса радиации, опоясывающие Землю. Советский учёный Грингауз открыл ещё один — внешний — пояс радиации и доказал, что концентрация частиц во внутреннем поясе в тысячу раз меньше, чем думали раньше. Учёные успешно создают географическую карту мира космических частиц.
И, когда передаются новые сообщения о достижениях учёных в исследовании космических частиц, я всегда вспоминаю Лидию Васильевну Курносову, её обаятельное лицо, седые пряди в чёрных волосах.
Чтобы творить современную науку, надо общаться, спорить, критиковать друг друга, помогать друг другу…
ГЛАВА 5
ТРИ ЗВЕЗДЫ ЛАЙОША ЯНОШИ
Перед поездкой в Венгрию друзья предупреждали меня: не увлекайся кофе! Венгерский кофе так крепок, что после маленькой чашечки хочется рубиться на саблях.
Увы, даже две чашки в привокзальном буфете Будапешта не повысили моё настроение.
Спутники по вагону разошлись, а я ещё долго стояла на гудящем от ветра и неприютном в вечерних сумерках перроне в чужом городе, в чужой стране — и никто не спешил мне навстречу.
Где-то что-то не сработало. И тот, кому было поручено меня встретить, не пришёл.
Оставался выход, который я считала запасным.
За какой-нибудь час до отъезда из Москвы знакомый дал мне телефон будапештского друга:
— Позвоните, если будет время… Петер Варга отлично знает венгерское искусство, любит картины. Милый, тёплый человек. Кстати, он неплохо говорит по-русски.
Случайный разговор… Однако теперь Варга — единственная моя опора в чужом городе, единственный человек, который может мне сейчас помочь!
Петер Варга оказался не только милым человеком. Крупный физик, сотрудник головного института физики Венгерской академии наук, он помог мне осуществить цель моей командировки, познакомил с венгерской наукой, венгерскими учёными. И прежде всего со своим учителем, замечательным учёным, академиком Яноши.
Окажись журналист, интересующийся наукой, в Англии, он будет мечтать о встрече с Полем Дираком. Во Франции — с Луи де Бройлем. В Японии — с Хидэки Юкавой. В каждой стране есть свой кумир.
В Венгрии это Лайош Яноши.
Разумеется, это не означает, что другие учёные хуже.
В Венгрии много талантливых учёных. И Яноши выделяется не тем, что он самый главный, и не тем, что ученикам случалось видеть его в двух галстуках и непарных ботинках. Это бывало со многими… но не каждый мог создать собственную трактовку теории относительности и внести заметный и совершенно оригинальный вклад в каждую из проблем, которой ему пришлось заниматься.
Яноши родился в 1912 году. Его детство совпало с Первой мировой войной. Военная сумятица, победоносные речи, культ военщины… Кто знает, как сложилась бы его судьба, родись он в семье военного. Но Лайош родился в семье учёного, а учёные в то время были оглушены событиями, происходящими не по вине враждующих армий. Если бомбы и снаряды сметали с лица Земли жилища и заводы, деревни и города, то статьи в научных журналах рушили мир, созданный наукой, трудами и воображением исследователей, мир, на протяжении веков считавшийся устойчивым и непоколебимым. Под грохот Первой миро вой войны неслышно и незаметно для миллионов людей рушился ньютонов мир! И повинен в этом был единственный человек, робкий, застенчивый, ещё очень молодой Альберт Эйнштейн.
Первым залпом по мирозданию, которое век за веком, кирпич за кирпичом возводили поколения физиков, была небольшая статья в научном журнале, в которой, сам того не ведая, Эйнштейн ввёл в физику одно из главных понятий диалектического материализма об относительности таких основных свойств природы, как пространство, время, масса и энергия. Как могло это не стать сенсацией, если именно на представлении об их абсолютности покоилась вся наука от древнейших врёмен до опубликования Эйнштейном специальной теории относительности в 1905 году и общей — в 1916-м.
Учёные задыхались от неожиданности и изумления — физика перевернулась с головы на ноги!
Яноши рос не просто в семье учёного, но в семье астронома, а на плечи астрономов легла ещё боґ льшая, чем на плечи физиков, ответственность за содеянное Эйнштейном. Ведь Эйнштейн в результате многолетних усилий построил, а в 1917 году опубликовал новую модель Вселенной, и она начисто зачёркивала все другие, с таким тщанием созданные поколениями астрономов!
К XX веку все уже привыкли к мысли, что Вселенная безгранична, что она содержит бесчисленное множество миров, подобных солнечному, и что мировое пространство обладает свойствами, объяснимыми геометрией Евклида. Как удобно было считать луч света синонимом и символом прямой линии и представлять себе, что свет от звёзд расходится во все стороны по прямым, как стрела, направлениям! Такую модель Вселенной современный человек пояснил бы так: если космический корабль отправится в путь по прямой линии, он никогда не достигнет границы мира… Впрочем, ещё древние греки придерживались этой же точки зрения, но выражали её на языке понятий своего времени — если воин будет на бегу бросать копьё всё дальше и дальше, он никогда не остановится, так как у него всегда будет возможность сделать ещё шаг и ещё раз метнуть копьё… Во многих научных книгах и в наши дни можно увидеть фигуру воина с копьём — неожиданный символ познания.
Астрономы, которым выпала доля первым познакомиться с моделью Вселенной Эйнштейна, в беспомощном гневе увидели, что лучи света в его космосе уже не являются прямыми линиями. Они изгибаются, забыв об Евклиде, а копьё (если бы греческий воин смог бросить его со сверхисполинской силой), описав плавную кривую по «цилиндрической» эйнштейновской Вселенной, возвращается к воину, чтобы поразить его самого.
Правда, Эйнштейн вскоре отказался от своей модели, но на основании его теории относительности были созданы многие другие — советский математик и метеоролог Фридман, бельгийский аббат Леметр, английский астроном Эддингтон строили, рисовали, рассчитывали, лепили новый мир — воображение было разбужено, оно искало выхода.
В среде учёных бушевали страсти, составлялись планы ниспровержения Эйнштейна, у него появились яростные враги и пламенные почитатели. Но споры не разрешили сомнений. Теорию Эйнштейна можно было подтвердить или опровергнуть только одним-единственным образом — экспериментом. Первыми за дело принялись астрономы. Раз Эйнштейн утверждает, что луч света вблизи больших масс искривляется, — это надо увидеть!
Случай сам шёл в руки. Приближалось солнечное затмение. И уравнения Эйнштейна подсказали эксперимент, который должен был раз и навсегда решить, чего стоит Эйнштейн. План был прост. Когда диск Луны закроет Солнце и потушит его блеск, станут видимыми звёздочки, оказавшиеся в этот момент вблизи Солнца. Их расположение на небе было специально замерено за полгода до затмения, когда Солнце было ещё далеко от них и не могло искривить идущие от них световые лучи. Впрочем, это была излишняя добросовестность — положение звёзд на небосводе давно занесено со скрупулёзной точностью в астрономические каталоги. И если лучи света от звёзд действительно искривляются массой Солнца, то их координаты, замеренные во время затмения, будут другими, чем зафиксированные в каталогах.
Астрономы заранее подсчитали, какие результаты будут в том случае, если прав Эйнштейн, и в том, если он ошибается.
Экспедиция была дальней. О ней много говорили, к ней долго готовились. Возглавлял её один из восторженных почитателей Эйнштейна — Эддингтон. Он так волновался, что его коллеги сочинили анекдот. Один участник экспедиции якобы спрашивает другого:
— А что, если мы получим отклонение лучей света звёзд другое, чем предсказывает Эйнштейн?
— Не дай бог, — отвечает тот, — Эддингтон сойдёт с ума!
Маленькому Лайошу Яноши, сыну венгерского астронома, было семь лет, когда происходили эти удивительные события. Его воображение было взбудоражено. Его нельзя было уложить в постель, когда отец и его гости говорили о том, что было романтичнее и увлекательнее, чем любые приключения в самом приключенческом романе.
Это один из примеров влияния на творческую жизнь человека впечатлений детства. Бывает, что толчком, дающим ход воображению, мысли, вовсе не обязательно являются столь оглушительные события. Иначе как объяснить, что другой мальчик, родившийся на столетие раньше (мальчик, ставший писателем), — Эдгар По — тоже «болел» космосом? «Болел» без видимых оснований (тогда не было никакой острой «космической инфекции») и даже создал впоследствии теорию осциллирующей Вселенной, правда, сбивчивую, но страстно изложенную в странной космологической работе под названием «Эврика».
Судьбу Эйнштейна, по его собственным словам, тоже определили два «чуда» детства — компас и Евклидова геометрия, которую он прочитал в двенадцать лет…
— И мой путь был определён в детстве, — рассказывал мне академик Яноши при знакомстве. — Тогда в науку шли только по призванию. Профессия физика была очень тяжёлой. Правительства не очень жаловали науку. Но я рос в атмосфере постоянных размышлений о сути природы, о смысле жизни, о роли человека и учёного в обществе. И другого пути, чем в науку, выбрать не мог.
Теория относительности была первой путеводной звездой, которая повела маленького Лайоша по жизни. Можно сказать, что он воспринял новый взгляд на мир на пороге детской. Это было важное преимущество, доставшееся ему само собой, преимущество перед предшествующим поколением физиков, которым приходилось с большим трудом преодолевать традиционный подход к явлениям природы, воспитанный в них доэйнштейновской школой. И если вспомнить, что даже в 1935 году профессор Чикагского университета, известный физик Макмиллан говорил на лекциях своим студентам, что теория относительности — печальное недоразумение, то уже без удивления воспринимаешь тот факт, что один из современников Эйнштейна насчитал лишь двенадцать человек, по-настоящему понимавших Эйнштейна.
В 1965 году, когда Яноши уже опубликовал свой вариант теории относительности, физик Гарднер писал об эйнштейновской: «Его теория так революционна, так противоречит ”здравому смыслу”, что даже сегодня имеются тысячи учёных, в том числе и физиков, для которых понимание её основных положений сопряжено с такими же трудностями, с какими сталкивается ребёнок, пытаясь понять, почему люди в южном полушарии не падают с Земли».
Разобраться в теории относительности, развить её, преодолеть трудности, с которыми последние тридцать лет жизни сражался сам Эйнштейн, пытаясь разрешить главные противоречия в проблемах мироздания, могло лишь молодое поколение физиков. Поколение, к которому и принадлежал Яноши.
Когда он впервые столкнулся с новыми веяниями в физике, с новыми взглядами на окружающий мир, ему не нужно было вытеснять ими какие-то другие, уже ставшие для него органичными представления. Он не должен был переучивать, насиловать себя, настраиваться на чуждые ему идеи. Свежие взгляды на мир Яноши принял как естественное положение вещей. Ему ничто не мешало почувствовать себя дома в мире относительности — странном для поколения его отца.
Но для того, чтобы Яноши мог представить на суд своих современников труд под многозначительным названием — «Теория относительности, основанная на физической реальности», должно было пройти немало лет. Прежде чем стать одним из самых авторитетных учёных наших дней, ему предстояло учиться — и он отправился в Германию, где Гитлер ещё не произвёл трагическую ревизию немецкой науки и в немецких университетах можно было слушать лекции таких замечательных учёных, как Шредингер, Блеккет, Кольхерстер; Яноши предстояло стать начинающим физиком — и он стал ассистентом Кольхерстера; прежде чем критиковать взгляды предшественников и выработать свои собственные, Яноши предстояло научиться думать самостоятельно и делать физику собственными руками.
И тут для него взошла вторая путеводная звезда. Взошла в юности и светила ему потом всю жизнь.
Физики — это люди, которые слышат и видят то, что другим недоступно. Рёв пушек Первой мировой войны не помешал им услышать взрывы, происходящие в микромире. Нормальный, полноценный атом — частица воздуха, или земли, или нашего тела — вдруг разбивается вдребезги… Непонятно по какой причине… Влияние радиоактивности? — подумали учёные. Тогда ещё были свежи воспоминания об открытии Беккерелем таинственных лучей. Радиоактивность была модой — ею пытались объяснить всякое непонятное явление. И чтобы проверить эту догадку, физики увязывали рюкзаки. Аляска, Гималаи, Австралия, Гренлан дия… Куда только не отправлялись физики со своими приборами в погоне за мимолётностью! Поднимались в горы, спускались в шахты, плыли по морям и рекам. Везде они промеряли степень естественной радиоактивности воды, воздуха, почвы.
Один из пионеров физики космических лучей, Кольхерстер даже предпринял в 1930 году со своим коллегой Ботэ путешествие из Гамбурга на Шпицберген только для того, чтобы измерить в тех широтах степень ионизации воздуха, измерить, а затем сравнить результаты с теми, что были сделаны на дирижабле «Италия», совершившем первый рейс над Северным полюсом. Но… проведённые замеры не объясняли странное явление. Ясно было одно — версию радиоактивности надо отбросить.
Тогда раздался голос Гесса, австрийского физика.
— Следы ведут в космос, — сказал он. — Причиной распада земных атомов является излучение, приходящее из космоса…
Родилась физика космических лучей. Она увлекла многих учёных — не только тем, что могла помочь изучить космос, макромир. Главное — она открывала дорогу в микрокосмос, в царство атома, населённое ещё не ведомыми людям планетами — элементарными частицами. Огромный вклад в эту область физики внёс русский физик — молодой тогда Дмитрий Скобельцын, основоположник советской школы космиков. Он проводил виртуозные эксперименты в камере Вильсона, он первым наблюдал пролёт через камеру космической частицы, он предложил и методику наблюдений. Повторяя его эксперимент, учёные всего мира учились работать с космическими частицами.
Космическая частица раскалывала атом, как щипцы орех, — оставалось посмотреть, из чего он состоит, этот орешек. Никаким другим способом в те времена расколоть ядро атома не представлялось возможным. На Земле не умели получать снаряды такой мощности, как космическая частица. Даже речи не возникало о строительстве ускорителей. И никаких элементарных частиц, кроме электрона и протона, учёные не знали. Космическая частица могла стать первым проводником в микромир.
По этой дороге и пошёл Лайош Яноши после окончания университета. Его захватили трудности, которые возникли с первых же шагов этой увлекательнейшей области физики. Все понимали, что цель исследований — наблюдение и изучение взрыва от встречи космической и земной частиц материи. Но никто не знал, где произойдёт этот взрыв! Напрашивались три линии поведения: исследователю предоставлялась возможность либо гоняться за своеобразной «бабочкой» с сачком по всему земному шару. Либо сидеть и ждать, когда она пролетит под носом у исследователя. Либо — это и захватило Яноши — надо было организовать нужный эксперимент самому, поймать космическую частицу в нужном месте и в нужный момент, заставить её полностью проявить себя. В общем, надо было придумать, как разыграть «спектакль» по заранее намеченной программе.
Постепенно становилось ясно, что уникальный пролёт через прибор космической частицы можно перевести в разряд более простых: ловить не первичную космическую частицу, а тот ливень частиц, который она вызывает в атмосфере. Физики начали придумывать для этого самые различные способы, строили сложные приборы, целые системы счётчиков, часто разнесённых на огромные расстояния друг от друга, снова отправлялись в дальние путешествия и даже поднимались на воздушных шарах.
Яноши, ставший ассистентом Кольхерстера, начинает работать над созданием особых систем счётчиков космических частиц со свинцовыми фильтрами. Изменяя толщину этих фильтров, ему удаётся проследить цепную реакцию рождения элементарных частиц во всей её полноте. Яноши многое прояснил в процессе распада атомного ядра; определил мощность исходного излучения, законы распространения космических ливней. Он становится одним из ведущих учёных в области физики космических лучей. Его эксперименты создают ему репутацию виртуоза сложных физических измерений. Его называют критиком эксперимента. Когда наблюдения не поддаются однозначному толкованию, к нему идут за диагнозом. Он готовит две книги по теории и практике работы с космическими частицами, книги, которые станут настольными для всех изучающих эту область. Их особая ценность — в тесном слиянии искусного эксперимента и глубокой теории. Они демонстрируют, что в такой области исследований, как физика космических лучей, мало быть опытным, находчивым, изобретательным экспериментатором. Надо уметь проанализировать увиденное в приборах, понять происходящее, сделать нужные расчёты — то есть овладеть самым современным математическим аппаратом. И чтобы разобраться в законах микромира, нужно безупречно пользоваться методами теории относительности Эйнштейна.
Так слились воедино два потрясения юности — впечатление от парадоксальности теории относительности и мечта раскрыть тайну космического излучения. Слились, переплелись, стали основой научной деятельности Яноши.
К 50-м годам прошлого века Яноши, ставший уже профессором в знаменитом Дублинском университете в Ирландии, приобрёл международный авторитет.
И тут его налаженная, устроенная жизнь резко меняется. Он уезжает в разорённую, опустошённую долгой фашистской диктатурой страну. Уезжает на пустое место. Уезжает начинать всё сызнова.
Бросить кафедру в солидном университете? Начинать всё сначала на пороге зрелости? Как может позволить себе это солидный человек, обременённый семьёй? Мало кто из коллег понимал поступок венгерского учёного. Но Яноши возвращался на родину. Он не мог не откликнуться на зов народного правительства Венгрии, призвавшего находящихся в эмиграции венгерских учёных помочь возродить национальную науку.
…История каждой страны неповторима и самобытна. Но в то же время в каждой такой истории есть нечто общее с другими — отражение эпохи, её проблем и особенностей. Эпоха как бы ставит печать на судьбы стран и отдельных людей.
В биографии многих государств современной Европы есть тяжёлая отметина — печать фашизма. Как тень от затмения прошёл фашизм по Европе, убивая жизнь, свободу, мысль.
В полной мере это испытала на себе Венгрия. Годы фашизма не пощадили её науку — она потеряла своих лучших представителей. Одни из них погибли в концлагерях, другие эмигрировали. Венгерских учёных и раньше с радостью принимали чужеземные университеты, многие из них заслужили всеобщее признание. Достаточно упомянуть Бойяи, одного из создателей неевклидовой геометрии; Этвеша, выполнившего важные исследования в теории тяготения; Неймана, известного кибернетика и математика; Вигнера, Сцилларда и других учёных, прославивших американские, английские, французские университеты.
Только Сент-Дъёрди, первооткрыватель витамина С, выделивший его из венгерской паприки, удостоился Нобелевской премии будучи ещё на родине. Но это было в 30-х годах.
Габор же, Хевеши, Бекеши, Вигнер получили Нобелевские премии за границей. Вигнер не имел в Венгрии даже кафедры. Говорят, он гордился тем, что присутствует на нобелевских торжествах во фраке, сшитом ещё на родине. А хортистское правительство, разорившее богатую страну, гордилось тем, что первое в Европе ввело фашистский режим, опередив Гитлера и Муссолини. Материальные потери Венгрии по милости этого правительства составили катастрофическую цифру — 45 % её национальных богатств.
За годы фашистской диктатуры и Второй мировой войны Венгрия растеряла свои научные традиции, учителей, способных возглавить национальную научную школу. Интеллектуальный потенциал её, казалось, навсегда угас.
Но во главе израненной страны стало народное правительство. Оно в первую голову занялось восстановлением экономики, техники, науки. Без этого не могла начаться нормальная жизнь страны. Нужно было поставить на ноги промышленность, поднять научный потенциал.
Эта ситуация стала предметом серьёзного многостороннего обсуждения на проведённом в мае 1949 года заседании коллегии Венгерского научного совета. «Отсталость физических исследований в Венгрии является катастрофической, — записано в решении. — Будапештские вузы не способны не только проводить исследования, они не пригодны и для современного обучения. Эта отсталость не будет преодолена, если не проявить заботу о создании хотя бы одного, действительно современным образом оборудованного института физики, об увеличении числа научных сотрудников и решении вопроса о воспитании и обучении кадров».
Вскоре началась организация научно-исследовательских институтов в области физики, химии, биологии, астрономии, строительство заводов и конструкторских бюро. Но где взять для них кадры?
Правительство и социалистическая рабочая партия Венгрии приняли мудрое решение: авторитетных венгерских учёных, проживающих за границей, пригласили вернуться на родину. Одним из первых приглашение получил Лайош Яноши. Он ответил без колебаний. К сожалению, так поступили не все. Не вернулся помочь родине другой знаменитый венгр, которого мир называет отцом водородной бомбы — Теллер. Как и многие другие учёные, он покинул Венгрию в годы фашизма. И достиг больших успехов в физике. Он не примкнул к Оппенгеймеру, Сцилларду, Эйнштейну и другим прогрессивным учёным, возвысившим свой голос против применения атомного оружия, а, наоборот, солидаризировался с воротилами военно-промышленного комплекса, стал выступать за увеличение военного бюджета США, за дальнейшее наращивание атомных арсеналов.
…Что привело Яноши к его решению? Его третья путеводная звезда. У него перед глазами был пример Лукача — человека мудрого, дерзкого, революционера и бойца. О комиссаре Лукаче венгры писали книги, сочиняли пьесы. Он был истинным патриотом Венгрии.
Яноши исполнилось восемь лет, когда умер его отец. Его отчимом стал Дьердь Лукач. Яноши с уважением и теплотой рассказывает о своём отчиме, фигуре легендарной, хорошо известной в прогрессивных кругах всего мира.
— После появления в семье отчима, — рассказывает Яноши, — атмосфера уважения к науке, культуре ещё больше углубилась. Прибавилось и новое — интерес к проблемам, волнующим весь венгерский народ, к политическим событиям. Лукач придал моему увлечению физикой широту и умение мыслить философски. Он был философом и литературным критиком, но отлично чувствовал физику, чувствовал без формул. Ведь самые сложные проблемы можно объяснить без математики. Суть явления не зависит от формализмов, с помощью которых учёные строят количественные модели явлений.
Как видно, в этом кредо — корни широкой деятельности Яноши как пропагандиста науки: он написал популярную книгу о теории относительности для широкого круга читателей, часто выступал по телевидению с чтением лекций по самым сложным вопросам естествознания.
Но главное — под влиянием Лукача формировалось мировоззрение Яноши, его политические убеждения. Не удивительно, что Яноши стал членом Венгерской социалистической рабочей партии. Не удивительно, что он одним из первых вернулся на родину и выполнил поручение партии и правительства — создал первый в народной Венгрии научно-исследовательский институт физики с широким спектром научных изысканий, отражающих современный уровень творческой мысли (с этим ведущим физическим институтом в ВНР мы познакомимся в следующей главе).
СОЗВУЧИЕ РАЗУМОВ
Постепенно Яноши собрал вокруг себя одарённую молодежь, расширил научную тематику института — в неё вошли и фундаментальные исследования, и прикладные, необходимые для создания современных ЭВМ, лазеров.
На родине Яноши обрёл зрелость, его индивидуальность окрепла. Он смог приступить к осуществлению главного дела жизни — к созданию своей концепции строения мира. Эта работа требовала особого мужества. Она была необычной не только из-за сложности самой проблемы, но и из-за атмосферы, которая её окружала.
Яноши разбирает те же вопросы, которым посвящена теория относительности Эйнштейна. Вокруг многих великих творений человеческого духа часто возникают как бы две противоборствующие стихии. Одни стараются сохранить эти творения в неприкосновенности, в первозданном виде, другие рассматривают их как трамплин для нового скачка.
То же произошло и всё ещё происходит с теорией относительности.
Если вначале многим она казалась бредом, а наиболее непримиримые даже требовали «отменить» Эйнштейна, то после её признания произошёл крен в другую сторону — к каждому её положению стали относиться, как к святыне, с благоговением, боясь что-то изменить или нарушить. И действительно, после создания теории относительности в неё не были внесены какие-либо существенные изменения. И хотя появились новые экспериментальные данные, новое отношение к некоторым проблемам, новые космологические модели, каждого, кто пытался что-то додумать по-своему или изменить в теории относительности, считали чуть ли не еретиком.
— Многие и меня считают еретиком, — говорит без улыбки Яноши, — но это результат неполной информации о моих научных взглядах. Ничего еретического я не утверждаю. Просто некоторые воображают, что мир ведёт себя так, как вытекает из придуманных людьми законов. На самом деле ему дела нет до наших фантазий! Верны лишь те законы, которые подтверждаются действительностью. Как это проверить? Опытом. Надо контролировать теорию экспериментом. Без этого физика — сплошной идеализм. Ничто в наших трактовках окружающего мира не должно опираться на домыслы — только на опыт. Пример — теория относительности Эйнштейна. Она родилась из фактов. А потом начались кривотолки, словесный туман. Мы, его последователи, далеко не единодушны в своём понимании структуры мира…
— Посмотрите первые два тома собрания сочинений Эйнштейна, изданных в Советском Союзе. К слову сказать, — прерывает свою мысль Яноши, — столь полно труды Эйнштейна изданы только в вашей стране. Так вот, — продолжает он, — Эйнштейн, физик уникальной прозорливости, создал не догмы, а лишь формализмы, которые должны были сочетаться с экспериментом. Но он не боялся фантазировать о вещах, не обнаруженных ещё опытом. Он и после создания общей теории относительности не боялся говорить об эфире, как о носителе всех событий в мире. Да, эфир никогда никем не был обнаружен.
Да, эфир много раз отменялся, и его не называют иначе, как пресловутый. Но многие учёные использовали его в своих моделях мира как строительный материал, как «известь», что ли. Даже обойдясь в теории относительности без эфира, Эйнштейн не исключил его окончательно из картины мира. Это помогало ему проводить качественный и количественный анализ событий. Конечно же, он жаждал ясности, определённости, истинного эксперимента и шёл на умозрительные предположения только из-за бессилия современного эксперимента. А его учение возвели в догму, которую якобы нельзя развивать. Это ошибка! Теория относительности Эйнштейна, этот удивительный продукт человеческого разума, неиссякаемый источник творчества!
Вы думаете, она будет развиваться? — спрашиваю я.
Не может не развиваться, — сердится Яноши. — Во первых, потому, что не все явления, обнаруженные возросшей мощью экспериментальной науки наших дней, объясняются с её помощью, а более зрелой космологической теории всё ещё нет. Во-вторых, ни теперь, ни тем более при её возникновении не было и нет единого толкования многих её положений. Вокруг них всё ещё клубятся яростные споры. И, в-третьих, в ней потенциально заложено больше возможностей, чем мог предположить и использовать сам автор…
У Яноши своя точка зрения на окружающий мир. От него можно услышать не о кажущемся, а о действительном изменении масштаба времени, об абсолютном пространстве и мировом эфире, заполняющем Вселенную… Одно в науке ещё не утвердилось, другое, казалось бы, давно из неё ушло.
(Жизнь постоянно подтверждает необходимость «держать двери открытыми» для неизвестных видов материи, как бы они ни назывались. Теплород и эфир уже стали атрибутом истории; к этим понятиям физики, вероятно, уже не вернутся. Но в наши дни нередко можно встретить термин «новый эфир» в отношении сразу нескольких сущностей. Это и реликтовое микроволновое излучение, заполняющее Вселенную с эпохи её юности и создающую «опору» для абсолютной системы отсчёта. Это и невидимое вещество, — «тёмная масса», — окружающее галактики. Это и удивительная «тёмная энергия», обладающая свойством антигравитации. В эпоху интенсивных научных исследований некоторые «еретические» взгляды могут довольно быстро стать общепринятыми. — Прим. В.Г. Сурдина )
Если нечто подобное выскажет на экзамене студент — двойка ему обеспечена. Но когда об этом говорил физик масштаба Яноши — в яростный спор вовлекались самые серьёзные умы современности: Тамм, Скобельцын, Блохинцев и многие-многие другие.
Любопытна сама история созревания его «еретичества».
Создавая собственную концепцию строения мира, Яноши исходил не из теории относительности Эйнштейна. Он оттолкнулся от знаменитых преобразований Лоренца. Если Эйнштейн базировался на модели мира, в которой прямые линии и плоскости искривлены в пространстве и
времени, то в модели мира Лоренца и размеры тел деформировались. Лоренц считал, что размеры всех тел, например обычных линеек, зависят от их скорости. Чем больше скорость, тем короче линейка.
Более того, ход часов замедлялся, если скорость их движения возрастала. Эта позиция знакома учёным, о ней много говорили в своё время в связи с гипотезой Фицджеральда. Именно этой гипотезе и соответствуют математические построения Лоренца.
Яноши возражал против интерпретации преобразований, данных самим Лоренцом, но ещё в большей мере он расходился с Эйнштейном. Венгерский учёный предлагал свою собственную интерпретацию, а вместе с ней и свой подход к основам теории относительности, который он изложил в статье 1952 года.
Полемический итог этой публикации был воспринят большинством физиков так: все результаты теории относительности можно получить без теории относительности. Статья Яноши не вызвала особого резонанса в научной печати. Однако Яноши стремился к ясности. Он продолжил исследования и через шесть лет заново сформулировал свои аргументы. Его статья «Дальнейшие соображения о физической интерпретации преобразований Лоренца» появляется в советском журнале «Успехи физических наук».
Некоторые выводы этой статьи показались редакционной коллегии сомнительными. Учитывая, что журнал читают не только физики, но и люди других специальностей, в том числе и студенты, не способные самостоятельно разобраться в содержании этой сложной статьи, редакционная коллегия попросила одного из наиболее авторитетных физиков-теоретиков академика Тамма ознакомиться со статьёй Яноши до опубликования и прокомментировать её.
В замечаниях Тамма, опубликованных вместе с этой статьёй, указано, что скептическое отношение Яноши к те ории относительности привело его к ряду неправильных утверждений (ошибочность двух из них разъясняется читателям).
Замена теории относительности динамическим рассмотрением всех конкретных задач действительно приводит к тем же выводам о строении мира. Но это не может служить доводом против теории относительности. Справедливость этой теории в течение полувека подтверждалась неоднократно при детальной проверке всех её предсказаний.
Дружеская критика Тамма и других советских учёных заставила Яноши тщательно пересмотреть свои аргументы. Результат многолетних трудов суммирован в книге, о которой мы уже говорили, вышедшей в 1971 году в Венгрии на английском языке. Впоследствии она была выпущена и в Японии.
Понимая особое место теории относительности в системе научного познания, Яноши опубликовал краткий очерк философских аспектов, лежащих в основе его монографии, в советском журнале «Вопросы философии». Статья, как и книга, называлась «Теория относительности, основанная на физической реальности». Он пишет: «Монография содержит оценку специальной и общей теории относительности. Математический формализм, который используется в ней, эквивалентен общепринятому, и при рассмотрении частных феноменов я прихожу там к хорошо известным и всеми признаваемым результатам. Тем не менее используемые мною понятия вводятся с помощью метода, отличного от принятых обычно в учебниках и исследовательских работах, посвящённых этой проблеме».
Спокойный тон этой аннотации был тем не менее обманчив. Нетривиальность мышления Яноши привела к тому, что читателей монографии всё-таки ждал сюрприз.
В конце статьи Яноши высказывает мысль о возможности реального существования эфира, что не противоречит математическому аппарату теории Эйнштейна, в которой тот ещё в 1924 году анализировал проблему эфира. Яноши заключает, что электромагнитные явления и другие процессы распространения в вакууме обладают носителем, который может быть назван эфиром.
Впрочем, прочитав указанные Яноши статьи Эйнштейна о проблеме эфира, а также эйнштейновские статьи 1930 года и другие его работы, легко убедиться в том, что Эйнштейн недвусмысленно объясняет, как само пространство (пустое пространство, а не какая-то «среда») приняло на себя все функции эфира. Яноши с этим не согласен. Ему кажется, что он идёт дальше Эйнштейна. Большинство физиков считает, что он идёт назад.
Почти за двадцать лет, прошедших после опубликования упомянутой выше статьи Яноши и замечаний Тамма, накопилось ещё много опытных подтверждений предсказаний теории относительности. И не было ни одного случая, опровергающего её выводы. Вспомним открытие реликтового излучения, сохранившегося почти с эпохи «большого взрыва». Существование во Вселенной этого излучения было предсказано на основе теории относительности за 30 лет до его обнаружения. Вспомним о «чёрных дырах» и других удивительных явлениях, понять которые без теории относительности невозможно, хотя и можно придумать различные специальные гипотезы, чтобы объяснить их без этой теории.
Не литератору решать, кто прав в этом научном споре, да и специалисту нелегко разобраться во всех его тонкостях — всё балансируется на нюансах, оттенках, акцентах. Несомненно одно — для развития науки необходимы люди неординарного склада мышления; учёные, в которых природа заронила дар особого видения. Такие всегда оставляют заметный след в истории. Если не открытиями, то ошибками. Их дерзость будоражит воображение, воспитывает в молодых умах способность анализировать, критиковать, искать…
Яноши был погружён в глубокие и всё ещё таинственные дебри науки о природе. Круг тем не новый — над ними ломало головы не одно поколение учёных: что такое время, пространство, какие субстанции ответственны за передачу сил тяготения от одного небесного тела к другому? Прежние определения — «абсолютное пространство», «эфир»… Как часто после Ньютона эти понятия претерпевали изменения, их отбрасывали, снова возвращались к ним, возвращались, делая виток по спирали познания — всегда чуть выше, чуть ближе к истине.
Ньютон сделал великое дело: нашёл количественную меру влияния одних небесных тел на другие — вывел закон тяготения.
Но как, с помощью каких процессов осуществляется передача сил тяготения на колоссальные, космические расстояния? Перед этим Ньютон отступил.
В обиход науки вошло одно из самых загадочных понятий — эфир, который якобы передаёт силы притяжения одного небесного тела к другому — особая материя с противоречивыми свойствами. Разные умы придали эфиру различные оттенки. Он по желанию учёных менял свой облик, словно глина в руках скульптора.
Бессилие перед тайной тяготения сломило могучий разум Ньютона. От кредо «гипотез я не измышляю» он ушёл в теологию, на старости лет уверовал в бога.
Сколько усилий, сколько интеллектуальной энергии было отдано разгадке тайны тяготения. Лишь Эйнштейну удалось создать наиболее полную картину строения мира. Но последние десятилетия жизни Эйнштейн тщетно пытался совладать с силами, властвующими над Вселенной, объединить их в единую теорию. «Тогда, — писал он, — была бы достойно завершена эпоха теоретической физики…»
Ему не удалось осуществить эту задачу.
Не это ли породило скептицизм Яноши в отношении теории относительности? Да и не его одного. Наверно, споры вокруг некоторых положений теории относительности не стихнут никогда. Яноши прав — как и другие великие творения человеческого духа, она является неиссякаемым источ ником вдохновения и творчества. Каждое поколение будет познавать с её помощью новые грани окружающей нас действительности, как будет находить новые оттенки мыслей и чувств в творениях Гомера, Шекспира, Бетховена, Пушкина.
Возможности теории относительности не исчерпали ни сам Эйнштейн, ни его последователи и оппоненты. Её «читают» и будут «перечитывать» поколения физиков, изумляясь неисчерпаемости её смысла и прозорливости автора. Он определил закономерность развития мира, уловил гармонию Вселенной и выразил эту гармонию с помощью математических символов подобно тому, как композитор передаёт гармонию звуков с помощью нотных знаков. Как всякое музыкальное произведение, она таит в себе возможности интерпретации. С одной стороны, символы — и математические и музыкальные — однозначны: «До» есть «до», а «синус» есть «синус». С другой стороны, в их переплетении большой музыкант, как и большой учёный, всегда обнаружит новые оттенки, которых не заметил до него никто. И дело даже не в безграничности процесса интерпретации.
Произведения научного творчества — теории мира, модели мира — развиваются вместе с наукой. А наука не стоит на месте. Не завершено и не может быть полностью закончено развитие науки, и в том числе изучение окружающего нас физического мира. Поэтому и теория относительности — не застывшая в своей неподвижности груда формул, она не только глубокий источник, обещающий ещё множество непредвиденных следствий, вариантов интерпретаций, но и живое древо познания, на котором ещё будет немало плодов.
Беседуя с академиком Яноши, одним из самых незаурядных естествоиспытателей и философов, я ещё и ещё раз убеждалась, что теория относительности Эйнштейна обладает магической силой притяжения. И действительно — целый ряд космологических, физических работ, появившихся в последние десятилетия, подтверждает, что система, построенная Эйнштейном, является источником всё но вых и новых размышлений, отправной точкой для создания новых теорий, расширяющих и дополняющих теорию относительности, раздвигающих рамки её применения.
Жизнь мчится вперёд. Возможности экспериментальной науки растут. Человек сталкивается со всё более неожиданными проявлениями жизни Вселенной, где происходят невероятные катастрофы, взрывы звёзд и целых галактик, где существуют непонятные квазары, где фантастические «чёрные дыры» высасывают из Вселенной массу и энергию. Все эти проблемы не только обсуждаются на симпозиумах, в научной печати, но и через прессу, телевидение, радио захватывают рядового читателя.
В какие потусторонние миры перекачивается вещество из нашего мира? Какова природа колоссально щедрых источников, которые необъяснимо мощно исторгают в просторы космоса такие количества вещества и энергии, словно взорвались миллиарды солнц? И читатель вовлечён в обсуждение нерешённых проблем, он задумывается над тем, кто возьмёт на себя дерзость ответить на эти вопросы? И он понимает, что теория отстаёт от эксперимента, требует омоложения…
Новые открытия в традиционной физике… новые наблюдения в астрофизике… необъяснимые ситуации в физике элементарных частиц… Ответят ли новые теории на вновь возникшие вопросы? Создаются ли они уже? Кто их авторы? В круг этих проблем вовлечены не только профессионалы, но и молодые и немолодые читатели научно-популярных книг и журналов. Это — одна из новых примет нашего времени. Это — дыхание ветра НТР, формирующего интеллектуальную погоду на нашей планете.
…Сегодняшняя физика набухает новыми моделями мира, свежими идеями, переоценкой старых истин. Поток докладов, статей, книг по вопросам, затронутым теорией относительности Эйнштейна, растёт и ширится. Современная научная литература по мирозданию — настоящее интеллектуальное пиршество. Но даже на нём среди удивительных и сенсационных научных «блюд» объёмистый труд под лаконично-привычным и поэтому многозначительным названием «Теория относительности, основанная на физической реальности» — незаурядное явление, которое привлекло внимание самых ответственных учёных современности. Они не могли не задуматься о том, что же нового привнёс венгерский мыслитель в науку грядущего?
— Каков ваш критерий истины? — спросила я академика Яноши.
— Чтобы найти общий язык в такой сложной области, как философия, надо спорить, доказывать, критиковать, — ответил он. — Ведь только в споре рождается истина, в столкновении мнений, в столкновении теории и эксперимента, в проверке одного другим…
Последний разговор с Яноши состоялся незадолго до его кончины. Тогда он сказал мне:
— Я с нетерпением жду, когда книга о теории относительности, главный мой труд, отнявший у меня десять лет жизни, будет переведена на русский язык. Мне очень важно знать мнение советских коллег, серьёзных оппонентов, о моей системе мира. Я рад, что в СССР хорошо приняты мои прежние книги «Космические лучи» и «Теория и практика обработки результатов измерений». Каждая из них тоже явилась итогом десятилетней работы. Но последняя книга — моя лебединая песнь. И её мне особенно хотелось бы обсудить с советскими физиками, которых я уважаю и мнением которых дорожу. Ведь советская школа физиков — одна из сильнейших в мире.
…Среднего роста, с усталым бледным лицом человека, мало бывающего на свежем воздухе, Яноши был, пожалуй, незаметен в толпе. Незаметен до тех пор, пока вы на обращали внимание на его глаза. Они смотрели за пределы близко лежащих вещей. Помню, я подумала, когда впервые познакомилась с ним: может быть, он разглядит, куда попадёт копьё греческого воина, брошенное в космос с исполинской силой? Решит проблемы, поставленные ещё древними греками и не решённые до сих пор?
Ему не суждено было сделать это до конца. Но наука сильна своей преемственностью. Учёные умирают, а мыс ли, воплощённые в теории, в гипотезы, остаются их ученикам. Додумываются преемниками, единомышленниками.
АЛЬФРЕД КАСТЛЕР — УЧЁНЫЙ И ПОЭТ
12 декабря 1966 года французская наука праздновала победу — Нобелевскую премию по физике получил Альфред Кастлер. Прошло тридцать семь лет после получения Луи де Бройлем Нобелевской премии по физике в 1929 году. Минул тридцать один год после вручения премии по химии Ирэн и Фредерику Жолио-Кюри в 1935 году. Затянувшаяся пауза…
И вот Франция празднует заслуженную победу.
Середина ХХ века — вершина триумфа физики во всём мире. И Нобелевская премия по физике красноречиво говорит об интеллектуальном уровне французской науки.
Было в этом событии одно «но». Альфред Кастлер действительно был французским физиком, членом французской Академии наук, мэтром в одной из самых сложных областей физики — квантовой радиофизике, президентом французского физического Общества, заведовал Лабораторией атомных часов Национального центра научных исследований. Но можно ли его считать французским физиком? — спрашивали многие. По происхождению — он немец. Родился в Эльзасе… Родился в 1902 году, когда Эльзас был
19 Эльзас — историческая провинция на С.-В. Франции. В XVII в. Эльзас был объектом упорной борьбы между Габсбургами и Францией. В результате тридцатилетней войны по Вестфальскому миру значительная часть Эльзаса отошла от Германии к Франции. В XIX веке Эльзас играл крупную роль в экономике Франции… В результате поражения Франции во Франко-прусской войне 1870–1871 гг. Эльзас был отторгнут от Франции и включён в Германскую империю. По Версальскому договору 1919 г. Эльзас был возвращён Франции. В 1940 г., после капитуляции Французского правительства перед гитлеровцами, Эльзас был вновь аннексирован германскими империалистами. В конце 1944 г. Эльзас был освобождён французскими войсками и возвращён в состав Французской Республики. БСЭ, статья «Эльзас» частью Германской империи.19
Это обстоятельство мрачной тенью сопровождало жизнь Кастлера.
Он — активный участник французского Сопротивления, Кавалер ордена Почётного легиона, его сын Клод — член Французской коммунистической партии… Но родился Кастлер всё-таки в Эльзасе…
Наверно это обстоятельство было причиной того, что награды, звания, успехи засчитывались ему во Франции как-то с запозданием. Звание профессора Сорбоны он получил только в 50 лет — как видно, когда его лояльность к Франции стала убедительной. Только в 70 лет ему удалось опубликовать первую книгу стихов — «Немецкие песни французского европейца: Европа, моя Родина».
Когда я начала заниматься научной публицистикой, в 1955 году, я сразу же столкнулась с именем Кастлера — ведь это было время лазерного бума. Родилась радиоспектроскопия, квантовая радиофизика. В 1964 году Нобелевскую премию получили два советских физика — А.М. Прохоров и Н.Г. Басов и их коллега — американец Ч. Таунс — за создание приборов квантовой радиоэлектроники — мазеров и лазеров.
Это был пик интереса к новой области науки. Физики, работающие в этой новой революционной области, были наперечёт. Их имена были на слуху.
Среди них — одно из самых авторитетных — имя Альфреда Кастлера. И к нему на выучку из нашей страны был направлен ряд молодых физиков — я помню Мамеда Алиева из Баку, Новикова из Свердловска. Басов и Прохоров вели с ним ряд совместных работ по созданию атомных часов — часов, которые и за тысячу лет не ошибутся ни на секунду.
Когда в 1971 году мне представилась возможность побывать в Париже, я попросила у Прохорова рекомендательное письмо к его французскому коллеге — академику Альфреду Кастлеру.
…Ровно в девятнадцать ноль-ноль вместе с боем часов в холл отеля «Резиденция маршалов» быстрым шагом входит высокий худой человек. Я его никогда не видела раньше, но понимаю — это тот, кого я жду. Поднимаюсь ему навстречу и невольно отступаю. Передо мною вылитый деГолль. Во всяком случае таким Президент Франции запечатлелся у меня в памяти по портретам и кинофильмам. Кастлер действительно очень похож на него.
— Бон суар, мадам.
— Бон суар, месье. — Я постепенно прихожу в себя и уже отчетливо вижу мягкую, дружескую улыбку, добрые усталые глаза. Он высок и строен, но немного сутулится, словно хочет быть ближе к собеседнику. Скоро я убеждаюсь, что у него удивительно располагающая манера держать себя — с такой застенчивостью может держаться только человек, привыкший к интимному общению с природой, к сосредоточенному труду, к узкому кругу сотрудников.
Я передаю моему новому знакомому привет от его советских друзей. А их у семьи Кастлеров немало. Сам Кастлер три раза бывал в Советском Союзе на Международных конференциях в Москве, Казани и Ереване, посещал многие исследовательские институты.
В 1969 году он был почётным гостем на юбилейной сессии, состоявшейся в Казанском университете по поводу 25летия открытия советским учёным, академиком Е.К. Завойским парамагнитного резонанса.
Младший сын Кастлера — профессор русского языка, член коммунистической партии Франции, стажировался в Московском университете.
Старший сын, физик, работающий в Марселе, тесно контактирует с коллегами из нашей страны.
Я принимаю приглашение Кастлера посмотреть Париж, и мы садимся в машину. Здесь меня ждет приятная неожиданность — Кастлер представляет своего старинного друга, известного математика, академика Мандельброута. Для меня это вдвойне приятная неожиданность — профессор знает многих моих московских знакомых и неплохо говорит по-русски.
— Ничего удивительного, — говорит он, — мои корни в Одессе.
Он бывал в СССР, его книги переводятся у нас и заслужили популярность среди наших математиков. Внесший много нового в классическую математику Мандельброут — ценитель советской математической школы. Он с восхищением отзывается о работах Келдыша, Боголюбова, Гельфанда, Гельфонда, Маркова, Мусхилишвили, Векуа.
Мандельброут темпераментно выполняет роль гида. Кастлер — за рулём. Он проявляет чудеса водительского искусства — в субботний вечер улицы Парижа похожи на автомобильный муравейник. В городе несколько миллионов машин, и сейчас, находясь в их гуще, видим, что ожидало бы современное человечество, не изобрети оно метро.
На одной из площадей попадаем на необычный концерт — водители в нетерпении жмут клаксоны и из хаоса звуков рождается странная нечеловеческая музыка. Машины, словно живые существа, сдавленными, хриплыми, пронзительными голосами требуют простора.
Заторы мне на руку — я могу вдоволь любоваться великолепием вечернего Парижа. Эффектная подсветка подчёркивает самое характерное в архитектуре и планировке. Площадь Согласия благородством своего рисунка представляется глазам как драгоценная жемчужная брошь. Прожекторами подсвечен Нотр-Дам. Но даже купаясь в свете, Собор Парижской Богоматери остаётся загадочным, скрывая душу сфинкса. Свет, пронизывающий мощные Варшавские фонтаны у подножия Эйфелевой башни, превращает обычную воду в клокочущую расплавленную платину.
Кастлер дарит мне книгу — «Париж поэтов». Вольтер, Гюго, Аполлинер, Виньон воспевают Париж, дивные фотографии завораживают и кажется, что действительность не может быть прекраснее этих великолепных иллюстраций. Но за окном машины — живой Париж, прекрасная фантас тическая реальность…
Сорбона, — показывает Кастлер на скромное, обойдённое огнями и тем не менее величественное здание.
Увы, — вздыхает Мандельброут, — не прежняя Сорбона нашей молодости, и даже не Сорбона наших сыновей (сын Мандельброута — физик, окончил Сорбону и вместе со старшим сыном Кастлера работает в Марселе). Сорбона разрослась до десятка самостоятельных университетов. Старая знаменитая Сорбона уже не вмещает всю массу идущей в науку молодежи.
Мы проезжаем мимо студенческого квартала. Это целый городок, в него вкраплены корпуса Англии, Бразилии, Германии, Канады… Каждый имеет своё лицо, несёт печать своеобразия своей страны. Одно из зданий — работы Карбюзье.
Прежде, чем мы отъехали от Сорбоны, Кастлер показал на скромное здание напротив:
College de France, особое, уникальное заведение. В нём нет ни студентов, ни аспирантов. Но в нём учатся и студенты, и профессора, и академики. Здесь регулярно читают лекции самые авторитетные учёные. Это даже не лекции, а сообщения о новейших идеях, проблемах, загадках. Докладчик как бы дразнит, зазывает и молодые умы, и маститых учёных решить «проклятые» вопросы. И на эти доклады стекаются учёные со всего мира. Вот уже пятьдесят лет мой друг Мандельброут — профессор Колеж де Франс.
А вот Ecole Normale Suреrieure! — в тон Кастлеру говорит Мандельброут, — это место работы моего друга.
Высшая Нормальная Школа — одно из самых замечательных высших учебных заведений Франции. Кастлер поступил в него в 1921 году и проработал здесь всю жизнь. В физической лаборатории, под его руководством ведутся исследования в важнейшей области современной науки — квантовой радиофизике.
…Мы в кафе «Медичи», где обычно собирается парижская интеллигенция: учёные, литераторы, художники.
Пока я овладеваю искусством обращения с устрицами («В первый раз?!») и испытываю муки буриданова осла перед блюдом со множеством сортов сыра («у нас их более трёхсот»), профессор Кастлер просматривает мою книгу «Безумные идеи» о наиболее дерзких идеях современной физики, переведённую на французский язык.
Кастлер кладёт передо мной ответный дар. Это объёмистая книга в снежно-белом переплёте, который украшен искусно подобранным шрифтом. «Альфред Кастлер. Европа, моя родина. Париж, 1971 год».
Стихи! Для меня это стало полной неожиданностью. Никто из общих знакомых не говорил мне, что профессор Кастлер пишет стихи!
Наверно, и не знали об этом — это была первая книга 70летнего физика.
…Из окна я вижу аллеи Люксембургского сада, поэтому первое стихотворение, которое зацепило моё внимание было «Лето в каштановой аллее» (Люксембургский сад в Париже)».
«Сейчас природа в роскошной поре. Затенённый зеленью уютно покоится парк. Высоко в кронах светло и по-летнему мощно. Продолжается великое цветение. Сквозь полноту жизненных соков свет падает на землю сумеречно затенённый. И в этой соборной тишине в сердце прокрадывается ожидание смерти».
Переводит Мандельброут. Он поясняет: — Это стихотворение из военного цикла. Кастлеру было 37 лет, когда началась Вторая мировая война. Для всех французов это была трудная пора. Но для Кастлера — драма; ведь врагами стали две половины его сердца — Франция и Германия. И цикл стихов этой поры дышит драматизмом и трагедией.
«Моя Франция, тебя больше нет. То, что осталось — лишь твоя тень. Хотя петушок20 ещё громко поёт, но крылья его сломаны».
Эти строки вспомнились мне, когда через пару дней я
20Гальский петух — символ Франции бродила по торжественному и печальному кладбищу ПерЛашез, где особой выразительностью отличаются памятники замученным в концлагерях. Стихи эти снова возникли в памяти в своеобразном святилище, упрятанном под землёй на острове в центре Парижа.
Рядом с сияющей золотом осени площадью позади Нотр-Дам узкие каменные ступени приводят в гранитную обитель — храм, сооруженный парижанами в память людям всех национальностей, погибшим в нацистских застенках. Ужасом и скорбью пропитаны стены этого удивительного памятника. Ими дышат надписи на стенах. Они звучат и в другом стихотворении Кастлера: «Поражение Франции в 40-м году».
«Ужасно видеть на примере своего народа как целое государство умирает в смертельных судорогах. И мы плачем над его трупом. Ужасно сознавать, что павшие отдали свою жизнь напрасно. Разрушились все высокие устремления!
Мы же, мы же, живём дальше! И солнце снова встаёт и заходит. И выжившие снова спят, едят и пьют. И страдания сердца и душевные муки затихают в борьбе за дом, платье и хлеб!»
Личная драма Кастлера родилась вместе с ним. Книга стихов написана на немецком языке и имеет подзаголовок: «Немецкие песни французского европейца». В предисловии к книге говорится: «Здесь отображается раздвоение и отчаяние человека, который из немецкого детства врос во французскую жизнь и внезапно потерял почву под ногами».
Война заставила Кастлера сделать свой выбор. Он не остался между двумя стульями. Ужас перед безумием фашистского режима привёл его в ряды французского Сопротивления. Своё отношение к фашистской авантюре в Советской России Кастлер выразил в коротком стихотворении: «Оккупационному батальону, отправляющемуся в Россию. Бордо, осень 1941 г. Пойте, пойте ранним утром! Но знайте, чем песня кончается…»
Попав в эпицентр борьбы между двумя своими отечест вами, Кастлер с горечью писал:
«Время шло и крутились его колеса. Я с милой девушкой построил свой дом во Франции. И когда затем немецкий кулак разрушил мой дом и двор, я заботился о том, чтобы в моих детях не прорастали зёрна мести. Но я всё ещё вижу как над Сеной и Рейном раздуваются ядовитые дымы…»
Жажда успокоения, желание избавить будущие поколения от ужасов войны звучат и в стихотворении «Мир на земле»: «Давайте забудем ужасы и страдания! Кто может их оценить и измерить? Давайте снова создавать мир на земле. И будем доверять будущему!»
Даже бегло просматривая эту книгу, сознаёшь, что она создана большим поэтом. Любовные стихи, переводы из Верхарна, гражданская и философская лирика, сатирические стихи…
Читая книгу стихов Кастлера, понимаешь, что и другое раздвоение личности — между поэзией и наукой — не обходится для него без боли. Стихотворение «Мастеру»: «Тебя преданно греет муза возле своего огня. Я же для неё только случайный гость. Молю об улыбке, а рука уже берёт страннический посох».
…Сейчас всё чаще говорят о том, что наука молодеет. Утверждают, что лишь юность способна к дерзким порывам, к мощным броскам в неведомое. И приводят примеры. Убедительные в своей очевидности. Клеро придумал своё уравнение в 18 лет и был избран в Парижскую Академию. Галуа, умерший совсем юным, навсегда остался в науке. Творцы квантовой механики создали её на пороге первой четверти своей жизни. Казалось, прав Александр Твардовский: — А в сорок лет, чего уж нет, так никогда не будет!»
Но примеры не доказательство. Ведь существуют и опровергающие примеры.
Один из них — жизнь и творчество профессора Кастлера. И свои главные научные труды, и свою книгу стихов он создал зрелым мужем.
Его приход в науку нельзя сравнить с внезапной вспышкой звезды. То ли в силу своего происхождения, то ли из-за войны, но прочного положения он добился поздно. Лишь в пятьдесят лет он получил звание профессора Сорбоны.
Замечательные научные результаты, принесшие Кастлеру Нобелевскую премию, тоже получились не сразу. К ним он шёл долго и упорно. В своей Нобелевской речи он говорил: «Эксперимент, который я провёл с помощью Ф. Эскланьона в Лаборатории физики Высшей Нормальной Школы в Париже во время пасхальных каникул 1931 г., окончился неудачей: фотон не имеет поперечной компоненты момента количества движения. Но и здесь меня опередил Р. Фриш, который пришёл к аналогичным выводам несколько раньше».
Шли новые эксперименты, Кастлер защитил диссертацию («Моя диссертация была посвящена приложению прежнего метода к атомам ртути. Она позволила мне проверить различные предсказания…»)
В молодости он занимался главным образом оптикой и достиг в ней известных успехов. Бурное развитие радиотехники в годы Второй мировой войны открыло перед ним новые возможности. Вернее, он обнаружил многообещающие перспективы в объединении оптики с радиотехникой.
Многие и до него пытались объединить — сложить воедино возможности света и радиоволн. Ещё на заре радиотехники Маркони из Англии зажигал огни на яхте, плававшей по Средиземному морю. Эффектная демонстрация, не более того. Впоследствии учёные добивались большего.
Кастлер не желал ограничиваться сложением. Он знал, — умножение больших величин даст гораздо больше, чем сложение. Умножение — это глубокое органическое объединение, а не простое присоединение. И он сумел слить их воедино, методы радио и методы оптики.
Он облучал пары ртути одновременно световыми волнами и радиоволнами. И, глядя в спектроскоп, замечал и показывал своим сотрудникам такие тонкости в строении атомов ртути, которые не приходилось до того наблюдать.
Ему удавалось с огромной точностью измерять сокровенные характеристики атомных ядер. Отмечать тончайшие реакции ядер на изменение внешних полей.
В это время Кастлер решил основать из учащихся Высшей Нормальной Школы исследовательскую группу для более широкого исследования.
— Эта молодёжь, — говорит он, — внесла существенный вклад в общий труд. Тем временем методы, которые мы разработали и пропагандировали, были приняты в большом числе зарубежных лабораторий. Освоение их сопровождалось целым рядом существенных технических усовершенствований, которые в свою очередь были позаимствованы нами и явились для нашей группы источником значительного прогресса. В процессе наших исследований мы часто получали удовлетворение, видя, как наши предположения и предсказания подтверждаются экспериментами. Нередко, однако, случалось и обратное, когда данные эксперимента противоречили нашим предсказаниям и ставили перед нами проблемы, решение которых приводили к результатам столь же интересным, сколь и неожиданным.
Но это было только началом. На этом этапе Кастлер при помощи сотрудников создал один из наиболее чувствительных методов радиоспектроскопии. Прорубил один из путей, по которому устремились исследователи.
Вскоре дорога раздоилась. Кастлер и его последователи увидели возможность применить свой метод для достижения важных практических целей. Так были созданы лёгкие компактные атомные часы, почти не уступающие по точности громоздким атомным эталонам, укрытым в подвалах метрологических институтов. Так появились точнейшие магнитометры, непрерывно следящие за малейшими микропульсациями земного магнитного поля, исследующие магнитные поля Космоса, Луны и планет, помогающие при разведке полезных ископаемых… Ожидалось появление атомных гироскопов, способных вытеснить потомков дет ских волчков из арсенала штурманов и навигаторов.
Влияние идей и личных достижений Кастлера на оптику, квантовую электронику и технику было достойным основанием для присуждения ему Нобелевской премии по физике за 1966 год.
Во время нашей беседы в Париже академик Кастлер сказал, что работы, которыми он руководит, продолжаются и входят в многообещающую и перспективную фазу. Его сотрудник, молодой физик Коэн-Таннуджи получил очень интересные результаты, которые должны иметь большой резонанс.
Альфред Кастлер пользуется большим почётом во Франции. В его популярности я убедилась, когда он пригласил меня посетить Дворец Открытий. Его ждали руководители музея, щелкали фотоаппараты, все стенды были наготове. Посещение Дворца ведущим физиком Франции было большим событием.
Меня поразил этот научный Лувр. Организованный в 1937 году замечательным французским физиком Жаном Перреном, он вместил в себя все самые важные открытия человечества. И хотя я всё ещё была под большим впечатлением утреннего посещения Лувра, я с вновь вспыхнувшим восхищением впитывала в себя увиденное.
От зала космоса, многие экспонаты которого подарены Парижу нашим Политехническим музеем, мы шли по пути самых важных научных открытий в физике, оптике, науке об электричестве и магнетизме, биологии, медицине. Через новейший кибернетический зал; через зал с электрическими скатами в аквариумах, демонстрирующими задачи бионики; мимо клеток с голубями, на которых опробуются новые методы обучения; задерживаясь у действующих моделей атомного реактора и рубинового лазера; у стендов, где школьники, студенты или просто желающие могут повторить те или иные, сделавшие эпоху в науке, знаменитые эксперименты, — мы шли из зала в зал и во мне невольно зрела крамоль ная мысль.
В Лувре ярко выделяются три ошеломляющих шедевра — Венера Милосская, Ника Самофракийская, Джоконда. Если бы многие из остальных экспонатов и не дошли до наших дней — уровень цивилизации не стал бы от этого качественно ниже. Во Дворце Открытий тоже не всё равноценно, там тоже есть снежные вершины человеческой мысли, есть пики и пониже. Но там нет ни одного экспоната-открытия, без которого человечество могло бы обойтись. Обойтись без риска стать чуточку в чем-то беднее. Каждое из открытий является ступенькой лестницы, по которой человечество взобралось в сегодняшний день.
Поражает полнота экспозиций этого изумительного музея научной мысли. Я поделилась своим впечатлением с Кастлером. Он согласился со мной. Потом, рассмеявшись, сказал, что одно открытие тут забыто. И прочёл шуточную балладу (из своей книги) о профессоре, которого ночью разбудил крик петуха. Учёный глубоко задумался — о чём это кричит петух? И немедля написал в Парижскую Академию наук: я сделал великое открытие в куриной психологии. Я догадался, что петух принял месяц за солнце! Баллада кончается так: «Следующий день в Ханахене был полон ликующих криков: одна из кур и господин профессор оба снесли по яйцу!»
Уже несколько часов мы ходим по музею. И мне показалось, что Кастлер начал уставать (всё-таки ему семьдесят лет).
— Как быть, Мамед? — шепнула я Алиеву, физику из Ба ку, стажирующемуся у Кастлера. — Пора кончать? Он удивился:
— Ни в коем случае! Профессор приходит в лабораторию рано утром и до вечера трудится наравне со всеми.
В этот день было ещё много впечатлений, открытий, шуток. Мне запомнился шуточный комментарий Кастлера к эффекту Комптона. Так называется важное открытие американского учёного, суть которого сводится к следую щему: квант света — фотон, столкнувшись с электроном, передаёт ему часть своей энергии и меняет направление своего полёта.
К чертям! — закричал электрон, Кто так меня пнул?
Прости, — зарыдал фотон, Во всем виноват Комптон, На это меня натолкнул. Я тоже шишку набил, Свой путь совсем изменил.
… Возвратившись в Москву я отыскала в книге Кастлера балладу, услышанную мною в Париже об «эпохальном» открытии в куриной психологии. Она называлась «Comptes rendus de Academie de Sciences», и в конце её стояло: 1931, 193, 1049. Так называется журнал — «Доклады Академии наук», а цифры означают год, номер тома и страницу. Совсем, как ссылка в конце научной статьи.
Я взяла в библиотеке этот том и на указанной странице нашла раздел «Психология животных» — и в нём сообщение некоего Бижурдена. Оно коротко и его стоит привести целиком.
«О влиянии луны.
М.Ж. Бижурден
В ночь с 28 на 29 июля в 24 часа 30 мин. + 5 мин. (летнего времени) пел петух, хотя было далеко от его обычного времени. Заметим, что небо было чистым, а луна полной. Без сомнения петух уже спал и проснувшись рассудил, что уже день. Я указываю на этот факт, поскольку он позволяет объяснить различные влияния луны».
А в конце была добросовестная ссылка на другого учёного, написавшего на эту же тему статью «Ночное пение петуха, как тема научного исследования». Бижурден отдавал ему должное: «Этот учёный исследовал вопрос со всех точек зрения, в частности с точки зрения детерминизма».
Вчитайтесь в глубокомысленную учёность этих строк! Обратите внимание на то, с какой точностью зафиксирова но время, на глубокое знание повадок кур, на всеобъемлющее заключение, на традиционное указание предшественника и на не менее глубокомысленное название его труда!
Что это, пародия? Или такие сообщения действительно выслушивались членами Парижской академии наук?
Пожелтевшие за сорок лет страницы одного из наиболее авторитетных научных журналов свидетельствуют, что учёные мужи действительно выслушали это сообщение. Более того, месье Бижурден был членом Академии, иначе после его фамилии была бы указана фамилия академика, представившего коллегам его труд!
Всё было всерьёз! И поэт-учёный едко высмеял «выдающееся» открытие.
Это одно из немногих весёлых кастлеровских стихотворений. В его книге больше грустных и глубоких. Последнее стихотворение: «Кипарисы южного кладбища, мрачно и гордо глядите вы в небо. Восклицательные знаки смерти, вы обращаетесь к нам, живущим!»
Стихи, как эти кипарисы, связывают живых и мёртвых. Словно эстафета передаются они от поколения к поколению. «Они говорят будущим людям: мы плоды любви, страдания, борьбы, не пренебрегайте нашей судьбой!»
Альфред Кастлер подарил человечеству не только научные открытия — плоды своего интеллекта, но и поэзию души, опыт своей жизни.
ГЛАВА 6
Не в силах мы измерить глубину морского простора, где шумят волны. И я вздыхаю. Идут дни, гора Хиз снова покрыта снегом, я охвачен печалью…
Хидэки ЮкаваОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО-ЯПОНСКИ
Французский сатирик Пьер Данинос в своей книге «Записки майора Томпсона» пишет: «Лишь тот, кто проехал всю Францию за две недели, может увезти в своём чемодане стандартное представление о ней и берётся утверждать, что по-настоящему знает эту страну. Но тот, кто живёт во Франции постоянно, каждый день заново убеждается, что ничего не понимает в ней, или же вдруг узнаёт что-то такое, что полностью перечёркивает его прежнее представление об этой стране».
Если исходить из формулы Даниноса и распространить её на Японию, где я пробыла три недели, я попала в промежуточное положение — не две недели, но и не всю жизнь. Прожив лишнюю неделю, я потеряла возможность козырять знанием Японии. Но ещё не приобрела права утверждать, что мне о ней ничего не известно, или говорить, что разочаровалась в своих ожиданиях.
А ожидания мои наслаивались годами и восходят к раннему детству, когда я часами любовалась бабушкиной шкатулкой, на которой золотом по чёрному лаку был изображён изящный конус, парящий в безграничном пространстве, и под ним едва намеченный невиданный пейзаж, и домики, и ниже — море. А на нём лодки. Лодки, похожие на прекрасных птиц, уже расправивших одно из крыльев, чтобы в следующий момент взмахнуть обеими и уйти ввысь к призрачному конусу.
Так в мою жизнь вошла Япония, столь отличная от всего, что меня окружало. И я часто задумывалась, почему конус на шкатулке именуется Фудзиямой? И должно было пройти много лет, прежде чем я смирилась с тем, что «яма» никак не связана с кратером на вершине этого потухшего вулкана.
Позже моим воображением овладела опера, и «Чиочио-сан» сделала мои представления о Японии яркими и певучими и, как я теперь поняла, ещё более далёкими от действительности.
В юности я читала запоем, но книги о Японии попадались редко, хотя я поглощала всё — от немногочисленных переводов японских классиков до невыразительных романов европейских авторов, подобно Пьеру Лоти, тяготевших к Востоку, и непринуждённо надстраивавших всё новые этажи на фундамент, заложенный моей любимой шкатулкой.
Потом в мою жизнь вошли букинисты, и круг возможностей расширился, у меня появились забавные книжки серии «Библиотека туриста», изданные Акционерным обществом южно-маньчжурской железной дороги. Всё это было написано ещё до моего рождения, но я с удовольствием смаковала сладкую японскую клюкву, специально выращенную для того, чтобы разжигать воображение снобов, ибо в те далёкие времена туризм был привилегией богатых лю дей.
Шли годы, росло и крепло во мне желание увидеть Японию своими глазами.
Предыстория моей поездки в эту страну носила несколько юмористический характер. В адрес Союза писателей СССР пришла из Японии лаконичная телеграмма:
«Просим вашего члена Ирину Львовну Радунскую прочесть Токио лекцию безумным идеям».
Если учесть, что в старом справочнике членов Союза писателей СССР моя фамилия ещё не значилась, что консультанта Союза писателей по Японии тоже звали Ириной Львовной и что приближалось первое апреля, можно представить себе тот лёгкий переполох, который произвела невинная ласточка из Токио.
Лишь из последовавших затем писем стало ясно, что меня приглашает в Японию директор издательства «Ратэис», которое выпустило на японском языке мою книгу «Безумные идеи». Директор издательства господин Мипуру Машика писал, что «книга имеет бурный успех среди японского народа», и просил меня посетить страну и прочесть несколько лекций на тему книги.
Я не была ни туристом, ни частным гостем, ни членом делегации, и это наложило отпечаток на всю поездку, многого меня лишило, но и многое дало. Лишило возможности увидеть в Японии всё то, что положено осмотреть туристу, что для него запланировано и отобрано специалистами, знакомыми со страной. Уезжая домой, я с горечью перебирала в памяти все эти так и не увиденные достопримечательности (известные мне по туристическим справочникам и книгам), оставшиеся для меня тайной. Я чувствовала себя в положении человека, которому дали пригубить незнакомый напиток, и пока он старался дать себе отчёт в том, нравится он ему или нет, у него отобрали бокал.
Прошло немного времени. И теперь я поняла, что взамен утраченного получила бесценную компенсацию — ред кую возможность встретиться и поговорить с сотнями своих незнакомых, иноязычных читателей. Узнать их мнение о моих книгах, рассказать им о нашей стране.
Памятники старины, дворцы, храмы, которые я успела посмотреть, вспоминаются мне реже и реже. Воспоминания же о встречах и беседах с простыми японцами делаются ярче и кажутся всё более важными. Сейчас я понимаю, что получила от поездки то, чего никогда бы не узнала, будучи членом туристической группы или официальной делегации.
Именно в общении с читателями в основном и заключалась программа поездки, составленная для меня издательством «Ратэис», японским Комитетом содействия переводам и изданию советских книг в Японии и крупнейшим в Японии книготорговым концерном «Марузен», Я не говорю о пресс-конференциях с корреспондентами токийских газет в первые дни, последующих интервью с репортёрами газет Киото, Нагоя и Осака, дискуссии о путях познания и научного творчества, устроенной Центральным японским телевидением. Центр тяжести программы лежал на встречах с читателями, устраиваемых в основном в книжных магазинах нескольких японских городов.
Машика-сан сказал мне:
— Ваша книга за полтора года выдержала десять изданий, и большую часть продал концерн «Марузен». Издательству очень важно закрепить связь с этим концерном, имеющим самые большие магазины по всей стране.
Ах вот почему, подумалось мне, в числе встречавших на аэродроме был господин Масао Наката, директор крупнейшего в Токио книжного магазина на Нихонбаши. Вот почему в Киото и Нагое пресс-конференции устраивались прямо в магазинах. Наверно, поэтому и сам директор «Ратэис» сопровождает меня в поездке по стране.
Наблюдая непосредственные контакты издательства и книжных магазинов, я поняла, что в них заложена возможность оперативно чувствовать потребность и реак цию читателя на изданную книгу. Замкнутая цепочка «издательство-магазин-издательство» помогает осуществить чёткую обратную связь, столь популярную сейчас в науке, технике и в других областях, где затрагиваются проблемы управления и где существует насущная потребность сделать эти процессы более эффективными. Обратная связь в издательском деле, как я увидела на примере Японии, помогает получать прибыль: там переиздаются только те книги, которые пользуются спросом и не лежат мёртвым грузом на прилавках и складах, создавая убыточное скопление макулатуры.
Гибкость издательской политики японских предпринимателей обеспечивается тем, что первоначально печатается небольшой тираж, несколько тысяч или даже сотен книг. И если они не расходятся или продаются плохо, их печатание прекращается. Книга не нашла читателей, рассуждают издатели, нечего рисковать. Если же книга раскупается, тираж допечатывается. При этом, только при этом, усиливается реклама книги, ибо тратить средства на рекламу бесперспективной книги, считают издатели, — лишь увеличивать убытки.
Чтобы не быть голословной, мне придётся опереться на свой опыт. Когда стало ясно, что «Безумные идеи» принесли издательству успех, оно начало раз за разом допечатывать книгу, увеличивая тиражи, и затем решилось на беспрецедентный в своей практике шаг — пригласило в страну автора, организовало его поездку по главным городам, лекции, пресс-конференции. Привлекло к автору и книге внимание газет, телевидения и радио.
Более того, к моему приезду издательство перевело мою вторую книгу — «Превращения гиперболоида инженера Гарина». И когда я посещала магазины, эта книга уже продавалась. Но что меня особенно поразило — покупатели брали её в двух экземплярах. Сперва я удивлялась. Потом решила, что каждый берет её и для кого-нибудь из знакомых. Во мне уже начала возникать гордыня. Хорошо, что я вовремя спросила господина Машика, почему первую книгу берут по одному экземпляру, а вторую обязательно по два? Всё оказалось очень просто, хотя и неожиданно. Вторую книгу не только перевели, но, опираясь на успех предыдущей, разбили на два тома, проиллюстрировали и… как следствие — повысили цену! Судите сами.
«Безумные идеи» изданы в роскошном переплёте, в специальной папке, на прекрасной бумаге и стоит 1200 иен (на эту сумму в Японии можно купить 10–15 пар хороших нейлоновых чулок). Объём её — 20 печатных листов. В «Гиперболоиде» — только 15, но оба тома стоят 1500 иен!
Такая практика книготорговли вовсе не монополия издательства «Ратэис». О гибкости японских издательств мне много рассказывали работники других издательств и книжных магазинов.
Когда я, в свою очередь, рассказывала своим новым знакомым, что у нас тираж книг определяется заранее, на основе заявок, поступающих из магазинов и библиотек, господин Машика процитировал слова В.И. Ленина о пользе планирования и со вздохом добавил:
— У нас, к сожалению, это невозможно. Капиталист, цитирующий Ленина, — это первая экзотика, которая меня поразила в Японии.
Итак, первый и главный компонент японской издательской политики, которую я наблюдала, это обратная связь между издательством и книжными магазинами. Второй — реклама. Газеты печатают интервью и рецензии, много рецензий. Портреты автора и аннотации его книг выставлены в витринах магазинов, в торговых залах и даже на уличных щитах. По радио объявляется, что в такое-то время в такомто магазине будет присутствовать автор. И сюда приходят те, кто уже купил книги и хочет поговорить с автором, получить автограф, а также новые покупатели. Студенты, молодые рабочие и служащие, старые интеллигенты — все они с большим интересом расспрашивали меня о России. Встречи проходили неофициально, без трибуны, вопросы — ответы, чаще все го через переводчика, иногда по-английски и даже по-русски.
Задаваемые вопросы поражали меня — как мало, досадно мало знают рядовые японцы о России! А интерес велик — их занимают самые неожиданные стороны нашей жизни, удивляют вещи, для нас тривиальные.
Но и для меня эти беседы были откровением. Оказалось, научно-художественная литература находит в Японии грамотных и зрело мыслящих ценителей. Техника там чуть ли не предмет культа. Но я не могла понять, мои книги о наиболее парадоксальных и дерзких идеях и открытиях современной науки, книги, предназначенные для молодёжи, покупают бизнесмены? (Еженедельник «Асахи» писал: «Когда госпожа Радунская узнала, что в Японии её книги кроме широкого читателя читают как учёные, так и специалисты по экономике и деловые люди, она очень удивилась».)
Японские друзья указали мне на любопытную ситуацию, возникшую в последние годы в мире японской науки и техники. Об этом пишет и рецензент из японского журнала «Современность»: «Японцы интенсивно развивают науку и технику, но большинство наших достижений — не собственное открытие, это подражание. Поэтому нам нужно учиться делать фундаментальные открытия, о которых рассказано в книгах “Безумные идеи” и “Превращения гиперболоида инженера Гарина”. Нам надо понять, каким образом рождаются “безумные” идеи. Без понимания этого мы отстанем от мирового развития».
И автор рецензии приводит такой пример: «Фирма “Сони” долго производила цветные телевизоры, применяя для воспроизведения изображения так называемый метод макротрона, разработанный американской кинофирмой “Парамоунт”. Конечно, мы несколько улучшили их метод. Но этого недостаточно. Японское научное и техническое развитие до сих пор было основано на улучшении иностранных методов — этому надо положить конец. И фирма “Сони” теперь открыла свой метод, который на много улучшил качество японской аппаратуры. Это пример того, как новые идеи приводят к рождению новых товаров и приборов».
В Японии остро поставлен вопрос о необходимости своих собственных технических идей, о проблеме научного творчества, о целеустремлённом воспитании молодых учёных.
Об атмосфере интенсивных поисков национального научного лица, которая царит в японской науке, рассказал мне академик Хидэки Юкава.
ВСТРЕЧА С ХИДЭКИ ЮКАВОЙ
Япония дала миру немало известных учёных. Достаточно назвать Нагаоку, в начале века предвосхитившего планетарную модель атома. Или Нишижиму, одного из создателей теории элементарных частиц. Или Шимоду и Яманаку, специалистов в области квантовой электроники.
Но Юкава занимает особое место в науке. Юкава не просто ведущий учёный Японии и её единственный Нобелевский лауреат, он — целая эпоха в мировой науке.
Юкава — сподвижник Гейзенберга, Бора, Эйнштейна, Луи де Бройля, Дирака, этих «сердитых» молодых людей, представителей естествознания начала нашего века, вскрывших пороки классической физики и заложивших основу нового, квантового мироощущения. Юкава — создатель теории ядерных сил, сыгравший решающую роль в покорении атомного ядра.
Мне предстояла ответственная встреча, и к ней нужно было подготовиться. Я просмотрела Большую советскую энциклопедию — все, что написано там о Юкаве в двух статьях: «Юкава Хидэки» и «Мезон». Но сведений мне явно не хватало. Я не знала Юкаву-человека и обратилась к друзьям-физикам. Кто и когда видел Юкаву? Оказалось, за год до того у него в Киото был академик Виталий Лазаревич Гинзбур, в 2003 году он был Нобелевским лауреатом, и он рас сказал мне о своём впечатлении. Но лучше всех знает Юкаву академик Игорь Евгеньевич Тамм. Они встречались несколько раз, да и в молодости их связывала общая работа, не очень удачно завершившаяся для Тамма, но принесшая мировую славу Юкаве.
Итак, Тамм лучше всех знает Юкаву. …Пасмурным осенним вечером я еду в подмосковную Жуковку. Тогда мы ещё не знали, что жизнь Игоря Евгеньевича скоро оборвётся. Он был приветлив, доброжелателен. Однако говорил с трудом, его состояние выдавали беспокойные иссохшие пальцы. Мне показалось — он рад разговору, быть может отвлекавшему его от болезни и гнетущих мыслей. Вероятно, на него приятно подействовали воспоминания. Те, кто участвовал в становлении новой физики, в научных битвах, приведших к рождению квантовой физики, не могут не волноваться, вспоминая эти бурные годы.
Изнуряющие дискуссии между Эйнштейном и Бором. Сметающая преграды дерзость Гейзенберга, Дирака, Шредингера, де Бройля. Клокотание мысли во всех университетах мира. Это они, молодые, отбросив декартовское, казалось, беспроигрышное, правило, гласившее, что реальным и конкретным считается лишь то, что можно изобразить «посредством фигур и движений» (попросту говоря — потрогать руками), заговорили о вещах и понятиях, которые никак не подходили под это правило. Физики предсказывали поведение предметов, которых не только не видели, но и не могли увидеть и тем более потрогать, — речь идёт об электронах, электромагнитных полях, ядрах атомов… Старики классики упрекали молодых в увлечении абстрактными рассуждениями, но не могли «схватить за руку». Предсказания оправдывались, формулы давали точные ответы на вопросы, картина строения материи становилась всё более ясной.
К 1927 году новая физика обрела права гражданства. Волны, бушующие вокруг центра научных битв — Копенгагена, разбегались по всему свету и не могли не достичь Япо нии. В это время в Киотском университете готовился стать физиком двадцатилетний Юкава. Окончив учёбу в 1929 году, он был полон отваги и намерения сокрушить загадки мироздания. Какая же первой попалась ему под руку?
Родись он чуть раньше и вступи в XX век зрелым учёным, он, возможно, посчитал бы, что знает об окружающем мире всё или почти всё. В начале века учёным, воспитанным на классической физике, мир казался ясным, как дважды два, и сотворённым из двух сортов частиц — электронов и протонов. Из этих элементарных частиц они мыслили себе строение всех вещей и предметов: звёзд и земли, цветов и людей. Из них казался построенным весь простой и сложный, многообразный мир: вода и воздух, горы и долины, Азия, Африка, Европа — в общем, всё и вся.
Но то поколение, к которому принадлежал Юкава и старший на двенадцать лет Тамм, в это больше не верило. Молодые всё больше ощущали чувство неблагополучия. Им никак не удавалось поверить в то, что множество различных элементов образуется из двух сортов материи.
Сомнения усилились ещё больше после того, как в 1932 году англичанин Чедвик открыл ещё одну частицу — нейтрон, во многом похожий на знакомый уже протон, но совершенно лишённый электрического заряда. Иваненко и Гейзенберг сразу попытались пустить новую частицу в дело: с её помощью они начали мысленно строить новую модель ядра атома. Партнёром нейтрона они взяли старую частицу — протон. Модель хорошо описывала многие свойства атомных ядер, но в ней не хватало самого главного. Тайной за семью печатями оставался вопрос о том, как протонам и нейтронам удаётся сплестись в столь прочный клубок, каким является атомное ядро. Ведь это не дом, где кирпичи связаны цементом, не машина, части которой соединены заклёпками, не живой организм из клеток. Что же такое — атомное ядро? Что связывает его в единое целое? Короче, какова природа ядерных сил?
В том же, 1932 году Тамм, который в это время руководил кафедрой теоретической физики в Московском университете, высказал предположение, что протоны и нейтроны удерживаются внутри ядер неизвестными ещё мощными силами, которые создаются при участии электронов. Это была обнадёживающая гипотеза, но расчёты показали Тамму, что сила эта получается в тысячу миллиардов раз слабее, чем нужно для удержания протонов в ядре. А ядра тем не менее существуют! Мир всё ещё не развалился на части! Скрепя сердце Тамм отказался от своей гипотезы.
Но ход мысли был дан. Указан путь. И эстафету принял молодой Юкава. Да, размышлял он, ядра существуют. Это объективная истина. Вероятно даже, что они действительно построены из нейтронов и протонов. Несомненно даже, что какие-то, пока неизвестные, силы удерживают их в ядрах. Но совсем не обязательно, чтобы эти силы создавались именно электронами. Быть может, тут замешаны иные частицы? Ещё неизвестные? Если есть три сорта частиц, почему бы не быть четвёртому?
Юкава решил выяснить это, описав строго математически, без натяжек и упрощений, с учётом всех возможных фактов то, что было известно о ядре. Он решил довериться математике — пусть уравнения сами вскроют природу новых частиц, найдут силовое поле, способное сцементировать атомное ядро.
И Юкава написал систему уравнений, объединяющих в себе квантовую теорию и теорию относительности, два самых мощных орудия современной физики. Что же сказали уравнения? Они показали Юкаве неизвестное дотоле особое ядерное поле, обладающее уникальными свойствами. Оно достигает на малых расстояниях от центра ядра колоссальной величины, но быстро убывает в пространстве. Юкава, как говорят, на кончике пера нашёл и частицы, образующие это поле. Он назвал их мезонами — «промежуточными», потому что уравнения сообщили ему величину их массы. Она должна быть в 200 раз больше, чем у электронов, и в 9 раз меньше, чем у протонов и нейтронов.
Картина строения ядер, нарисованная Юкавой, поразила учёных. Она была гениальна и проста.
Представьте себе такую ситуацию. Вдоль дороги идут двое. Не останавливаясь, они всё время перебрасывают друг другу мяч. Мяч связывает их, не даёт им ни разойтись, ни сблизиться вплотную. Если издали смотреть на этих людей, то мяча не видно, и можно думать, что их удерживают друг возле друга некие незримые силы. Подобные силы притяжения испытывают протоны и нейтроны в атомном ядре — говорит теория Юкавы. Они всё время перебрасываются мезонами, они могут без отдыха миллионы веков играть этим своеобразным, связывающим их «мячом». И вечно будет существовать окружающий нас мир, следуя этому мудрому закону природы.
— Так Юкава разрубил запутанный узел, — закончил свой рассказ об удивительных событиях науки не таких уж далёких дней Игорь Евгеньевич Тамм. — Он нас всех поразил. И продемонстрировал мощь японской физики.
Несмотря на впечатляющее действие этой теории, она долгое время разделялась далеко не всеми физиками. Вспомните, найденный Юкавой «мяч» должен быть по массе в 200 раз тяжелее электрона. Но таких частиц тогда не знали. Мало кто из физиков соглашался поверить в их существование. Юкава не экспериментатор, а теоретик, следующий шаг должны были сделать экспериментаторы.
Оставалось ждать. У Юкавы оказались крепкие нервы. Он объявил учёным, что следует активно искать новые частицы, они должны быть найдены. Без них немыслимо существование атома.
И эти частицы действительно были обнаружены. Но не сразу. На это потребовалось около десяти лет. Правда, уже через год американец Андерсон сообщил, что он открыл частицы с массой, равной 207 массам электрона. Он назвал их мезонами. Однако вскоре выяснилось, что эти мезоны — вовсе не те мезоны, которые предсказал Юкава. И лишь разработав сверхчувствительную методику, англичанин Поуэл в 1947 году нашёл мезоны Юкавы.
За это время Юкава уже стал членом Японской академии наук. А через два года, в 1949 году, он получил официальное мировое признание, став лауреатом Нобелевской премии, и его пригласили преподавать в Колумбийский университет. В 1966 году Юкава был избран иностранным членом АН СССР.
После того как была завершена теория ядерных сил, начался короткий период относительного спокойствия в этой области физики. Внимание учёных переключилось на другие животрепещущие проблемы. Тамм заинтересовался природой таинственного излучения Вавилова — Черенкова и вместе с академиком Франком построил его полную теорию. Она была настолько важным вкладом в физику, что была удостоена Государственной и Нобелевской премий. Затем Тамм занялся исследованиями в области квантовой теории металлов, и эта работа привела к открытию знаменитых «уровней Тамма». А потом, в 50-е годы прошлого века он выполнил ряд основополагающих исследований по термоядерному синтезу, стал академиком, Героем Социалистического Труда, автором многих замечательных работ. Но последние семь лет жизни снова были отданы напряжённым, мучительным, безрезультатным поискам непротиворечивой теории элементарных частиц.
— Юкава тоже упорно работает над проблемой строения материи, — сказал мне на прощание академик Тамм. — Обязательно поговорите с ним на эту тему и передайте от меня большой привет.
…Сидя на скамейке в саду камней в центре древнего Киото, города золотоверхих дворцов, овеянных легендами, города поразительных парков, где деревья и растения приучены подчиняться не природе, а преобразующим рукам человека; сидя в саду камней, где созерцательность и сосредоточенность могут якобы привести к прозрению смысла жизни, я тем не менее не воспользовалась предоставленной мне возможностью. Не могла отвлечься от мысли, что через час-другой увижу человека-легенду, учёного, разгадавшего тайну бытия.
Встреча с Юкавой была намечена в одном из отелей, где мы должны были принять участие в дискуссии по проблемам творчества.
В три часа дня здесь уже много народу: корреспонденты столичных и киотских газет, издатели, переводчики. Хидэки Юкава, элегантный, со свежим молодым лицом и ослепительной улыбкой, стремительно поднялся мне навстречу.
Мы усаживаемся за маленьким столиком, подальше от нетерпеливо ожидающих журналистов, и я, передав Юкаве привет от его советских друзей, прошу рассказать о новых идеях.
Юкава рассказывает, что спокойствие в физической науке, наступившее после выяснения природы ядерных сил, длилось недолго. Экспериментаторы обрушили на головы теоретиков сотни типов мельчайших частиц, которые по очереди объявлялись элементарными, то есть неделимыми.
Он берёт из моих рук записную книжку и чертит строение атомного ядра и взаимодействие его с элементарными частицами, как он себе это представляет.
Кто работает над теорией вместе с ним? Его ученики — Катаяма и Хара. Один из его талантливых учеников, пятидесятилетний Саката, умер год назад, с горечью добавляет он, передайте это академику Тамму, они были знакомы.
В каком состоянии находится сейчас теория элементарных частиц?
Я завершил её, — говорит Юкава. Как когда-то с теорией мезонов, он ждёт подтверждения теории экспериментом.
— Как другие физики относятся к вашим результатам?
Я задаю этот вопрос не случайно. Вокруг не выясненного до конца вопроса всегда есть несколько точек зрения. Ди рак, Гейзенберг, Боголюбов и другие большие учёные современности имеют свои мнения, и они не совпадают. Кто из физиков разделяет взгляды Юкавы?
— Особенно мне близки глубокие работы советского академика Маркова, — говорит Юкава. — Он видит теорию элементарных частиц в том же свете, что и я. Наши точки зрения совпадают.
Я слушаю Юкаву и думаю о том, дождётся ли наше поколение раскрытия одной из главных тайн мироздания…
Мы выходим к журналистам и уже все вместе направляемся в банкетный зал, к длинному столу. Но я не могу добавить — уставленному аппетитными яствами. Настал час прессы, и стол заполнился магнитофонами и блокнотами, началась многочасовая пресс-конференция. Разговор идёт о специфике творчества, о психологии творческой личности, тайне человеческого мозга, способного на чудо открытий и прозрений. Мы все вместе пытаемся нащупать ответ на вопросы, которые давно занимают человечество: что такое психика, что такое вдохновение, как объяснить способность человека мыслить? Каков механизм взаимодействия интуиции и точного знания, как кванты и музы объединёнными усилиями прокладывают путь прогрессу…
У меня такое ощущение, словно я не в Японии, не в Киото, а дома, в Москве, на одном из семинаров берговского Совета по кибернетике! Сколько раз я слышала там обсуждения тех же вопросов, почти в той же формулировке!
Да, XX век сблизил континенты, народы, сделал нас, жителей Земли, единой семьёй с общими проблемами и заботами…
Юкава рассказывает, что последние двадцать лет он размышляет над природой открытий. Вместе со своим другом и сотрудником профессором Ичикавой, автором книги «Наука творчества» (он присутствует на встрече и принимает самое деятельное участие в беседе), Юкава пытается понять механизм работы мозга.
Юкавой и Ичикавой созданы теория «аналогичных по ложений» и теория «равных соотношений», которые, по их мнению, придают законченность, обобщённость системе наук. Я попросила рассказать подробнее об этих теориях.
— Коротко сделать это трудно, — сказал Юкава, — но попробую объяснить на примерах. Вы знаете немецкого классика Больцмана. Самое замечательное его открытие заключается в том, что он нашёл связь между двумя, казалось бы, абсолютно разными явлениями — энтропией и вероятностью. Второй пример: Планк тоже связал разные понятия — частоту колебаний электромагнитных волн и их энергию. Создав понятие кванта, он доказал, что можно исходить из мысли о тождественности или подобии разных явлений. Столкнувшись с непонятным явлением, нужно постараться найти аналогичное в другой области, уже исследованной. То есть интеллект исследователя, мыслителя должен воспитываться в очень широких пределах. Только тогда у него будут реальные возможности для обобщений.
Я спросила Юкаву, способствовали ли положения теории творчества созданию его знаменитой теории мезонов?
— Трудно сказать, — ответил Юкава, — я не могу утверждать, что применял одно за другим положения теории творчества. Ведь процесс мышления происходит почти бессознательно. Могу только признаться, что до теории мезонов я додумался лёжа в постели. Да, да! Не смейтесь. То, о чём думаешь днём, как правило, буднично. А вот то, что происходит в голове ночью, хотя и бывает ошибочным, почти всегда необыкновенно, удивительно. Когда я ложусь спать, думаю, думаю, и мыслям нет конца. На ум приходят самые причудливые вещи. Конечно, многие из них не выдерживают критики трезвого утра. Но в одном случае из десяти — это очень любопытные мысли. Я записываю их, и наутро просматриваю и размышляю. Разумеется, и теория мезонов не всплыла неожиданно. Я и до того много думал об этом. В голове всплывали разные догадки, потом они стали меня одолевать, преследовать. И во сне, и наяву. И наконец то, что долгое время зрело в подсо знании, вылилось в чёткую форму.
— Значит ли это, что решающую роль в биографии открытия играет подсознание? — спрашиваю Юкаву.
— Мой пример подтверждает именно это. Но думаю, процесс в подсознании далеко не первая стадия озарения и, вероятно, не вторая. Толчок для мысли о мезоне — о необходимости его существования — дан, наверно, давно, ещё тогда, когда я наблюдал что-то (а что — неизвестно) в реальной действительности. Было ли это перед самым открытием или в далёком детстве — трудно сказать.
— В самом деле, — думаю я вслух, — если бы у нас само собой возникало нечто в подсознании без всяких предварительных усилий и занятий, оставалось бы только ждать, когда станешь академиком Юкавой.
Юкава смеётся:
— К сожалению или, наоборот, к счастью, кроме занятий для творчества необходимо настроение, вдохновение.
— И кроме того, — добавляет профессор Ичикава, — нужно уметь смотреть на вещи широким взглядом. Математик Пуанкаре, предвосхитивший рождение теории относительности, говорил так: сперва в подсознании вы думаете о тысяче разных вещей. Потом это как-то переплетается, и в один прекрасный момент осознаётся, обобщается. Так он объяснял своё состояние, когда делал математические открытия. Я считаю, что это скрытое состояние созревания идеи не есть что-то мистическое. Разумеется, это и не реалистические мысли, как мы привыкли понимать в обывательском смысле. Но их можно связать с окончательным результатом, с завершающей мыслью, и рождение её можно научно обосновать. Так и в проблеме творчества — здесь тоже можно проследить путь от рождения мысли до её окончательного формирования. Я думаю, очень правильно связывать творчество с состоянием подъёма, вдохновения, особого рода «безумия», при котором рождается озарение. Конечно, слово «безумие» применяется не в клиническом смысле. Прошло немало времени после рождения теории относительности и квантовой теории, пока учёные не почувствовали, что такой «безумный» подход к явлениям способствует прогрессу. Без особого новаторского образа мыслей невозможно разрешить стоящие перед наукой проблемы…
В ходе беседы я поняла, что вопрос о воспитании мышления, об умении созидать новые идеи является сейчас очень актуальным и в мире японской науки. Процесс творчества и обучение его методам молодых людей, будущих учёных — вот центр притяжения мыслей этих двух японских учёных.
— Советские учёные много думают над проблемой мышления. Каковы их результаты? — спрашивает Юкава.
Я рассказываю об успехах советской кибернетики, науки, в рамках которой сейчас создаются модели работы мозга, намётки программированного обучения.
— Я считаю, — говорит академик Юкава, — будет полезно для наших обеих стран, невзирая на государственные границы, сотрудничать в этом вопросе. Для нас заниматься творческой работой — радость. До сих пор это было уделом немногих учёных и художников в широком смысле слова. Однако хорошо, если бы многие люди могли вести творческую работу. Это, по-моему, идеальная цель для человечества.
— Нам необходимо, — вновь присоединил свой голос профессор Ичикава, — совместными усилиями попытаться полнее раскрыть объём стоящей перед нами проблемы. Накопить материал о том, как приходили к великим открытиям великие творцы. С чего они начинали, как возникали у них замыслы. Творчество существует не для одних лишь гениев. Способность к творчеству можно и должно прививать. Это производная от метода преподавания.
— Да, мы, учёные, считаем, что воспитание творческой личности, изучение проблем творчества тесно связаны в конечном итоге с решением важнейших проблем современной истории, — заключил беседу академик Юкава.
…Когда Юкаве исполнилось шестьдесят, он ушёл от руководства Киотским исследовательским институтом фундаментальной физики, которым руководил много лет. В Японии это жёсткое правило. Достигнув пенсионного возраста, учёный покидает административные посты и полностью посвящает себя творческой работе. Сейчас Юкава почётный профессор Киотского университета. Он живёт в Киото в собственном доме, вокруг которого разбит большой сад. Из окон видна переменчивая гора Хиэ. Юкава часто гуляет у её подножия в лесу — один или с внуками. Сюда его когда-то водил отец, профессор географии, страстный почитатель природы. Возможно, именно он зародил в сыне безграничную веру в мудрость природы, в её рациональность и завершённость. Наверно, он первым поведал ему смысл учения древних натурфилософов, признававших объективность природы, её независимость от нашего сознания. Материализм древнего учения о природе и изощрённость методов современной науки — вот питательная среда творчества Юкавы.
Он много размышляет. Больше, чем когда-либо, увлечён «игрой, в которой люди задают природе вопросы в надежде получить ответ» — так учёные называют физику. Он пишет много научных статей и много стихов. Юкава поэт. Экспромт, который он написал мне на память, я решила вынести в эпиграф к этой главе.
«И путь мой кажется мне беспредельным…» В заключительной фразе этого экспромта был ответ и на мой последний вопрос о дальнейших планах учёного.
Японские знакомые сказали мне, что в Японии Юкаву почитают как первое лицо после императора. Что ж, если страна так воспринимает своих учёных — у неё есть будущее.
В ГОСТЯХ У ТАРО ОКАМОТО
В последнее время много спорят о японских контрастах, удивляются им, недоумевают. Но чему же здесь удивляться? Ставить в тупик может неожиданное, непредвиденное.
А смешение отсталого и передового в стране, долгие века бывшей под замком и вдруг открывшей окружающий мир в расцвете цивилизации, естественно и закономерно.
Есть государства, у которых не было древних традиций. Есть страны, у которых ассимиляция началась гораздо раньше, чем в Японии, и протекала медленнее. Поэтому ей не удивлялись.
Япония разорвала цепи изоляции буквально на глазах одного поколения. На неё обрушился XX век. Он сметает прошлое и вливает новую кровь в организм этой страны. Он преобразует технику, промышленность, быт. Экстаз перед чудом преображения Японии, пожалуй, можно объяснить стремительностью этого процесса, но не существом его.
Открыв себя миру и открыв мир для себя, Япония многое выиграла, многое потеряла. Но главное — почувствовала жажду добиться нового, жить иначе. Японец начала XX века, наверно, онемел бы от возмущения, услышав фразу, которую непринуждённо произносит японец сегодняшний: «Жену хочу иметь японку, но жить хочу по-европейски, а кушать по-китайски…» Это я слышала в Японии от нескольких человек. Давно ли такое заявление могло быть расценено чуть ли не как измена вековым устоям.
Над Японией бушует гроза обновления. Новые комфортабельные дома, отели, заводы и фабрики теснят маленькие домишки. А вместе с ними всё, что их наполняло, всё, что их окружало. Исчезают чудо-садики с культивированной веками мини-природой. Выдёргиваются карликовые деревца. Затихает воркованье микроводопадов. Валятся набок и отправляются на свалку таинственные каменные фонари, веками оберегавшие и сторожившие дома. Конечно, это радостно — теперь в новых домах у рядовых японцев будет канализация, водопровод и больше тепла. Но и печально — пропадает старина с её уютом, неторопливостью, атмосферой по коя и уединённости.
Однако невозможно представить себе рядом с гигантами современной архитектуры прежние традиционные пейзажи. Новое требует другого декоративного оформления, иного внутреннего убранства, иной живописи. Новый уклад жизни, несомненно, должен породить и новое искусство.
Не будем гадать, что станет со стариной — изведут ли её совсем или сохранят в заповедниках, и потомки будут удивляться ей и содержать, как редких животных, оберегая от вымирания… Современного человека интересует не прошлое, а настоящее и будущее. Каким окажется новое искусство? Родилось ли оно? Или только зреет? Приглашая меня в Японию, господин Машика обещал познакомить с одним из ведущих художников страны, автором грандиозной «Башни Солнца», украшавшей выставку «ЭКСПО-70», — с Таро Окамото.
Я знала, что Таро Окамото, представитель нового искусства Японии, пользуется международной известностью. Его работы выставлялись в СССР, Америке, Франции, Мексике и других странах. В художественных кругах мира творчество его расценивается как одно из оригинальных явлений современного искусства.
Чего я ожидала от знакомства с его творчеством? Ещё одной возможности понимания японской действительности — через её новое искусство. Ведь искусство и наука — это те сферы человеческой деятельности, где прежде всего ощущается ветер эпохи. Их содержание, направленность красноречивее всего говорят об устремлениях породившей их нации, о её этических нормах, эстетических склонностях. По содержанию искусства и науки можно точнее всего почувствовать, куда идёт страна, чего она хочет.
К Таро Окамото мы приехали большой компанией: Хидео Мацукава, профессор русского языка и литературы университета в Кобэ — переводчик моих книг, господин Машика и сотрудники издательства «Ратэис» с магнито фонами и фотоаппаратами.
Я затрудняюсь сказать, в какой части Токио расположен дом Таро Окамото. Он стоит где-то недалеко от центра города и тем не менее имеет вид загородной виллы. При нём есть даже небольшой сад, вернее, участок земли, который одновременно является частью летней мастерской, — там стоят готовые скульптуры и те, что находятся в работе. Зимняя ютится в отдельном крытом помещении, и там же свалены мешки с материалами, краски, кисти, заготовки, каркасы. В двухэтажном доме, во всех комнатах, стоят, висят работы хозяина.
В просторном холле целую стену занимает гигантский ковёр, на котором в безумной пляске мечутся полосы самых ярких расцветок. Возле этого ковра, наверно, и в стужу чувствуется тропическая жара. Стулья, кресла — тоже яркие, броские, вычурной формы, некоторые в виде человеческой руки. Запястье руки опирается о пол, на ладони вы сидите, на плотно сжатые пальцы облокачиваетесь. Повсюду небольшие скульптуры, рядом с ними напольные часы, под потолком оригинальные люстры, на стенах картины и бра, тарелки и многие другие принадлежности и аксессуары современного дизайна.
Одну из стен занимают полки, на которых расставлены макеты и модели монументальных работ Окамото: скульптур, архитектурных конструкций. Сами оригиналы установлены в разных городах мира, живут в музеях или кочуют по выставкам, демонстрационным залам. Многие я узнавала по репродукциям и фотографиям в журналах.
На полках стоят и многочисленные варианты знаменитой «Башни Солнца», знакомой теперь миллионам людей.
Входит Таро Окамото. Небольшого роста, широкоплечий, со скульптурным гибким силуэтом. Так и представляешь его на лыжне, наклоненным навстречу ветру. И действительно, он страстный любитель лыж.
В своих домашних тапочках двигается по мастерской стремительно и грациозно. Об искусстве говорит задиристо, убеждённо, безапелляционно. Как человек, знававший и успех, и непонимание и привыкший быть выше этого.
Я спросила его, есть ли у него единомышленники в других странах?
— Пожалуй, самый близкий по духу — мой друг Пикассо, — ответил Окамото.
Более всего меня заинтересовали скульптуры, но не фактической передачей формы предмета. Мне почудилась в них попытка овеществить дух вещи, какого-то абстрактного понятия, попытка выразить определённое чувство. Да, не отрицал Окамото, проникнуть в душу предмета или явления и передать своё впечатление — это его главное намерение, это самое трудное и радостное в творчестве.
Разумеется, беглое знакомство не даёт возможности познать глубину замыслов художника, секрет его творческой индивидуальности. Но я однозначно поняла: то, что видела, несомненно, новаторски современное искусство. Но родиться оно могло где угодно — в Америке, Мексике, Франции, и в том числе в Японии.
Работы Таро Окамото вспомнились мне позже в Грузии, когда Ираклий Очиаури, заслуженный художник Грузинской ССР, показывал мне свою чеканку. Переходя из комнаты в комнату его обширного дома-мастерской, я ни на минуту не забывала, что передо мной — произведения грузинского мастера. И серия работ «Песнь о Грузии», и другие чеканные панно — поэтическое воплощение грузинских художественных традиций. Это же ощущение не только высокого профессионального уровня, но и национального начала в живописи и скульптуре не покинет вас и в других мастерских на той же улице Ницубидзе, которую её жители-художники называют «нашим грузинским Монмартром».
И кстати, на настоящем Монмартре тоже прежде всего чувствуешь национальную принадлежность его искусства. Правда, там нет комфортабельных мастерских — в лучшем случае маленькие полутёмные комнатки, хорошо, если отдельные, где художник и живёт и работает в ненастную погоду. Сегодняшнее монмартрское искусство не дотягивает до высокого художественного уровня Окамото или прежних прославивших Монмартр художников. Здесь царит вульгарно-деловая атмосфера, искусство существует на правах ремесла, только на потребу туристу, которому можно и всучить посредственную картинку, и за минуту набросать портрет за 50 франков. Но, несмотря на это, вся продукция Монмартра дышит Францией, Парижем. Её пропитывают национальные соки.
Ничего подобного у Таро Окамото я не встретила. Наоборот — полная отрешённость, вернее, отречённость от всего того, что можно увидеть в книгах, репродукциях, трактатах, посвящённых японскому искусству. Его искусство интернационально.
Может быть, дело в том, что художник рос и воспитывался во Франции. Его мать — писательница — большую часть жизни провела в Париже и, возможно, сознательно стремилась привить сыну западную культуру.
И всё-таки хотел этого Таро Окамото или нет, но в своём художническом мировоззрении он остаётся истым японцем, выразителем древних эстетических особенностей Японии. Противоречие?
Я спросила его: как он понимает своё искусство? Он ответил:
— Это борьба с природой!
Я удивилась, переспросила. Он повторил свой ответ, добавив:
— Борьба, в которой побеждает человек. Не этот ли отпечаток лежит на всей прирученной японской природе? Не этот ли мотив соперничества звучит в причёсанных, переделанных пейзажах? Создание форм, которых нет в природе, соперничество с ней, утверждение независимости человека хотя бы в сфере искусства (ведь японцы до сих пор страдают от темперамента своей природы: тайфунов, вулканов, землетрясений), — вот что, мне кажется, пронизывает творчество Окамото. Вот что он имел в виду, говоря о борьбе с природой. Наверно, эту радость победы и предвкушал художник, создавая гигантскую каменную волну — символ, который он мечтает установить на берегу океана, чтобы реальные волны бессильно умирали у её подножия. Или задумывая странное, завораживающее своим необычным видом здание в виде чудовища, в пасти которого будет мирно покоиться ресторан.
…После осмотра мастерской Таро Окамото пригласил меня пообедать.
Мы вышли из машины на одной из главных улиц Токио, подошли к сияющему стеклом и металлом высотному зданию. Вход был широк, словно вёл не в дом, а в тоннель автострады. Слева за стёклами витрин я увидела… произведения Таро Окамото. Это была его постоянная выставка в Токио, и работы Окамото производили здесь ещё более грандиозное впечатление. Они, конечно, не в натуральную величину, но гораздо больше по размерам, чем в его мастерской.
Но Таро Окамото не повёл меня на выставку, он свернул направо, и мы начали спускаться по лестнице. Мне помнится, что она становилась всё уже, темнее, и, наконец, по обе стороны от узкой дорожки свет почти совсем исчез, не слышно стало и шума города. Под ногами по обе стороны от узкой дорожки, выложенной камнями, струилась вода, журчал ручей. Вокруг росли деревья и кусты, светила луна. Мы оказались в подземном саду! Было тихо и прохладно. «Как могут здесь расти деревья, в полумраке, без солнца?» — думала я и, вместо того чтобы отдаться воображению и волшебству окружающего, старалась отыскать глазами люминесцентные лампы.
Здесь, под землёй, я увидела и традиционный японский садик, и стерегущие покой посетителей загадочные каменные фонари, отведала изысканные японские кушанья из сырой рыбы и малюсеньких грибов, удивлялась крупному, словно слива, винограду, училась кушать палочками, сидела на циновке-татами без обуви, удобно вытянув ноги под маленьким низким столом. Кушанья вносили робкие девушки в кимоно и, опускаясь на колени у входа, передавали их старшим. А за столом сидела и вела с нами беседу хозяйка, и её голову украшала причудливая, искусно сработанная по старым образцам причёска. Хозяйка беседовала с нами и подливала в крошечную рюмочку Окамото сакэ из крошечного подогретого сосуда. Я поняла, что художник здесь свой человек.
Да, представитель самого нового искусства, авангардист, друг Пикассо, Таро Окамото любит отдохнуть от XX века в этой сугубо японской атмосфере — с японским садиком, с мудро-терпеливыми каменными фонарями, с любезными неторопливыми жрицами отдыха — в этом уютном, овеянном старыми традициями, пропитанном старым японским духом мирке…
А потом мы снова надели обувь, опять прошли под ветвями деревьев волшебного сада (я наклонилась и зачерпнула воды из ручейка) и вышли из сумеречного подземелья на свет. Нас ждали два роскошных чёрных лимузина. Сиденья шуршали белыми накрахмаленными чехлами, отделанными кружевами. Шофёр в белых перчатках суетился, усаживая нас поудобнее. Как объяснил мне потом профессор Мацукава, для Окамото и его гостей подали специальные такси, предназначенные только для почётных гостей. Эти машины не имеют ни счётчика, ни опознавательных шашек.
Мы выехали из этого удивительного дома на одной из главных улиц столицы Японии, где в одном крыле царствует новое искусство, а в другом, как упрятанная в футляр драгоценная жемчужина (настоящая, а не искусственно выращенная), укрыто древнее японское искусство декорирования, искусство кухни, искусство неторопливого отдыха.
Пока эти два крыла сосуществуют. Они, как две чаши весов, уравновешивают друг друга. Но надолго ли сохранится это равновесие? Какую чашу перетянет история?
НАШИ ДРУЗЬЯ
Программа моего пребывания в Японии была насыщенной и более обширной, чем первоначально заявленная пригласившим меня издательством. Трудовой люд страны работает много, а отдыхает мало. Меня с места в карьер включили в этот жёсткий ритм. Осмотр достопримечательностей, основная нагрузка туристов, играл роль отдыха и занимал в программе, как я уже сказала, весьма скромное место. В результате я почти постоянно была в обществе одних и тех же людей: директора издательства «Ратэис» господина Машики, ответственного секретаря Комитета содействия переводам и изданию советских книг в Японии господина Канэко, профессора Мацукавы, переводчика моих книг, и госпожи Масако Сакамото — деловой женщины, представительницы Японской лаборатории информации.
Мне всё казалось, что в Японии я мало кого узнала, и, уезжая, испытывала чувство потери. А сейчас, вспоминая о своих постоянных спутниках, ощущаю всё более чёткое чувство приобретения. Я поняла, что лишилась каких-то мимолётных знакомств, но зато лучше и глубже узнала тех, с кем часто встречалась. Что же они собой представляют, эти люди?
Господин Машика, молодой красивый мужчина атлетического сложения, с неулыбчивым, хмурым лицом. Вначале я несколько робела, решив, что это мрачный человек. Но Миэко, одна из моих переводчиц, сказала: «Что вы, Машика-сан очень добрый!»
Издательским делом он занимается, так сказать, по призванию. Инженер-электронщик, проработавший несколько лет в промышленности, вдруг занялся изданием книг по естественным наукам. Господин Машика впервые отважился пригласить от имени издательства иностранного автора, и у него была масса хлопот. Он старался уютно устроить меня в каждом городе, а осенью, в разгар туристического сезона, это непростое дело. Надо было увязать часы моих лекций, выступлений, приобрести билеты для поездки в другие города, вовремя вернуться в Токио. Это было трудно, и программа плясала, как чёртик на ниточке. Она менялась чуть ли не каждые полдня.
То мы вставали с намерением отправиться на телестудию для записи беседы с группой писателей, а вместо этого срочно мчались на вокзал, чтобы успеть в Киото на читательскую конференцию и вечером на встречу с академиком Юкавой. То намеревались посвятить время осмотру Киото, а с утренним поездом спешили в Токио на лекцию. Я только ахала: «Машика-сан, опять вы изменили программу!» Он застенчиво улыбался и беспомощно разводил руками.
Уж не знаю как, но с Машика-сан мы быстро научились понимать друг друга, хотя я не знаю японского языка, а он не знает ни русского, ни английского. Разговор же через переводчика требует большого терпения и привычки. Говоришь что-то шутливое — а глаза собеседника всё ещё хранят серьёзность. Возвращаешься к деловым вопросам, а визави всё ещё смеётся шутке. Или совсем выключается, пока партнёр объясняется с переводчиком.
С переводчиком общаться тоже нелегко. Правда, профессор Мацукава отлично перевёл обе мои книги. Это было непросто. Ведь они относятся к необычному для Японии научно-художественному жанру. И переводчик должен не только владеть техникой литературного перевода, но знать или хотя бы в общих чертах понимать специфику затронутых в книгах научных проблем. Честно говоря, меня ещё до приезда в Японию беспокоила мысль о возможных ошибках перевода. И я не без опасения спросила у академика Юкавы, какие замечания возникли у него при чтении книг. Он ответил: «Они переведены безупречно». Такая оценка — редкость. Она подтверждает, что профессор Мацукава превосходно владеет русским языком. Но одно дело — литера турный перевод в спокойной обстановке кабинета, где под рукой словари, справочники и всё-таки время для размышлений. Другое — устный перевод, особенно синхронный, когда переводчик должен одновременно произносить фразу на одном языке и слушать следующую на другом, не задерживая ни одного из собеседников.
Возможно, поэтому-то господин Машика как человек остался для меня относительно далёким. Но полезность его деятельности как издателя советских книг несомненна. Приглашая меня в Японию, господин Машика писал министру культуры СССР: «Желая развивать взаимопонимание и дружбу между японским и советским народами, я в течение восьми лет со дня создания нашего издательства стараюсь больше издавать и распространять советские книги».
Я убедилась в этом, выступая перед рабочими и служащими издательства и типографии, побывав на складах и в книжных магазинах. Я видела там штабели переведённых на японский язык советских книг. Продать их не простое дело. Книги в Японии покупают далеко не так беззаботно и легко, как у нас, — они стоят очень дорого. Потенциальных покупателей там куда больше, чем реальных. Я заметила, что книгу внимательно рассматривают, перелистывают, иногда долго читают. Прежде чем купить её, нужно оценить приобретаемое удовольствие или пользу. Ведь такая покупка может пробить существенную брешь в бюджете среднего японца.
Издавая и пропагандируя советские книги в Японии, господин Машика способствует тому, что японцы лучше узнают советских людей, их достижения, настроения, характер. А понимание — это первый шаг на пути к дружбе.
Огромную пользу делу сближения советского и японского народов приносит Комитет содействия переводам и изданию советских книг в Японии. С ответственным секретарём этого комитета, господином Канэко, мы быстро подружились. Он был первым встречающим, который прорвался через полицейский и тамо женный заслон в холл аэропорта Ханэда, где я долго сидела уже после того, как остальные пассажиры разошлись по своим делам. Чиновникам аэропорта чем-то не понравилась моя въездная виза, а так как было воскресенье и Министерство иностранных дел Японии не работало, меня в Токио не впускали.
Господин Канэко появился радостный, приветливый, заговорил на хорошем русском языке и сразу показался мне давно знакомым. Он рассказал, что уже несколько часов, с шести утра, возле аэропорта меня ждут издательские работники с семьями, что теперь они хватают чуть ли не каждую европейскую женщину с чемоданами, уже не пытаясь найти в них сходство с моей фотографией. Канэко-сан развлёк и ободрил меня, и, когда в холле появились другие встречающие, я была уже почти в форме.
И надо сказать, что в течение всего моего пребывания в Японии Канэко-сан всегда оказывался рядом, когда я нуждалась в совете, когда нужна была поддержка. Я сразу почувствовала в нём опору и не ошиблась.
Однажды по моей просьбе господин Канэко принёс толстенный каталог — список советских и русских книг, переведённых в Японии. Полистав его, я увидела, что японцы всерьёз и глубоко изучают русскую литературу. Каталог содержит широкую палитру литературных имён. Я уж не говорю о переводах Толстого, Достоевского, Чехова и других классиков. Но современная советская литература в нём представлена, так сказать, от «А» до «Я». Шолохов, Сурков, Паустовский, Эренбург… Отрадно было видеть рядом с этими именами имена многих молодых писателей. Но есть и оборотная сторона у этого широкого диапазона. Среди блестящих и хороших книг попадаются и серенькие однодневки. Трудно, конечно, требовать от японских издателей безупречного отбора, чёткого критерия в подходе к переводу книг.
Япония устремлена в будущее. Она изучает образ жизни и образ мысли других стран. Японцы не только много ездят, завязывают деловые связи, но много переводят. Они жадно впитывают информацию из чужеземной литературы.
Канэко сказал, что охотнее всего японцы покупают советские книги по физике, химии, естественным наукам, космосу: всем известен мировой авторитет советской науки.
После возвращения домой я получила от господина Канэко письмо и вырезку из газеты «Иомиури», которая в двух номерах печатала подробный отчёт о киотской встрече. Канэко писал: «Я понимаю, как тяжело было Вам во время пребывания в Японии. Ещё раз извиняемся, что мы не отнеслись к Вам с должной нежностью, с какой должны были отнестись к женщине, в первый раз приехавшей в Японию».
Я привожу эти строки, чтобы подчеркнуть рыцарское начало в характере Канэко. Таким я и восприняла этого симпатичного человека.
Далее он пишет: «На страницах газеты “Иомиури” от 2 и 3 декабря опубликовано Ваше собеседование с Юкавой. И миллионы японских читателей познакомились с Вами и Вашими мнениями. Это, по-нашему, очень важно и полезно для пропаганды советской литературы и науки в Японии».
Во время поездок по стране я, глядя на своих спутников, думала: Машика — капиталист, Канэко — коммунист. Трудно представить более полярные позиции, занимаемые этими людьми в японском обществе. Что же объединило их сегодня? Что заставило бросить повседневные дела и способствовать пропаганде советских книг, советского автора, по существу — советских идей? Не красноречивое ли это свидетельство того, что интерес к Советскому Союзу преобладает над политическими соображениями?
Несколько слов о переводчике моих книг профессоре Мацукава, интеллигентном, сдержанном, доброжелательном человеке. Он любит музыку, хорошую живопись, уединение. С женой-пианисткой и взрослым сыном-студентом живёт в небольшом доме под Киото.
После работы предпочитает надеть кимоно и выключиться из сумасшедшего ритма современной жизни. Он бывал в Советском Союзе, читал у нас лекции о японской литературе и преподавал японский язык в Московском государственном университете. Он много и хорошо рассказывает о нашей стране своим студентам в Университете иностранных языков в Кобэ. Я сужу об этом по той симпатии, которую нашла у одной из студенток Мацукавы, милой японской девушки Миэко. Она участвовала в переводе моей лекции «Век безумных идей» для японской аудитории (профессор Мацукава широко привлекает студентов к этой деятельности).
Переводя русские книги и воспитывая своих студентов в духе симпатии к России, профессор Мацукава приносит пользу и им, и нам. Это ещё один японец, которого радует успех наших книг, который считает своим главным делом пропаганду советской литературы в Японии. Ещё один наш друг в этой сложной стране.
Татьяна Борисовна Немура, редактор русской редакции Центрального японского радиовещания. Это русская женщина с непростой судьбой. Она вышла замуж за японского дипломата и живёт в Японии уже более двадцати лет. Вжилась в японский быт, японский язык её безупречен. Но, видно, и сердце и память принадлежат далёкой Родине — сына назвала Иваном, а дочь Марией. Татьяна — Иван — Мария… Русская кровь, русские имена. Все трое мечтают побывать в Советском Союзе, в Москве.
Громоздкость деловой программы, спешка наложили отпечаток на все мои встречи. Фактически ни с кем из моих новых знакомых я не могла поговорить «по душам», в спокойной, располагающей к откровенности обстановке. И тем не менее мы говорили обо всём на свете, заполняя время в поездках, такси и ресторанах. Это не были запланированные беседы-интервью. Но сейчас я поняла, что мои собеседники многое открыли мне — невзначай, непреднамеренно, непринужденно. Они приоткрыли себя, своё отношение к жизни, своё толкование многих проблем, над которыми сегодня бьются и видавшие виды политики, и писатели, и учёные. Эти непринуждённые беседы, между прочим, просветлили некоторые загадки сложной, непонятной европейцам психологии японцев.
Например, я много слышала и читала о культе предков, который проповедует древнейшая японская религия синтоо. В своей первооснове это очень красивая религия.
Религия-мечта. Начала она с одухотворения природы: деревьев, водопадов, гор. Потом перешла к обожествлению людей: героев, императоров. Так синтоо стал сопутствовать культ войны, самурайского духа. С синтоо произошло то же, что случается с любовью, дружбой, мечтой, когда к ним примешивается корысть и утилитарность. Сегодня эта религия широко используется для воспитания в молодежи воинственных настроений и часто в синтоистских храмах прославляются самурайские обычаи.
Но вот другая сторона, иной аспект этой утвердившейся в веках своеобразной религии. Наша «бригада» ехала в Киото, мы болтали с молодой переводчицей Миэко, и во время разговора она вынула из сумочки свой проездной билет, и в нём, рядом с её фотографией, я увидела другую — лицо старой седой женщины.
— Ваша мама? — поинтересовалась я.
— Нет, — ответила Миэко, — это женщина, которую я очень люблю и уважаю. Она умерла, но мы, японцы, считаем, что умершие живы, они видят нас, судят наши поступки. Я стараюсь всё делать так, чтобы она одобрила моё поведение.
Ни о каком культе императора Миэко, конечно, не помышляет. Не помышляет и о войне. Она хочет кончить университет, мечтает побывать в Советском Союзе, наверно, хочет выйти замуж и иметь семью…
Пожалуй, и трёх минут мы не успели спокойно поговорить о жизни и с другой моей спутницей, Масако, хотя за все три недели моего пребывания в Японии с ней я боль ше и чаще, чем с кем бы то ни было, бывала вместе. Она была главным двигателем нашей программы. Вместе с ней мы побывали в мастерской и дома у «японского гения», как называют здесь Таро Окамото. Она присутствовала при моей беседе и на обеде с академиком Юкавой. Это она передала мне просьбу президента концерна «Сони», бывшего в то время в Америке, поставить для него автограф на моих книгах.
Мельком она обмолвилась, что кончила филологический факультет и хочет стать писательницей, написать «Книгу жизни». Что же мешает ей? Она ответила: нечто. Это «нечто» однажды ворвалось ко мне в гостиницу. Я заболела («Асахи», гордая за выносливость японцев, писала: «Она не выдержала активности японцев. Врач велел ей лежать пару дней, и вот она лежит в гостинице и скучает»), но скучать мне не пришлось. Пришла Масако с сестрой, кучей журналов мод и маленькой, большеголовой, как все японские дети, девочкой. Эта девочка сразу же превратила мой номер в действующий вулкан. «Тайфун!» — со скромной гордостью представила Масако свою дочь. Я с удивлением смотрела на неё: я знала, что у Масако есть дочь, но взрослая, старше двадцати, скрипачка. Масако коротко объяснила:
— Это от второго мужа. Первый погиб на войне.
Вот и весь наш разговор с ней о жизни. Надо ли было спрашивать, хочет ли она новой войны. Хочет ли, потеряв первого мужа, отдать войне второго? Её старшая девочка росла без отца, хочет ли Масако, чтобы и маленький «Тайфун» испытал это горе? Глупо было об этом спрашивать.
Не знаю, часто ли японцы посещают синтоистские храмы, чтобы слушать проповеди о пользе войны. Мне кажется — большинство ходит туда выплакать своё горе, помечтать о счастье. Подходя к одному храму в Киото, я издали увидела густо усыпанные белыми цветами кусты. Они напоминали нашу черёмуху или очень уж обильную сирень. Но была осень…
Подойдя ближе, я разглядела удивительное. Голые поосеннему веточки сплошь унизаны бумажками. На них написаны самые различные просьбы к божествам: вернуть мужа, ниспослать ребёнка, вылечить, облегчить жизнь… Тысячи людей просили о простом человеческом счастье.
Действительно, зачем война господину Машика, который, сменив профессию, лишь недавно добился успеха? Или господину Канэко, человеку незлобивому, сугубо мирному? Или Масако или Миэко?.. Я уверена, ни японские женщины, ни японские мужчины войны не хотят и хотеть не могут. Может быть, поэтому они с такой теплотой и симпатией, так по-дружески встретили меня, женщину из мирной страны, где правительство не пренебрегает желанием простых людей жить в дружбе с другими народами.
…Я улетала из Японии, испытывая безнадёжное чувство горечи и неудовлетворённости. Была ли я в Японии? Может быть, она мне только приснилась? Ведь я ничего, ни-че-го не видела! Но у меня такое ощущение, что что-то я там оставила. Оставила удивительные, не до конца узнанные места, а главное — друзей, которых я хотела бы повидать снова…
КВАНТЫ И МУЗЫ
В каждом настоящем учёном скрывается поэт, а в каждом настоящем поэте — учёный. И настоящие учёные знают, что их гипотезы — суть поэтические представления, а настоящие поэты — что их предчувствия суть недосказанные гипотезы…
Эрвин Штриттматтер
СКАЗКА ПРО ПЕРЧАТКУ, ВЫВЕРНУТУЮ НАИЗНАНКУ
Эта история началась во тьме веков. И так как мы — убеждённые материалисты, то не будем закрывать глаза на то, что было на самом деле. А было вот что — чудовищной силы взрыв потряс первоматерию, и она начала с невероятной скоростью расширяться. Возник хаос вихрей раскалённой плазмы, сжатой сильнее, чем может представить себе самое смелое воображение; в адском пекле рождались будущие вселенные и галактики, звёзды и планеты. Рождался мир. И происходило это, как уверяют учёные, двадцать миллиардов лет назад.
Тогда же свершилось и то, о чём никто, никогда, ничего не знал вплоть до совсем недавнего времени…
Догадке о случившемся во тьме веков предшествовал пустяковый случай. На рождественский конкурс, ежегодно устраиваемый Кембриджским студенческим математическим обществом, пришёл юноша Поль. Ему досталась простенькая задачка. Она была не о бассейнах, в которые наливается, а потом зачем-то выливается вода, не о поездах, которые выходят из пункта А и никак не могут спокойно попасть в пункт В. Фантазия кембриджских педагогов изобрела для английских студентов задачку о трёх рыбаках, которые рыбачили на острове в тёмную-тёмную ночь и улеглись спать, не поделив улова.
Под утро один из них проснулся и уехал домой, взяв с собой треть улова. При дележе у него оказалась лишняя рыбина, и он, не имея весов и боясь обидеть товарищей, выбросил её в море.
Потом проснулся второй рыбак и, не зная, что один из его компаньонов уже на пути домой, снова поделил улов на три части. Он тоже делил честно, но и у него осталась лишняя рыбина, и он тоже выбросил её в море! Захватив свою долю, он уехал с острова.
А потом проснулся третий рыбак и проделал ту же операцию — ему также пришла в голову мысль выбросить в море лишнюю рыбину. В задачке спрашивалось: сколько рыб выловили рыбаки?
Юноша Поль склонился над бумагой, взъерошил чуб. Исписал несколько страниц, и его брови многократно в изумлении поднимались и вновь бессильно опускались. Уголки губ кривились каверзной усмешкой. И вот, глубоко вздохнув и поёрзав на стуле, он встал и положил перед жюри свою работу. Она пошла по рукам, и каждый из членов жюри мог подивиться ответу: «Рыбаки выловили минус две рыбы». «Юноша начитался сказок — уж не вообразил ли он себя Алисой в Зазеркалье?» — подумали члены жюри и лишили его приза.
Но это не возымело на юного Поля никакого воспитательного действия. В 1928 году Поль Дирак, уже известный физик-теоретик, вновь склонился над листом бумаги, может быть, опять взъерошил чуб (было ему всего 26 лет) и вывел математическое уравнение, в котором предлагал современникам не какие-то мелочи вроде отрицательных рыб, но… отрицательные миры! Миры наоборот. Миры, сотканные в отличие от нашего не из вещества, а из антивещества!
Некоторое время атмосфера вокруг этого события напоминала ту, что царила когда-то на рождественском конкурсе: никто не мог понять, откуда он взял эту чепуху!
Если соблюдать точность, то следует оговориться, что в уравнении Дирака не поместился целый антимир. Там обнаружилась лишь его малюсенькая частичка, так сказать, первый лазутчик. Это был всего лишь электрон. Но не тот, всем уже известный электрон — сгусток отрицательного электричества. Это был положительный электрон! О таком ещё никто не слыхивал. По представлениям того времени положительный электрон всё равно, что отрицательная рыба — нонсенс! Это было неслыханно и даже… невежественно. Тогда ещё никто не предполагал, что это открытие прославит Дирака, что он станет Нобелевским лауреатом и ему достанется кафедра физики в Кембридже, которую некогда возглавлял сам Ньютон.
Пока все пожимали плечами, незаконный электрон, получив название «позитрон», спокойно дожидался признания; ждал времени, когда его увидят воочию. И это свершилось. Спустя несколько лет, в 1932 году, в Америке учёный из Калифорнийского технологического института по фамилии Андерсон увидел след позитрона на фотографии космических лучей. Позитрон оказался не миражом, не бредом, он действительно существовал!
Теперь уже не казалась столь чудовищной мысль, что все частицы в природе существуют парами. И если позитрон — пара электрона, значит должны быть в мире пары и для других частиц. Если существуют атомы водорода, должны существовать и атомы антиводорода. Уравнения утверждали, что в природе наравне с веществом должно равноправно существовать и антивещество. Вот к каким выводам подвёл науку Поль Дирак.
Начался буквально ажиотаж. Многие физики побросали текущие дела и пустились на ловлю позитрона и других античастиц.
Ловили они их не в море, как рыбаки из кембриджской задачки, и не простыми сетями, а с помощью сложнейших установок. И охота принесла удивительную сенсацию.
В 1955 году на беватроне Беркли был пойман антипротон, отрицательный двойник протона, а всего несколько лет назад доктор Леон Ледерман, профессор физики Колумбийского университета, и четверо его коллег «выловили» на огромном ускорителе в Брукхейвене (30 миллиардов электрон-вольт) уже не отдельную античастицу, а целый кусочек антивещества. В результате большой серии опытов им удалось получить самую простую из всех возможных комбинаций античастиц — антидейтрон. Эта комбинация состоит из одного антипротона, связанного с одним антинейтроном, и представляет собой не что иное, как ядро тяжёлого антиводорода — антидейтерия! (Полноценный атом антивещества был создан в самом конце XX века: в 1995 г. в Европейском центре ядерных исследований (CERN) и в 1998 г. в Лаборатории Ферми (США) были получены не просто античастицы типа позитронов, и не голые ядра антиатомов, а настоящие атомы антиводорода. — Прим. В.Г. Сурдина)
Ледерман заявил: «Больше нельзя ставить под сомнение ту часть космологической концепции современной физики, которая рассматривает как физическую реальность антимир, состоящий из звёзд и планет, сделанных из атомов антиматерии. Нельзя теперь опровергнуть и то потрясающее предположение, что эти антимиры населены разумными существами, возможно, ныне “окрылённых” своим открытием дейтерия!»
Этой шуткой Ледерман перебросил мостик между нами и нашими антиподами из антимира.
Но десяток-другой античастиц и даже целое антиядро — это, согласитесь, ещё не антимир. Да существует ли таковой на самом деле? И где?
Продолжение этой истории я услышала недавно в Таллине. Приехала туда вечером и лишь только отошла от вокзала, как мною овладело странное ощущение нереальности, которое не может не возникнуть при встрече с этим единственным на белом свете игрушечно-царственным городом. Дома-крепости с седыми шершавыми стенами; шпили Вышгорода, устремлённые в нежное муаровое небо; гортанные возгласы птиц, гнездящихся под красными черепичными кровлями…
Ax, как носятся ласточки в вечереющем небе Таллина, Старый Тоомас на ратуше вскинул знамя своё к облакам, Я брожу по булыжникам твоих улиц кривых и опаловых, Древний город, на память, да, на память подаренный нам…
Меня уже не удивляло, что именно в этом городе живёт человек, который, вглядываясь в таллинское небо, узнал об антимирах, возможно, больше всех других людей на земле.
Густав Иоганнович Наан, известный философ, физик, математик, историк, действительный член Академии наук Эстонской ССР, высок и строен. Ему за пятьдесят, он совершенно сед. Его кабинет в издательстве «Валгус», где он принял меня как главный редактор Эстонской советской энциклопедии, по-деловому строг и просторен, обставлен, как говорится, без воображения. Ничто здесь не выдаёт романтического склада ума хозяина и неординарности его научных пристрастий.
История его жизни необычна.
Кончалась Великая Отечественная война. Шли последние бои за освобождение Таллина от гитлеровских захватчиков, и в этот опасный, таящий за каждым углом пулю город был прислан из Москвы с особым заданием молодой эстонец. Он впервые увидел Эстонию; родился во Владивостоке, учился в Ленинграде, служил в Москве. Эстонию знал только по книгам.
Он выполнил задание. После войны продолжил учёбу. На работу приехал в Таллин. Стал доктором наук, академиком, вице-президентом Эстонской академии наук.
В последние годы Наан увлечён почти фантастической проблемой антимира. Это даже для современного физика далеко не банальная сфера интересов. Но Наан и в этой области занял необычную позицию — у него своя точка зрения, свой антимир. И он не побоялся вынести его на суд одного из авторитетнейших научных собраний — семинар физиков Физического института АН СССР. Там он доложил свою точку зрения, нарисовал модель антимира, обнёс его такими прочными математическими границами, что оппоненты не смогли прорвать их своими антиаргументами и пришли к выводу, что это «чертовски уравновешенная концепция»…
В чём особенность вашей концепции? — спрашиваю Густава Иоганновича, — и что побудило вас отказаться от дираковского антимира, который в научной литературе считается классическим?
Дираковская модель антимира заманчиво проста. Она отличается от того мира, в котором мы живём, только начинкой — вещество в нём заменено на антивещество: у нас водород, там — антиводород, у нас гелий, там — антигелий и так далее. Многие физики убеждены, что теоретически такой антимир возможен. Есть даже учёные, верящие, что дираковские антимиры существуют на самом деле, таятся где-то в нашем положительном мире… Правда, неизвестно, где их искать. Впрочем, — смеётся Наан, — не беда, со временем найдутся.
Да, такое равновесие взглядов существует уже сорок лет, — замечаю я, — а гипотеза Дирака ни подтверждена, ни опровергнута. Что думаете об этом вы?
Я много лет размышляю над этой моделью. Я думаю, что реальный антимир существует, но он намного сложнее, чем дираковский: в нём не обошлось одной лишь заменой начинки.
— А разве антимир может отличаться от мира чем-нибудь ещё?
— Теоретических вариантов антимира по крайней мере семь.
Цифра семь меня озадачивает: семь тонов октавы… семь цветов радуги… семь антимиров — просто пифагорейская мистика чисел!
— Ничего мистического. Чтобы объяснить, почему вариантов антимиров семь и чем они отличаются друг от друга и от нашего мира, я напомню, чем вообще определяется положение вещей в природе: всё течёт в пространстве и времени, не правда ли? Любое тело — земное или небесное — передвигается в пространстве и существует во времени. В этом смысле ситуация одинакова и в мире и в антимире. В нашем мире все три компонента положительны — и вещество, и время, и пространство. В дираковском отрицательно только вещество, а время и пространство, как и у нас, положительны. Но может ведь быть и такое: антимир, в котором, кроме вещества, отрицательно и время. Пространство то же, что и у нас, положительное, а время течёт в обратном направлении…
— Но… это несуразно… — возражаю я. — Для этого время должно вдруг остановиться и пойти вспять? — Именно. В таком антимире человек со временем молодел бы, а разбитый стакан собирался из осколков. Это, конечно, несообразно. Но теоретически возможно. Будем считать этот случай вариантом антимира номер два (если первым считать дираковский антимир). А далее комбинация из трёх компонентов — времени, пространства и вещества — даёт остальные пять вариантов. Третий — в воображаемом антимире отрицательно не только время, но и пространство. Вещество же положительно. Четвёртый вариант: пространство отрицательно, время и вещество, как у нас, — положительны. Пятый
— время и вещество отрицательны, положительно лишь пространство. Шестой — время положительно, пространство и вещество отрицательны. — И, наконец, седьмой вариант — ваш?
— Да. В нём по сравнению с нашим миром — всё наоборот, всё обратное. В нём отрицательно и вещество, и пространство, и время. Это радикально обратный мир.
— Мир, вывернутый наизнанку, как перчатка?
— Да! Слышали французскую пословицу: чем больше перемен, тем больше всё остаётся по-старому? Так и в «моём» антимире: всё иначе, всё наоборот — время, пространство, сама материя. Но от этого фактически ничего не меняется! Всё происходит, как в нашем мире. По тем же физическим законам. Понимаете, в чём соблазнительность такой концепции? Для изучения такого антимира не нужно изобретать новые законы, новую физику. Такой радикальный антимир подчиняется известным нам законам природы.
— И такой антимир где-то возможен? — спрашиваю без всякой уверенности.
— Я верю в него, иначе не отдал бы ему столько лет. Сложнее ответить на вопрос: где он и как возник?
— Где он и как возник? — повторяю за Нааном.
— На этот счёт есть два мнения. Первое — такого антимира сейчас нет, но он был до сотворения нашего мира. Потом что-то стряслось, время остановилось, произошёл взрыв, и антимир вывернулся наизнанку.
— И обернулся нашим миром?!
— Ничего невозможного в такой ситуации нет, но как модель события она сложна тем, что не может быть описана известными теориями и законами. Известные нам физические модели здесь не работают. Для расчёта такой ситуации нужна новая физика и новая математика. Кстати, в этом тоже нет ничего принципиально запретного.
Наука прошла через многие периоды застоя, дожидаясь, когда подтянутся соответствующие области знания. И среди современных учёных есть творцы новых разделов математики и физики. Просто до возникновения идеи антимира этим работам уделялось мало внимания — было непонятно, для чего эти новые области математики нужны. А теперь они звучат по-новому.
— Итак, первое мнение — момент сотворения нашего мира был моментом гибели предшествовавшего ему антимира. А второе мнение?
— Мне кажется, что мир, вывернутый наизнанку, мироборотень существует и теперь, но существует независимо от нашего. Параллельно нам. Моя гипотеза состоит в том, что мир и антимир совсем не связаны между собой. Между ними нет никакого обмена информацией. «Курьерские поезда» из антимира могут спокойно проноситься сквозь нас, и мы этого не замечаем.
— Если с ним нет связи, как поверить в него?
— Всякая теоретическая посылка остаётся посылкой, пока не получит наблюдательного подтверждения, я согласен, — говорит Наан. — И пока существование антимира не будет как-то подтверждено, всё остаётся сказкой.
Так вы рассказали мне сказку?!
Не торопитесь…
Я возвращалась от Наана взволнованной. Вечерний Таллин только усиливал ощущение необычности. Необычности, которая поджидает нас за каждой обычной вещью!
Я не знаю, кто выдумал сказку первую, самую первую. Но мне кажется сказочным этот город и небо его. Звёзды в омуте вечности, в вас по-прежнему верую, Словно в юность далёкую окунуло меня волшебство…
Меня одолевали какие-то странные мысли: что такое, собственно, обычное и необычное? Мы делим всё на эти две категории потому, что знаем очень много, или потому, что знаем слишком мало? Почему, скажите, стареть — обычно, а молодеть можно только в сказке? Юность Фауста — плод поэтической мечты, живая вода — из сферы фольклора… Стойте, стойте, а теория относительности? Ведь она утверждает, что среди законов природы есть один, который позволяет человеку, отправившемуся в космическое путешествие, перестать стареть. Время для него останавливается!
Увы, такой эксперимент ещё не созрел, ещё нет ракет с нужными скоростями. Но практическое подтверждение этой теоретической посылки принципиально возможно.
Может быть, не так уж безнадёжно обстоит дело и с подтверждением идеи антимира?
Пока это носит характер догадок, причём догадок драматического свойства. Понимая, что встреча в космосе галактик-антиподов приведёт к катастрофе, к взрыву с выделением огромных количеств энергии, астрономы под новым углом зрения присматриваются к давно известным источникам мощного излучения. Например, к расположенному в созвездии Лебедя. Может быть, бьющий оттуда поток энергии — результат встречи, столкновения и взаимного уничтожения положительного и отрицательного миров? «Чтобы выжить, надо держаться подальше от антиматерии!» — пишут осторожные учёные и, как на предостережение, указывают на… Тунгусский метеорит.
Сколько существует догадок, связанных с уникальным взрывом, происшедшим в 1908 году в Сибири! Одна из новых гипотез — встреча Земли с метеоритом, состоящим из антиматерии. Эту гипотезу поддерживает известный физик, доктор Уиллард Либби. Он не только верит в эту гипотезу, но считает, что доказал её.
Доктор Либби получил Нобелевскую премию за метод определения возраста органических веществ, который он вычислял по содержанию в них углерода-14.
Вот ход рассуждений учёного: космические лучи, сталкиваясь с обычным углеродом, присутствующим в воздухе в составе молекул двуокиси углерода (углекислого газа), об 354 разуют радиоактивный изотоп, названный углеродом-14. Со временем этот углерод усваивается растениями, попадает он и в состав древесины. Углерод-14, как и все радиоактивные атомы, постепенно распадается, и радиоактивность древесины уменьшается. Измерив её, можно определить возраст дерева.
Естественно, любая дополнительная радиация повысила бы ежегодную норму углерода-14 в органических веществах. Если причина взрыва в Сибири — аннигиляция материи и антиматерии, это должно запечатлеться в природе. И Либби решил исследовать годовые кольца американских деревьев, начиная с 1873 по 1933 год.
И что же оказалось? Наибольшее количество углерода14 приходится на древесину, наросшую в 1909 году…
Я еле дождалась новой встречи с Густавом Иоганновичем, чтобы спросить его обо всём этом.
Вас интересует, возможен ли какой-то наблюдательный намёк на существование антимира?
Да, возможна ли в космосе такая ситуация, которая подтвердит его реальность?
Ваш вопрос напоминает мне другой, ещё более актуальный и, пожалуй, более близкий к подтверждению — есть ли внеземные цивилизации? Совсем недавно ответ казался безнадёжным по своей неопределённости. Но буквально в последние годы в космосе открыты источники чётких радиосигналов. Вы ведь слышали о пульсарах? Уж не сигналы ли это внеземных цивилизаций? Эта мысль не могла не возникнуть. Сказки, — говорили одни. А другие всерьёз занялись наблюдением и изучением этих источников. В чём секрет чёткой периодичности сигналов? Радиостанция или какой-то природный процесс? Оказалось, что это излучение особых нейтронных звёзд. Ещё одна сказка уступила место были.
Да, сегодня можно назвать десяток известных в мире имён, стоящих под статьями на темы о связи с внеземными цивилизациями. Но мы говорим о другом — есть ли в космосе какие-то намёки на существование антимира?
— Пульсары, квазары — это лишь немногие из последних открытий астрономии, которые подтолкнули мысль. А слышали ли вы о «чёрных дырах»?
— Звёздах, которые сжаты столь чудовищными силами тяготения, что из них не вырывается никакое излучение?
— Более того, они не только не выпускают наружу свой свет, но даже втягивают в себя те световые лучи, которые «по неосторожности» пролетают мимо. Они действительно чёрные, ибо невидимы, и дыры в буквальном смысле — в них проваливается материя! Вы понимаете, к чему я веду?
— Извините меня, Густав Иоганнович, но ещё в школе нас учили, что энергия и материя не возникают из ничего и не исчезают бесследно.
— Правильно. Но не говорит ли поведение «чёрных дыр» о наличии во Вселенной какого-то резервуара, куда уходит вещество и энергия из нашего мира? Не туннель ли это в антимир?
— В научной литературе я встречала ссылки на какой-то «теневой» мир, который отбирает от нас или, наоборот, снабжает нас энергией. Есть даже утверждение, что наш мир — это основной, а «мир теней» — что-то вроде вспомогательного резервуара энергии.
— Выяснить это — совместная задача космологов, астрономов, математиков и физиков. Изучение может дать два выхода — либо обнаружится, что в природе существуют природные процессы, порождающие явление «чёрных дыр», либо теория подтвердит наличие канала, через который наш мир общается с антимиром.
— Но почему общение идёт только с нашей стороны?
— Не исключено наличие в космосе «белых дыр» (назовём их так условно по аналогии с «чёрными дырами»). Через них энергия из антимира, возможно, поступает к нам. Таких объектов мы пока не знаем, хотя ими могут оказаться квазары. А если не они, то аналогичные объекты. Излучение может вспыхнуть буквально на пустом месте, совер шенно для нас неожиданно. Просто в космосе забьёт источник энергии.
— Как нефтяная скважина? Или вулкан?
— Похоже… «Чёрные» и «белые дыры» можно рассматривать как каналы связи между миром и пока гипотетическим антимиром. Но могут быть более глобальные, катастрофические ситуации общения, гибельные для одного из миров. Мы уже говорили об этом — это могло случиться в момент образования нашего мира: может быть, тогда начинка антимира перетекла в наш мир.
— Возможно, что когда-нибудь начинка нашего мира наполнит будущий антимир?
— Напротив, одна из древнейших — всем знакомая математика. Это её называют наукой о бесконечности. Бесконечность, признаюсь вам, моё глубокое научное пристрастие. В разрешении проблемы бесконечности я вижу и решение загадки антимира…
Люди клянутся в вечной памяти, мечтают о вечной любви, часто бездумно бросаются словом «бесконечно». Но вот я слышу его от серьёзного учёного, физика-теоретика. Значит, это туманное, расплывчатое, в быту неопределённое понятие служит науке как орудие точного познания? Как понять это?
О бесконечности времени и пространства люди задумывались уже в глубокой древности. Аристотель даже применял термин «боязнь бесконечности». Бесконечен ли и вечен ли наш мир? Бесконечно ли течение времени? От этих вопросов можно отмахиваться, но не возвращаться к ним невозможно. Учёные понимали, что не может быть наибольшего числа — к любому числу можно добавить ещё одно. Не может быть наименьшего числа — всегда можно раздробить его на более мелкие. Но как беспределен этот процесс?
Об этом нельзя не думать, так как человек стремится к познанию. К познанию космоса — и он всё шире и шире раздвигает нам свои объятья; к познанию мира атома — и мысль шагнула в глубь материи на глубину, где расстояния исчисляются миллиардными долями миллионных долей сантиметра. Учёные вскрыли замки на вратах царства атомного ядра, и по-новому зазвучали вещие ленинские слова: «Электрон неисчерпаем так же, как атом».
— Но что же дальше? — спрашиваю Густава Иоганновича Наана, учёного-материалиста, смело заглядывающего в неизвестность. — Где конец делению атома? И не попадаются ли в микромире следы антимиров?
Я вижу, как Наан настораживается. Уходит в себя. Он явно взволнован.
— Видите ли, — говорит он после паузы, — в ядре атома на невероятной глубине (конечно, в масштабах микромира) теория нащупала явление, не укладывающееся в рамки известных законов. Формулы предсказывают наличие частиц, совершенно непонятно откуда взявшихся…
— Может быть… из антимира? Или это чушь?
— В том-то и дело, что не чушь. От чуши можно отмахнуться, а от логики математических предсказаний и объективной реальности не отвернёшься. Их надо понять и объяснить. Но не думайте — я не жалуюсь. Эти терзания и есть настоящая жизнь для учёного! Итак, подумаем о «чуши» — возможных пришельцах из антимира. Ведь мы допускаем, что космос имеет каналы для общения мира и антимира в виде «чёрных дыр». Может быть, и микрокосмос тоже имеет свои тоннели связи? И они-то и проявляются в глубинах ядра материи?
— А можно литератору высказать псевдонаучную гипотезу?
— Что ж, попробуйте, — улыбается Густав Иоганнович.
— Может быть, никаких миров и антимиров в отдельности не существует…
— Продолжайте.
— А пара «мир — антимир» — это нечто, похожее, скажем, на штангу…
— На штангу?!
— Ну да, на штангу, но не штангу космических размеров, а на мирриады микроштанг.
— Так-так…
— Каждая частица материи, все частицы без исключения — и те, из которых сделаны звёзды и планеты, люди и звери, цветы и деревья, — каждая из них состоит как бы из двух половинок. Одна живёт там, в антимире, другая — здесь, в мире. Одним «окошком» каждый атом смотрит в наш мир, другим — в антимир. Все атомы — и мы, и всё вокруг — как бы одновременно здесь и там… В мире и антимире… Глупость?
Наан проявляет великодушие, говорит, что рассудит будущее.
— А можно теперь мне задать вопрос литератору? — спрашивает Густав Иоганнович лукаво. — Сильно же изменился за последние годы наш читатель, если его интересуют вопросы бесконечности, космическое омоложение, антимиры! Ведь это нерешённые проблемы. И они не будут решены в ближайшее время. А уж о практическом их использовании и речи быть не может. Нужно ли рассказывать о них читателю? Ведь это не о хлебе, не о новой машине… Это ничего конкретного не прибавит к нашей повседневной жизни.
— Но, Густав Иоганнович, человек-то не хлебом единым… Человек всегда мечтал и будет мечтать. А как же жить иначе? Без знания, без взгляда в будущее, без борьбы за свои убеждения? Вот Джордано Бруно — даже на костре он не отрёкся от идеи о безграничности звёздного мира. От того, что земля не является избранной планетой… Учёный умер, а его мысль воскресла через века. Это ли не пример победы воображения над практицизмом? А достижениями науки сейчас интересуется почти каждый человек.
— Кажется, вы меня убедили, — шутя покоряется Наан и уже серьёзно добавляет: — Впрочем, сама история науки должна была бы отучить нас от скепсиса по отношению к неактуальным увлечениям учёных. Сколько было, казалось бы, чисто теоретических, далёких от практических нужд научных поисков — и теория относительности, и квантовая механика, и другие теории. А теперь глядишь — атомные электростанции и ледоколы, космические полёты и телевидение! Всё это родилось из теоретических химер…
Слушая Густава Иоганновича Наана, романтика, мечтателя, мыслителя, я испытывала то глубокую растерянность и беспомощность перед необъятностью и непостижимостью природы, то прилив гордости за мудрость и силу человеческого разума. Пожалуй, только в юности нам дана безотчётная вера во всемогущество природы. Со временем это чувство перерастает в надежду на мудрость человеческого разума.
Возвращение в молодость мне судьбою подарено. Я запомню надолго, как трубят за окном поезда И как носятся ласточки в вечереющем небе Таллина, Как дозорным на ратуше старый Тоомас застыл навсегда…
Будем же верить в необузданную силу воображения поэтов и учёных, творящих прекрасную легенду об окружающем мире! Будем верить в мощь и гуманность человеческого разума, ведущего нас к доброму покорению природы, к новым волнующим открытиям.
КАК СТАТЬ ГЕНИЕМ?
В последнее время меня мучит странный вопрос. И когда я встречаю учёного, задаю этот вопрос. Нет, не сразу.
Сначала я говорю:
— Вот вы, учёные, осуществили несбыточные мечты че ловечества, сделали явью сказки… Учёный благосклонно кивает головой.
— Послали ракету на Луну… Пытаетесь в пробирке выращивать человека… Из угля добываете алмазы… Вы обогнали алхимиков и научились делать вещества с наперёд заданными свойствами…
Учёный, не переставая рассеянно кивать головой, уже продумывает, как бы повежливее ретироваться, и тут я задаю свой вопрос:
— А можно ли создавать с наперёд заданными свойства ми… людей? Учёный уже не кивает.
— Например, воспитать Эйнштейна. Ну да, обыкновенного Эйнштейна?
Действительно, почему люди должны сидеть сложа руки и ждать, когда природа подарит им гения? Не пора ли в конце концов взять это дело в свои руки? И я прямо спрашиваю ещё не пришедшего в себя учёного:
— Что надо сделать, чтобы выращивать таких гениев, как Эйнштейн, Пушкин, Бетховен?
И тут терпение учёного кончается, и он переходит в атаку:
— Хорошо, я вам скажу, как вы-ра-щи-вать Эйнштейнов, только сначала вы мне скажите: как Эйнштейн стал Эйнштейном?
Наши роли меняются, я растеряна, а собеседника уже не остановить:
— Теперь вы мне ответьте: каким путём развивался его мозг, по каким законам работало его мышление, в чём особенность его психики? Не собираетесь же вы управлять развитием интеллекта, не зная особенностей и законов мышления?
— Да, конечно. Но мы можем, тем не менее, проследить день за днём, как и чему учился гений… — Я лихорадочно соображаю, как быть дальше: — Какие книги читал, какие вы воды делал…
— Вот, вот! — перебивает меня учёный. — Но почему он делал именно такие выводы, а не другие? Вы знаете, что теория относительности могла не появиться ещё лет сто, не родись человек с воображением Эйнштейна? Всё, что знает человек, всё, чему научился, что создал, — это результат его воображения!
И тут учёный обрушивает на меня лавину вопросов: а что это такое — воображение? Интуиция? Что такое, наконец, индивидуальность? Не знаете? А ведь разнообразие интеллектов — самая мощная движущая сила прогресса! Вся история человечества сопровождается борьбой, соревнованием интеллектов — победами, поражениями, драмами идей, муками творчества, соперничеством индивидуальностей!
Вот два наших современника — два физика. Французский учёный Луи де Бройль и советский академик Игорь Евгеньевич Тамм. Оба — одного поколения, их научные взгляды формировались в одно время. Они вошли в физику в самый острый, самый конфликтный период её истории, когда в сознание учёных настойчиво внедрялась теория относительности и когда рождалась новая, квантовая физика, пытающаяся заглянуть в тайны строения материи.
Де Бройль пришёл в физику окольным и даже случайным путём. Молодой француз начал самостоятельную жизнь с получения степени бакалавра, а затем лиценциата литературы (по разделу истории). Но однажды через братафизика он познакомился с текстом докладов, обсуждавшихся на физическом конгрессе.
— Со всей страстностью, свойственной молодости, я увлёкся обсуждавшимися проблемами и решил посвятить свои силы выяснению истинной природы таинственных квантов, введённых за десять лет до этого Максом Планком в теоретическую физику, — говорит Луи де Бройль.
Сферой научных интересов де Бройля стал мир неви димых сгустков материи, микромир, познанию которого отдали свои силы Бор, Гейзенберг, Шредингер и другие великие физики.
— Когда я начал заниматься физикой, — рассказывал как-то Тамм, — было всего два элементарных «кирпича» мироздания — электрон и протон, а все явления природы объяснялись действием только двух сил — тяготения и электромагнитных. Просто, ясно и хорошо. Но скоро эта идиллическая картина стала нарушаться…
И это нарушение внесло панику в мир науки.
— Для меня электрон является частицей, которая в заданный момент времени находится в определённой точке пространства, и если у меня возникла идея, что в следующий момент частица вообще находится где-то, то я должен подумать о её траектории, которая является линией в пространстве. Картина, которую я хочу создать себе о явлениях, должна быть совершенно чёткой и определённой, — печально говорил на Брюссельском конгрессе в конце 1927 года патриарх физиков, один из последних классиков, Лоренц. В его сознании не укладывались абстрактные построения, которыми так увлекались молодые.
Но Бору и его последователям неопределённость поведения частиц не казалась ни недопустимой, ни странной. Они видели в этом признак принципиально иной сущности микромира, принципиально иной сферы познания. Точка зрения, которую «боровцы» закрепили на Брюссельском конгрессе, восторжествовала на всё последующее время.
В этом котле и «варились» два физика более молодого поколения — де Бройль и Тамм. Они много ломали головы над новой теорией, которая бы разрешила сомнения старой. Их пути в физике очень интересны, но они различны. «Вскормленные» на одном и том же научном «корме», в зрелости они придерживались противоположных мнений. Их мозг из одних и тех же предпосылок делал диаметрально противоположные выводы.
Де Бройль считал, что траектория, как истинный путь частиц, существует.
— Кто смог бы, — говорил он с надеждой, — с абсолютной уверенностью утверждать, что квантовая физика не возвратится в один прекрасный день после ряда блужданий к представлениям объективности, поборником которых до самой смерти оставался Лоренц?
Тамм был убеждён в противном:
— Есть все основания думать, что одновременное точное определение всех трёх координат положения частицы принципиально невозможно. — И подчеркивал: — Целый ряд обстоятельств приводит к убеждению (разделяемому всеми или большинством, в частности и мною), что в физике элементарных частиц необходимо углубление принципа неопределённости.
Видите, даже «необходимо углубление»! И добавлял:
— Сейчас ещё неизвестно, в каком направлении пойдёт развитие физики элементарных частиц: у каждого работающего в этой области есть своя излюбленная дорожка. Может оказаться — это бывает в истории науки, что направления, которые кажутся сейчас различными, синтезируются в единую общую картину.
И в этом сказывается смысл и сила человеческих индивидуальностей. Продвигаясь в разных направлениях, они способствуют выработке единой картины мира. Опровергая, обогащая, дополняя друг друга, они открывают человечеству мир во всём его разнообразии и сложности.
Как же воспитывается человеческая индивидуальность? Как возникают мощные интеллекты? Одни скажут: их воспитывает школа. Они появляются благодаря современной системе образования. Но другие возразят: не благодаря, а вопреки. Вся система образования рассчитана на среднего индивидуума. Да и как может быть иным подход у педагога, перед которым сидят трид цать — сорок учеников? Но и средний ученик не оправдывает возложенных на него надежд и усваивает не всё, что отведено ему по программе.
Возникает противоречие. Для всестороннего развития человеческой личности, несомненно, нужен индивидуальный подход. И в то же время с помощью педагога и обычной системы образования осуществить это невозможно ни технически, ни принципиально. Где же выход?
И тем не менее обойдём сейчас этот тупик. Допустим, что мы нашли возможность индивидуального подхода к каждому ученику и можем приступить к развитию его личности. Мы хотим научить его мозг работать так, чтобы мощь его стала сравнима с эйнштейновской, если мы хотим сделать из него физика, бетховенской, если мы готовим музыканта, марксовской, если наша задача — воспитать глубокого, всестороннего философа и общественного деятеля.
И опять перед нами тот же вопрос: как формируется человеческое мышление?
Тут мы вступаем в ту область человеческих знаний, где нас встречают одни лишь вопросы. Это целина, на которой учёным ещё предстоит возвести прекрасное здание одной из самых важных наук — науки о мышлении, о психике, о самом тонком инструменте, созданном природой, — о человеческом мозге.
Вы спрашиваете: как формируется человеческое мышление? На основании знакомых образов и аналогий, говорят психологи. Профессор Жинкин любит в ответ на такой вопрос произнести скороговоркой какое-нибудь очень длинное и очень мудрёное название, например «дезоксирибонуклеиновая кислота», и предлагает:
— Быстро повторите! И, видя беспомощность собеседника, смеётся:
— Вот видите, не можете. Вам нужно время для того, чтобы сознательно или, может быть, не отдавая себе в этом полного отчёта найти в новом слове знакомые черты, расчленить его на известные уже части. Итак, в первых слогах вам слышится что-то вроде «дезинфекции», потом «рыба», ага, запомнил. Дальше что-то вроде «нуклопа», «клеить», затем «кислота». И вот путь к освоению нового названия найден. Только после такого анализа вы можете понять и запомнить.
А ведь правильно! Я стала вспоминать другие случаи, и действительно, такой механизм запоминания и усвоения незнакомых имён, слов, номеров телефонов оказался для меня органичным.
То, что человеческая психика на пути к новым понятиям опирается на усвоенные старые, подтверждается всем ходом развития науки. Изучая электричество, учёные опирались на свойства жидкостей. Представив себе, как вода просачивается сквозь песок, легко перейти к тому, как электроны просачиваются между атомами вещества, образуя электрический ток. Законы движения жидкостей легли в основу расчётов электрических проводов.
А как трудно менять критерии, видно на примере со знаменитым английским физиком XIX века Редеем. Этот учёный обладал очень свежим восприятием всего нового. И всё же в 1899 году он сделал признание, которое как нельзя лучше характеризует затронутую нами ситуацию.
Почти за тридцать лет до этого он выполнил работу, снискавшую ему всемирную славу. Это была теория, объяснявшая голубой цвет неба. Она исходила из понятия о свете, как о волнах упругого вещества — эфира. Это была сложная теория, во многом спорная даже до появления электромагнитной теории света Максвелла. После возникновения современного взгляда на мировое пространство как на океан электромагнитной энергии, Релей пересмотрел свою теорию в свете новых представлений. Он признал «электрическую» теорию, но писал о ней, что она «предпочтительнее с любой точки зрения, исключая лёгкость понимания…» Исключая лёгкость понимания! Старая теория казалась Релею более лёгкой! Запутанная, противоречивая теория эфира ему казалась яснее кристально чёткой максвелловской теории электромагнитного поля.
И это не удивительно. Механическую теорию учёный постигал свежим, молодым умом. Теорию электромагнитных волн осваивал уже в старости. С теорией эфира он сжился, она пропитала его сознание, поэтому была ему более по сердцу. Новый взгляд на мир ему казался непривычным.
Это объясняется не консерватизмом Релея, а особенностями человеческого мышления. Основные представления человек формирует в начале жизни. Потом всё новое приобретает какую-то повышенную «непроходимость», человек ощущает некое «сопротивление материала». В процессе формирования человеческое мышление всё время опирается и оглядывается на уже знакомые понятия. И вся классическая физика — особенно выразительный тому пример. В течение двадцати веков она развивалась на основе уже усвоенных и изученных моделей, образов, аналогий. Если открывалось новое явление, для его объяснения создавалась модель, или схема, или чертёж. Вспомним, что с лёгкой руки Декарта учёные привыкли опираться лишь на понятия, которые можно изобразить «посредством фигур и движений».
И вдруг в конце XIX века случилось непредвиденное. Максвелл вырвал физику из мира наглядных представлений и вверг в мир чистой абстракции. Он строго математически доказал, что вся Вселенная пронизана электромагнитными волнами. Но парадокс заключался в том, что даже через двадцать лет после создания новой теории в её смысл проникли лишь несколько физиков. Остальным она оставалась чуждой. И даже в наши дни, когда учёные давно освоили максвелловский математический аппарат, всё равно никто из учёных не может ответить на вопрос, что же такое электромагнитные волны.
Луи де Бройль прекрасно сформулировал это положение: «Современные представления не могут служить основой для понимания этих электромагнитных колебаний, которые не сводятся к классическому и наглядному представлению о колебаниях материального тела. Висящие в пустоте, если можно так сказать, они выглядят для непосвящённых (а может быть, даже и для физиков) чемто довольно таинственным».
Что же было требовать от современников Максвелла! Они не могли понять гениального открытия именно потому, что оно не следовало многовековым традициям и идеалам, не покоилось на механических движениях и силах.
Величины, изображавшие в математическом аппарате Максвелла электромагнитные поля, не могли быть выражены никакими моделями и были крайне абстрактны. В арсенале своего мозга учёные не находили опоры для понимания этих абстрактных величин, не могли почувствовать их физического смысла. И самое курьёзное в этой истории то, что сам гениальный Максвелл не осознал полностью того, что совершил, и тоже ломал голову над созданием подходящей модели!
И такую шутку формулы и уравнения играли с учёными не раз. Они уводили их в глубокий тыл «противника» — мир загадок и шарад — и бросали там на произвол судьбы.
Так было с Планком, который в 1900 году написал формулу, трактующую процесс передачи энергии от нагретого тела в пространство не сплошным потоком, каким реки несут свои воды в океан, а отдельными порциями-квантами. Квант энергии стал каким-то пугалом, до конца не понятным ни Планку, ни другим учёным.
«Невозможно избавиться от ощущения, что эти математические формулы существуют независимо от нас и живут собственной разумной жизнью, что они умнее нас и умнее даже их создателей, ибо мы извлекаем из этих формул даже больше того, что было в них заложено поначалу», — так выразил своё изумление Генрих Герц, открывший радиоволны и тем самым подтвердивший реальную жизнь четырёх уравнений Максвелла.
Итак, разум человека вторгся в мир абстракции, где не всякому понятию можно было придать наглядный смысл, где из-под ног учёных уплыла опора в виде известных образов, аналогий, моделей. Квантовая физика увела учёных из мира понятных вещей, мира, где изучаемые предметы можно было увидеть, потрогать или представить.
Что же удивительного в том, что даже великие физики хватались за голову?.. Гейзенберг недоумевал: «Когда я после обсуждений предпринимал прогулку в соседний парк, передо мной снова и снова возникал вопрос, действительно ли природа может быть такой абсурдной, какой она предстаёт перед нами в атомных экспериментах?»
Шредингер ворчал: «Если мы собираемся сохранить эти проклятые квантовые скачки, то я жалею, что вообще имел дело с квантовой теорией».
И снова вопросы. Как же расчищают себе место в мозгу человека новые идеи? Как лучше учить им новые поколения? Надо ли начинать от царя Гороха, учить всё то, что учили отцы и деды? В последнее время все больше учёных высказывается за то, что начинать надо не с арифметики, а с алгебры. Чтобы обучать новой, квантовой физике, надо ли ученику проходить тот же путь, что прошло человечество? И не получится ли так, что, воспитывая мышление на старых образах, на декартовских положениях апробирования новых идей посредством «фигур и движений», мы искусственно создаём трудности, от которых могли бы легко избавить новые поколения? Не должны ли учёные в корне пересмотреть методы и порядок преподавания физических дисциплин? Нужно ли подводить учеников к новой физике, обучив приёмам старой, классической, или делать это надо как-то иначе? И несмотря на то что теорию относительности, квантовую физику учёные переваривали с трудом, физики уверяют, что со временем основным идеям квантовой механики можно будет обучать школьников. Они станут вполне привычными для широкого общества.
«Преподавая квантовую механику, — рассказывает американский учёный Дайсон, — я сделал одно наблюдение (знакомое мне, впрочем, и по собственному опыту изучения квантовой механики). Студент начинает с того, что обучается приёмам своего труда. Он учится делать вычисления в квантовой механике и получать правильные результаты. На то, чтобы выучиться математическим методам и научиться правильно их применять, у него уходит примерно шесть месяцев. Это первая стадия в изучении квантовой механики, и она проходит сравнительно легко и безболезненно. Потом наступает вторая, когда он начинает терзаться потому, что не понимает, что же он делает. Он страдает из-за того, что у него в голове нет ясной физической картины. Он совершенно теряется в попытках найти физическое объяснение каждому математическому приёму, которому он обучился. Он усиленно работает и всё больше приходит в отчаяние, так как ему кажется, что он уже просто не способен мыслить ясно. Эта вторая стадия чаще всего тоже длится месяцев шесть или даже дольше. Потом совершенно неожиданно наступает третья стадия. Студент говорит самому себе: “Я понимаю квантовую механику”, или, скорее, он говорит: “Я теперь понял, что здесь нечего понимать”. Трудности, которые казались такими непреодолимыми, таинственным образом исчезли. Дело в том, что он научился думать непосредственно и бессознательно на языке квантовой механики и больше не пытается объяснить всё с помощью доквантомеханических понятий».
И тут я невольно обращаюсь мыслью к работам советских психологов Леонтьева, Гальперина, Талызиной и других. Не это ли они имеют в виду, когда предлагают свой метод «подведения под понятие»? Они говорят: да, теории обучения ещё нет, теории мышления нет, и, может быть, потребуется ещё сотня лет, чтобы людям стали понятны законы человеческой психики. Да, несомненно, в своём движении человеческая мысль опирается на известные образы и понятия, но мы не знаем, как они образуются. Поэтому важно найти метод выработки понятий.
И они предлагают метод, состоящий из целого ряда умственных действий, с помощью которого в сознании ученика вырабатывается нужное понятие. Пусть это будет понятие «перпендикулярности» или «параллельности», пусть это будет понятие «млекопитающее», пусть обучение пилке дров или обработке деталей на станке, анализ предложений или анализ художественного произведения. Во всех случаях надо уметь составить программу, то есть последовательный ряд умственных действий, в результате которых (вначале пусть бессознательно) ученик навсегда и безошибочно усвоит понятие. Психологи этого направления пробовали свой метод обучения в некоторых школах и уверяют, что он способствует не только повышению успеваемости, но и экономии времени обучения в два раза.
Пока трудно сказать, насколько такой метод может быть универсальным (кстати, этот метод имеет очень много противников: одни психологи его отвергают, другие не понимают), но обещанный выигрыш во времени — это уже существенно. Длительное время обучения в школах и вузах — это драматическая проблема современности.
Как сократить время обучения? Вот ещё один вопрос, остающийся пока без ответа. И то, что психологи предлагают пусть спорный, пусть не всеми разделяемый метод обучения, обещающий сократить срок учёбы, очень обнадёживает. И ещё один момент: они работают над новыми программами обучения, над алгоритмами умственных действий, а это, как мы скоро узнаем, имеет значение для важного начинания.
Говоря об обучении, нужно помнить, что всё больше людей включается в поиски. Если появление Эйнштейна в начале XX века было редким исключением, то на фоне большого количества физиков-теоретиков рождение нового гения — гораздо более вероятное явление, чем полвека назад.
Я бы сказала даже не гения, а гениев, потому что воспитание мощного интеллекта полностью зависит от той системы образования, которую изберет человечество в наш бурный научный век. Мы остановились на некоторых особенностях формирования именно физических идей просто потому, что это, пожалуй, самая революционная, самая сложная наука современности, которая последние полвека готовится к новой ломке представлений. Но ведь так или иначе, все науки современности переживают бурный рост, и то, что касается метода обучения квантовой физике, применимо к любой другой области.
А теперь представьте себе, что будущего физика обучает не человек, а кибернетическая машина. Нет, создатели машин не обещают, что такой педагог сможет привить своему ученику удивительные дары природы: интуицию, воображение. Они пока не обещают и того, что машина сможет повести человеческий разум по кратчайшему пути к истине, по пути, который стихийно находили гении. (Такой критерий создатели машины не могут ввести в программу её действия, этого они сами не знают.) Но машина уже обладает бесценным даром, которым не обладает человеческий мозг, — бездонной памятью, вмещающей знания, накопленные человечеством по сей день. Эти знания можно разбить на ряд программ: от самых простых, для школьников, до самых глубоких — для учёных. Машина отдаёт в распоряжение человека всю свою эрудицию. Она предлагает своему ученику сначала простую программу. Она «присматривается» к складу ума своего партнёра, его способностям, усидчивости, темпераменту. По мере обучения ученик задаёт машине всё более и более серьёзные вопросы — она переводит его на всё более сложные программы обучения. Ученик углубляет свои знания. Чем больше его жадность к знаниям, тем щедрее машина.
Вы скажете, что тому же может обучить и педагог. Нет, не всему. Современная наука так сложна, она пустила такие глубокие и далёкие друг от друга корни, что не всякий учёный знает, что делает его коллега.
И вот появляется машина, которая выполняет работу за десятерых, нет, за сотню учёных! Машина, с которой человек может перехитрить жизнь, за короткий срок освоить десятки методов, осмыслить сотни опытов, сравнить их, взвесить с различных точек зрения.
Но это не та, уже знакомая нам, современная электронно-вычислительная машина, которая сегодня широко используется в качестве быстродействующего арифмометра. В «лице» будущей кибернетической машины человек приобретёт как бы дополнительный участок мозга со всей необходимой информацией. Но это будет не подобие справочника или энциклопедии. Это будет подобие умного, наблюдательного, широко эрудированного собеседника, который следит за всеми изгибами вашего мышления, который ведёт вас в нужном направлении, стимулируя вашу интуицию и подогревая воображение. Это будет подобие целого коллектива людей с различными знаниями, которые помогли бы вам найти путь решения проблемы, могли бы научить мыслить более ясно и на более высоком интеллектуальном уровне.
Известный английский кибернетик, работающий над созданием такой приспосабливающейся (адаптивной) машины. Гордон Паек, пишет: «Подобная система расширяет возможности мозга. Она как бы увеличивает его объём или обеспечивает человеку наличие дополнительных участков мозга. Возможности мозга будут расширены, ведь внезапное открытие истины потенциально заключено в некоторых областях знания».
Конечно, машина, как, впрочем, и педагог, не может вложить открытие в голову своего ученика, но она подготавливает его мозг к тому, что в нём может родиться новая идея, с помощью машины он может сделать открытие.
Пока всё это фантазия. Пока такой машины нет. Но, не сомненно, такие кибернетические машины будут обучать. И, разумеется, не только физике.
Уже в раннем детстве дети проявляют склонность к тем или иным сферам человеческой деятельности, и, выявив это, машина будет развивать эти способности. Такое обучение будет иметь целый ряд преимуществ перед современным. Отпадёт необходимость в экзаменах, так как машина будет контролировать своего ученика в процессе обучения.
И ещё одно: при таком обучении роль педагога существенно изменится.
Гордон Паск говорит: «Педагог будет незаменим для выработки общей стратегии системы образования. Это будет человек с разносторонней подготовкой, включающей определённые математические знания. Это будет весьма авторитетное лицо, очень умное, поддерживающее связь с национальными и международными организациями, определяющими направления развития культуры».
Учёные уже думают над проблемой обучения с помощью кибернетической адаптивной машины. Пока, правда, созданы машины очень примитивные, они годны лишь для некоторой рационализации педагогического труда. Программы обучения тоже далеки от совершенства, но новый стиль обучения находит среди педагогов и учёных всё больше энтузиастов. Они уже на подступах, к проблеме раскрытия всех богатств, заложенных в многогранной человеческой личности. Они на пути к великой сенсации.
МОДЕЛИРОВАНИЕ МОЗГА
Когда первые шаги кибернетики открыли перед исследователями новый путь познания человека, когда они смогли взглянуть на человека как на некоторое подобие автоматической системы, учёные оказали этому направлению самую горячую поддержку. Естественно, их волновали тысячи вопросов. Можно ли на основе исследования автоматов понять духовные процессы? Является ли мыш ление и связанное с ним творчество исключительной привилегией человеческого мозга или же возможно создать технические устройства, обладающие этими способностями? Если можно, то какой принцип положить в основу таких автоматов? Обладают ли машины сознанием? Как близко могут подойти друг к другу модель и оригинал, машина и мозг? Конечно, ставя эти вопросы, используя новые модели, учёные ни на секунду не забывали, что, несмотря на многие аналогии между человеческим мозгом и электронной вычислительной машиной, им свойственны глубокие, непреодолимые различия.
Человеческий мозг содержит бесчисленное количество рефлекторных связей, рождающих разнообразные виды творчества. Павлов считал, что мозг человека таит в себе так много творческих возможностей, что обладатель этого сокровища за всю свою жизнь не в состоянии использовать и половину из них.
Структура мозга — неповторимое, случайное сплетение нервных клеток. Но это отсутствие порядка, этот хаос в сочетании с огромным разнообразием возможных связей между отдельными клетками порождает замечательную слаженность работы человеческого организма, недоступную машине, в строении которой царит идеальный порядок.
И всё-таки, какой степени сложности можно создать электронный мозг? Насколько можно приблизить его к живому? Один учёный заходит в своих мечтах слишком далеко. Он уверяет: если бы мы располагали необходимым количеством центральных клеток (элементов искусственного мозга); если бы они были достаточно малы; если бы мы, наконец, имели нужное нам время, чтобы собрать всё это вместе, то мы могли бы построить роботы, действующие по любой заданной программе. Было бы нетрудно построить робот, ведущий себя в точности как Иван Иванович или Пётр Петрович, или же робот, способный на любое усовершенствование их поведения.
Другой возражает: допустим, можно, но зачем? Зачем нам робот, похожий на Ивана Ивановича или Петра Петровича? Ведь роботы никогда не заменят не только Ньютонов и Галилеев, но и обыкновенных людей. Зачем затевать титаническую работу, зная наперёд о её бесполезности?
Третий уточняет: машина, богатством элементов подобная мозгу, нуждалась бы в помещении, превосходящем самый огромный небоскрёб. Для снабжения её энергией нужна была бы мощь Ниагарского водопада, а для охлаждения ещё один такой водопад. Ведь количество нервных клеток у человека исчисляется числом с десятью нулями, что несравненно превосходит сумму элементов самой большой вычислительной машины.
В спорах нередко возникает вопрос: какой степени совершенства может достичь искусственный мозг, насколько его можно считать «мыслящим»? Один из зарубежных современных «думающих» машин Тьюринг предлагает такую своеобразную игру в имитацию или соревнование между человеком и машиной. Экзаменатор и невидимый испытуемый обмениваются рядом вопросов и ответов. Для объективности это может происходить по телефону. И вот, если через некоторое время экзаменатор уже не может решить, кто его собеседник — человек или машина, — он поднимает руки: сдаюсь. За таким автоматом-партнёром Тьюринг готов признать право считаться мыслящим.
Другой учёный говорит, что он поставит знак равенства между человеком и машиной, если последняя научится смеяться шутке в должный момент. Но так как не все коллеги в должный момент рассмеялись, дискуссия о том, каждый ли человек обладает чувством юмора и стоит ли тратить миллионы, чтобы снабдить этим чувством машины, не состоялась.
Обсуждения этой темы иногда похожи на модные в XVII веке споры о том, где находится вход в преисподнюю — этому был посвящён не один трактат. Не спорить нельзя, учёные будут вечно поражаться искусству природы. Но как это ни печально, детально сравнивать электронные вычислительные машины и мозг человека невозможно, ибо конструктор знает о машине всё, тогда как физиологи знают о мозге и нервной системе слишком мало.
Итак, своим появлением кибернетика заставила учёных подвергнуть пересмотру многие устоявшиеся представления и понятия. И это было трудно, неожиданно, неподготовлено. В книгах, посвящённых физиологии человека и проблемам естественных наук, вышедших в середине 50-х годов прошлого века, об автоматическом регулировании вообще не упоминается. Теория автоматического регулирования считалась принадлежностью только технических наук. Когда этот вопрос появился в повестке совместных обсуждений инженеров и психологов, многих это повергло в уныние.
Но умеющие предвидеть говорили: мы должны дерзать. Если бы люди топтались на точке зрения Аристотеля, XX век не принёс бы град сенсаций. Путь познания духовной жизни человека через познание автоматов для учёныхматериалистов стал правомочным на современном уровне техники и естественных наук.
Дискуссии о сверхроботах продолжают вспыхивать во всём мире. Подвергаются критике, переоценке, переосмысливанию такие понятия, как мышление, сознание, любовь, чувства. Сравнивая человеческий организм и автомат, учёные легко находят аналогии понятиям «память», «мысль», но затрудняются найти у машины что-либо похожее на чувства — машины вполне обходятся без них.
— Зачем же человеку даны чувства? — спрашивают одни. — Это несомненная роскошь, излишки природы. Чувства любви, радости, печали, всё то, что так осложняет нравственную и психическую жизнь человека, так нагружает нервную систему, как показывает опыт автоматов, вовсе не обязательны. Машина, обходясь без чувств и эмоций, без переживаний, вполне может функционировать в духовной области.
— Ошибка, заблуждение, — говорят другие, — чувства — это один из способов общения человека с окружающей средой, средство восстановления душевного равновесия, здоровья, это — элементы автоматического регулирования в живой природе.
— А сознание?
Сознание — это зеркало, отражающее внешний мир и внутреннее состояние организма. Это луч прожектора, скользящий по поверхности окружающего ландшафта и внутреннего мира человека. Каждое субъективное переживание соответствует определённому состоянию организма, и прежде всего состоянию нервной системы.
Но это красивые слова. Разве мы знаем пропорции отражения окружающего мира в зеркале сознания? Ведь закономерности связи человека с внешним миром ещё неизвестны, не описаны с помощью физических понятий…
Неизвестны. Но это предмет изучения, и эти вопросы будут изучены. Пока только начало. Когда была построена первая железная дорога, ею мало кто пользовался, её боялись. Важны не абстрактные рассуждения, а очевидность. Связь же эмоций и физического состояния организма очевидны, эмоции влияют на желудок, на кровообращение, на сосуды. Известно: когда человек испытывает страх, у него расслабляются мышцы. Еще в 1925–1927 годах физиолог Вагнер установил, что взаимосвязь скелетно-мускульной системы и нервных нагрузок может быть однозначно описана физико-математическими методами. Известны и препараты, искусственно вызывающие определённые переживания: наркотики, алкоголь, лекарства.
Если следовать тезису кибернетики, то каждому физическому состоянию организма соответствует определённое субъективное психологическое состояние, и наоборот. Но что значит «соответствует»? И как выразить эту параллель при изучении психических и мыслительных реакций человека на автоматах?
Кибернетика стремится рассматривать связь сознания с окружающим миром как объективный процесс, который может быть выражен формулой, уравнением, числом, моделью. И тут ей на помощь приходит радиотехника и биология.
Радиотехники научились определять количественную сторону процесса связи, оперировать понятием потока информации, которая передаётся по самым различным каналам.
Почему бы не применить эти знания к определению пропускной способности нервных сетей? И вот, привлекая усилия биологов, удалось определить, что количество информации, которое нервная сеть способна подать в мозг, составляет примерно 1 бит за 1/16 секунды (бит — единица измерения информации). И эта порция информации задерживается в сознании примерно 10 секунд: значит, человек воспринимает 16 бит в секунду и одновременно в его сознании циркулирует 160 бит информации.
Когда предположение приобретает осязаемую форму в виде количественной оценки, для учёного не остаётся сомнения в физической сущности явления. Значит, действительно, каждое переживание соответствует математически описываемому состоянию организма. А ведь воздействуя на организм, можно «включать» и «отключать» сознание, искусственно «начинять» его информацией (галлюцинации при употреблении наркотиков и пр.). И если будет понят механизм работы мозга, путь поступления в него информации, найдена количественная сторона процесса, можно будет создать модель явления, в данном случае сознания. Таким образом, утверждение, что автомат можно снабдить интеллектом, или подобием его, не является необоснованным. Учёные убеждены: электронно-вычислительную машину можно обеспечить искусственным сознанием. Но, повторяем, стоимость эксперимента не окупила бы сомнения — всё ясно и без такого опыта.
Так здравый смысл, говоря языком кибернетики, помогает осуществить автоматическое регулирование научного поиска, создать объективность научной атмосферы вокруг проблемы. Думать, что автоматы так перещеголяют своих создателей, что сравняются интеллектом с мифическими небожителями, — это перегнуть палку. Считать, что психические, духовные процессы вообще недоступны физическому и математическому анализу, имитации с помощью моделей, — значит поставить тормоз развитию мысли.
Материалисты с самого момента зарождения кибернетики настаивали на незыблемости исходной позиции кибернетики: общности процессов передачи информации живой и неживой природе.
Конечно, пути, по которым информация проникает в «плоть» и «кровь» человека, сложнее, чем каналы связи, знакомые технике. Это и наследственная информация, передаваемая детям от родителей через гены. Это и многообразная слуховая, зрительная и тому подобная информация из внешнего мира. И та, с помощью которой люди общаются между собой. Каждый вид информации до сих пор не очерчен строго. Важно другое. Когда выявлены первые количественные закономерности, связывающие сознание и внешний мир, сознание и внутренний мир человека, отпадает необходимость призывать на помощь некий «дух», который якобы таинственным образом управляет психической жизнью человека, его наклонностями, эстетическими категориями и прочими проявлениями духовной жизни.
Даже дозу художественной информации, которая даёт эстетическое наслаждение, можно вычислить для каждого индивидуума персонально. Немецкий учёный Франк утверждает, что удовольствие может доставить только такая звуковая информация, поток которой не превышает 16 бит в секунду. Если их больше, человек-приёмник отключается: такой поток его слишком перегружает. Если поток заметно меньше, «приёмник» простаивает: сознание запол няет паузы посторонними мыслями, наблюдениями. Мы говорим — эта музыка скучна.
Эксперимент Франка оказался важной отправной точкой в исследовании теории эстетической информации. В будущем это может привести к разработке точной научной теории художественного творчества, которая сможет однозначно объяснить: почему то, что кажется одному человеку красивым, другому видится некрасивым; одному приятным, другому неприятным. Может быть, наука подведёт теоретическую базу под красноречивую поговорку: «Каждый Ганс находит свою Гретхен».
Нелёгкие разговоры происходят в среде кибернетиков на темы общественного регулирования. Как ни упирались они, как ни противились проникновению кибернетики в эту сферу, пришлось серьёзно думать о проблеме автоматического регулирования в человеческом обществе.
Ироническое толкование социальных проблем регулирования дал один философ ещё в 1830 году: «В холодные зимние дни в стадах дикобразов наблюдается следующее явление: животные теснятся друг к другу, чтобы защититься таким образом от холода. Однако при этом они колют друг друга иглами, что заставляет их держаться на расстоянии. Когда холод снова сгоняет их вместе, картина повторяется до тех пор, пока они не найдут некоторое среднее положение, в котором чувствуют себя наиболее благополучно. Так и потребность в общении, порождаемая пустотой и однообразием собственного внутреннего мира, влечёт людей друг к другу. Однако отрицательные качества и нестерпимые промахи взаимно отталкивают их. Средняя дистанция, которую они наконец находят и которая обеспечивает их совместное существование, как раз и есть не что иное, как вежливость и хорошие манеры».
Конечно, это определение облечено в шутливую форму, но если мы пристально приглядимся к проблеме, то увидим, что где-то на высших уровнях духовной сферы с социологическим регулированием смыкаются и психические процессы регулирования. Кибернетики вынуждены думать о социальном значении понятий — совесть, индивидуализм, интеллект. С этими вопросами переплетаются такие свойства человека, как прямота и сентиментальность, честность и способность к самоанализу. Все эти особенности так или иначе сказываются на окружающих.
Венский психолог Рорахер, выбравший темой своего исследования процессы регулирования в области психических явлений, пришёл к выводу, что переживания ведут к восстановлению чувства собственного достоинства после неправильного поведения или поступка, вызвавшего смущение. Формулируя это на языке кибернетики, можно сказать: имеется некоторая величина, значение которой необходимо регулировать.
Даже совесть кибернетики расценивают как регулятор в духовной и моральной сфере. Это качество заставляет человека исправить допущенную ошибку, воздержаться от желания, угрожающего спокойствию других людей. Совесть не допустила многие преступления.
Таким образом, исследуя различные феномены человеческой психики — чувства, интеллект, кибернетики подбираются к созданию — нет, не модели человека, но весьма и весьма совершенной машины, сферу применения которой пока даже трудно вообразить.
Представители технических и гуманитарных сфер деятельности неуклонно движутся навстречу друг другу, стремятся к объединению своих знаний для постижения тайн мышления, загадок духовной жизни человека.
ФИЗИКА ПЕРЕД НОВЫМ СКАЧКОМ
Теория относительности и квантовая физика ярким светом озарили многие тайны космоса и мира атомов. Первые шестьдесят лет нашего века ознаменовались десятками блестящих открытий. Эти годы по праву будут расцениваться как вторая героическая эпоха в физике, со перничающая с великой эпохой Ньютона, а может быть, и превосходящая её.
Но в последнее время произошло то, что редко случается за столь короткий срок в истории науки: на подступах к тайне элементарных частиц великие теории дрогнули…
Драмы разыгрываются главным образом в сокровенных глубинах атомного ядра и в связи с рождением (не всегда законным) новых частиц. Теория стала катастрофически отставать от опыта, перестала понимать и объяснять его! Эксперимент с каждым днём становится всё более блестящим, уверенным, хитроумным, но теоретики всё чаще оказываются не в силах предсказать и объяснить его результаты.
В ускорителях полчища искусственных космических частиц неутомимо бомбардируют мишени. И встреча «снарядов» с атомами мишени рождает целый фейерверк элементарных частиц: протонов, электронов, мезонов и… ряда таинственных, неизвестных ещё людям. Эти незнакомки представляют объект самого жадного интереса учёных.
Но большинство вновь рождённых частиц и не «думает» дожидаться, пока учёные внесут их в свои списки. Они умирают, прожив меньше, чем мгновение, просуществовав в десять миллионов раз меньше, чем ускользающе малая величина — время обращения электрона на своей орбите вокруг ядра! И всё-таки экспериментаторы успевают решить буквально феноменальную задачу: сфотографировать следы частиц-«мгновений», взвесить их, измерить электрический заряд, энергию и время жизни.
Как же объясняет теория это удивительное, фантастическое разнообразие частиц, вдруг вспыхивающих и мгновенно исчезающих? Как она рисует свойства частиц «призраков»?
Увы, никак! Современная теория пока не способна дать ключ к объяснению этих явлений.
Столкновение микрочастиц, сопровождающееся рождением огромного числа новых частиц, не поддаёт ся расчёту, предвидению, математическому анализу! Учёные могут рассчитать траекторию космических кораблей, предугадать район их посадки на других планетах, наконец, сфотографировать скрытую от нас половину Луны, но… Когда теоретики пытаются описать взаимодействие малых частиц материи, они приходят к несуразным выводам. Получается, что частицы должны обладать бесконечно огромным электрическим зарядом и бесконечной массой! Если верить формулам и уравнениям, столкновения невидимых ядер должны рождать частицы размером больше Земли, больше Солнца, что, естественно, противоречит и здравому смыслу, и повседневным наблюдениям.
Итак, частицы материи не уживаются вместе в мире известных математических образов, хотя в обыденной жизни они прекрасно ладят друг с другом, никаких нарушений законов микромира не допускают, и вокруг нас продолжают как ни в чём не бывало существовать привычные предметы, сотканные из биллионов биллионов элементарных частиц.
Чтобы «примирить» их и на бумаге, учёным сейчас приходится отказаться от рассмотрения самых близких отношений между частицами, от изучения того, что происходит при очень тесном их сближении, то есть отказаться от попыток разобраться в самом интересном…
До сих пор никто не может сказать, завершён ли список микрочастиц или нам предстоят новые открытия. Никто не знает, какие из них элементарны. Нет даже ясного определения того, какие частицы нужно считать элементарными. Хотя похоже на то, что элементарная частица не должна быть простым соединением других частиц.
Например, мезоны и гипероны не рождаются в одиночку, а группами хотя бы из двух частиц. Причём в различных условиях из одного и того же исходного «материала» могут образоваться различные «продукты». Конечно, эти частицы не элементарны.
Но если при реакции частица разлетается на несколько осколков и среди них есть такие, которые не меньше исходной, то эти последние, пожалуй, можно условно считать элементарными. Такой подход вполне законен.
Например, при распаде протона получается нейтрон и ещё две частицы, при распаде нейтрона — протон и две другие частицы. Массы протона и нейтрона очень близки, значит, эти частицы элементарны, они, по существу, не распадаются, а превращаются друг в друга.
Откуда же берутся новые частицы, рождающиеся при этих превращениях? Ещё недавно ответ показался бы крамольным: они возникают из энергии, которой обладала элементарная частица до превращения. Если превращение происходит внутри ядра — это её доля внутриядерной энергии. Если частица свободна, то это её кинетическая энергия.
Мы постоянно становимся свидетелями того, как энергия — ядерная, электромагнитная, механическая — в соответствии с предсказанием Эйнштейна трансформируется в частицы. Мы можем наблюдать, как частица и античастица исчезают, породив кванты энергии электромагнитного поля.
Мы уже не сомневаемся в том, что энергия обладает инерцией и испытывает действие поля тяготения, что энергия материальна, то есть существует независимо от нашего сознания.
Возникает вопрос: не является ли то, что мы называем энергией, равноправной формой материи, проявляющей себя в соответствии с ещё неизвестными законами то как поля, то как частицы? Не правы ли Эйнштейн и де Бройль, считавшие волны и частицы единой сущностью?
Как же преодолеть ограниченность теории, которая пока не в силах разобраться в завидном многообразии элементарных частиц? Как решить конфликт между теорией и практикой?
Каков механизм неисчерпаемости электрона и других частиц? Что представляет собою атомное ядро? Капля ли это какой-то особой невиданной жидкости, жидкости, возможно, сверхтекучей, сходной по своим свойствам с очень охлаждённым жидким гелием?.. Сгусток ли это особых ядерных сил?
Бор верил в капельную теорию строения ядра атома, Боголюбов придерживается сверхтекучей модели ядра…
Вплоть до недавней кончины продолжал свои попытки построить единую теорию элементарных частиц творец квантовой механики Гейзенберг, пришедший к мысли о том, что пространство и время, возможно, не образуют непрерывного многообразия. Он рассматривал модель мира, в котором существует минимальное пространственное расстояние — квант длины, который много меньше всех встречавшихся ранее расстояний. Гейзенберг считал, что на расстояниях, меньших этой длины, невозможны никакие, даже мысленные эксперименты.
Физики не ждут ничего нового от этой теории. По их мнению, поиски Гейзенберга лежат слишком близко от района, уже обследованного учёными.
Делаются попытки, связанные с квантованием времени, с отказом от применения теории относительности к событиям малых масштабов. Учёные пробуют построить новую теорию, основанную на том, что в крайне малых масштабах, которые пока ещё не поддаются измерению, время течёт скачками. Не непрерывно, как это получается при отсчёте обычными, пусть самыми точными, даже атомными часами, а изменяется маленькими порциями. Трудно пока говорить, действительно ли это скачки времени или принципиально необходимые скачки любого часового механизма. Мысль учёных легко понять, взглянув на обычные часы: секундная стрелка движется скачками, а другие перемещаются практически непрерывно.
Квантование времени, расстояния и многие другие теории — это, как говорится, проба пера. Пока ещё не ясно, какая из попыток приведёт к истине.
Учёные уже в XX веке привыкли к тому, что самые плодотворные, самые гениальные идеи, которые принесли в науку революцию, рождались чаще всего не из планомерного развития какого-то направления. Они возникали бурно, дискуссионно, не вязались с привычной логикой вещей, перескакивали через неё, казались поначалу неправдоподобными…
Поэтому, сталкиваясь с новым мнением, учёные наших дней прежде всего стараются понять: насколько близок район новых раскопок от уже разрытых другими учёными «курганов»?
Правда, история науки знает удивительные случаи, когда открытие было обнаружено буквально «под носом». Современный английский археолог Луис С.В. Лики искал череп самого древнего человека. И нашёл его возле…
«Случилось это, когда я обходил ущелье с геологом Раймондом Пиккерингом, который составил для нас подробную карту ущелья. Однажды после обеда мы с Реем вышли из маленького бокового ущелья в полутора километрах от нашего лагеря и взобрались на холмик, чтобы поглядеть на основной раскоп.
Вдруг что-то показалось мне странным. Я сказал Рею, что с холмика я вижу обнажения слоя, которых раньше не замечал.
В этот день идти туда было уже поздно. Всю ночь я размышлял, как же мы могли пропустить это место, работая от него на расстоянии брошенного камня? Единственным объяснением могла быть только закрывающая обнажение растительность.
Рано утром я взял с собой Рея и своего младшего сына Филиппа, и мы начали продираться сквозь кусты. На верхушке склона у меня появилось чувство, что сейчас мы увидим что-то важное. Карабкаясь вниз, я, смеясь, сказал Рею:
— Вот здесь-то мы и найдём череп.
Не успел я окончить фразу, как мой взгляд случайно упал на несколько обломков костей в маленьком разрытом овражке. Череп!
Это действительно был череп — человеческий череп. Наконец мы нашли то, что наши бесчисленные предшественники искали больше столетия».
Так Луис Лики пишет о замечательном открытии — своей драгоценной находке, которую он обнаружил близ ущелья Олдовай, где вёл систематические раскопки в течение тридцати лет…
Неизвестно, прячется ли тайна элементарных частиц где-то далеко, за пределами района современных поисков… Или она подстерегает учёных рядом, где они ищут уже много лет…
Прошли десятилетия с тех пор, как В.И. Ленин сказал провидческую фразу: «Электрон так же неисчерпаем, как и атом». Сомнений не осталось — да, электрон, элементарные частицы не элементарны! Каковы доказательства этой дерзкой мысли?
Одно из самых убедительных — то, что при столкновении двух частиц возникают новые. Опыты по рассеянию ускоренных частиц показали: каждый протон и нейтрон подобно атому имеют своё маленькое ядро, окружённое «атмосферой» из элементарных частиц другого типа — мезонов.
Физики фактически повторяли опыты Резерфорда, но совершенно иными инструментами. У Резерфорда были снаряды малой мощности (альфа-частицы), и он проник лишь в атом. Новые, более мощные «снаряды» (протоны больших энергий) помогли физикам проникнуть ещё дальше — в глубь ядра. И в том, и в другом случае «снаряды» рассеивались сильнее, чем если бы мишень была однородным, сплошным телом. Одинаковым был и вывод: масса мишени (протона и нейтрона) не размазана по её объёму, а сосредоточена вблизи её центра в чрезвычайно малом объёме, как масса атома в его ядре.
Чтобы не путать его с атомным, ядро протона и нейтрона называют теперь словом «керн». В немецком языке это слово обозначает «ядро» или «косточку» ягоды.
Казалось бы, куда дальше? Но наука не знает успокоенности. Теперь физики стремятся узнать: как устроен керн? Недавно были опубликованы первые результаты.
Выяснилось, что и керн — это не сплошное однородное тело.
Снова была использована идея опыта Резерфорда, но снарядами на этот раз были электроны. Электроныснаряды мчались на штурм со скоростью, лишь на одну трёхмиллионную долю меньшей, чем скорость света. Снаряды проникли внутрь керна. Даже из грубого анализа результатов было ясно, что керн не представляет собой однородное тело: рассеяние электронов на керне оказалось очень большим!
Когда закончились расчёты и была точно воссоздана картина рассеяния электронов на атомах мишени, рассчитаны углы и энергии, настала пора удивления. Результаты оказались такими, как если бы внутри керна находились… три сверхмалые частицы! Сразу же возникла мысль — может быть, эти новые частицы и есть таинственные кварки? Возможность их существования была предсказана теорией. В последние годы о них много пишут научные журналы всего мира.
Сейчас, пожалуй, нет ни одного крупного физического института, изучающего элементарные частицы, где не готовились бы к поискам или уже не искали загадочные сверхэлементарные крупицы материи. Одиночных кварков пока, тем не менее, найти не удалось. Теория говорит о том, что внутри многих микрочастиц они должны существовать именно тройками. Действительно ли внутри керна существуют кварки? Многие физики склонны думать именно таким образом.(В современной физике кварки получили полное признание: они оказались не менее реальными, чем электроны и протоны. Их свойства изучает квантовая хромодинамика. Оказалось, что кварки бывают шести типов, причём всё обычное вещество «сделано» из кварков двух типов, а для чего нужны остальные — не ясно. По мере изучения кварков некоторые учёные высказывают предположения о сложной внутренней структуре самих кварков и о существовании ещё более элементарных частиц! — Прим. В.Г. Сурдина)
Итак, учёные окончательно убедились в неисчерпаемости элементарных частиц.
Как же обстоят дела с самим электроном? Физики не выпускают его из поля зрения. Но в его строении всё ещё много неясного. Эта первая из открывшихся людям элементарных частиц оказалась крепким орешком… Опыты идут всё по тому же пути: мишень — снаряд. Электрон обстреливается встречными пучками заряженных частиц.
Классический опыт Резерфорда привёл к атомному ядру, а последующие его усовершенствования позволили обнаружить керн протона и нейтрона. Новейшие опыты дают основания считать, что электрон тоже состоит из сверхмалого ядра, окружённого «атмосферой».
Ядро столь мало, что для перехода к этой величине нужно разделить сантиметр в миллиард раз и повторить такую операцию более миллиона раз подряд. Из чего же состоит «атмосфера» электрона? Физики считают, что её образуют рождающиеся на мгновение и вновь исчезающие осколки материи — обитатели «планеты электрон». Говорить о подробностях пока преждевременно. Это лишь первые осторожные догадки.
Электрон неисчерпаем. Каждый шаг к пониманию его структуры чрезвычайно труден. Но шаг за шагом учёные проникают и будут проникать в тайны природы. И как сказал замечательный французский физик Поль Ланжевен: «Хотите вы этого или не хотите, но нет другого пути к пониманию ядра, кроме диалектического материализма». То есть без философии физике не обойтись.
Нет другого пути и к тайнам элементарных частиц — планетам Малой Вселенной, и тайнам небесных тел — обитателям космоса, Большой Вселенной. Физики, математики, философы одолеют его объединёнными усилиями.
И МОЦАРТ, И САЛЬЕРИ
В небольшой комнате, почти заполненной двумя роялями, уместился десяток стульев и десятка полтора людей разного возраста. Все они, не отрываясь, смотрели на руки черноволосого смуглого юноши, бушующие над клавиатурой.
Пианист, которому предстоял ответственный концерт, «обкатывал» программу для друзей. Звучал Скрябин. И надо сказать, в первоклассном исполнении.
Почти каждый любитель музыки проходит полосу увлечения Скрябиным и выходит из неё, как из бури: потрясённый, покорённый стихией. Каждое произведение Скрябина — этюд ли, большое ли программное полотно — мучительная проблема и для пианистов и для музыковедов, проблема техническая, эстетическая, философская. Скрябина не только трудно играть, но трудно понять, не воспринимая музыкальную тему в совокупности с его мировоззрением, философией. А вокруг этого накручено столько легенд, что мало кто даже из знатоков может толком ответить на вопросы любителей скрябинской музыки.
В этот вечер всё было, как обычно: споры, разное понимание, различное толкование.
Пианист, близкий семье Скрябина, к тому же ученик Генриха Нейгауза, блестящего скрябиниста, после концерта рассказывал много неизвестного о жизни композитора. В довершение он произнёс фразу, которая меня потрясла.
— А вы знаете, что Скрябин много думал о математической интерпретации музыки? Он обладал особым музыкально-математическим мышлением и, прежде чем записать новую вещь в нотных знаках, записывал её математическими формулами…
Неужто в нём воплотилось два, казалось бы, всегда враждующих начала — моцартовская стихия и сальеревский рационализм?!
Скрябин, начиная с «Прометея», рядом с нотной дорожкой писал световую — впервые в истории музыки и науки он пытался связать свет и звук.
Все его произведения программны, несут в себе точный сюжет, и Скрябин писал к ним литературный комментарий, часто в стихах. Он синтезировал в своём творчестве музыку, поэзию и свет. Но математика?!
— Нет, это не те формулы, к которым привыкли физики и математики, — пояснил пианист. — Это особый цифровой код, понятный только автору. Иногда после того как произведение было занесено на нотную бумагу, некоторые строчки и отдельные такты Скрябин оставлял незаполненными.
— Проще было их и вовсе пропустить, — заметил кто-то.
— Это ему и советовали некоторые музыканты, потому что, проигрывая сонату или этюд, они не обнаруживали никаких пропусков или недоговорок. Но Скрябин отвечал, что, по его расчётам, здесь должны быть определённые такты, а какие — он ещё не знает, но они обязательно будут. И действительно, в окончательной редакции они появлялись.
А вы знаете этот код?
Нет, его не знает никто.
— И никто из математиков не пытался его расшифровать?
— Нет. Хоть есть некоторые вещи, записанные и в нотных знаках и в цифровом коде…
Какая потрясающая перспектива — расшифровать Скрябина, одного из самых загадочных, сложных и противоречивых русских композиторов!
Чайковского, Бетховена, Вагнера, наконец, Рахманинова можно узнать, даже не помня вещи, которую слышишь. Угадать музыку Скрябина почти невозможно. Так сильно меняется его стиль в различные периоды творчества. И дело не только в настроении произведения, но техника, фактура, характер гармонии у позднего Скрябина так резко отличаются от раннего, что в пору предположить, что за именем Скрябина скрывается несколько безвестных гениев.
Даже среди музыкантов о нём существуют несовместимые мнения. Одни говорят, что настоящий Скрябин — это Скрябин раннего периода: концерт, первые три сона ты, прелюдии, этюды, мазурки, поражающие тонким лиризмом, романтической атмосферой любви, пламенной драматичностью. Пусть в нём ещё звучат любимые им Шопен и Аренский, но никакие заимствования не могут скрыть удивительный почерк Скрябина — только ему одному свойственные грозовые ритмы, причудливые напряжённые интонации.
«Настоящим» Скрябин считается и в среднем периоде: в знаменитой «Божественной поэме» и других симфонических произведениях с его собственными литературными текстами, о которых можно сказать одной скрябинской фразой: «Иду сказать людям, что они сильны и могучи».
А потом произошло нечто почти мистическое. Из-под пера Скрябина стали вырываться совершенно необычные не только для него, но и для всей истории музыки произведения с многозвучными диссонирующими аккордами, странными ладами, вступающими в конфликт с классическими благозвучными и мелодичными мажорно-минорными звучаниями.
Этот скачок, казалось, ничем не подготовлен. Он был необъясним, непонятен, загадочен. Он вызывал либо ревнивые споры современников, либо иронические толки, либо просто брань.
Не будем говорить о профанах, но Иван Бунин (тончайший знаток русской культуры), по словам Валентина Катаева, так отзывался о музыке Скрябина:
— Скрябин?.. Гм… Вы хотите знать, что такое Скрябин и что из себя представляет его музыка, например «Поэма экстаза»? Могу вам рассказать. Итак, «ударили в смычки». Кто в лес, кто по дрова. Но пока ещё более или менее общепринято, как и подобает в стенах знаменитой Московской консерватории. И вдруг совершенно неожиданно отчаяннейшим образом взвизгивает скрипка — как поросёнок, которого режут: «И-и-ихх! И-ихх!» — При этом Бунин делает злое лицо и, не стесняясь, визжит на всю квартиру.
Правда, Пастернаку принадлежат другие слова о Скрябине: «…голоса приближаются: Скрябин. О, куда мне бежать от шагов моего божества!»
Если бы можно было верить на слово хотя бы только гениям! Как просто было бы овладеть секретом нераскрываемого: что хорошо, что плохо…
«”Война и мир” роман скучный, написанный суконным языком. И девицы все там жеманные и манерные. Трудно представить себе роман более ненужный и схематичный». Автор этих строк Тургенев…
А высказывание самого Льва Толстого о музыке Листа, Берлиоза, Рихарда Штрауса: какофония, отсутствие мелодии, оскорбляющие слух звуки!
— Это лишено ритма, гармонии, смысла, это… это просто безумие, тупик. О позднем Скрябине нечего говорить, — шумели музыканты, «знатоки» — современники Скрябина.
— Как не говорить?! — вскипал темперамент других. — Как не говорить, если настоящий Скрябин только начинается в последний период! Всё написанное им до 50-го опуса — это намёк, это предчувствие, это упражнение для высокого полёта. Да, да, и его знаменитый героический этюд, и «Прометей», и «Поэма экстаза» — это только предверие того грандиозного, что звучит в последних сонатах и что он должен был развернуть в главном деле своей жизни, в так и не законченной «Мистерии». Вот это действительно Скрябин, настоящий Скрябин. Он был на пороге величайшего открытия, прозрения, переворота в музыке!
Эти неистовые споры продолжаются по сей день…
Может быть, Скрябин в музыке был тем, чем стал для физики Эйнштейн? Эйнштейн, создавший теорию световых квантов и теорию относительности так рано, что его друзья боялись провала при избрании его в Академию наук. Просили не принимать всерьёз эти «несолидные» работы…
По внешней аналогии легкомысленно ставить знак равенства между Эйнштейном и Скрябиным, но нечто по добное скандалу сопутствовало и Скрябину, когда он в «Прометее» записал рядом с нотной дорожкой световую. Тогда много иронического говорили об этом странном новаторстве, о том, что-де неудобно знаменитому композитору «баловаться» такими пустяками. Однако теория, связывающая свет и звук, оказалась не просто странной прихотью, причудливой игрой воображения. Как теперь доказано, она имеет глубоко научный характер и корни её ведут к самым таинственным и ценным кладам природы, не склонной к баловству.
И ещё раз невольно вспоминаешь Эйнштейна — не понятая даже физиками, его теория оказывала какое-то магическое действие на людей, совсем непричастных к науке. Эйнштейн был предметом всеобщего поклонения. Его адрес красовался в туристических справочниках. Он стал легендой при жизни. Девочка из Британской Колумбии писала ему: «Я вам пишу, чтобы узнать, существуете ли вы в действительности?»
Имя Скрябина тоже стало легендой при жизни. И не только благодаря ряду удивительных и необычных свойств характера и биографических ситуаций. Загадочным и не понятым современниками, он трагически умер сорока с лишним лет, не успев сделать самого главного. Может быть, действительно, он был на пороге революции?
Итак, тупик или озарение?
Кому под силу раскрыть тайну Скрябина?
Может быть, это дело кибернетиков? Что, если им попробовать расшифровать математический код Скрябина? Ведь расшифровали же они с помощью электронной вычислительной машины письменность майя — племени, давно исчезнувшего с лица земли… И эта расшифровка полностью совпала с той, что была сделана другими методами.
Почему бы им не попытаться пролить свет на тайны композиции одного из самых замечательных музыкантов? Возможно, расшифровка метода письма Скрябина выведет нас на дорогу иного толкования мира звуков и гармонии? Может быть, Скрябин возвестил рождение новой музыки, свойственной нашему бурному и стремительному веку. Веку, который внёс в науку мятежный и дерзкий дух отрицания старых истин и утверждения новых.
Что ж, учёные, вероятно, раньше других поняли и почувствовали грозовой темперамент нашего столетия и сегодня уже не отмахиваются от «бредовых» на первый взгляд теорий: к ним жадно тянутся, ожидая от них решения самых головоломных, самых таинственных загадок природы.
Прозрение или заблуждение? Как часто этот вопрос сопутствует самым гениальным открытиям, витает вокруг тех имён, к которым в конце концов прочно пристает эпитет «гениальный».
А что же музыка, мир гармонии, без которой трудно представить себе жизнь человека? Не настанет ли и для неё однажды момент великих перемен? И не был ли Скрябин пионером, носителем идеи преобразования музыки?
Какая благодатная почва для слияния возможностей кибернетического и музыковедческого анализа, для содружества музыкантов и математиков, для объединения физиков и лириков!
Кто знает, может быть, такая совместная работа станет новым этапом в изучении самой тонкой сферы человеческой деятельности — сферы творческого труда, и мы перекинем мост от одного вида творчества к другому, поймём тайну музыкального, литературного, математического склада ума?
Возможно, проникновение одной специальности в другую, одного образа мыслей в иной чревато для человечества неожиданными психологическими эффектами и открытиями. Кибернетика намечает тут удивительно дерзкие маршруты.
Может быть, они-то и приведут человечество в страну будущего, о которой говорил Флобер: «Чем дальше, тем Искусство становится более научным, а Наука более художест венной; расставшись у основания, они встретятся когда-нибудь на вершине».
ПРАВДА ШЕКСПИРА И ЭЙНШТЕЙНА
Мне позвонил приятель: «Видела фильм “Мама вышла замуж”?» — «Нет. Надо смотреть?» — «Там Ефремов читает твою книгу “Безумные идеи”».
Смотрю фильм и, действительно, вижу, как Олег Ефремов, перебирая книги на полке, останавливается на моей.
Эпизод застрял в памяти, заставляя задуматься: почему, собственно, там, на полке, стояла именно эта книга? Герой фильма, шофер, которого играл Ефремов, не мог вытащить её случайно. Автор сценария, режиссёр, артист — все те, кто программируют действия персонажей, — не дадут случаю распоряжаться в их фильме. Они сознательно поставили книгу о наиболее парадоксальных открытиях науки на книжную полку пасынка шофера. Почему? Чтобы показать, что читают юноши второй половины XX века? Логичное предположение (книга написана для молодёжи), но уязвимое — тут много других возможностей. Поманило название? Вряд ли… Искушённых людей не увлечёт броскость названия.
А что, если… если и люди современного искусства мучимы поиском «безумной» идеи? Не идут ли параллельно пути познания истины в науке и искусстве? Не общие ли законы царят в этих областях человеческого творчества?
Вы спросите: какие основания для такого предположения?
Вот какие: объект познания науки — окружающий мир, Вселенная. Центр притяжения искусства — человек, его внутренний мир, мир чувств, эмоций, поступков.
Учёные стараются придумать такой метод, найти такой инструмент, будь то теория или эксперимент, который способен выявить устройство природы, заставить её заговорить, раскрыться. Они пытаются задавать природе свои вопросы так, чтобы она не смогла не ответить на них.
Не та ли проблема у искусства?
Писатели, драматурги пытаются создать в своих произведениях ситуации, которые заставят их героев обнажить мотивы поступков, раскрыть душу, показать своё истинное лицо. Писатели тоже ищут скальпель, а не топор. Им нужны тонкие методы, помогающие отличить правду от лжи, докопаться до сути, как глубоко она ни запрятана.
Это очевидно. Так было всегда, по крайней мере с тех пор, как человек созрел для познания и анализа.
Совсем не очевидно другое: характер поисков, их активность и принципиальное звучание меняются со временем. Так и случилось с научными поисками во второй половине прошлого века: их ход радикально изменился. Если много веков развитие научных исследований шло медленно, спокойно, без особых катаклизмов и потрясений, то наши дни внесли в это торжественное шествие сумятицу и беспокойство — случилось так, как в партитуре Листа, где после указания играть «быстро, как только возможно», возникает требование «играть ещё быстрее».
Уровень экспериментального искусства предоставляет учёным столь обширный, разнообразный, противоречивый материал из жизни Вселенной, что они не успевают в том же темпе разобраться в нём, расшифровать и объяснить. Открыты факты, опрокидывающие прежние представления о космосе и мире атомов. Зачёркнуты привычные выводы, но не утвердились новые. Парадоксы смеются над исследователями: учёные могут с потрясающей точностью определить расстояние от Земли до Венеры, Марса, достать лунный камень, запрограммировать каждый поступок автоматических планетоходов. Но… когда они пытаются, например, разобраться в сотне типов мельчайших частиц материи, обнаруженных современным экспериментом, и выбрать среди них ту, что является основой бытия, то в недоумении разводят руками.
Научившись повелевать электричеством, человек до сих пор по-настоящему не знает, что такое электрон, электрический ток. Умея использовать радиоволны для связи, мы так и не знаем, что они собой представляют. Научившись выражать формулами меру их действия, мы не умеем представить себе их образ столь же наглядно, как цветок или звезду. Обнаружив новые факты, связанные с деятельностью Солнца, учёные вынуждены подвергнуть сомнению прежние гипотезы об источнике его энергии. Не умея объяснить загадки пульсаров, квазаров и других новых космических объектов, многие говорят сегодня об ограниченности недавно всесильной теории относительности Эйнштейна и стараются создать новый аппарат познания.
В физике наших дней зреет атмосфера грозы, предчувствие качественного скачка в познании.
Боги науки Эйнштейн, Бор, Планк мечтали об озарении, надеялись на чудо, так была велика их потребность проникнуть в тайны бытия. Именно Бор применил критерий «безумности» к радикально новым подходам в исследовании явлений природы.
Когда Бор услышал о дерзкой попытке Паули и Гейзенберга трактовать законы микромира на принципиально новой основе, отличной от всего известного физикам, не укладывавшейся в старые рамки, он сказал: «Все мы согласны, что ваша теория безумна. Вопрос состоит в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть истинной».
И корифеи науки явили миру примеры таких идей.
Эйнштейн своей теорией относительности сказал: если мы будем продолжать верить, что течение времени во Вселенной везде одинаково (как учил Ньютон), мы не познаем мир во всём его многообразии. Он мысленно расставил в разных уголках космоса часы и услышал разнобой в их ходе! Так люди узнали, что в разных областях Вселенной время течёт по-разному. Так родилось удивительное прозрение: пожалуй, можно оттянуть старость! Достаточно отправиться в космическое путешествие… Правда, нужны ра кеты, летящие со скоростью света. Зато при таком способе омоложения можно, вернувшись на Землю, найти своих детей старше себя…
В канун XX века Планк пошёл наперекор свято чтимой им классической физике. Он не смог смириться с её выводом о тепловой смерти Вселенной. Выводом неизбежным, если поверить голосу старой физики: энергия в природе течёт равномерно и непрерывно, как воды спокойной реки, унося из мира тепло, обрекая его на смерть. Планк восстал против этой гнетущей перспективы. В результате напряжённых раздумий он понял, что природа обладает каким-то секретом, избавляющим её от гибели. И этот секрет был им разгадан! Планк увидел в уравнениях силуэт мира, в котором энергия взаимодействовала с веществом порциями, квантами. Только при таком механизме природе не грозит смерть от охлаждения. Планковский мир бессмертен.
Сам Планк был человеком консервативным, он не замышлял революцию. Но он обладал мощной интуицией, которая и сделала его первооткрывателем. После первого шага Планк в растерянности остановился. Он увидел, что вместе с бессмертием мира из его открытия следуют и другие неожиданные, но неизбежные выводы. Выводы, противоречащие устоявшимся взглядам большинства учёных. Он не поверил себе. Ему поверил Эйнштейн, и не только поверил, но поддержал его ещё одним дерзким предположением: свет не только возникает, но и распространяется порциями, квантами! Именно это мятежное допущение и оказалось реалией.
Не о таких ли радикальных, далёких от банальностей идеях мечтали гиганты искусства, причём гораздо раньше, чем отважились мечтать о них учёные? И не нашёл ли одну из таких идей в далёкое от нас время Софокл в «Медее»? Его драматургией создана психологическая модель личности, обладающей на первый взгляд невероятными параметрами: жажда мщения оказалась сильнее материнской любви –
Медея убивает своих детей, чтобы наказать их отца за измену…
А открытия Шекспира? Разве не нашёл он безоговорочного доказательства неслыханных возможностей порока, бросив в пасть низости благородство («Гамлет»), отдав доверие на поругание человеконенавистничеству («Отелло»), столкнув алчность с дочерним долгом («Король Лир»)? Великий драматург умел расставить свои «часы», свои приборы для улавливания движений человеческих сердец далеко от хоженых троп.
Недаром Шекспира называли «потрясателем» сцены. Чтобы показать Лиру цвет сердца его детей, он толкает Лира на простой, но точный по доказательности поступок. Дарственной Лира Шекспир рассёк последнюю оболочку, под которой мы находим ту правду, которая могла бы считаться бредом без убедительного исследования Шекспира.
Как и в науке, где гипотезу переводят в ранг теории только в случае её подтверждения экспериментом, так и в искусстве — предложенная психологическая модель должна иметь корни в реальной жизни. Иначе она останется домыслом, выдумкой. Доказательства — вот решающий судья и в научном исследовании, и в художественном.
Какие же необычные, на первый взгляд бредовые (на самом деле мудрые) эксперименты принесло нам искусство?
Лермонтов… Этот пылкий романтичный гигант в поисках испытания силы любви бросил демона к ногам верной любви. Пошли он Тамаре искушение в виде юноши более красивого, более богатого, чем её возлюбленный, он, возможно, не достиг бы цели. Лермонтов в своём эксперименте оперирует максимальной величиной: властелином всего подлунного мира, повелевающего стихиями, землёй и океаном. Неужто Тамара устоит перед таким искушением? Да, Лермонтов доказывает, что искушение бессильно перед настоящей любовью.
В литературе, драматургии не счесть исследований этой вечной темы. Кого только не любили в художественных произведениях и на театре! Любили не только рыцарей и героев, любили подлецов и отщепенцев, уродов и предателей, стяжателей и скупцов. Казалось, нет запретов и пределов для человеческой любви!
Нет предела? — задумался Кафка. — А если любимый человек перестанет быть человеком? Нет, речь идёт не о том, что он станет безобразным уродом; нет, его не покалечит во время катастрофы, не оторвёт руку или ногу на войне — всё это уже было исследовано, ответ известен. Но если близкий человек станет, например, насекомым? Под ударом этой «безумной» идеи рассыпался в прах миф о беспредельности человеческой любви. Открылась бездна, в которую страшно заглянуть. Кафка выбрал необычный, но доказательный приём, чтобы показать природу некоторых предрассудков.
Конечно, можно протестовать против опытов с такими моделями человеческих отношений: в конце концов демон не существует, и человек не может превратиться в насекомое. Но эти крайности суть экстремальные условия, которыми пользуются учёные, чтобы установить пределы того или иного явления. Психологические модели так же необходимы искусству, как математические модели науке: они рафинированные, обнажённые отображения действительности.
Ещё примеры. Пушкин не согласился с обыденной трактовкой коллизии «Сальери — Моцарт». Слишком просто и неубедительно звучит в этой драме мотив убийства из-за ревности и зависти. Истина — глубже. И Пушкин строит психологическую модель личности, которая видит благо человечества под странным углом зрения не подарить людям гения, надо уберечь их от гения вот философия Сальери. И он, любя друга, понимая, что он — гений, убивает его — на «пользу» человечеству!
Своим дерзким экспериментом Пушкин добавил к нашим знаниям о человеческой душе очень существенную деталь.
Всем известна гениальная режиссёрская находка Эйзенштейна в сцене расстрела царскими солдатами мирных людей на одесской лестнице в фильме «Броненосец “Потёмкин”». Эта находка не получила бы эпитета гениальной, если бы Эйзенштейн ограничился лишь показом расстрела, как ни чудовищен этот акт сам по себе. Но он на вопрос: как показать жестокость мира, с которым борется революция, как показать ту тьму, которая окутает Россию, если победят штыки царских солдат, — находит ответ, оглушительный по своей доказательности. Вырвавшаяся из рук раненой женщины, по ступеням катится коляска с младенцем. Она набирает и набирает скорость! И зритель пронзительно осознаёт, что некому остановить коляску! Некому! Она катится навстречу смерти. В мире, из которого исчезла доброта и жалость, обречён на гибель даже невинный, ещё ничем не провинившийся кусочек жизни. Мысль об исчезновении доброты можно иллюстрировать по-разному. Эйзенштейн избрал шекспировский приём, приём крайней убедительности, почти невероятный. Одна сцена — и законченная модель человеческого общества, в котором нет справедливости, в котором торжествует злоба. Один фрагмент — и великий вклад в исследование жизни.
Мнимое «безумие» замысла «Фауста» Гете, «Потерянного рая» Мильтона, творческого метода Достоевского, режиссёрских находок Мейерхольда, Эйзенштейна, драматургических опытов Маяковского — не говорят ли эти великие операции на человеческом сердце о необычайной силе, плодотворности, насущной необходимости таких экспериментов? Пусть дерзких, но предельно убедительных; пусть не всем сразу понятных, но остающихся в веках; пусть спорных, но вызывающих работу мысли, совести, желание бороться с тем, что обнажается в ходе таких исследований.
Если произведение искусства не зовёт к борьбе, зачем оно? «Нужна та культура, — говорил В.И. Ленин, — которая учит бороться».
Есть ли в сегодняшнем искусстве открытия, к которым можно применить критерий Бора? Конечно, тут и речи не может быть ни о театре абсурда, ни о попмузыке, ни о псевдоноваторских перелицовках классики. Речь — об интеллектуальном, духовном подвиге, о произведениях, написанных под девизом: «Вод, в которые я вступаю, не пересекал ещё никто!» (Данте). Многие ли исследователи человеческих душ отваживаются выбрать район своих раскопок подальше от уже разрытых другими «курганов»?
Современной наукой правит, можно смело сказать, принцип Бора. Особых успехов физики сегодня добиваются совсем не тогда, когда придерживаются твёрдо установленных теорий и взглядов, а напротив — отказываясь от них. Великие открытия рождаются, когда учёный находит в себе смелость совершенно по-новому взглянуть на явление, взглянуть иначе, чем его предшественники. Первооткрывателям сопутствует дух мятежности и дерзости. Это, конечно, не безрассудство, это — принципиально новый подход к познанию мира.
Новаторство, парадоксальность характеризует дух современной науки, её атмосферу. В её недрах, в головах исследователей зреют гроздья гнева на несовершенство, на ограниченность науки. После уроков непредвиденных откровений, которые дали теория относительности и квантовая теория, стало ясно, что «безумные» идеи форсируют прогресс. Именно от них учёные ждут сегодня решения самых сложных проблем науки. И в то же время поиски таких идей составляют проблему современной физики.
Некоторые научные журналы даже отказываются печатать работы, в которых всё ясно. Они отклоняют статьи не потому, что их нельзя понять, а именно из-за того, что они содержат мало нового, принципиально нового, в них нет многообещающей «безуминки».
Не настало ли такое время в сфере искусства? Не пришло ли оно вновь после долгого периода однообразных «психологических игр»? И мастера искусства, может быть, предчувствуют это, стремятся к обновлению и обдумывают уже свои «боровские» идеи?
Советское общество особенно благодатный объект для эпохальных исследований. В сегодняшнем мире рядом сосуществуют две культуры, производные от двух социальных формаций — капиталистической и социалистической. Носитель социалистической культуры — поколение молодое, здоровое. Чтобы принять на свои плечи будущее, оно должно осознать свои силы, возможности, задачи. Помочь его становлению может искусство.
В радиотехнике существует понятие «захватывания». Это явление возникает, когда рядом работают два генератора радиоволн. Когда их настройки достаточно близки, один меняет свою частоту под влиянием другого. Такому «захватыванию», несомненно, подвергаются старые принципы нравственности, доставшиеся нам в наследство от прошлого. Нормы жизни социалистического общества торжествуют. Это неизбежно. Но процесс этот принципиально новый, почти ещё не исследованный — ведь в истории человечества не найдёшь другого периода, подобного тому, в котором мы живём. И тема обновления, обновления не единичного человека, а целого общества должна лечь в основу важных открытий в области человеческого духа и сердца. Новые взаимоотношения между людьми и новая наука должны породить и вдохновить современных Шекспиров и Эйнштейнов.
Ведь ни Эйнштейн, ни Шекспир ничего не выдумали. Их находки подсказаны действительностью. Они просто сумели сформулировать свои вопросы. А цель у них сходная: у Шекспира — обнажение порока и зла во имя установления гармонии в человеческом обществе, у Эйнштейна — интуитивное ощущение гармонии мира и поиски доказательства этого. У обоих — вера в существование и торжество правды, в то, что познание преображает человека, меняет его отношение к миру.
Поиск правды пронизывает всю жизнь человечества.
Этот поиск рождает великих людей и великие идеи. Может быть, настал момент, когда не только современная наука, но и современное искусство готово к прыжку в бессмертие?
…Не поразительно ли — только после того, как человечеству была подарена теория относительности, расширившая наши представления о мире неживой природы, мы получили возможность глубже понять метод познания мира чувств, найденный Шекспиром! Только теперь — где-то ближе к вершине, где должны слиться (по мысли Флобера) методы науки и искусства, — мы в состоянии почувствовать общность миропонимания двух гигантов: Эйнштейна и Шекспира!
Но зрелость приносит не только умение понимать и сравнивать — умение предвидеть. И, сравнивая атмосферу современного научного творчества с веяниями в области современного искусства, мы начинаем постигать не только единство, общность поисков истины как в науке, так и в искусстве, но, опираясь на анализ достижений в одной области творчества, можем пытаться предсказать ход эволюции в другой… Да, кванты и музы сближаются всё теснее. Неожиданная, но важнейшая область роста будущих прозрений, будущих сенсаций…
ЧЕГО НЕ МОГ ПРИДУМАТЬ ДИККЕНС
Многие боятся даже думать о том, что искусственный интеллект может быть создан. Некоторые страшатся бунта машин. Одни относят это к области научной фантастики. Другие предпочитают передать проблему потомкам.
Владимир Иванович Сифоров, член-корреспондент Академии наук СССР, директор института, основная цель которого — решение проблем кибернетики, уверен, что в ближайшем будущем электронные вычислительные машины смогут не только решать математические задачи и управлять различными механизмами и процессами, быстро и точно выполнять разнообразные задания, сформулированные человеком, но и ста вить новые задачи, отыскивать проблемы, подлежащие исследованию. Такая точка зрения кажется сегодня слишком радикальной, но Владимира Ивановича это не смущает.
Ещё свежо впечатление от своеобразной сенсации: Владимир Иванович с группой коллег выполнил удивительную работу — с помощью ЭВМ вычислил внешность Леонардо да Винчи, универсального гения и загадочного человека, жившего в далёком XVI веке. Не нарисовал, не придумал, а именно вычислил!
— Это, знаете ли, прелюбопытнейшая задача, — рассказывал мне при встрече Сифоров. — Ведь до нашего времени дошли портреты Леонардо лишь в преклонном возрасте. Никто не представлял себе великого итальянского художника в молодости. Существовали, правда догадки, что Леонардо изобразил себя на одной из ранних фресок. Но это недостоверное предположение. Очень заманчиво было проверить его…
— Разве это не забота искусствоведов? — удивилась я.
— И да, и нет. Вернее, не только искусствоведов. Это одна из разновидностей задач кибернетики. Мы разработали для ЭВМ программу установления возрастных изменений человеческого лица. Это даёт возможность по фотографии человека определить его внешность в любой период жизни. Можно почти точно установить, как будет выглядеть тот или иной человек через десять, двадцать лет, как выглядел вчера или в младенческом возрасте.
— Имеет ли эта работа какое-нибудь утилитарное значение? — интересуюсь я, привыкнув к мысли, что в наше практичное время наука должна непременно давать выход в практику.
— Разумеется! Умение воссоздать внешность человека может стать важнейшим орудием в криминалистике. Ведь криминалисты часто сталкиваются при следствии с почти непреодолимым препятствием: отсутствием фотографии преступника в момент совершения преступления. Теперь достаточно иметь любое фото — даже по изображению анфас можно вычислить изображение в профиль, и наоборот…
Встреча прошлого (судьба гения XVI века) и будущего (глубокое проникновение в жизнь методов кибернетики) на дорогах сегодняшнего поиска; перспектива, открываемая этой работой для дальнейших исследований аналогичного плана, — всё это само по себе сенсационно и актуально. Эту сифоровскую работу по расшифровке внешности Леонардо да Винчи ещё будут изучать искусствоведы, криминалисты, социологи и сделают её отправной точкой для решения других схожих проблем.
Но меня как писателя интересовала другая сторона этой своеобразной работы, её психологическая обоснованность, индивидуальная окраска.
Почему этой темой заинтересовался именно Владимир Иванович Сифоров? Какие стороны его души зазвучали в резонанс с леонардовской темой? Какие жизненные ситуации подготовили к этой, почти детективной области научного творчества? Словом, меня заинтересовал сам Сифоров…
…Москва накануне Первой мировой войны. Лефортово, район солдатских казарм, голытьбы, малолетней беспризорной вольницы, обосновавшейся на берегах грязной Яузы. На Золоторожской улице в двухэтажном доме купца Сифорова, державшего захудалую торговлю продовольственными товарами, часто гуляли. Заводил хозяйский сын Иван. Вторил ему брат жены, слесарь Миша, не просыхавший от водки. Не чурался компании и глава дома, набожный, истовый старик, каждый день ходивший за десять километров в церковь и пугавший внуков грядущим концом света.
Сам он умер девяноста годов от роду, так и не дождавшись этого конца. Не увидел он и развала семьи, опустевшего дома. Не увидел, как магазин растащили, как окончательно спился сын, как перебивался он с хлеба на квас уличным продавцом газет. Не узнал дед Сифоров и о том, что старший внук кончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна психиатрической больницы — было ему семнадцать лет, внучка Верочка, хорошенькая, аккуратненькая девочка, оказалась Золушкой в чужой семье, а семилетний внук Володя ушёл в беспризорники.
Конец семьи лефортовского торговца водкой и другими сопутствующими ей товарами положила молодая невестка. То ли не выдержала она пьяного угара постылого дома, то ли невыносима стала ласка гуляки мужа, или жестоко страдала, влюбившись в воспитателя своих детей Якова, — только приняла она смертельную дозу стрихнина и порушила свою жизнь и жизнь всей семьи Сифоровых.
От некогда обширной семьи остались два осколочка: сирота Верочка, ставшая художницей, да маленький Володя, который из заморыша, вечно голодного и озябшего воришки стал…
«Владимир Иванович Сифоров — выдающийся советский учёный в области радиоэлектроники, теории информации, статистической теории связи, радиофизики, автоматики, телемеханики, теории надёжности и теории радиоприёма, крупный педагог и общественный деятель, с именем которого связано зарождение и развитие новых направлений науки и техники», — написано в одном из выпусков серии «Библиография учёных СССР».
Странным мальчиком рос Володя Сифоров. Жил он не по законам беспризорных. Конечно, умел и выклянчить кусок хлеба, и стащить с лотка торговки-раззявы яблоко или горячий пирог, умел дать сдачу обидевшему его дружку. Но мир улицы не захватил, не затронул его внутреннего мира.
Поздними вечерами прокрадывался в отцовский дом, бродил по немым пыльным комнатам… Хотя зимой в этих нетопленных помещениях было ещё более холодно и сыро, чем на улице, он раздевался и забирался в свою постель, натягивал все одеяла, тряпки и пальто, какие удавалось разыскать в старом хламе заброшенного жилья, и час-другой дыханием согревал свою нору. Потом начинал мечтать…
Вспоминал мать… Звук пианино… Запах горячего хлеба… Постепенно засыпал.
Володя подрастал. Воспоминания скудели. Ему нужны были другие мечты, душа искала иных увлечений. Сверстники в ту пору болели «натпинкертоновщиной».
Заболевание было заразным, проходило в острой форме. Но Володю оно не коснулось. По-прежнему любил он уединяться в отцовском пустом доме. Его одиночество теперь разделяли книги. Но не приключенческие или детективные истории, не сентиментальные романчики. Володя всеми правдами и неправдами доставал книги по математике — то стащит, то купит на гроши, которые иной раз перепадали «на бедность» от сердобольных господ.
Согреваясь под грудой тряпья и почувствовав, как возвращается гибкость к закоченевшим ногам и рукам, Володя зажигал свечу и открывал книгу… Бегло просматривал страницы, написанные нормальным шрифтом, а потом — хотя уже в малые годы из-за недоедания страдал слабым зрением, да и в неровном мерцающем свете свечи было трудно различать даже большие буквы, — странный мальчик с нетерпением набрасывался на строки, набранные самым мелким шрифтом.
Именно здесь таились манящие и зажигающие его воображение сокровища. Авторы, как бы робея и понимая, что не имеют права отнимать внимание массового читателя, коротко и сжато, вскользь упоминали про загадки, не разгаданные никем на свете, приводили вопросы без ответов, часто без надежды на ответ. Эти тайны словно были рассчитаны на особый случай, взывали к будущим гениям. Как спящие красавицы из сказок, они ждали оживляющего поцелуя принца…
И Володя забывал о сиротстве, забывал о нищете, о голоде. Он видел себя принцем! В голодном воображении маленького оборвыша вспыхивали и совершались необыкновенные события… В его руках вдруг оказыва лись мамины щипцы для колки орехов, раздавался хруст, как тогда, когда мама сама колола для детей орешки, но теперь щипцы выхватывали из учебника непокорные задачки и — хряс, хряс, хряс — разгрызали их и выдавали готовые решения. Они раскалывали уравнения и первой, и второй, и третьей степени, и даже четвёртой и пятой, о которых мелким шрифтом сообщалось, что их никто не мог решить, что они вообще не решаются в радикалах… Володя щёлкал волшебными щипцами, а рядом стоял юноша с гордым профилем, непризнанный при жизни, убитый на дуэли в двадцать лет математический гений. Это был Эварист Галуа, который в ночь перед смертью бросил под ноги человечеству великое открытие. Он смотрел на Володю с явным одобрением и радостно кивал головой. А великий Гильберт сконфуженно прятал за спиной листок с пресловутой задачей № 13, которую он считал неразрешимой…
Володя просыпался на рассвете закоченевший и сонно разглядывал грязные занавески, сальные пятна от свечи на одеяле, смятые страницы притихших книг…
— Не могу понять, откуда на меня свалилась эта напасть — увлечение математикой, — в недоумении разводит руками Владимир Иванович Сифоров, высокий, статный человек с доверчиво-беспомощной улыбкой, часто сопутствующей его речи. Он словно конфузится необычности своего детского поведения. — Никто в нашей семье не интересовался подобными вещами. Меня же в детстве обжигала мысль, что существуют неразгаданные загадки.
— Только ли в детстве? А история с Леонардо да Винчи?
Я бросаю эту реплику не случайно, а с тайным умыслом. Ведь я хочу перебросить мостик от маленького Сифорова к зрелому, обнаружить корни его творческой индивидуальности, понять пути синтеза таких антиподов, как кванты и музы.
Я понимала, что не простое любопытство толкнуло серьёзных учёных на это исследование, что работа эта — не курьёз, не фокус и не забава. Но мне всегда казалось, что вечно длящееся, никогда не прекращающееся переосмысливание, перетолковывание, расшифровка старых полотен, других памятников искусства — это привилегия искусствоведов. Причём же здесь Сифоров, физик и электронщик, пусть даже математик и вообще разносторонний человек? И почему эта работа проводилась в возглавляемом им научно-исследовательском институте АН СССР, решающем только современные проблемы кибернетики?
…Ветер выл третьи сутки. Третью ночь Володя не отходил от телеги, где под соломой и ненужной уже попоной — лошадь пала в пути — был спрятан драгоценный груз: мешок муки, куль сахара и внятно попахивающий тухлятиной, несмотря на мороз, большой кусок мяса. Этот скудный, но драгоценный паёк Володя с товарищем получил для всей школы-колонии в Московском распределителе и вот не довёз до дому. Товарищ ушёл искать другую лошадь или подмогу, Володя остался сторожить.
Заснуть он боялся. В стране — голод, его могли убить, а продукты стащить. По дорогам послереволюционной России бродило много голодного люда. А без продуктов колония вряд ли протянет до нового урожая. С топливом тоже было трудно. Но группа старших мальчиков валила лес, снабжая колонию дровами. Володя входил в эту группу, это была его постоянная работа. Другие группы имели иную специализацию: огородники сажали картошку и зелень, повара готовили обед, девочки обстирывали и обшивали коммуну. Сколько же было их здесь — в бывшем имении бывшего помещика Тальгрена, что красиво раскинулось на опушке леса близ станции Пушкино по Северной железной дороге, — сирот, детей городских улиц, оставшихся после первых лет революции без крова, без родителей…
Володя, чтобы согреться, бегал вокруг телеги и в снегу вытоптал глубокую тропку, заколдованный круг — все ночи вблизи завывали волки, но к телеге не подошли. Володя ос лабел от голода, но не подумал, что может что-то позаимствовать из запасов. Он приваливался к выпиравшим из соломы мешкам с продуктами и незаметно задрёмывал…
У него, наверно, начиналась лихорадка и была высокая температура, потому что чаще всего ему снилась самая тёплая в колонии комната, та, где стояло пианино, и он снова и снова проигрывал подряд все танцы, которые выучил по слуху, и маленькие обитатели колонии кружили и кружили вокруг него, а он, не переставая играть танцы, напевал им свой любимый романс «Спи, моя девочка»…
А потом он почему-то оказывался в своей первой колонии, что была в Сокольниках, — туда определила его, больного, почти умирающего (у него пошла горлом кровь), давняя мамина подруга. И теперь он снова, как бывало в той колонии, разучивал наизусть и старался выпевать с выражением, как артист, литургию — так учил детей батюшка, преподававший им основной в школе предмет — Закон Божий. И незаметно к его голосу присоединялся другой, слова были странные, никто, кроме Володи, не понимал их смысла. «Дэ икс по дэ тэ, делё-ё-ённое на дэ игрэк…» Но Володя знал не только текст, но и голос — это был голос его первого взрослого друга, учителя арифметики Фёдора Сергеевича Ситникова, разглядевшего в мальчике особые способности к наукам. Володе из-за слабого здоровья врачи не разрешали читать, и Ситников сам читал ему вслух свои университетские лекции по дифференциальному и интегральному исчислению, по теории вероятностей, книги по небесной механике. Вместе они прочли от корки до корки самую первую брошюру по теории относительности Эйнштейна — оба ничего не поняли, но новое слово гипнотизировало их и завораживало… В ту пору Володя Сифоров познакомился с великими трудами Бернулли, Эйлера, Маркова, Ньютона… Не обязанность, не школьная программа вела Володю — только интуиция, которая подсказывала: запоминай, постигай, думай.
Таких педагогов, как Ситников, Володя больше не встречал на своём раннем пути. В новую колонию в Пушкино голод прибил совсем уж никудышных воспитателей. Стоящих педагогов нелегко было уговорить пойти работать в этот заброшенный неразберихой времени уголок. Один «преподаватель» из некогда богатой и аристократической семьи преподавал сразу пятнадцать предметов. Физику: «надвигается гроза, тучи на небе становятся фиолетовыми, вы слышите гром и… вас ослепляет молния». Это он вёл рассказ о законах распространения звука и света, «немного» спутав, — скорость звука у него оказывалась больше скорости света… Из ботаники он приводил тоже «необыкновенные» сведения: «листья одного дерева отличаются от листьев иного…»
А был и такой воспитатель — несчастный, больной, слепой старик, бывший кавалерист. О чём бы он ни заговаривал, память и любовь возвращали его к лошадям. И тут ребята слышали действительно удивительные, подлинные истории из жизни бывалого, умного, много перестрадавшего человека.
…После трехдневной вахты около павшей лошади — крестьяне нашли Володю и доставили его и продукты в колонию — он долго болел, но в конце концов всё обошлось, и Володя Сифоров получил аттестат об окончании Девятой трудовой школы-колонии 2-й ступени. И с этим документом отправился в Москву поступать в Механико-электротехнический институт имени М. В. Ломоносова. Желающих набралось много, около трёх тысяч. Конкурс — более двадцати человек на место…
…«Индивидуальный отчёт о работе члена-корреспондента Академии наук СССР Сифорова Владимира Ивановича за 1975 год.
— Когда я читаю лекции студентам, я стараюсь внушить им и не забывать самому одну истину, в которой убедился на опыте собственной жизни, — говорит Владимир Иванович. — Молодой ум жадно отзывается только в одном случае: если суметь возбудить аппетит к знанию, зажечь жажду знать. Никогда нельзя злоупотреблять обилием информации. Надо внушить интерес.
В бытность мою студентом Московского механикоэлектротехнического института мы занимались как черти — ведь никто из нас по-настоящему ещё ничему не учился, ничего не знал. Ни я — беспризорник, ни мои товарищи, даже те, у кого были благополучные семьи. Но мы жаждали знаний, хотели выбиться в люди. И большинство путём огромного напряжения всех сил выбились! Вот пример: наша компания. Нас было четверо, неразлучных: Трапезников — теперь он академик, Сапарин — он стал писателем, много лет был главным редактором журнала «Вокруг света», Андреев — известный мастер научно-художественной прозы, и я.
Можно сказать, что единственным, что поддерживало в нас силы, была жажда знаний. Одеты, обуты мы были — никак; еда? — её и едой-то не назовёшь, кое-что, кое-когда. И денег — ни копейки. А мне, чтобы добраться до института из колонии в Пушкино, где я продолжал жить, так как мне некуда было деваться, надо было пройти пешком километров десять, потом ехать электричкой (да ещё ухитриться не встретиться с бригадой контролёров: смотришь, в какой конец поезда они садятся, влезаешь в другой. Один раз ошибся — пришлось прыгать с поезда на ходу). Потом надо было ехать ещё на трамвае, тоже без билета, на «колбасе»… Это позже я устроился в Москве: стал преподавателем математики и физики и руководителем производственных мастерских в Детской коммуне № 23. Времени на занятия почти не оставалось. А в нашем вузе требования, программа были очень серьёзные. И по теоретическим предметам, и по начертательной геометрии, и по черчению — помню, надо было в семестр вычертить более десяти листов.
Всё это выработало в нас, студентах первых лет Советской власти, прочную трудоспособность, до сих пор хватает. А вы удивляетесь — откуда она?
…В одну из зим 1925 или 1926 года ленинградская театральная публика испытывала повальное увлечение телепатией. Гвоздём сезона был Кумберлен, телепат, и его юная ассистентка Нина Глаголева. Клубы и театры, где гастролировала эта пара, штурмовали толпы поклонников. Представление начиналось с лекции о тайнах и возможностях науки чтения мыслей, затем Кумберлен иллюстрировал эти возможности на эффектных, бросающих публику в жар примерах — стрелял из пистолета по мановению мысли одного из вызвавшихся на сцену доброхотов, усыплял желающих и превращал их в послушных своей воле роботов. Наконец, напоследок демонстрировался математический феномен: девятнадцатилетняя Нина Глаголева. Кумберлен сажал её на стул спиной к зрительному залу и завязывал глаза. На сцену выходил кто-нибудь из публики и покрывал грифельную доску, стоявшую перед Ниной, столбцами чисел. Кумберлен срывал с Нины повязку, она мгновение смотрела на доску — как бы фотографировала написанное — и уже вновь с завязанными глазами читала наизусть подряд столбцы этой математической вязи.
Студенты в зале сходили с ума. Среди них сиживал и Володя Сифоров, теперь студент Ленинградского электро технического института (ЛЭТИ) имени В.И. Ульянова (Ленина), куда перевели его после неожиданного закрытия московского вуза. Его поражала способность Нины молниеносно совершать в уме разные математические операции, особенно — над многозначными числами. Кто-нибудь из зала называл девятизначное число. Зал замирал. На двадцать секунд воцарялась тишина. Это было необходимо Нине, чтобы в уме извлечь из этого числа кубический корень. И… зал взрывался аплодисментами — Нина называла результат!
Действовала она безошибочно.
В общежитиях только и разговора было про это чудо. «Слабо!» — слышал теперь частенько Володя, за свои математические способности прозванный «профессором». В один миг пал его авторитет у ребят, раньше преклонявшихся перед Володиным всемогуществом — не было случая, чтобы он не решил самую трудную задачу или шараду, ребус, головоломку.
Надо было срочно принимать меры, восстанавливать былое уважение. Он хорошо помнил первую ночь в общежитии, когда проснулся схваченный за руки и ноги товарищами по комнате, решившими устроить, боевое крещение новичку, этому маменькину сынку — так выглядел он из-за очков, беспомощно прищуренных глаз, большой стопки книг на ночном столике и, главное, из-за застенчивости и молчаливости.
Когда Володя увидел себя в проёме окна на высоте второго этажа и понял, что шутки плохи, он выкрикнул такое многоступенчатое словосочетание, что его «крестители» замерли в изумлении. Затем с воплем «свой!» бережно поставили «маменькина сынка» на ноги. После радостных возгласов: «Откуда? Рассказывай!» — они просидели ночь, слушая Володину одиссею.
Они узнали про его детские мытарства, про учёбу в Москве, про то, как с фанерным чемоданчиком прибыл в незнакомый город — Ленинград, как провёл первую ночь на Московском вокзале, поближе к дому, к Москве, потому что он был дитя московских улиц, а в Ленинграде не было ни души, которая могла бы помочь ему. А помочь надо было, потому что Володе на первых порах не дали стипендию — ведь он по социальному происхождению сын торговца, значит, в деньгах не нуждается. Не дали ему и общежития — сынок торговца мог снять комнату. Следующую ночь ему «повезло» — наводнение, грандиозное наводнение 1924 года, каких Ленинград не знал уже сто лет (после описанного Пушкиным в «Медном всаднике»), подарило ему убежище в студенческом общежитии, где он и заночевал в коридоре рядом с кипятильником и семейством кошек.
Доброжелательность Володи, его готовность помочь товарищам, скоро сделали его равноправным членом студенческой семьи, а кличку «профессор» он завоевал постоянным первенством в науках.
И потерять всё в один миг?!
Сифоров забросил на несколько дней занятия. Забился на своей койке в угол, обложился книгами. В столовую не ходил, на вопросы не отвечал. Насмешек не замечал.
Он думал. Изобретал. Открывал свой метод скоростного извлечения кубических корней из многозначных чисел в уме. И придумал!
Демонстрация «метода Сифорова» положила на лопатки насмешников. Володя переплюнул профессиональную угадчицу Нину Глаголеву. Ему не нужны были те двадцать секунд на размышления, которые требовались Нине. Он давал ответ в тот миг, когда умолкал голос, назвавший исходное число. И в этом его товарищи убедились на ближайшем же сеансе телепатии в аудитории медицинского института.
Сифоров вызвался на сцену в числе других желающих составить конкуренцию Нине. Им выдали карандаши и листки бумаги. Каждый должен был записать свой ответ, а потом показать его жюри.
Как только было произнесено девятизначное число, Сифоров написал на своём листке ответ и отложил карандаш. Увидев это, его сосед, студент-медик прошептал:
«Ты что, наугад?» Сифоров ответил небрежно: «Увидишь».
Когда через 20 секунд Нина Глаголева дала ответ, это было число, записанное на листке у Сифорова…
В ЛЭТИ этот случай стал легендой, о нём вспоминают и теперь старые товарищи Сифорова и его бывшие студенты, так как Владимир Иванович, кончив ЛЭТИ, проработал в нём до 1953 года, пройдя путь от студента до заведующего кафедрой, получив звание профессора уже без кавычек.
Азарт, склонность к интеллектуальным играм, свойственные Сифорову-юноше, довольно часто встречающееся свойство характера. Именно оно обычно определяет будущую профессию человека, закладывает основу способности находить новые, нетривиальные решения. Не удивительно, что один из самых серьёзных учёных наших дней де Бройль написал эссе, назвав его: «Роль любопытства, игр, воображения и интуиции в научном исследовании».
Автор пишет о том, что его часто поражает сходство проблем, поставленных природой перед учёными, и проблем, возникающих при решении кроссвордов и головоломок. Он утверждает, что игры детства далеко не бесполезное занятие. Они учат ребёнка размышлять, наблюдать, преодолевать трудности, даже хитрить. А разве разгадать тайну природы не значит перехитрить её?
«Нет игры, — читаем мы в этой статье, — какой бы наивной она ни была, не имеющей тактики и стратегии. Поэтому склонность к игре — удел не только детства или ранней юности; любой зрелый человек, каким бы серьёзным он ни был, в глубине души сохраняет некоторую склонность к игре. Разгадать загадку, найти слово, заданное шарадой, попытаться обнаружить спрятанную вещь — разве эти действия не аналогичны в некотором роде научному исследованию? Поэтому разве нельзя думать, что склонность к игре… способствует развитию науки?»
Всех людей, независимо от возраста, игра привлекает своими перипетиями, своими опасностями и своими побе дами. Именно поэтому некоторые из них в конце концов обращаются к научному исследованию и находят источник радости в тех жестоких сражениях, которые с ним связаны. Склонность к игре, несомненно, имеет значение в развитии науки. Может быть, у Сифорова она имела более затяжной характер, может быть, игра привлекла его особенно сильно потому, что являлась единственным источником радости в детстве, ярким событием голодной, обыденной, серой жизни. Так или иначе — склонность к игре была стержнем характера маленького беспризорника.
С годами страсть к математическим играм у Сифорова не прошла, она привела его к важным открытиям в области электроники, кибернетики, теории связи, где очень важно использовать не только специфические особенности этих наук, но уметь обогащать их извне, вводить в них методы математики, переплетать разные подходы и точки зрения, сталкивать теорию и практику.
Приведу лишь один пример из области передачи информации. В 1960 году Сифоров пишет работу «О применении корректирующих кодов в ведомственной связи». Автор предлагает передавать тексты телеграммы с помощью пятибуквенного кодового языка. Он приводит расчёт, который убеждает в экономической выгодности, такого способа — тексты, закодированные известным образом, легче выделить на фоне помех, а кроме того, при международной переписке можно обойтись без перевода чеков, так как вместо разных языков используется один — кодовый. С тех пор главные учреждения Внешторга обзавелись специальными кодовыми книгами, заменившими штат переводчиков.
К этим важным результатам Сифорова привело увлечение методами кодирования, что является наукой, искусством и игрой одновременно, — в юности он этим баловался просто так, в зрелости использовал всерьёз.
Славу мага и прорицателя студент Сифоров закрепил ещё одной эффектной демонстрацией своих математичес ких способностей. Это произошло, когда сокурсники попросили его объяснить теорию вероятности.
Она помогает предсказать вероятность того или иного события, — сказал Володя. — Скажем, бросая кверху монетку, можно предсказать заранее, сколько раз выпадет «орёл» и сколько «решка».
Глупости, — усомнился один из товарищей, — я получу столько «орлов», сколько захочу. Другой возразил:
Никто не может сказать, какой стороной упадёт монета…
А я могу вычислить, сколько приблизительно «орлов» и «решек» выпадет за день, — сказал Володя. — Спорим?
Монетки бросали целый день, и даже ночь. До мозолей на пальцах. Число «орлов» и «решек» записывали. Результат совпал с Володиными предсказаниями. Не этот ли турнир стал своеобразной прелюдией таких работ Сифорова, как «Дальносрочное прогнозирование научно-технического прогресса», «Что мы думаем о прогнозировании? Философия дальних прогнозов»?
Эти работы появились в 1969 году, а увлечение теорией вероятности, изыскание своих методов выполнения математических операций дали неожиданный результат уже в более ранний период.
— В 1927 году меня послали в Витебск на практику, — рассказывает Сифоров. — Жил в вагончике на запасном пути железной дороги и изучал работу радиостанции. Ну и демонстрировал новым знакомым свои «телепатические» способности. Пошла «слава». Дошло до начальника станции. Вызывает меня, говорит: «Выручай, барахлит кабель подземной связи. Не можешь ли определить место повреждения, не отключая кабеля?»
Можно было принять предложение за шутку, — продолжает Владимир Иванович, — но слава «прорицателя» обязывала. Попросил три дня на размышления. Потом пришёл, говорю: копайте там-то и там-то. Рабочие отмерили рулеткой расстояние, стали копать. Представьте се бе, я ошибся лишь на метр. Обнажив кабель, увидели, что на нём нарост, гриб. Старожилы вспомнили, что когда-то в этих местах производили земляные работы, наверно, кабель тогда и задели.
— Но как вы догадались, в каком месте это произошло? — недоумеваю я.
Сифоров не отвечает. Само собой ясно, что дело было вовсе не в магии или телепатии. А в добросовестности и усидчивости. Володя умел работать. Перебрал несколько вариантов повреждений, создал специальное измерительное устройство для проверки работы кабеля, провёл математический анализ. И его труд увенчался успехом.
При всём своём пристрастии к математике Сифоров не стал профессиональным математиком. Он окончил ЛЭТИ и после практики на Ленинградском радиоаппаратном заводе имени Козицкого был принят на работу в знаменитую Центральную радиолабораторию — сначала практикантом, потом стал лаборантом, инженером, старшим инженером. Сифоров окунулся в стихию новой науки, которая захватила его на всю жизнь. Это была радиотехника, или, как сейчас принято говорить, радиоэлектроника.
Сифоров — представитель второго поколения советских радиоспециалистов. Первыми были его учителя — теперь всемирно известный учёный в области радиоэлектроники академик Берг и учитель Берга и его друг Фрейман, к сожалению, очень рано умерший.
У Берга Сифоров слушал лекции, а под руководством Фреймана делал дипломный проект. Когда Фрейман предложил тему диплома, то сказал:
— Есть одна интереснейшая область, только на русском языке нет литературы. Я кое-что видел на немецком. А тема очень перспективная и важная — борьба с помехами радиоприёму.
Сифоров не знал немецкого, о помехах ничего не слышал. Изучил немецкий язык, создал теорию помех.
Нашёл свой путь в радиотехнике, свою тему, которая сыграла и играет по сей день существеннейшую роль и при создании радиоприёмных устройств, и при конструировании телеустройств, средств космической связи и связи наземной, электронно-вычислительной техники и кибернетических машин.
В год защиты дипломного проекта была опубликована первая научная статья Сифорова, посвящённая созданию методов неискажённого приёма радиотелеграфных сигналов. Это — начало пути, который привёл впоследствии Сифорова к участию в организации Единой автоматизированной системы связи (ЕАСС) нашей страны. Благодаря этой современной системе мы теперь прямым набором, без помощи телефонистки связываемся с абонентскими телефонами десятков удалённых городов не только в нашей стране, но и в ряде социалистических стран.
Вскоре после окончания ЛЭТИ Сифоров совместно с замечательным советским радиоспециалистом Сиверсом создаёт первый отечественный магистральный радиоприёмник коротковолнового диапазона. Создание новых электронных схем, надёжных, помехоустойчивых, проходит через всю жизнь Сифорова. Он обобщает опыт этой работы в учебнике «Радиоприёмные устройства», на котором воспитано уже не одно поколение советских радистов. Этот труд неоднократно переиздаётся у нас и за рубежом.
Любопытно, что именно Сифоров, молодой ещё специалист, выступил в 1931 году с критикой работ авторитетного английского учёного Робинсона и развенчал его идею «стенода-радиостата», считавшегося самым совершенным методом приёма радиотелефонных сигналов. В следующем году Сифоров снова вступает в научную полемику, уже с известным американским радиоспециалистом профессором Коэном, посетившим Советский Союз и пропагандировавшим своё изобретение по борьбе с помехами.
Эта тема — борьба с помехами — была уже так глубоко разработана Сифоровым, что в 1936 году он решается представить на суд коллег докторскую диссертацию. Это было тогда, когда даже его учителя ещё не имели докторской степени.
Работа была настолько зрелой, глубокой, что не потеряла значение и в наши дни и её результатами широко пользуются радиоспециалисты поныне при разработке и конструировании новейшей радиоаппаратуры.
— Я защитился за три дня до рождения дочери! — вспоминает Владимир Иванович. — Вы даже не представляете, как окрылили меня эти два события. Я работал, как бешеный!
Эти годы отмечены скачком продуктивности: одна за другой научные статьи, чтение лекций, консультации, выезды на полигоны. У него столько энергии и сил, что он развивает и активную общественную деятельность — в декабре 1939 года избран депутатом Приморского (Ждановского) районного Совета депутатов трудящихся. Его переизбирают на этот пост вплоть до 1953 года, когда он круто меняет свою жизнь, уезжая из Ленинграда. В Москву! Снова в Москву, домой, где осталось его детство.
И здесь не ослабляет рабочего темпа — в 1954 году он уже заместитель министра радиотехнической промышленности, руководитель основных направлений развития радиоэлектроники в нашей стране…
Сифоров, с его тягой ко всему новому, непростому, загадочному, стал одним из первых энтузиастов кибернетики, этого сгустка проблем математических, физических, радиотехнических, философских. Его интересы и способности нашли наконец самое органичное применение — он стал в 1966 году во главе нового научного института, решающего современные задачи кибернетики, Института проблем передачи информации АН СССР.
Познание мира через информацию, рассеянную вокруг нас и в нас, пронизывающую живую и неживую природу; создание новых средств передачи информации, и прежде всего электронно-вычислительных машин, этого орудия прогресса; новых методов связи в радиолокации, телевидении; новых методов расшифровки космических сигналов, в том числе сигналов от космических кораблей и внеземных цивилизаций, — далеко не праздное занятие в век космических полётов… Сифоров организует в институте ряд лабораторий бионического и биомеханического профиля. И, конечно же, среди них лабораторию математических методов в биологии и медицине.
Какие основные задачи ставит ваш институт? — спрашиваю Владимира Ивановича.
Самые разнообразные: и решение сложных математических проблем, и установление точного диагноза заболевания, и перевод с одного языка на другой, и управление технологическими процессами и научными исследованиями…
Так ваш институт медицинского профиля? Или математического? Или, может быть, технологического? — пытаюсь уточнить я.
Нет, кибернетического. Ведь все эти задачи мы решаем через посредника — ЭВМ. Главная наша задача — научить машину решать все эти проблемы. Мы учим, готовя для неё разнообразные программы действия.
Я вновь хочу вернуться к расшифровке внешности молодого Леонардо да Винчи. Где же место этой задачи в перечисленных вами? Мне кажется, что это локальная задача, лежащая особняком среди других?
Нет, — не соглашается Сифоров, — это часть обширной проблемы: проблемы распознания образов, которая сейчас является одной из центральных в кибернетике. Мы угадываем приближающегося к нам человека, не правда ли? Угадываем по походке, облику, вернее, силуэту, повороту головы, по другим, часто почти неуловимым признакам. Узнаём голос по телефону, можем определить химический состав смеси по запаху. Этому мы должны научить машину, если хотим, чтобы она стала лёгким партнёром человека в про мышленности, в исследовании. Если машина научится видеть, слышать, обонять, ощущать — не нужна будет сложная система составления программы на перфокартах, которая ещё используется при общении человека с машиной. Конечно, было бы куда проще, если бы машина понимала человеческую речь. Представьте такую ситуацию: на производстве, которое управляется ЭВМ, авария. Нужно принять срочные меры, а машина не понимает сигналов тревоги — ждёт «письменных» указаний! Вот если между человеком и управляющей машиной прямая связь — контакт будет быстрым и полным. Диспетчер может спросить её о запасах топлива, энергии, о характеристике режима. Он может попросить её выдать данные этого режима, и на экране зажжётся нужная таблица. При таком непосредственном контакте между человеком и машиной в случае аварии могут быть приняты своевременные меры.
В сифоровском институте уже создана модель этой очень перспективной кибернетической машины для управления технологическими процессами и энергосистемами, которая понимает отдаваемые ей приказы с голоса.
Здесь же можно увидеть ЭВМ разных специальностей. В одной комнате учёные готовят себе помощников — ЭВМ, умеющих переводить с одного языка на другой, в соседней лаборатории проходят обучение ЭВМ — бухгалтеры, диспетчеры, конструкторы, даже врачи-диагносты.
Институт — вроде инкубатора «созданий» с искусственным интеллектом!
В сифоровском институте машины проходят и сложное обучение расшифровке данных, передаваемых с борта космических кораблей. ЭВМ уже сдали некоторые экзамены: анализировали космические сигналы, полученные со станций «Венера-9» и «Венера-10». ЭВМ научились расшифровывать электрокардиограммы, ставить диагнозы и лечить больных на больших расстояниях. Эта работа ведётся совместно с венгерскими кибернетиками.
— Владимир Иванович, а какая в институте самая новая, самая необычная работа?
— Могу ответить не задумываясь: она проводится во вновь созданной лаборатории по изучению живой клетки. Мы хотим попробовать использовать живые клетки как элемент искусственного интеллекта.
Но ведь клетка умрёт?!
Почему же? Её надо питать.
А какую сверхзадачу ставит ваш институт?
— Создать искусственный интеллект, который будет решать не только заданные ему проблемы, но и самостоятельно ставить новые.
— Но возможно ли это? Ведь мы привыкли считать, что машина — слепое орудие в руках человека, что она способна быть только придатком, продлением человеческого мозга.
— Сейчас этого уже мало. Машина должна выйти на новую ступень машинной цивилизации. В нашем институте создана модель ЭВМ, которая самостоятельно изучает внешнюю среду с помощью особого языка. Она способна ставить задачу по сохранению существующей в ней структуры или менять её в зависимости от обстоятельств. Это уже качественный скачок в машиностроении. Сегодняшний уровень науки и техники подвёл человека к этому скачку…
В жизни думающего, серьёзного человека редко бывают случайные стечения обстоятельств. Вернее, они редко решающим образом влияют на формирование личности. Гораздо чаще человек сам мобилизует и обстоятельства, и свои вкусы для достижения цели, для реализации своих творческих возможностей.
Так, в сегодняшней научной деятельности Сифорова в полном единстве проявляются его склонности и умения. Занимаясь наукой об информации, Сифоров понимает: успех зависит от умения создать безупречные элементы искусственного мозга. А что значит безупречные? Надёжные, поме хоустойчивые, безотказные.
— Все наши надежды, связанные с кибернетикой, упираются в проблему надёжности, — говорит Сифоров и поясняет свою мысль: — Современная техника связи, включающая в себя и ЭВМ, и телевизионные, телеграфно-телефонные, радиосхемы, и линии передач, базируется на огромном количестве элементов, деталей, соединений. Повреждение любого из звеньев этого сложного организма ведёт к нарушению работы, к ошибке. Задача конструкторов — избежать искажений в работе или свести их к минимуму. Для этого и нужны особые помехоустойчивые схемы. Дело упирается не просто в создание доброкачественных деталей для приёмо-передающих устройств. Этого недостаточно по целому ряду причин. Вернее, это не спасает проблему. И часто нам приходится идти на хитрости, придумывать такие схемы, которые могли бы отсортировать полезные сигналы от шума. Так, например, нам удалось придумать особое клеймо: мы метим им полезные сигналы. Кодируем их специальным образом, чтобы было легче опознать на фоне посторонних шумов и помех.
Задача кодирования — это вовсе не зашифровка секретных сведений, как думают многие, — продолжает он. — Вернее, не только это узкое направление. Рациональное кодирование экономит время при приёме передач, устраняет возможность недоразумений, которые часто возникают при приёме слабых, нехарактерных сигналов на фоне сильных шумов.
Размышления над вопросами помехоустойчивости, расчёты конкретных кодирующих схем, над которыми Сифоров думал ещё в прежние годы, привели его к созданию уже известных нам диагностических, переводческих ЭВМ и тех, что помогли улучшить качество фотографий поверхностей Марса и Венеры, отсеяли случайности и выявили скрытые детали.
Эти же схемы Сифоров предложил использовать и для исследовательских целей. Совместно с югославскими коллегами его сотрудники изучают проблему передачи информации по нервам к двигательной мускулатуре живого организма.
Сифоров и его ученики внесли большой вклад в развитие общей теории связи, заложенной трудами советского учёного академика Котельникова и американского учёного Шеннона.
— Я много думаю о будущем кибернетики, — говорит Сифоров. — И не считаю, что машина всегда будет нуждаться в непосредственном руководстве со стороны человека. Уже сейчас, правда в ограниченной сфере, машина может адаптироваться, приспосабливаться к поставленной задаче, избирать оптимальные пути её решения. От этого один шаг к постановке задачи. И мы доказали, что шаг этот может быть сделан.
…Все, что выпало на долю героя этого очерка в детстве и юности, мог бы придумать и Диккенс. Но вывести «в люди» он, пожалуй, Володю не смог бы. Он не ведал таких судеб. Проблем, которым отдаёт свои зрелые годы Сифоров, не существовало во времена Диккенса. Его герои не задумывались о возможности создания искусственного интеллекта, не придумывали коды для общения с иными цивилизациями, не подозревали о возможности передачи голоса, музыки через весь земной шар, на другие планеты. Не мог Диккенс придумать и того устройства общества, в котором расцвёл талант беспризорного мальчика.
Диккенс так пронзительно писал о несчастных детских судьбах, что его романы, по словам Маркса, «разоблачили миру больше политических и социальных истин, чем это сделали все политики, публицисты и моралисты вместе взятые». Они показали миру и неисчерпаемость в человеческом обществе доброты и великодушия, помогающих потерпевшим крушение детям найти свой путь в жизни. Но это всегда были отдельные люди. Диккенс не мог ни придумать, ни предвидеть, что на земле возникнет целое государство, поставившее своей целью сделать счастливым каждого человека, помочь каждому проявить се бя полностью на общее благо.
И судьба Владимира Ивановича Сифорова — иллюстрация силы и возможностей этого общества.
Книга подошла к концу. Но нескончаем поток научных открытий. Он столь же беспределен, как процесс познания, как развитие человеческого интеллекта. То, о чём здесь рассказано, лишь малая часть впечатляющих достижений, ставших достоянием широкой общественности благодаря публикациям учёных и деятельности журналистов и писателей. История науки хранит гораздо большее число не менее важных результатов. Они часто не выходят за пределы малотиражных научных журналов и поэтому практически доступны лишь группе узких специалистов. В лучшем случае они попадают в конце концов в школьные учебники, но о них здесь рассказывается обычно вскользь или так сухо, что у учащегося складывается впечатление обыденности и скуки от того, что на самом деле весьма важно и интересно.
Мне хотелось бы закончить эту книгу, отступив от документальности, характерной для её содержания. Может быть, и читателю будет интересно пофантазировать, попробовать оценить, где, в каких областях можно ожидать новых научных и технических открытий. Конечно, при этом не уместны беспочвенные фантазии.
Но, отталкиваясь от достигнутого, не будем ограничивать полёт мечты. Может быть, мы в чём-то ошибёмся и даже отдалённые потомки не увидят того, что кажется нам правдоподобным. Не исключено, что наука и техника пойдут новыми, неизвестными нам путями.
Не исключено также, что плодотворный синтез интуиции, точного знания, умения наблюдать и предвидеть приведёт человечество к непредвиденным открытиям. Возможно, на пути к истине нас ждут разочарования, подстерегают зигзаги неудач и ошибок. Не раз воображение, обогнав знание, уводило учёных с прямого пути в чащу заблуждений. Но настойчивый поиск истины вновь возвращал их на пря мую дорогу.
Опыт истории даёт нам право на оптимизм и по отношению к проблеме, которая давно возбуждала интерес людей, но не решена до сих пор.
Речь идёт о телекинезе, о способности некоторых людей передвигать лёгкие предметы без непосредственного соприкосновения с ними.
И те, кто демонстрирует опыты телекинеза, и те, кто изучал и описывал эти опыты, применяли при этом слова, суть которых сводится к тому, что «предметы перемещаются одной силой воли». Такие формулировки стали главной причиной, побуждавшей большинство здравомыслящих людей реагировать на сообщения о телекинезе одинаково — этого не может быть. Но имитировать это очень просто. Однажды я сама присутствовала при том, как уважаемый академик развлекал гостей опытами телекинеза. Он делал пассы над столом, и пустые спичечные коробки, сигареты и обёртки от конфет перемещались по полированной поверхности стола, послушные, казалось бы, одной лишь силе воли этого человека.
Насладившись успехом, достигнутым в полутёмной комнате, учёный зажёг яркий свет и показал зрителям кусочки конского волоса… Фокус лёгкий, изящный и, конечно, ничего общего с телекинезом не имеющий.
Так академик опровергал сторонников реальности телекинеза. Он имел серьёзные причины не верить в телекинез, ибо и он сам, и другие учёные не находили достоверных объяснений этому явлению. Всегда чувствовалось, что это просто очередной, ещё не раскрытый фокус. Для более серьёзных выводов оснований не было.
Чтобы выяснить природу сил, двигавших предметами, учёные применяли разные приборы и схемы контроля. Однако самые изощрённые и точные эксперименты показывали, что ни электромагнитные волны — от самых длинных до самых коротких, — ни электрические или магнитные силы не были переносчиками воздействия человека, его «силы воли», к передвигаемому предмету. Привлекать же неизве стные «сверхчувственные» силы, силы, не воспринимаемые ни чувствами человека, ни самыми чувствительными приборами, наука не может.
Интерес учёных и широкой публики к телекинезу возникал и исчезал многократно во многих странах в течение последнего полувека. В этом вопросе воображение опережало мысль, торопило её ход.
Время от времени появлялись сообщения о том, что самые придирчивые исследователи не могли найти и следа обмана в действиях лиц, обладавших способностью к телекинезу. Столь же часто, но обычно на научных семинарах, а не в прессе, обсуждались опыты, разоблачавшие мистификаторов, называвших телекинезом искусно выполненные фокусы с применением конских волосков, магнитов или других приспособлений, используемых иллюзионистами.
Так было до тех пор, пока совсем недавно один молодой физик не попал в небольшую компанию серьёзных учёных старшего поколения, перед которыми давно известная своими опытами женщина демонстрировала сеанс телекинеза. Она была одной из тех, о которых протоколы исследований, после подробных описаний опытов, сообщали: никаких следов обмана или применения каких-либо приспособлений обнаружить не удалось, природа и механизм явления не поддаются объяснению.
К такому же выводу пришли после описываемого сеанса все присутствующие, среди которых были физики и биологи, академики и профессора, специалисты в различных областях науки о живой и мёртвой природе. Все, кроме одного, кроме упомянутого молодого профессора, специалиста в области физики полупроводников, одного из создателей нового направления этой науки — акусто-электроники. Он глубоко изучил взаимодействие звуковых и ультразвуковых колебаний с твёрдыми телами, с потоками электронов в полупроводниках. У него на счету многие открытия в этой области, а в специальной литературе постоянно упо минаются явления, открытие и исследование которых навсегда связано с его именем.
Этот физик, выслушав мнение старших коллег, задумался. Достаточно ли полно проведено исследование?
Он, естественно, не мог не вспомнить об ультразвуке — не заметил ли кто-нибудь наличия ультразвукового поля в этих опытах? Ведь ультразвук, как и обычный звук, может оказывать давление на тела, в том числе и на предметы, использованные в опытах. Ультразвук не воспринимается слухом… Если он играет роль в опытах по телекинезу, то, естественно, ускользает от приборов, способных обнаружить лишь электрические или магнитные силы… Ультразвук может играть здесь роль! Но это нужно доказать. Как? Для этого нужно воспользоваться специальными приёмниками ультразвука, похожими на обычные микрофоны, чувствительными усилителями, анализаторами и регистрирующей аппаратурой.
Предположение, после того как оно было высказано, выглядело столь правдоподобным, что, возможно, многие из учёных, интересовавшиеся опытами телекинеза, подумали: как же я не догадался, как никто до сих пор не сообразил?!
Да, ультразвук вполне может быть проводником, передающим воздействие от человека к предмету. Правда, биологи не разделяли этой версии. Известно, что летучие мыши, некоторые морские млекопитающие и рыбы способны излучать ультразвук и использовать его для ориентировки в пространстве и для сигнализации. Но человек? Об этом никто никогда не слышал. Если это ультразвук, нужно узнать, как он возникает…
Молодой профессор был настойчив, последователен, он провёл исследование, так сказать, пробу на ультразвук. Гипотеза начала подтверждаться! Микрофоны зафиксировали, что женщина, стремясь воздействовать на предмет, испускает своими ладонями серию коротких ультразвуковых импульсов. Удалось записать форму и спектральный состав этих импульсов, оценить их направленности, ибо они излучаются сравнительно узким пучком.
Более того, оказалось, что ухо внимательного наблюдателя даже воспринимает эти импульсы как своеобразные короткие щелчки. Правда, они кажутся очень слабыми, так как в спектре излучаемых импульсов основная часть энергии лежит за пределами чувствительности человеческого уха и лишь малая доля излучаемой энергии попадает в пределы наиболее высоких слышимых звуков.
Сенсация, считавшаяся ложной, готова была перейти в число научных сенсаций, не попади она «в руки» серьёзного, ответственного исследователя. Конечно, было бы очень эффектно заявить, что движущая сила телекинеза обнаружена… Что давняя тайна раскрыта… Что…
Но объективность научного подхода подвела черту под этой сенсацией: измеренная сила ультразвукового воздействия человека на предметы (в конкретных случаях экспериментальной проверки) оказалась недостаточной для того, чтобы ею можно было объяснить передвижение предметов.
Не будем пока констатировать смерть идеи телекинеза. Подождём, пока учёные вынесут свой, объективный, научный диагноз.
А пока результаты исследований конкретных случаев телекинеза имеют два очевидных последствия. Во-первых, выяснилось, что все изученные случаи телекинеза — ловкая мистификация. А во-вторых, молодой профессор теперь сам научился передвигать лёгкие предметы с помощью тонких капроновых нитей и демонстрирует впечатляющие опыты в кругу друзей…
Вероятно, ещё не раз человечество будет взбудоражено той или иной сенсацией. Однако можно быть уверенным в возможностях современной науки разобраться: чем является очередная сенсация — истиной или ложью.
Перейдём теперь от фантастической реальности, ибо телекинез всё ещё занимает воображение людей, к реалис тической фантастике.
Многие убеждены в том, что человечество — раньше или позже — добьётся удовлетворения всех своих потребностей. Эта вера основана на безграничности процесса познания, на неисчерпаемости творческой способности человечества.
То, что недоступно одиночке, может быть достигнуто коллективом людей, хотя решение сложных задач иногда требует участия многих поколений.
Одна из основных потребностей человека — жажда познания. Невозможно перечислить то, что ещё не познано. Остановимся лишь на нескольких задачах, решение каждой из которых, несомненно, вызовет интерес миллионов людей.
Прежде всего это проблема строения вещества — единая теория элементарных частиц и фундаментальных сил. Теория, способная объяснить, почему существуют именно те микрочастицы, которые мы знаем, чем определяются их свойства и особенности, с чем связаны их взаимные превращения. Теория, способная предсказать новые неизвестные частицы и их свойства. Теория, связывающая воедино гравитационные, электромагнитные, слабые и сильные взаимодействия и отвечающая на вопрос о существовании других видов взаимодействий.
Над созданием единой теории работали многие учёные. Эйнштейн посвятил долгие годы попыткам создания единой теории поля. Он не добился успеха. Ещё никому не удалось завершить программу, намеченную Эйнштейном.
Квантовая электродинамика сразу после своего создания добилась сенсационных успехов, объяснив ряд непонятных фактов и предсказав несколько неизвестных, но затем обнаруженных явлений. Однако после этих блестящих достижений квантовая электродинамика встретилась с трудностями, которых она не смогла преодолеть, и создалось впечатление, что она себя исчерпала и не может помочь в дальнейшем решении загадок микромира.
Бурные успехи, полученные при экспериментах на всё более мощных ускорителях элементарных частиц, достигнутые в опытах на ядерных реакторах, в экспериментах с космическими частицами, поставленных в космических лабораториях, привели к открытию десятков, а затем и сотен новых микрочастиц с самыми поразительными свойствами.
Их изучение позволило физикам далеко продвинуться в понимании природы микрочастиц и сил, действующих между ними.
Удалось установить ряд глубоких закономерностей и предсказать свойства некоторых ещё не известных частиц, которые затем были обнаружены в точном соответствии с предсказанием.
Но все эти успехи, наряду с естественным чувством удовлетворения, возбуждали и беспокойство. Учёные всё более удалялись от прежней простой картины мира к всё более сложной, причём никак не удавалось установить связи между отдельными хорошо изученными и, казалось, понятными явлениями.
Подобно тому как Эйнштейн поставил перед собой цель создания единой теории поля, на основе которой он надеялся понять все свойства известных ему полей и частиц и, возможно, предсказать новые, Гейзенберг пытался построить единую теорию материи, в основе которой находятся некоторые первичные частицы. Все остальные должны были образовываться из них в результате взаимодействий первичных частиц.
Гейзенберг, как и Эйнштейн, не достиг цели. На его пути возникли огромные трудности. Несмотря на ряд успехов не удалось ни установить внутреннюю структуру частиц, ни убедиться в неизменности их свойств. Даже известные частицы в некоторых ситуациях и экспериментах вдруг меняли свои свойства. Впрочем, Гейзенберга это не смутило. Он выдвинул удивительную гипотезу о том, что в микромире это закономерно: свойства частиц могут изменяться самопроизвольно в результате некоторых внутренних про цессов — подобно тому, как в куске железа может возникнуть состояние намагниченности даже при отсутствии внешних воздействий. Но и эта гипотеза не помогла.
Понадобилось четверть века усилий экспериментаторов и теоретиков для того, чтобы подготовить новое наступление на тайны строения вещества.
Сейчас многие учёные полны надежд на то, что приближается время возникновения новой теории, которая объединит идеи Эйнштейна и Гейзенберга, результаты тончайших экспериментов в разных областях физики. Эта теория, как мечтают учёные, расскажет наконец о тайне формирования «общества» микрочастиц. Возможно, в этом обществе не будет места «аристократии» первичных частиц. Возможно, выяснится, что вещество состоит из равноправных частиц, способных взаимодействовать и взаимопревращаться, подобно тому как это наблюдается в ряде опытов с уже известными частицами.
Единая теория микро— и макромира будет создана, хотя для этого и потребуются усилия многих учёных. Каждое существенное продвижение в этом направлении получит резонанс далеко за пределами лабораторий физиков…
Если и существует тайна, возбуждающая более острый интерес, чем тайна мироздания, то ею является, несомненно, загадка происхождения жизни. Она столь же трудна, столь же увлекательна и, пожалуй, ещё более близка каждому человеку.
Дарвин объяснил нам, как при помощи естественного отбора, без какого-либо участия высших сил происходила и продолжается эволюция живых существ. Опарин глубже, чем кто-либо до него, проник в азы начальной стадии эволюции, описал, как живое возникло из неживого. Но большинство из нас удовлетворится лишь при одном условии: если гипотеза подтвердится экспериментом, в котором хотя бы простейшие живые существа возникнут из какого-либо набора известных химических веществ.
Нет никакого сомнения в том, что такой опыт будет осуществлён. И, хотя многие его ожидают, многие понимают возможности и условия его выполнения, первый положительный результат такого рода станет величайшей сенсацией. Ещё бы — человек возвысится до того, что некоторые и теперь считают доступным лишь божеству.
А пока учёные отдают свои силы управлению жизнью. Это и медицина, стремящаяся избавить человечество от болезней и продлить его творческие годы, и различные разделы биологии, ставящие своей целью обеспечить людей продуктами питания и сырьём за счёт улучшения растений и животных, путём «приручения» и создания новых полезных микроорганизмов. При этом на вооружение берётся всё: от традиционных методов селекции до генной инженерии, позволяющей учёным видоизменять наследственные свойства организмов путём тончайших операций в самых интимных глубинах отдельной живой клетки.
Ещё одна из наиболее животрепещущих проблем современности — энергетическая проблема. Специалисты всё более точно оценивают запасы известных источников энергии — нефти, угля, урана и тория, рек и приливов. Оценивают они и грядущие энергетические потребности человечества с учётом роста населения и повышения жизненного уровня развивающихся стран. Эти оценки, если они не учитывают возможностей термоядерного синтеза, оказываются пессимистическими. А уверенно оценить сроки создания термоядерных электростанций пока невозможно.
Многие исследователи считают, что самый короткий путь к изобилию энергии — это использование солнечного излучения. Уже созданы образцы полупроводниковых приборов, преобразующих в электроэнергию около одной пятой части поглощённого солнечного света. Они ещё дороги, но уже сейчас применяются в космических системах, где другие источники энергии потребовали бы ещё больших затрат. О широком использовании полупроводниковых солнечных батарей можно будет ставить вопрос, когда они будут дешёвыми, а это, несомненно, достижимо.
Все более очевидной становится недооценка человеком колоссальных энергетических запасов земных недр. А ведь за счёт тепла, скрытого в чреве нашей планеты, можно покрыть значительную долю энергетических потребностей человечества. Запасы земных кладовых огромны. Проблема в том, чтобы длительно и в значительных количествах извлекать это тепло при разумных затратах. Сейчас это возможно лишь в немногих местах, обладающих большими ресурсами горячих подземных вод. Но и здесь возникают сложности: эти воды содержат так много минеральных солей, что внутренние поверхности трубопроводов очень быстро будут буквально закупорены накипью. Бороться же с этим дорого и трудно. Но от мысли использовать эти ресурсы учёные, конечно, не отказываются. И уверяют, что в начале XXI века земные недра станут надёжным источником энергоснабжения.
Кстати, к оптимистическим прогнозам в этой области относятся и обещания полнее использовать силу ветра, прибоя и приливов, разность температур поверхностных и глубинных слоёв морей и океанов.
Мечтают учёные и о менее очевидных, но обнадёживающих источниках энергии: неизвестных природе, выведенных людьми сортах растений, водорослей, утилизирующих солнечную энергию лучше, чем природные растения. И тут логика мысли перебрасывает мостик к ещё более отдалённой перспективе: к надежде осуществить такие фотореакции, которые, в отличие от природного фотосинтеза, имеют своим продуктом не кислород и сложные органические вещества, входящие в состав растений, а кислород и водород или кислород и простейшие органические соединения, например, такие газы, как метан, пропан или ацетилен. Их можно будет не только просто использовать в качестве топлива, но и удобно транс портировать на любые расстояния.
Каждый реальный шаг в одном из этих направлений будет иметь далеко идущие последствия, масштабы которых невозможно предвидеть.
Я хочу закончить книгу словами, передающими лежащую в её основе мысль в сжатой, лаконичной форме: «Современная наука — дочь удивления и любопытства, которые являются скрытыми движущими силами, обеспечивающими её непрерывное развитие».
Это сказал один из самых глубоких учёных наших дней, французский физик Луи де Бройль.
Он не одинок в этом мнении. Никто из мыслителей, о какой бы области человеческой деятельности ни заходила речь, не отрицал и не отрицает роли любопытства, страсти, мечты в деле познания мира, равноправия мысли и воображения, разума и чувств в творческом поиске.
Ещё Белинский говорил: «Чувство — огонь, мысль — масло». Но синтез чувственного и абстрактного восприятия окружающего мира особенно характерен для деятельности современных людей.
Кванты и музы, их союз — это символ нашей эпохи. В этом союзе кроются главные созидающие силы познания.
Мечты двигают прогресс.
Мечта, оснащённая всей мощью современной науки, приведёт к такому расцвету цивилизации, когда в полную меру сможет засиять всеми своими гранями творческий талант Человека.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
У этой книги будет множество читателей. Каждый, занимающийся созидательным трудом, даже самым будничным, несомненно, извлечёт из неё что-то сугубо личное, связанное с его прошлым опытом, с его представлением о будущем.
Но кое-что может и ускользнуть. Поэтому всегда полезно обсудить прочитанное.
Я, как один из первых читателей этой книги, увидевший её ещё в рукописи, хочу поделиться здесь своими впечатлениями.
В главе первой мы встретились с творцами новой физики, мы увидели, что все их успехи, все грандиозные победы в споре с самой природой, в борьбе с заблуждениями, которые достались им в наследство от классической физики, в бессилии склонившей голову перед «проклятыми» вопросами, — это каскад открытий. Мы вместе с победите лями восторгались трофеями, бережно перебирали стойкие истины, уцелевшие среди пожарищ споров и сомнений. И вместе с победителями задумывались о том, как трудна будущая кампания — сколь напряжёнными должны оказаться новые битвы за истину.
Во второй и третьей главах творцы новых наук — квантовой электроники и науки о твёрдом теле — раскрыли нам столько неожиданных сюрпризов, таящихся в окружающих нас, знакомых и привычных вещах, что мы поневоле задумываемся о величайших возможностях, скрывающихся где-то рядом, под рукой…
Одна из глав книги вводит нас в страну, на многие годы сломленную злой волей фашизма, — в Венгрию. И разве не наполнили нас гордостью перемены, происшедшие в этой стране за поразительно короткий срок?
Сегодня у нас не счесть партнёров по совместной работе — идёт ли речь о космических исследованиях и полётах; о работе над одной из центральных проблем современности — о поисках новых энергетических ресурсов или о решении чисто теоретических фундаментальных проблем мироздания. В этих областях авторитет русской науки и русских учёных очень высок во всём мире. И, заглянув в кулуары советско-венгерского научного сотрудничества, автор книги дал нам глубокий и обширный материал для обобщений, для понимания необходимости такого сотрудничества с другими странами.
Далее мы побывали в одной из самых экзотических, самобытных стран — в Японии и увидели, как обрушивается на неё современный мир со всеми своими радостями и страстями, заботами, проблемами, как покоряет всеми средствами информации, модой и соблазнами… И разве не поразительны мгновенные, на глазах одного поколения происходящие, перемены — в сознании людей, в обычаях, в науке и искусстве? Перемены, сделавшие недавно отгороженную от остального мира страну второй в ряду передовых капиталистических стран по объёму промышленного производства? Разве это не удивительное явление XX века, не вещественный результат научно-технической революции, проникшей во все поры жизни нашей эпохи?
Хочу подчеркнуть, эти две главы — венгерская и японская — представляются мне очень важными как иллюстрация продуктивности и неизбежности контактов во всех возможных сферах науки, техники и просто в плане человеческого содружества. Созвучие разумов — залог мира на земле, залог общих, достижений человечества.
Читая рукопись, я заметил, что автор не злоупотребляет термином научно-техническая революция (НТР), но вся книга — это констатация глобального значения НТР, это глубокий анализ причин её возникновения и перспектив, которые она несёт в самые разные области науки, искусства, жизни.
Рассказывая о целом каскаде сенсаций в различных сферах сегодняшнего мира, автор подводит читателя к выводу о том, что НТР разразилась в наш период истории не случайно, не вдруг, не внезапно. Она — естественное, долго накапливавшее силы извержение открытий. Она — качественный итог того количества открытий, которыми изобилует наука и техника наших дней. НТР — результат слияния этих достижений, их взаимного оплодотворения. Это слияние не могло не привести к научно-технической революции.
Автор подчёркивает: наше поколение — свидетель и участник НТР. И от нас зависит направить её силы, её мощь не во вред, а на благо человечеству. Этот публицистический акцент книги «Кванты и музы» очень своевременен и актуален.
Надо сказать, что современность и ощущение социальной цели характерны для всего творчества Ирины Радунской. И для журнальных и газетных публикаций, и для книг. Наше деловое сотрудничество насчитывает свыше двух десятилетий. Я читал рукопись первой её книги «Безумные идеи» — и книга захватила меня точностью передачи атмосферы современного научного творчества. Я написал к этой книге послесловие и рад, что книга получила широкий резонанс и у нашего читателя, и у зарубежного. Например, в Японии за полтора года она выдержала десять тиражей. Так как книга посвящена в основном достижениям советских учёных, то её успех в других странах, конечно же, способствует повышению авторитета нашей науки. И я с готовностью отозвался на просьбу японского издательства «Ратэис» и Комитета содействия переводам советских книг в Японии помочь пригласить писательницу в Японию для чтения лекций.
Ирина Радунская знакомила меня и с остальными своими книгами: «Превращения гиперболоида инженера Гарина», «Крушение парадоксов», посвящённых рождению новой науки XX века; с книгой «Предчувствия и свершения», одной из самых современнейших книг, хотя она и анализирует заблуждения учёных прошлого.
Эти книги, в основном адресованные молодежи, несомненно, помогли и продолжают помогать молодым людям выработать правильное мировоззрение, понять механизм преемственности, управляющий развитием науки. Я рад, что эта работа Ирины Радунской — книга «Кванты и музы» — продолжает эту прекрасную серию книг, которую можно назвать исследованием путей познания. Академик А.И. Берг
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1. ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ
Пугающая «арифметика
Порванные нити.
Что сказал бы Ньютон
С чего всё началось
Поиски свидетелей.
Глава 2. ГИПЕРБОЛОИДЫ И ГИПЕРБОЛЫ
Глава 3. МАГИ В СТРАНЕ МАГОВ
Глава 4. СУДЬБЫ
Глава 5. СОЗВУЧИЕ РАЗУМОВ
Глава 6. ЭКЗОТИКА БЕЗ ЭКЗОТИКИ
Глава 7. КВАНТЫ И МУЗЫ
Сказка про перчатку вывернутую наизнанку
Как стать гением?
Моделирование мозга
Физика перед новым скачкомИ Моцарт, и Сальери
Правда Шекспира и Эйнштейна
Чего не мог придумать Диккенс
ПОСЛЕСЛОВИЕ


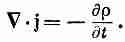

Комментарии к книге «Кванты и музы», Ирина Львовна Радунская
Всего 0 комментариев