Тимоти Мортон Стать экологичным
Ад Маргинем Пресс
Timothy Morton
Being Ecological
PELICAN
an imprint of
PENGUIN BOOKS
© Original English language edition first published by Penguin Books Ltd, London
Text copyright
© Timothy Morton 2018
All rights reserved
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2019
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС» / IRIS Foundation, 2019
* * *
Посвящается Линдси Блоксам и Полу Джонсону
Трава жесткая, комковатая и мокрая, и в ней полно страшных черных насекомых.
Оскар Уайльд[1]Благодарности
Огромная благодарность моим редакторам Томасу Пенну и Ананде Пеллерин, которые неустанно помогали мне. Особая благодарность Ананде за невероятно въедливую, но неизменно благожелательную редактуру. Письмо в академическом мире может быть занятием крайне одиноким, и я весьма признателен, что за мной присматривали.
Спасибо всем, кому я читал лекции и кто участвовал в моих семинарах, воркшопах или выступлениях за последний год. Все эти разговоры стали моей лабораторией, и без них я просто не смог бы мыслить. Спасибо моему декану департамента гуманитарных наук в Университете Райса Николасу Шамвею, оказавшему мне поддержку, которая стала одним из настоящих чудес моей жизни. Спасибо моим ассистентам Кевину Макдоннеллу и Рэнжи Михайловичу, которые существенно обогатили этот проект. Спасибо также Кевину за то, что оказывал мне помощь при решении самых разных задач; не будет преувеличением сказать, что я не смог бы выполнить свою работу без его безграничной и невероятно щедрой поддержки. Спасибо всем, кто так или иначе помогал мне, особенно Хейтаму Аль-Сайеду, Иену Богосту, Полу Берчу, Федерико Кампанья, Олафуру Элиассону, Бьорк Гудмундсдоттир, Софи Греттве, Лиззи Гриндей, Грэму Харману, Дагласу Кану, Джеффри Крипалу, Ингрид Люке-Гад, Эдуарду Асару, семейству Мортонов (Гарту, Жасмин, Чарльзу и Стиву), Йоко Оно, Санни Озелл, Андреа Пагнь, Сабрине Скотт, Присцилле Элоре Шарук, Эмилии Шкарнулюте, Верене Стенке, Марите Татари и Кэри Вольфу.
Книга посвящается моей двоюродной сестре художнице Линдси Блоксам и ее партнеру художнику Полу Джонсону. Их гений в том, что они сумели придержать тяжелую руку суждения и открыть мир для любопытства, удивления и легкости. А последние нам здесь, в сфере экологического мышления, очень даже пригодятся.
Введение. Это не еще одна куча информации
Наплевать на экологию? Может, вы и думаете, что вам наплевать, но всё же это не обязательно так. Не читаете книг по экологии? Тогда моя книга для вас.
Вас можно понять: книги по экологии зачастую представляют собой непролазные дебри информации, успевающие устареть, пока книга попадет вам в руки. Они награждают вас подзатыльником, чтобы вам стало стыдно. Хватают за грудки и орут, пытаясь донести до вас неприятные факты. Заламывают руки в агонии и причитают: «Что же нам делать?» Просто-таки пропаганда, у которой в боксерской перчатке вечно спрятан кастет. Но моя книга совершенно другая. «Стать экологичным» не будет читать проповеди эко-пастве. Она написана для вас: может, вы и сами время от времени оказываетесь в числе паствы, а может, и вообще не знаете, что это за паства такая, или вам просто плевать. Но одно можно сказать точно: данная книга ничего вам проповедовать не собирается. А еще в ней нет никаких экологических фактов, ни одного шокирующего откровения о нашем мире, этических или политических советов. Не найдете в ней и обзора экологических идей. То есть на самом-то деле она практически бесполезна как книга по экологии. Но зачем тогда писать нечто настолько «бесполезное», если нас поджимает время? Я что, никогда не слышал о глобальном потеплении? Зачем вам вообще читать это? Собственно, дело в том, что вы, возможно, уже экологичны, но просто не в курсе. Вы спросите, в каком смысле? Давайте выясним.
О чем эта книга
Во введении я изложу общий подход, применяемый в книге. В первой главе я обрисую в общих чертах то, как, собственно, ориентироваться в эпохе, в которой живем, то есть в эпохе массового вымирания, вызванного глобальным потеплением. Во второй главе мы перейдем к рассмотрению предмета экологического сознания и экологического мышления, а именно биосферы и пронизывающих ее взаимосвязей. В третьей главе мы взглянем на разные действия, которые могут считаться экологичными. А в четвертой изучим ряд современных стилей экологичности.
По ходу дела я познакомлю вас с собственным стилем философии. Если бы мой стиль был фильмом, а я — его режиссером, то его продюсером стала бы объектно-ориентированная онтология Грэма Хармана (о ней я еще расскажу), а исполнительными продюсерами — философы Иммануил Кант и Мартин Хайдеггер.
Пока же, во введении, я собираюсь показать, почему перед вами не обычная книга по экологии. Причина ее необычности в том, что в ней я всеми силами пытаюсь избежать одного очень привлекательного риторического приема, а именно проповеди, внушающей чувство вины. В каком смысле? Давайте начнем с того факта, что в книге практически нет фактов. Я решил, что должен сам об этом сказать, опередив критиков.
Когда вы пишете книгу об экологии, причем даже независимо от того, являетесь вы ученым, рассуждающим об экологических проблемах, или нет, создается впечатление, что в нее надо затолкать кучу фактов. В каком-то смысле это требование жанра, а жанр тут играет роль своего рода горизонта, горизонта ожиданий. Мы ждем того, что почувствуем определенные эмоции от трагедии (Аристотель считал, что это страх и жалость), тогда как комедия должна вызвать у нас улыбку. Определенный жанр письма можно найти даже в вашем паспорте. И точно так же существует жанр экологической речи — на самом деле даже несколько жанров.
Большой другой следит за тобой
Жанр — это своего рода мир или пространство возможностей. В этом пространстве можно совершать определенные ходы, и, пока вы остаетесь в нем, вы выполняете какие-то действия по правилам жанра. Например, у вас может быть определенный стиль поведения на вечеринках, и, по всей вероятности, он отличается от стиля присутствия на рабочем совещании. У вас может быть свой метод чтения новостей и наверняка есть определенные способы следить за последними веяниями моды (или, напротив, игнорировать их).
Жанры — скользкие твари. Они имеют отношение к тому, что в некоторых направлениях философии называется Другим, — а когда вы пытаетесь прямо указать на другое, оно (или она, он, они) исчезает. Другой — мое представление о вашем представлении о ее представлении об их представлении о его представлении о моем представлении об их представлении… Если вы когда-нибудь играли в рок-группе, то знаете, насколько это понятие опасно. Если вы пишете музыку, которая заточена под то, что, по-вашему, хотят покупать в музыкальном магазине, скорее всего, вы просто впадете в ступор и окажетесь не в силах ни на что решиться. Причина в том, что царство Другого — это что-то вроде сети предположений, предрассудков и предзаданных понятий.
Конечно, существуют предзаданные понятия, которые всем нам очевидны или, по крайней мере, легко могут стать таковыми. Если вы хотите выяснить, какие равиоли делают во Флоренции, вам будет несложно это узнать. О «режиме флорентийских равиоли» вы можете навести справки, а сегодня можно и просто погуглить. У слова «погуглить» есть по крайней мере одно значение, которое связано с описанной идеей жанра. Когда мы гуглим что-то, мы часто пытаемся посмотреть, что об этом думает «другой». Google — тоже Другой: запутанная паутина ожиданий, притаившихся на границе поля зрения или по другую сторону всех тех ссылок, на которые у нас нет времени кликнуть. Нам никогда не хватает времени кликнуть на все ссылки (что становится всё более очевидным по мере разрастания Google). То же самое можно сказать и по-другому: эта мистическая штука, этот Другой является в некотором смысле структурным: сколько к нему ни подкрадывайся, самого его никогда не застанешь. Его задача, похоже, в том, чтобы исчезать всякий раз, когда смотришь на него в упор, и вместе с тем создавать впечатление, что он окружает вас, когда на него не смотришь, — и порой это жутковато.
Кто такие мы?
В книге я очень часто буду говорить «мы». Но в моей сфере (в академических гуманитарных науках) так говорить совсем не модно. Модно, напротив, досконально разъяснять, насколько люди друг от друга отличаются, а если кто-то говорит «мы», значит, все эти существенные различия пропускаются или даже стираются. Кроме того, в экологическую эпоху местоимения стали делом непростым: сколько существ собрано в «мы» и все ли они люди? Я буду использовать местоимение «мы» как человек, который был целиком и полностью сформирован политикой различия, а также искажающей ее политикой идентичности. Я буду использовать «мы» в том числе для того, чтобы подчеркнуть, что существа, ответственные за глобальное потепление, — не какие-то морские коньки, а люди, такие же, как и я. Давно пора выяснить, как говорить о человечестве как виде и в то же время не вести себя так, словно последних десятилетий мысли и политики попросту не было. Мы, конечно, не можем взять и вернуться к простой и безыскусной сущности человека, которая бы скрывалась подо всеми нашими различиями. Но если мы не выясним, как говорить «мы», за нас это сделает кто-то другой. Как сказал поэт-романтик Уильям Блейк, «я должен создать свою собственную систему, или меня поработит чужая».
Лицом к фактам
Всем нам известно, что экологическое письмо, особенно то, что служит передаче научных сведений и часто встречается в газетах, а также в книгах с названиями, как у этой, нуждается в куче фактов. Во множестве данных. Если бы вы остановились и задумались о них, вы бы догадались, что подобные данные обычно доставляются в определенном режиме, — но никто о них особо не задумывается. У «режима доставки экологической информации» имеется определенный вкус и стиль, то есть такая доставка осуществляется в определенном пространстве возможностей. Одна из моих задач как гуманитария заключается в том, чтобы попытаться прочувствовать такие пространства возможностей, особенно если (и в том случае, когда) мы не слишком хорошо их осознаем. Пространства возможностей, не слишком для нас очевидные, способны нас так или иначе контролировать, но нам, возможно, контроль такого рода не нужен — или, по крайней мере, нам не помешает разобраться в его координатах. Достаточно вспомнить о долгой истории сексизма или расизма: эти вещи оказывали самое разное влияние на наше поведение, которое мы можем и не осознавать, и множеству самых разных людей пришлось потратить много времени и сил на то, чтобы выявить стереотипы мышления и поведения, которые закрепляют предрассудки и вместе с тем внушают людям мысль, что всё нормально.
Какие законы притяжения действуют в пространстве возможностей? Где тут верх, а где низ? Что считается верным, а что — неверным? Как далеко можно в нем зайти, прежде чем попадешь в другое пространство? Например, насколько можно исказить режим экологической информации, прежде чем он превратится во что-то другое? Подобные вопросы могут стать надежным способом исследования пространства возможностей, точно так же как суть металла можно выяснить, нагревая его, замораживая, подвергая воздействию импульсов энергии, помещая в магнитное поле и т. д., — вспомним, к примеру, как золотую монету кусали, чтобы проверить на подлинность. То же самое с искусством. Вы можете выяснить, в чем суть данной пьесы, мысленно представив себе, до какого предела можно ее переиначивать, прежде чем она станет чем-то совершенно другим, сколько безумных костюмов сойдет вам с рук, — к примеру, если поставить «Гамлета» Шекспира на Юпитере с людьми, переодетыми в хомяков, будет ли в такой постановке всё еще угадываться «Гамлет»?
Возможно, мои намерения станут очевидными, если я изложу их так: в данной книге нет фактоидов. Фактоид — это факт, о котором нам что-то известно, то есть мы знаем, что он был определенным образом покрашен и надушен, что он должен выглядеть и крякать как факт. Возможно, он даже правдив, по крайней мере с одной или нескольких точек зрения. Но всё же у него есть одно странное качество. Кажется, что он нам кричит: «Смотри, я факт. Ты меня игнорировать не можешь. Я взял и свалился тебе на голову». Интересно: факт, задуманный так, чтобы выглядеть, словно он с неба свалился. Фактоиды задуманы так, чтобы напоминать то, чем, с нашей точки зрения, должны быть факты: мы полагаем, что последние должны выглядеть так, словно они вообще не были ни задуманы, ни придуманы. Когда люди используют фактоиды, возникает ощущение, что нами манипулируют мелкие частицы истины, которые отщепились от некоего более величественного, более истинного сооружения, словно крошки от пирога. Рассмотрим, к примеру, следующий фактоид: «есть ген» такой-то черты. Многие думают, что это значит, будто некая часть кода ДНК является причиной того, что у вас имеется такая-то черта. Но если вы изучите эволюционную теорию и генетику, вам станет известен тот факт, что нет никаких «генов» чего бы то ни было. Факт в том, что черты возникают вследствие сложных взаимодействий между экспрессией ДНК и средой, в которой она осуществляется. Если какая-то часть вашей ДНК связана с определенной разновидностью рака, отсюда еще не следует, что у вас будет этот рак. Но мы снова и снова твердим один и тот же фактоид: «есть ген такого-то и такого-то рака».
Как мы говорим об экологии с самими собой?
Похоже, зачастую режим доставки экологической информации состоит в том, что можно назвать информационным навалом. На наши головы сваливается по крайней мере один, а часто целый ворох фактоидов. И подобный навал что-то такое авторитетно заявляет, то есть кажется, что сам режим доставки говорит: «Не ставь это под вопрос» или даже «Если поставишь это под вопрос, будет худо». В частности, «информационный режим глобального потепления» заваливает нас огромными ворохами фактов. Но почему? Тот же вопрос можно поставить иначе: какие именно ходы мы можем совершить в пространстве возможностей, которое создается информационным режимом глобального потепления? А это, в свою очередь, достаточно сложный способ спросить следующее: какой жанр у информационного режима глобального потепления? Какой способ постановки вопроса лучше? Как мы должны себя чувствовать? Какой способ доставки информации подорвет данный режим? И так далее.
То, что у нас нет готового ответа, если только мы не отрицаем глобальное потепление как таковое, должно заставить нас на время остановиться. У отрицателей нет сомнений: с их точки зрения, этот режим пытается убедить меня в том, во что я верить не хочу. Мне в глотку заталкивают определенное мнение. Но почему не все мы чувствуем то же самое? Если мы ощущаем себя эдакими экологическими праведниками, мы чураемся других людей, считающих, что их грузят, чтобы заставить что-то чувствовать — возможно, грубую вину, ведущую к грубой вере. Речь идет не о войне мнений, а об истине. Черт возьми, мистер Отрицатель, почему ты не можешь это понять?
Вопреки тому, в чем нас хотели бы убедить фактоиды, ни один факт не может просто взять и свалиться с неба. Факт может появиться только в определенной среде, поскольку в противном случае его просто не увидишь. Рассмотрим фразу, которую вы, если вы выросли на Западе, вряд ли произносите часто: «Духи моих предков недовольны тем, что я пишу эту книгу». В каком мире подобное высказывание имело бы смысл? Что вам нужно знать, чего ожидать? Что в таком мире считалось бы правильным, а что — неправильным? Нам всем нужны некоторые допущения, определяющие, что такое реальность, что считать реальным, существующим, правильным или неправильным. Размышления о посылках такого рода могут принимать разные формы; одна из таких форм в философии называется онтологией, а другая — эпистемологией. Онтология — это исследование того, как существуют вещи. Эпистемология — исследование того, как мы их познаем.
Мысль о том, что факты имеют смысл только внутри определенных контекстов интерпретации, дополняют вопросы, на которые можно легко ответить, если вы изучаете искусство, музыку или литературу. Вопросы, к примеру, такие: как, с точки зрения этого режима, вы должны прочитывать данную информацию? Как можно понять, что вы приняли ее «правильно»? На ренессансное полотно с перспективой нельзя смотреть сбоку. Надо встать прямо перед точкой схождения перспективы, на определенном расстоянии, и только тогда возникнет иллюзия трехмерного пространства. Картина определенным образом позиционирует вас, стихотворение просит вас, чтобы вы прочли его так-то и так-то, — и точно так же бутылка кока-колы «хочет», чтобы вы держали ее определенным образом, а хомяк, когда берешь его на руки, оказывается, удобно умещается в ладони… Значительная часть так называемой теории идеологии занимается объяснением того, как вас принуждают обращаться определенным образом со стихотворением, живописным полотном, политической речью, понятием.
Режим навала экологической информации предполагает несколько разновидностей онтологии и эпистемологии (а также идеологии), но мы редко задумываемся о том, что они собой представляют. Мы слишком увлечены тем, чтобы накидать информации или окунуться в ее поток. Но в чем причина? Почему мы не желаем остановиться и попытаться выяснить, что это за режим? Не боимся ли мы того, что можем обнаружить? Чего именно мы боимся? Почему мы заламываем руки и причитаем: «Почему отрицателям это непонятно? Почему соседу всё это не так важно, как мне?» Режим навала экологической информации служит симптомом чего-то намного большего, чем чувства, вызываемые чтением газет.
Один из способов увеличить масштаб и снова поставить все перечисленные вопросы — спросить что-то вроде: «Как мы проживаем экологические данные? Нравятся ли они нам? А если нет, что мы хотим с ними сделать?» Эта книга — «Стать экологичным» — посвящена тому, как проживать экологические знания. Похоже, что знать, в чем дело, недостаточно. Собственно, «просто знать, в чем дело» никогда не сводится к простому знанию дела, по крайней мере так следует из моих аргументов. «Просто знать, в чем дело» — еще и способ прожить некоторые вещи. А если знаешь, что есть определенный способ проживать вещи, получается, что могут быть и другие способы. Если у вас есть трагедия, можно представить нечто вроде комедии. Если живешь в Нью-Йорке, можно представить, что значит жить не в Нью-Йорке.
Похоже, есть множество способов проживать экологические знания. Представьте себе способ существования хиппи, с которым я немного знаком. Быть хиппи — это совершенно особый образ жизни, особый стиль. Но обязательно ли быть хиппи, чтобы проживать экологическую информацию? Возьмем интернет. До того как масса людей получила к нему доступ, было два или три способа жить с интернетом. Например, существовали расслабленный, веселый, игривый, экспериментальный, анархический, либертарианский режимы, и считалось, соответственно, что интернет должен внушить нам чувство подвижности или текучести наших идентичностей. Но потом случилось нечто странное. Интернет появился у намного большего числа людей, и значительная его часть превратилась в репрессивное авторитарное пространство, в котором каждый обязан иметь одно мнение из примерно трех приемлемых, иначе к вам набежит толпа всё про всё знающих юзеров, подобно стае, пикирующей на автозаправку в фильме «Птицы» Альфреда Хичкока. Я не буду углубляться в вопрос о том, почему это произошло, но мысль вы поняли.
В книге «Стать экологичным» мы начинаем тщательнее исследовать то, как мы говорим с самими собой об экологии. Я думаю, что основной модус подобного разговора — заваливание самих себя данными — на самом деле препятствует более аутентичному способу обращения с экологической информацией. Проживать все эти сведения можно и получше, не так, как мы делаем сегодня, вместе с тем даже не зная, что проживаем их прямо сейчас. Мы похожи на людей, зациклившихся на какой-то привычке: мы снова и снова повторяем одно и то же, даже не замечая. Мы словно стоим у раковины и с остервенением моем руки — но без малейшего представления о том, как у нее оказались.
Факты постоянно устаревают, особенно экологические факты, а из числа последних с особенно большой скоростью устаревают факты о глобальном потеплении, которые славятся своей многомерностью: ведь они существуют на разных шкалах времени и в самых разных сценариях. Если мы ежедневно заваливаем самих себя фактами, мы и в самом деле можем быть сбиты с толку и напряжены. Взглянем на ситуацию под другим углом. Представим себе, что мы спим и видим сон. Что это будет за сон, если герои и сценарий меняются, порой даже сильно, однако общее впечатление — итог сновидения, его основная окраска, тональность, точка зрения или что-то в таком духе — остается одним и тем же? Здесь и правда обнаруживается аналогия из мира сновидений: это сны о травме у людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
Экологическое ПТСР
В сновидениях при ПТСР вы представляете, как заново переживаете свою травму, причем у подобных снов отвратительная привычка возвращаться снова и снова. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд задался вопросом о том, почему так происходит: — почему мы видим в этих снах вещи, которые причиняют нам вред, почему мы видим их в том режиме сновидения, который в определенном смысле вреден, ведь они расстраивают нас, мы просыпаемся в поту и слезах, не можем отделаться от приснившегося сна и заняться своими привычными делами. Фрейд доказывал, что в подобном процессе должно присутствовать своего рода удовольствие, иначе бы мы ничего такого с собой не делали[2]. Какой-то аспект заваливания самих себя данными о травме в мире сновидений должен быть приятным. И если моя аналогия верна, отсюда следует, что режим наваливания информации в определенном смысле тоже приятен, пусть даже он, как может показаться, сбивает с толку и угнетает.
По мнению Фрейда, человек, страдающий ПТСР, в своем сновидении пытается поместить себя в момент, предшествующий травме. Почему? Потому что сама способность предвосхищать нечто порождает чувство безопасности или уверенности. Упреждающий страх намного менее интенсивен, чем страх, испытываемый вами, когда вы внезапно оказываетесь в самой гуще травмы, — такой страх Фрейд называл испугом. Собственно, травмы по определению представляют собой вещи, в гуще которых вы оказываетесь, то есть вы не можете взглянуть на них сбоку или сзади, и именно поэтому они травматичны. Например, предположим, что вы вдруг попали в автокатастрофу. Если бы вы могли предвидеть, тогда, наверное, можно было б свернуть в сторону.
Сновидения при ПТСР пытаются создать пузырь упреждающего страха (Фрейд называет его тревогой, но в контексте данной книги этот термин может привести к путанице, так что в дальнейшем я его использовать не буду), который образует кордон вокруг первоначальной травмы, вызывающей испуг. Тогда, по аналогии, режим информационного навала — это применяемый нами способ поместить себя в вымышленную точку во времени до того, как случилось глобальное потепление. Мы пытаемся предугадать то, внутрь чего мы уже попали.
Сделать что-нибудь
Данные в их явном содержании требуют, казалось бы, неотложных действий. Они словно вопиют: «Смотри, разве ты не понимаешь? Проснись! Сделай что-нибудь!» Однако скрытое содержание такого режима отправления и получения данных решительно противоречит неотложности: «Нечто наступает, но еще не наступило. Подожди — оглядись, предскажи». Понятно ли вам, в каком смысле такое послание является двусторонним? Одна сторона шокирует своей неотложностью; другая представляет собой противошоковый пузырь. Что это значит? Это значит, что никакое уточнение данных и никакой режим их навала в конечном счете не сработают. Невозможно соотнести сновидение при ПТСР с испугом, который оно пытается превратить во что-то другое. Точно так же режим навала экологической информации (который не относится исключительно к глобальному потеплению) является — причем я должен высказаться как можно резче — прямой противоположностью того, что требуется нам, чтобы понять, где мы находимся и почему, то есть чтобы начать проживать данные. Прямо сейчас ситуация выглядит так, словно бы мы просто ждали правильных данных, а потом начнем жить по ним. Однако такие данные никогда не поступят, поскольку режим их доставки запрограммирован так, чтобы заблокировать правильную реакцию: — мы попали в гущу ужасных и непонятных травматических событий, таких как глобальное потепление и массовое вымирание, и не особенно понимаем, как их проживать.
Не является ли такой режим ПТСР истинной причиной, по которой кажется столь трудным что-нибудь сделать, сделать хоть что-нибудь? Почти любая конференция по экологии, в которой мне доводилось участвовать, заканчивалась круглым столом, на котором кто-нибудь внезапно спрашивал: «Но что же нам делать?» Словно бы многодневные причитания еще не были формой «дела». Вопрос «Что же нам делать?» выступает симптомом того, что мы попали в пугающую ситуацию — пугающую в специальном фрейдовском смысле актуального переживания травмы. Как и в случае любой травмы, мы не понимали, насколько она пугает, пока не оказались внутри самого опыта. Мы не хотим знать то качество экологической неотложности, которое характеризуется фразой «это уже происходит». Вопрос, который ставят по завершении круглых столов, желает заглянуть в будущее, предугадать и заранее понять, что делать. Но именно это нам недоступно. Мы ехали не по той дороге, смотрели не в том направлении — вот почему всё случилось. Экологические факты в настоящее время очень часто представляют собой факты, говорящие о непреднамеренных последствиях человеческих действий. Именно так: в большинстве своем мы вообще не представляли, что делаем, по крайней мере на определенном уровне. Точь-в-точь как в нуаре, в котором главный герой выясняет, что всё время работал на враждебное секретное агентство.
Мне, собственно, очень нравятся вопросы вроде «Что же нам делать?». Потому я и отказываюсь давать прямой ответ. То, что спрашивается в подобном вопросе, равно как и сам способ его постановки — всё это имеет отношение к необходимости контролировать все аспекты современного экологического кризиса. Но мы их контролировать не можем. Ведь в противном случае нам потребовалось бы открутить всё назад ко времени за десять тысяч лет до нашей эры, когда люди еще не успели запустить агрокультурную логистику, которая потом привела к промышленной революции, выбросу углекислого газа, а значит, и к глобальному потеплению вместе с массовым вымиранием.
Однако в определенном смысле всему этому есть вполне благородное объяснение. Не бывает так, чтобы сначала вы думали, а потом действовали. Вы не можете увидеть всё сразу. Вы просто какое-то время копаетесь, а затем получаете определенное представление о происходящем с более или менее точным пониманием предыстории. Предсказание и планирование до странности переоценены, что доказывает нам сегодня нейронаука и что всегда говорила феноменология. Всё дело в том, что мы переоцениваем саму идею свободной воли. Наши религии, основанные на агрокультуре, говорят нам, что у нас есть душа, находящаяся где-то внутри тела, но в то же время за его пределами, и эта душа руководит телом, как возничий, который правит лошадьми (именно так утверждает греческий философ Платон в диалоге «Федр»). Но идея свободной воли коренится в той самой динамике, которую мы опознали в качестве проблемы. Мы всегда думали, что стоим на вершине мира, вне вещей или за их пределами, что можем посмотреть свысока и решить, что именно делать, и всё продолжалось в таком духе примерно двенадцать тысяч лет.
Возможно, экологические факты требуют, чтобы мы не «знали», что именно нам следует немедленно сделать.
Но здесь присутствует определенный парадокс: хорошо известно, «что делать», — надо существенно ограничить или устранить выбросы углекислого газа. Мы совершенно точно знаем, как следует поступить. Но почему же тогда мы не совершаем эти шаги? Здесь есть несколько отличных способов найти для себя оправдание. Например, можно заявить, что неолиберальный капитализм настолько репрессивен и вездесущ, что только глобальная революция могла бы подорвать структуры, загрязняющие биосферу выбросами углекислоты, а именно большие корпорации. Так что сначала должна произойти такая большая социальная революция, а потом, как только мы начнем относиться друг к другу правильно, мы сможем заняться сокращением выбросов углекислого газа. Разве в каком-то странном смысле не тот же аргумент был предъявлен Индией на конференции по изменению климата в Копенгагене в 2009 году? Индия утверждала, что не может ограничить выброс углекислого газа, поскольку сначала ей нужно пройти тот же путь «развития», что был у Запада. Как только она станет обществом соответствующего типа, она сможет подумать о том, как наносить поменьше вреда.
Даже если предположить, что эта стратегия на самом деле сработает, к тому времени, когда вы получите желаемое, Земля уже успеет расплавиться.
Вещи и веще-данные
«Что же нам делать?» — вопрос мистический: имеется совершенно точное описание требуемых мер, но у нас никогда не будет ощущения, что мы делаем всё абсолютно правильно, даже если попробуем. Вот в чем парадокс: мы знаем, как следует поступить, и вместе с тем не сможем подняться на достаточную высоту над миром, чтобы посмотреть, как именно выглядит ситуация. И это крайне странно, поскольку тут совмещаются два факта: у нас есть точные данные и решения, однако — вместе с тем — в нагрузку идет неспособность увидеть за деревьями лес. Всё время кажется, что деревьев слишком много.
Кстати, проблема намного «интереснее» (то есть хуже), чем я только что сказал. Дело в том, что всякое действие как таковое всегда будет страдать тем же парадоксом. Например, вы «знаете, что делать», и тем самым предполагается, что индивиды или малые группы должны сократить выброс углекислоты, а не разрушать глобальный капитализм или же избегать тех способов современного производства, которые ведут к загрязнению. Вы никогда не сможете проверить заранее, окажут ли ваши действия желаемый эффект; в частности, вы знаете, что Земля настолько велика, что ваше малое дело не будет иметь никакого особенного значения. В действительности ваш личный выброс углекислоты, скорее всего, статистически вообще не имеет никакого значения. Однако миллиарды таких выбросов как раз и вызывают глобальное потепление. Так гласят ваши данные. Но если не делать вообще ничего — это и будет проблемой, а значит, чувство бессилия или, наоборот, самоуверенности тоже не сработает.
«Что же нам делать?» — вопрос, который желает от чего-то освободиться. Но от чего? Он желает освободиться от бремени тревоги и неопределенности. Однако данные как таковые, не говоря уж о данных о глобальном потеплении, — это именно данные о тревоге и неопределенности. Ведь это статистические данные. У вас никогда не будет возможности доказать, что x определенно вызывает y. Самое большее можно сказать, что x вызывает y с девяностодевятипроцентной вероятностью. Например, закономерности в диффузных камерах Большого адронного коллайдера, ускорителя частиц в Женеве (CERN), служащие доказательством наличия бозона Хиггса, возможно, не доказывают в полной мере существование этой элементарной частицы, но такое «возможно, не» ограничивается мельчайшей долей одной десятой процента спектра вероятности. Если подумать, это намного лучше, чем просто утверждать какие-то вещи, поскольку в таком случае обнаруживаются реальные вещи и вам не нужно подкреплять свое утверждение угрозой применить силу. Бозон Хиггса есть не потому, что папа римский заставляет в него верить, а потому, что вероятность его несуществования крайне мала, если полагаться на закономерности, которые физики находят в своих данных. Вот что делают ученые: ищут в данных закономерности. Они смотрят на закономерности — и здесь намного больше, чем можно подумать, сходств с отношением к искусству, но подробнее об этом я скажу позже.
Более-менее истина
Данные (data) означают просто «то, что дано». Это форма множественного числа супина латинского глагола «dare», то есть «давать»: те аспекты вещей, которые даны нам, когда мы их наблюдаем. Если у нас есть весы, можно собрать данные о весе яблока. Если у нас есть ускоритель частиц, можно собрать данные о протонах в яблоке. На самом деле данные — совсем не то же, что факты, не говоря уже об интерпретациях фактов. Чтобы получить факт, вам нужны две вещи: данные и какая-нибудь их интерпретация. Это может показаться непонятным, поскольку в обычных рассуждениях о науке факты часто мыслятся на крайне старомодный манер. Факты представляются в качестве своего рода штрих-кодов, которые можно считать с вещи, то есть они якобы самоочевидны. Но научный факт не самоочевиден. И именно поэтому вам нужно провести эксперимент, собрать данные и проинтерпретировать их.
Обратите внимание на то, что ни данные, ни интерпретации не являются настоящими вещами, о которых мы собираем данные и которые интерпретируем. Фактоид — это кусок данных (как правило, довольно небольшой), который был проинтерпретирован так, чтобы выглядеть истинным. Он «более-менее истинный» (truthy), если вспомнить удачное выражение американского комика Стивена Колберта, придумавшего пародийный термин «более-менее истинность» (truthiness). Фактоид похож на истину, или, как говорят сегодня некоторые ученые, он «истиноподобен». Фактоид более-менее истинен, поскольку согласуется с тем, чем, с нашей точки зрения, являются факты. В силу же сциентизма — распространенной веры в то, что наука рассказывает нам о мире точно так же, как это могла бы делать религия, — мы полагаем, что факты абсолютно просты и однозначны: они исходят из самих вещей. Сциентизм представляет собой поклонение фактоидам. Фактоиды предполагают установку, заключающуюся в том, что вещи сами несут на себе своего рода штрих-код, который сразу указывает, что они собой представляют, безо всякого опосредования со стороны людей, их интерпретирующих. Более истинным нам кажется то, что обходится без посредника и преподносит нам однозначные данные. Однако данные — не факты, по крайней мере пока еще не факты. А экологические данные настолько сложны и относятся к настолько сложным феноменам, что превратить подобные данные в факты непросто, не говоря уже о том, чтобы проживать такие факты, а не просто повторять более-менее истинные фактоиды, выступающие содержанием сновидения ПТСР, которым мы снова и снова себя тешим. В способе работы более-менее истинности уже присутствует возмущенный вопрос: «Разве вы не видите?!» Однако «видеть» — как раз не то, что мы делаем с этими данными.
В общем, боюсь, что мир науки на самом деле неустойчив и недостоверен. И любая попытка достичь полной достоверности — это попытка жить не в эпоху науки, а в какую-то другую эпоху. Режим навала данных, даже если мы принимаем реальность глобального потепления, никогда не принесет нам того удовлетворения, которого, как нам кажется, мы желаем. Мы изрыгаем данные и прислушиваемся к ним, словно бы они могли дать удовлетворение, и в этом вся проблема. Мы застряли на первых стадиях проживания травмы — той травмы, которая, не забывайте, всё еще происходит и боль которой совершенно очевидна, если вы только обращаете на нее внимание. Это всё равно что увидеть сон ПТСР непосредственно в момент травмы, словно бы можно было заснуть и увидеть во сне то, что вы предчувствуете приближающийся автомобиль, в тот самый момент, когда вы уже попали в автокатастрофу. Если принять такую формулировку, разве не становится ясно, почему нам ничего не даст тот режим, из-за которого мы, как правило, залипаем в новостных репортажах, на пресс-конференциях, за ужинами и в книгах с названиями, как у этой?
Отрицание таких планетарных синдромов, как глобальное потепление, заставляет нас еще глубже увязать в фактоидах. Мы тратим кучу времени на беспокойство или спор по поводу фактоидов, которые не имеют никакого отношения к данным и интерпретациям данных. Когда мы переключаемся в такой режим — будучи отрицателями или же споря с ними, — мы просто идем по ложному следу. Более-менее истина — своего рода реакция, какой-то волдырь, возникающий из-за реальной проблемы, то есть реакция на то, что мы живем в современную научную эпоху, которая характеризуется радикальным разрывом между данными и вещами. Ни один режим доступа не может исчерпать все качества и характеристики вещи. Следовательно, вещи открыты, они уклоняются от полного доступа. Вы не можете мысленно схватить всё то, чем является яблоко, поскольку вы забыли его попробовать. Но даже если укусить яблоко, не получится постичь то, что же оно такое, поскольку вы забыли прогрызть его, как червь. То же самое выйдет и тогда, когда вы его прогрызете. Каждый раз перед вами оказывается не яблоко в себе, а данные яблока: у вас есть мысль яблока, вкус яблока, червоточина яблока. И даже диаграмма всех возможных доступов к яблоку во всем пространстве и времени — если предположить, что такая диаграмма возможна (а это не так), — упустила бы тот тип яблока, что схватывала бы менее полная диаграмма. В обоих случаях будет не яблоко, а лишь диаграмма яблока. Но, разумеется, данные яблока существуют: яблоки зеленые, круглые, сочные, сладкие, хрустящие, в них полно витамина C; они фигурируют в книге Бытия в качестве самого неудачного перекуса в истории человечества; их водружают на головы мальчишкам, чтобы пустить в них стрелу и чтобы было потом о чем рассказывать… Все эти вещи не являются яблоком как таковым. Существует радикальный разрыв между яблоком и тем, как оно является, его данными, так что независимо от того, сколько вы будете изучать яблоко, вы не сможете определить место разрыва, указав на него: это трансцендентальный разрыв.
Трансцендентальный разрыв между вещами и веще-данными становится вполне очевидным, когда мы изучаем то, что я люблю называть гиперобъектами, то есть громадные вещи, которые, так сказать, «распределены» в пространстве и времени, — они занимают многие десятилетия или столетия (и даже тысячелетия), охватывая всю Землю, как, например, глобальное потепление. На такие вещи вообще никогда нельзя указать прямо. Эти вещи (например, эволюция, биосфера, климат) намекают нам на то, как вообще существуют вещи — какие угодно, если следовать нашему современному взгляду на них. Любые вещи: ложка, тарелка с яичницей, припаркованная машина, футбольное поле или шерстяная шапка. Ни на одну из них невозможно указать прямо. Когда вы чувствуете свою шерстяную шапку, ощущается именно то, что она шерстяная, то есть вы получаете данные шапки, а не настоящую шапку. Когда вы надеваете шапку, вы используете шапку определенным образом, или получаете к ней соответствующий доступ, однако вы всё же не получаете к ней полный доступ. Когда она начинает греть вам голову и вы утром выходите на холодную улицу, шапка на вашей голове в каком-то смысле исчезает, поскольку вы спешите попасть из пункта А в пункт Б, вам тепло и хорошо, так что шапка делает свою работу, и вы можете о ней забыть. Это качество вещей — которые в каком-то смысле исчезают, успешно справляясь со своей функцией в вашем мире, — должно подсказать вам, что они такое на самом деле. То, чем они выступают на самом деле, решительно отличается от веще-данных. Когда вы смотрите на свою шапку или фотографируете ее, у вас есть зрительное восприятие шапки или ее фотография, но не настоящая шапка.
Фактоид шапки притворяется настоящей шапкой. Однако фактоид шапки — это определенная интерпретация данных шапки, притворяющаяся, что она не интерпретация. Вообще говоря, такая форма истины серьезно устарела — более чем на двести лет. Дэвид Юм, знаменитый шотландский философ середины XVIII века, доказывал, что вы не можете взять и заглянуть под крышку данных, чтобы понять, что представляют собой сами вещи. Его преемник Иммануил Кант к концу XVIII века объяснил причину: дело в радикальном разрыве, о котором я начал говорить, разрыве между вещами и данными. Экологические вещи очень и очень сложны, в них много движущихся частей, они в значительной мере распределены по Земле — и в пространстве, и во времени. Так что заглянуть под экологические веще-данные просто невозможно, а когда мы пытаемся это сделать, мы только еще больше запутываемся.
Как включить в картину нашу собственную точку зрения
Отрицание глобального потепления на самом деле представляет собой смещенное отрицание модерна как такового. Есть что-то такое в нашей современной эпохе, что мы не хотим досконально знать, и именно о нем говорили Юм с Кантом. Данные шатки, данные — это не вещи, и вместе с тем данные — всё, что у нас есть. Порой я спрашиваю себя, не перевоплотился ли Юм в Роджера Уотерса, бас-гитариста и автора песен Pink Floyd. В песне «Breathe», которая вошла в их альбом «Темная сторона луны», они поют то, что мог бы легко написать Юм: «Всё, чего ты касаешься и что ты видишь, / Это всё, чем когда-либо будет твоя жизнь»[3]. Вот именно. Вы не можете иметь дело с вещами напрямую, без рук и без глаз — или без служащих им расширением экспериментальных приборов, термометров, лабораторий и идей о том, что представляют собой научные факты. Довольно забавно, что жить в эпоху науки — значит всё больше и больше понимать, что ты плотно упакован в пленку собственного опыта.
«Естественное» значит «привычное»
Поэты-романтики, жившие примерно в то же время, что и Юм с Кантом, быстро с этим разобрались. Они поняли, что, когда вы по-настоящему приближаетесь к вещам, они начинают «растворяться». Иными словами, когда вы освобождаетесь от нормализованной системы координат, проступает странность вещей, тот факт, что вы не можете получить к ним прямой доступ. Предположим, вы исследуете поверхность скалы при помощи геологического молотка и лупы. Вы намного ближе к скале, чем тот, кто видит ее на открытке. Тот, кто смотрит на открыточную картинку, совершенно уверен в том, что он видит. Картинки на открытках — это потомки того, что появилось в искусстве до романтизма, а именно живописности. Живописный мир выстраивается так, чтобы выглядеть как картина, то есть словно бы он уже проинтерпретирован и разложен человеком. Легко понять, что есть что: вон там гора, там озеро, на переднем плане, возможно, дерево. Довольно забавно, что классический живописный образ, который я только что описал, — это, в общем-то, образ, любимый всеми, всеми на планете Земля, и, возможно, именно его вездесущность объясняет, почему он часто кажется китчем или банальщиной. Довольно забавно и то, что в целом именно это видели и люди в саванне миллионы лет назад. Если вы какой-нибудь доисторический человек, очень удобно иметь по соседству водоем, тень (от деревьев), и очень хорошо, если всё окружено защищающими ваше жилище горами, на которых есть, как вам известно, источник, который питает озеро (к примеру). Живописность подогнана под фундаментальный человекоцентричный взгляд на вещи, то есть она антропоцентрична.
Однако вид на гору с близкого расстояния — совсем другое дело. Предположим, вы поэт-романтик или ученый, и вы решили взять и попасть в саму картину, в сам «ландшафт», то есть в картину ландшафта. Тогда живописность исчезнет. Вы у самой скалы, один на один. Она уже не прекрасный фон для ваших — то есть доисторического человека — палеолитических проектов. Она превращается в нечто странное: вы видите всевозможные кристаллы, изгибы и формы, которые не имеют большого отношения к вашему обыденному миру. Возможно, вы заметите ископаемые: другие формы жизни использовали скалу не так, как вы. Или, быть может, вы заметите птицу, которая свила в расщелине гнездо. Вы начинаете понимать, что это не просто ваш собственный мир.
Всё это похоже на синдром смены часовых поясов. Когда вы прибываете в далекое место, вас немного (а может, и не немного) бесит, что это место не ваше, пока еще не ваше. На самом деле вы настолько устали и ваши биологические часы настолько сбились, что даже время перестало быть вашим. Время перестает быть удобной нейтральной коробкой, в которой вы просто живете, позабыв о нем, и просто ждете, пока будильник или календарь не напомнят, что и когда делать. Время перестает быть тем, чем оно в действительности не является, а именно человеческой интерпретацией времени. «Интерпретация» не значит всего лишь «ментальное описание». Она означает множество способов доступа к вещи и ее применения. Не забывайте, что ваш способ доступа к яблоку дает вам разные данные о яблоке, но не яблоко в себе. Даже поедание яблока дает вам лишь кусочки яблока, но не всё яблоко в его многомерной славе. Вспомним о том, как мы обычно говорим об «интерпретациях» музыки. Такие интерпретации не подразумевают просто размышления о музыке — имеется в виду еще и собственно проигрывание музыки, то есть исполнение музыкального произведения. Дирижер Берлинского филармонического оркестра «интерпретирует» ноты, размахивая руками и заставляя музыкантов определенным образом «интерпретировать» строки партитуры. В такой формулировке всё вполне очевидно. Исполнение вещи — это не вещь.
Итак, у вас в руках геологический молоток и ваша специальная камера, и вы столкнулись с тем фактом, что удары молотком и фотографирование вещей — отнюдь не сами эти вещи. Ваш живописный мир был настолько слаженным, что вы забыли о том, что и само представление вещей как чего-то живописного является исполнением таких вещей, как озера, деревья и горы. Вы думали, что видите что-то непосредственно, — скорее всего, вы называете это природой. «Природа» означает в целом то, о чем вы забываете, поскольку оно просто работает. Например, о «человеческой природе» мы говорим: «Такова моя природа, ничего не могу с ней поделать». «Природа берет свое». И точно так же мы говорим о нечеловеческой «природе»: в этом весь смысл «разговоров о погоде», которые можно вести с незнакомцем на автобусной остановке. Вы способны найти общее основание в том, что кажется нейтральным, что просто работает, а потому создает фон для вашего общения. Однако глобальное потепление лишает нас этого предположительного нейтралитета, подобно слишком ретивым рабочим сцены, которые убирают бутафорию, когда пьеса еще не закончилась.
Так что ваш научный взгляд на вещи — с молотком и камерой — не означает, будто бы вы «видите» природу: вы всё еще интерпретируете ее человеческими инструментами и человеческим прикосновением. Мышление в экологических категориях означает, что надо избавиться от подобного представления о природе; — отказ от него кажется невероятным, но только потому, что мы слишком привыкли к определенным способам получения доступа, исполнения и той или иной «интерпретации» таких вещей, как озера, деревья, коровы, снег, солнечный свет или пшеница.
Поэты-романтики догадались, что, когда вы «занимаетесь наукой», как я только что описал, когда вы открываетесь всевозможным данным, а не просто клише, вы должны проникнуться «опытом». В итоге вы пишете стихотворения об опыте встречи со скалой, о том, насколько это на самом деле странно. Вы можете даже зайти чуть дальше и написать о написании стихотворения о встрече со скалой. Собственно, вполне научный подход. Именно так работает проживание данных. Вы понимаете, что включены в интерпретацию, из-за чего ваше искусство становится рефлексивным, то есть начинает говорить о самом себе. Так что весь этот тяжеловесный бизнес — весь навал информации — служит не чем иным, как способом не проживать научные данные. Он для нас и есть способ не замечать странности жизни в эпоху науки. Такова наша реакция на кучу информации, которая сваливается на нас, на вещи, которые мы проектируем и создаем, на нашу оторванность от природы или экологии, которую мы чувствуем, а также на панику и беспомощность, которые мы испытываем, когда задумываемся о таких вещах, как глобальное потепление. Вы не можете переключиться в рефлексивный режим, если начинаете с ментальности, полагающей, что экологическая информация связана с вываливанием на людей кучи фактоидов.
Значительная часть экологических работ, которые часто называют энвайронменталистскими, выполнена, грубо говоря, в том же формате, что и режим навала информации. Они построены так, чтобы быть более-менее истинными, чтобы соотнести вас с некоей живописной Природой, — в дальнейшем я буду писать это слово с большой буквы, чтобы вы не забывали, что имеются в виду не настоящие деревья и кролики, а понятие, то есть определенная интерпретация. Довольно забавно то, что заковыристое, странное и часто именно постмодернистское искусство подходит для жизни в эпоху науки намного больше, чем сентиментальные «очевидные» картинки величественных тигров и львов или роскошных джунглей, как в каком-нибудь глянцевом календаре. Проживать экологические факты сложно: возможно, они требуют от нас именно того, чтобы мы не «знали» сразу, что именно следует делать. Сформулируем это строже. Возможно, они требуют того, чтобы мы и не должны были сразу знать, что делать. Прибавьте сюда факт антропоцентризма: в течение довольно длительного времени мы проектировали, интерпретировали и исполняли вещи так, чтобы люди оставались на вершине или в центре всех сфер бытия (физического, философского и социального). Экологические факты говорят о непреднамеренных последствиях антропоцентризма. А поскольку они говорят о нас, о том, как мы существуем, что делаем и как себя ведем, на них сложно посмотреть с расстояния: составить точку зрения о самих себе, поставить под вопрос нашу собственную практику и способ смотреть на вещи — это одна из самых сложных вещей; а еще с такими вещами всегда сложно смириться: таковы уж они.
Если вы твердо верите в реальность последствий выброса углекислого газа, причиной которого стало человечество, не будьте слишком строги к отрицателям глобального потепления. У вас с ними больше общего, чем может показаться. Пытаться задавить их фактами, представленными в виде фактоидов, — именно тот режим, в котором они и так уже находятся, а именно режим уклонения от странности нашей современной научной эпохи. Вы боретесь с огнем другим огнем — или даже заливаете холодную воду холодной водой, поскольку фактоидная речь пытается залить холодной водой огонь современного знания, прожигающий множество наших предпосылок и достоверностей.
Что же тогда представляет собой экологическая реальность? Я буду разбирать данный вопрос во второй главе, где мы рассмотрим основной экологический факт, а именно взаимосвязанность форм жизни. Этот вроде бы совершенно очевидный факт гораздо страннее, чем можно подумать.
Почему меня это должно волновать?
В разных культурах разные способы быть студентом. За многие годы я выяснил это, путешествуя по США, где я работал в четырех разных регионах (на Востоке, в Центре, на Западе и на Юге). А когда я веду семинары в Европе и других странах, то тоже замечаю существенные отличия. Студенты в Париже заметно отличаются от тайваньских студентов, которые в свою очередь разительно отличаются от студентов из Северной Калифорнии. Например, сложность преподавания в прекрасном высокогорном городе Боулдер (Колорадо) состояла в том, что студентов надо было убедить, что изученное нами стихотворение — это самая психоделическая вещь, которую им вообще доведется встретить в жизни, поскольку их основные занятия за пределами школы заключались в употреблении марихуаны и сноубординге. Но поскольку подобный трюк уже удавалось проделать с предыдущим стихотворением, надо было продолжать повышать ставки.
Сначала Калифорния просто шокировала меня. Обычно в воздухе чувствовалась определенная нервозность, замаскированная наигранным и преувеличенным безразличием. Казалось, что студенты держат в руках невидимые телевизионные пульты и говорят про себя: «Ну давай, развлекай нас, или мы переключим канал». Преподавание включает в себя работу с разными типами эмоциональной энергии, но в основе этого три разновидности, и вы должны переходить от одной к другой. Это клубника, шоколад и ваниль, известные также как страсть, агрессия и невежество, что соответствует общей буддистской типологии эмоций. (Есть всевозможные разновидности, точно так же как может быть клубника с ванильным привкусом или шоколад с тянучкой и т. д.)
Сперва вам хочется понравиться студентам, а еще хочется, чтобы вам нравилось ваше поприще, поэтому вы работаете со страстью. Потом вы позволяете себе немного разлюбить преподавание и начинаете работать с агрессией, то есть учитесь позволять студентам немного вас ненавидеть. Вы учитесь работать с энергией козла отпущения, то есть с тем, как группа пытается сбрасывать свой негатив на какого-то человека. Если таким человеком является студент в классе, он становится адвокатом дьявола и пытается на глазах у всех вызвать вас на бой, но вы учитесь отводить удары и перенаправлять их на класс, не вступая в схватку.
Наконец вы начинаете работать с невежеством или безразличием, и с подобной энергией работать труднее всего, поскольку противоположностью любви является не ненависть, а базовое чувство полного безразличия. Задача весьма хитрая, поскольку вы, вероятно, не сможете прорваться к этому чувству, ведь в таком случае потребовалось бы подключиться к энергии агрессии, а ваши студенты не хотят двигаться в эту сторону; или можно попытаться дискутировать с ними, но тогда вы почувствуете уязвимость, а студенты, скорее всего, проигнорируют ваши попытки, и тут уж не избежать фрустрации.
Именно в подобную ловушку я однажды угодил, читая лекцию. Я рассказывал что-то о романтическом искусстве, и вдруг я заговорил о фортепьяно, которое было изобретено в конце XVIII века. И задал примерно такой вопрос: «Кто-нибудь знает что-то об истории фортепьяно?» И вот это случилось. Калифорнийские студенты не уверены в себе, но они не стесняются подать голос (они сидели там со своими невидимыми пультами в руках). Откуда-то справа (да, читатель, я пересказываю травму, от которой остались неизгладимые воспоминания), ближе к задним верхним рядам, я вдруг услышал женский голос: «Почему меня это должно волновать?»
У меня было такое чувство, словно мне дали пощечину.
Поскольку я сам всегда был прилежным учеником, мне и в голову не приходило, что можно плевать на то, что происходит на занятиях. Вопрос могли бы задать и на марсианском, настолько он был поначалу непонятным. Я просто оцепенел. У меня уже давно не возникало такого чувства в аудитории, а к тому моменту я преподавал около пятнадцати лет. И я впал в оцепенение совершенно нового типа. Нельзя сказать, что был совершен выпад в мою сторону. Сначала я вообще не понял, что произошло. Шла всего лишь вторая неделя десятинедельного курса, и само по себе это было дурным знаком. В тот момент я не нашелся, что сказать в ответ.
Эпизод крутился у меня в голове несколько дней. Я просто не мог понять, как это так. Было ощущение, что я съел что-то такое, что сложно переварить. Но к концу недели я понял нечто важное. Я мог обратиться с той же фразой к самому себе. Почему меня, Тимоти Мортона, должно настолько волновать преподавание каких-то вещей о фортепьяно, что, когда кто-нибудь заявляет: «Почему меня это должно волновать?» — меня это просто убивает. Может, лучше стать чуть-чуть более «спокойным», то есть беспечным? Но если вы примерно такой же маньяк контроля, как и я, тогда беспечность и открытость ощущаются как своего рода легкомысленность… Однажды в Боулдере я увидел замечательную каллиграфическую надпись, сделанную буддистским учителем по имени Озель Тендзин, в коридоре у моей подруги Дианы. Широкими мазками он написал там два слова: «МЕНЬШЕ ПАРЬСЯ». Вот в этом всё дело. Когда мне — а Будда наверняка отнес бы меня к аккуратистам — удается провести медитацию как надо, у меня всегда ощущение, что она проходит не вполне правильно. Теперь ощущение запоротой медитации я использую как сигнал того, что всё в полном порядке.
В конце концов, упомянутая студентка, как выяснилось, настолько не парилась и в других ситуациях, что у нее сильно снизились оценки. Но я тогда выучил кое-что ценное для себя.
Эта книга о заботе и волнениях, так что мое столкновение со студенткой абсолютно в тему. Как я уже говорил, каждый день на нас сыплются экологические фактоиды, причем экологические проблемы на самом деле неотложны, и, если вы начнете серьезно о них задумываться, у вас может начаться настоящая депрессия, и в итоге вы свернетесь в позе зародыша или просто ощетинитесь, как еж, на всех в отрицании. Поэтому я написал книгу с установкой, которая несколько напоминает принцип «МЕНЬШЕ ПАРЬСЯ», и я надеюсь, что вы тоже будете МЕНЬШЕ ПАРИТЬСЯ. Пожалуйста, не пытайтесь изжить в себе безразличие. Напротив, почему бы не изучить его, что мы и делаем? Может получиться так, что в его туманных царствах обнаружится эластичный шар онемения. Онемение — это чувство защиты самого себя от шока. Будьте с ним осторожны. И опять же, не пытайтесь содрать резину или проткнуть ее ножницами, чтобы посмотреть, что там внутри. Попробуйте, напротив, изучить его извне. Ясно ведь, что многие объекты точно такие же: например, нет способа залезть в черную дыру, чтобы поизучать ее и пожить внутри нее, не говоря уже о том, чтобы вернуться из нее и рассказать другим о том, что вы там нашли. Вам придется изучать разные явления вокруг черной дыры, вплоть до самого горизонта событий, то есть границы, перейдя которую вы просто не сможете вернуться обратно и поведать свою историю.
Объектно-ориентированная онтология
Я сторонник философского взгляда, известного под названием «объектно-ориентированная онтология» (ООО), которая утверждает, что любая вещь во многих отношениях напоминает черную дыру: резиновый шар, эмоция, высказывание об эмоции, идея о высказывании, звук высказывания, когда оно произносится компьютером, стеклянный экран компьютера, пляж, на котором был добыт песок, из которого сделали экран, океанские волны, кристаллы соли, киты, медузы и кораллы. Вам приходится изучать феномены, испускаемые такими вещами, — отсюда философский термин «феноменология», — поскольку к ним самим вы никогда не пробьетесь. Ни один режим доступа в этом смысле не сработает: мышление, рассечение ножницами, поедание, игнорирование, написание стихотворения, переползание (если вы муха), удар ногой (если вы футболист), пожирание (если вы собака), излучение (если вы гамма-луч).
ООО впервые была сформулирована американским философом Грэмом Харманом, который рассуждал о том, как на самом деле устроена философия Мартина Хайдеггера (неважно, что сказал бы об этом сам Хайдеггер). ООО утверждает, что нельзя получить доступ ни к одной вещи в ее целостности[4]. Под доступом тут подразумевается любой способ схватывания вещи: касание вещи, размышление о ней, ее лизание, написание с нее картины, ее поедание, построение на ней гнезда, ее распыление на мельчайшие части… Также ООО утверждает, что мысль — не единственный режим доступа, что мысль даже не является высшим режимом доступа, поскольку в действительности нет никакого высшего режима доступа. Два этих принципа дают нам мир, в котором антропоцентризм невозможен, поскольку мысль долгое время была теснейшим образом связана с человеком и поскольку люди были, по сути, единственными, кому дозволялось иметь осмысленный доступ к другим вещам. ООО предлагает нам чудесный мир теней и закоулков, мир, в котором вещи никогда не могут быть целиком и полностью просвечены ультрафиолетом мысли, мир, в котором быть барсуком, деловито обнюхивающим то, на что вы, человек, задумчиво взираете, — это столь же законный способ доступа к вещам, что и у вас.
Я думаю, что объектно-ориентированная онтология действительно полезна эпохе, в которой мы со временем узнали об экологии намного больше. Полезна, в частности, потому, что она не представляет мышление, и особенно человеческое мышление, особым режимом доступа, который бы действительно постигал, что представляет собой та или иная вещь. ООО пытается избавиться от антропоцентризма, утверждающего, что люди стоят в центре смысла и власти (как и всего остального). Такой подход может пригодиться в эпоху, когда нам нужно по крайней мере признать значение других форм жизни.
Возможно, наше безразличие — тот факт, что нас не слишком (или не всегда) волнуют всякие экологические штуки (или мы просто не хотим из-за них волноваться), — что-то вроде уникальной формы жизни, существующей в нашей головах и не платящей арендной платы. Не исключено, что мы сможем получить намного больше информации об экологии и экологической политике, искусстве, философии и культуре, если будем изучать эту туманную область, содержащую в себе тефлоновый шар онемения, но не пытаясь его вскрыть. Возможно, у нас уже есть всё, что нужно, чтобы справиться с экологической эпохой. Не исключено, что реальная проблема всегда была в том, что мы постоянно говорим себе, будто нам нужен совершенно новый способ смотреть на вещи, ведь экологическая эпоха — что-то вроде апокалипсиса, с наступлением которого знакомый нам мир выворачивается наизнанку. Но действительно ли экологична эта надежда на новый способ смотреть на вещи — или перед нами просто еще один ретвит монотеизма агрокультурной эпохи, которая, собственно, и довела нас до той стадии, на которой мы сегодня находимся? И если агрокультура отчасти ответственна за глобальное потепление и массовое вымирание (а это так), может быть, лучше не использовать монотеистические координаты или монотеистическую терминологию? Быть может, лучше покончить с проповедями, шеймингом и виной, которые на протяжении всей агрокультурной эпохи были неотъемлемой частью теистического подхода к жизни?
Всё это просто вопросы. Пожалуйста, не надо из-за них чересчур напрягаться. Когда вы будете читать данную книгу, обращайте внимание на малейшее чувство вины, которое может у вас возникнуть. В конце концов, вина всегда существует на уровне индивидов. Однако индивиды ни в коем смысле не виновны в глобальном потеплении. Это и в самом деле так: вы можете легко найти для себя оправдание, поскольку то обстоятельство, что вы ежедневно заводите двигатель внутреннего сгорания в своем автомобиле, в плане статистики для глобального потепления не имеет никакого значения. Парадокс в том, что, если мы расширим масштаб подобных действий и включим в рассмотрение каждый двигатель автомобиля, когда-либо заведенный с самого момента изобретения двигателя внутреннего сгорания как такового, причиной глобального потепления окажутся именно люди. Конечно, большие корпорации способны оказывать такое воздействие. Однако воздействие их сотрудников является, если говорить в тех же терминах, статистически ничтожным. Через тысячи лет ничто из того, что каким-то образом связано с вами, не будет иметь никакого значения. Но то, что вы сделали, будет иметь огромные последствия[5]. Таков парадокс экологической эпохи. И именно поэтому действие, нацеленное на глобальное потепление, должно быть массовым и коллективным.
Но что это такое — глобальное потепление? Правильный ответ: массовое вымирание. Оно станет темой нашей следующей главы.
Глава 1. И могло бы так статься, что вы живете в эпоху массового вымирания
Что там сейчас, собственно говоря, с экологией? Ответим сначала на этот вопрос. Когда я говорил разным людям, как будет называться данная глава, мне часто пеняли за слабость. И это верно: глава и правда какая-то мутная. Некоторые хотели, чтобы я сказал прямо: «Вы ЖИВЕТЕ в эпоху массового вымирания», — словно выражение «могло бы статься» означает, что на самом деле вы не живете в ней.
Реакция сама по себе интересна — такое понимание возможности в смысле отрицания. Оно имеет отношение к логическому «Закону» Исключенного Третьего. Он влияет на самые разные области жизни. Обычно при подсчете голосов правила требуют считать воздержавшихся в качестве тех, кто сказал «нет». Вы не можете проинтерпретировать отказ от подачи голоса как «может, да, а может, и нет». Мы живем в изъявительную эпоху, эпоху активного залога, когда текстовый процессор готов наказать вас зеленой волнистой линией за использование пассивного залога; небеса запретили нам использовать сослагательное наклонение, как в выражении «могло бы».
Неспособность находиться посередине — серьезная проблема для экологического мышления.
Также серьезной проблемой для экологического мышления является неспособность находиться в сослагательном наклонении. Неспособность быть в режиме «может». Всё должно быть либо белым, либо черным. Эта неспособность изымает из нашего опыта экологии нечто жизненно важное, от чего мы на самом деле не можем избавиться, а именно саму нерешительность, ощущение нереальности, искаженной или измененной реальности, ощущение жути, то есть какой-то мистики.
Ощущение не-вполне-реальности — это и есть ощущение, испытываемое при катастрофе. Если вы когда-нибудь попадали в аварию или хотя бы в ту минимальную катастрофу, которой является синдром смены часовых поясов, вам, наверное, понятно, что я имею в виду.
В самом деле, вымарывание «может» приводит также и к вымарыванию самого опыта. Если «вы ЖИВЕТЕ», значит, с вами что-то не так, раз вы не ощущаете, не чувствуете того, что было объявлено об экологии официально. Ведь всё должно быть совершенно прозрачным и очевидным. Мы должны передавать эту очевидность очевидным способом вроде подзатыльника. Фраза «И могло бы так статься, что вы…» включает в себя опыт. В определенном смысле она намного сильнее, чем просто утверждение. Ведь нельзя избавиться от самого себя. Вы можете соглашаться или не соглашаться с самыми разными вещами — и всё равно вы здесь, соглашаетесь или не соглашаетесь. Говоря словами великого феноменолога Бакару Банзая, «куда бы ты ни шел, там ты и есть»[6].
Фило-софия
В истине есть что-то грубоватое и напористое, так же как и в философии. Философия — любовь к мудрости, а не мудрость как таковая. Но один из стилей философии состоит как раз в удалении части «филос». Слишком много философов, которых можно было бы упомянуть по этому поводу, и мне стыдно называть их по именам, но сам типаж вам знаком: это люди, которые знают, что они правы и что вы несете чушь, если не согласны с ними. Нет нужды говорить, что такой стиль мне совершенно чужд. Любовь означает, что вы не можете постичь возлюбленного, — и именно это вы ощущаете, именно это понимаете, когда кого-то или что-то любите. «Я не совсем понимаю, в чем тут дело… Мне просто нравится эта картина, и всё…»
В этой книге мы будем часто рассматривать опыт искусства, предлагающий нам образец такого сосуществования, какого экологическая этика и политика желают достичь между людьми и нелюдьми́. Но почему искусство вообще может стать таким образцом?
К концу XVIII века великий философ Иммануил Кант провел различие между вещами и веще-данными, о котором мы уже говорили. Одна из причин, по которой можно сказать, что между ними есть резкое различие, состоит, как доказывал Кант, в красоте, которую он исследовал как определенную форму опыта, то есть как некий момент, когда мы восклицаем: «Ничего себе, как красиво!» (я буду называть это опытом красоты). Дело в том, что красота дает нам фантастический, невозможный доступ к недоступным, ушедшим в себя, не до конца определенным качествам вещей, к их таинственной реальности.
Кант описал красоту как чувство непостижимости — именно по этой причине опыт красоты выходит за пределы понятия. Вы не поедаете картину с изображением яблока; вы не считаете ее хорошей в нравственном смысле; зато картина говорит вам нечто странное о яблоках как таковых. Красота не должна согласовываться с заранее заготовленными понятиями о «милом». Это чувство красоты — оно странное. Оно подобно ощущению, что у тебя есть мысль, когда на самом деле ее нет. В маркетинге пищевой индустрии есть одна категория, возникшая в два последних десятилетия, — ощущение рта (mouthfeel). Довольно мерзкое слово, обозначающее текстуру еды, то, как она взаимодействует с зубами, нёбом и языком. В определенном смысле кантовская красота — это ощущение мысли (thinkfeel). Это ощущение наличия идеи, а поскольку мы сторонники дуализма души и тела — как и Кант, — мы не можем не думать, что тут есть элемент психоза: идеи не должны звучать, так ведь? Но мы постоянно говорим о звуке той или иной идеи: это хорошо звучит. Возможно ли, что в бытовой фразе есть доля истины?
Немецкий философ Мартин Хайдеггер — фигура, ставшая спорной из-за того, что на определенном этапе своей карьеры он был членом нацистской партии. Эта темная туча — и правда позор, потому что многим она мешает отнестись к нему серьезно. Ведь Хайдеггер, нравится нам или нет, написал учебник о том, как следует мыслить в конце XX и в начале XXI века. Надеюсь, что смогу постепенно это доказать, а кроме того, я надеюсь показать, что нацизм Хайдеггера — это большая ошибка, что достаточно очевидно, но главное, что это ошибка и с точки зрения его собственной мысли.
Хайдеггер утверждает, что нет таких вещей, как истина и неистинность, которые были бы строго различены, подобно белому и черному. Вы всегда пребываете в истине. Вы всегда пребываете в каком-то более-менее низком разрешении, в jpeg-версии истины с низким dpi, то есть в какой-то общепринятой, публичной более-менее истине (этот удобный термин Стивена Колберта мы впервые использовали во введении). Я знаю, что аналогия с jpeg работает не вполне надежно. В самом деле, ни одна аналогия не может быть абсолютно надежной. Аналогия истины как чего-то более или менее пикселизированного и сама более или менее пикселизирована.
Красота также более-менее истинна. На самом деле, поскольку я не Кант, я буду говорить, что красота — это не ощущение мысли, а ощущение истины (truthfeel). Если вы хотите использовать термины, которые сегодня применяются учеными, можно сказать, что она истиноподобна. Теперь, если задуматься, станет ясно, что мы подошли к моменту, когда должны признать легкий поворот в нашей аргументации. Мы критиковали фактоиды, поскольку они нас путают, но почему они вообще способны путать? Дело в том, что мы почему-то не распознаем ложные вещи в качестве ложных. Отсюда следует, что нет тонкого или жесткого различия между истинным и ложным. В каком-то странном смысле все истинные утверждения более-менее истинны. Нет строго заданной точки или жесткой границы, на которой более-менее истинное становится на самом деле истинным. Все вещи всегда немного сикось-накось. Мы всегда прокладываем путь наощупь. Какие-то идеи звучат неплохо. Ощущение истины. «И могло бы так статься, что вы живете в эпоху массового вымирания».
Феномен антропоцена
«Антропоцен» — название, которое дали геологическому периоду, в котором созданные человеком материалы образовали в земной коре отдельный слой: так, отдельную, совершенно очевидную страту сформировали всевозможные виды пластика, бетона и нуклеотидов. Сегодня начало антропоцена официально датируется 1945 годом. Это поразительный факт. Можете ли вы вспомнить какой-то другой геологический период, у которого была бы столь же точная дата его начала? И можете ли вы представить себе нечто более жуткое, чем понимание того, что живете в совершенно новом геологическом периоде, отмеченном тем, что люди стали геофизической силой планетарного масштаба?[7]
В истории Земли было пять массовых вымираний. Самое недавнее, уничтожившее динозавров, было вызвано астероидом. До него было массовое пермское вымирание, вызванное глобальным потеплением: оно уничтожило вообще почти все формы жизни. Подобные вымирания, если справиться о них в «Википедии», выглядят точками на хронологической линии, однако на самом деле они занимают продолжительное время, поэтому в тот момент, когда вымирание уже началось, заметить его очень сложно. Они подобны невидимым ядерным взрывам, растянувшимся на тысячелетия. Теперь наша очередь стать астероидом, поскольку вызванное нами глобальное потепление становится сегодня причиной шестого массового вымирания. Возможно, всё стало бы яснее, если бы мы перестали называть его «глобальным потеплением» (и тем более «изменением климата», поскольку это вообще очень слабое выражение) и начали называть его «массовым вымиранием», которое и является суммарным эффектом.
Может прозвучать странно, однако что-то в смутности того факта, что вы каким-то образом попали в антропоцен, ставший причиной шестого массового вымирания как события, происходящего ныне на планете Земля, — что-то в ней на самом деле является существенным и неотъемлемым для факта существования в такую эпоху. Точно так же можно сказать, что синдром смены часовых поясов говорит вам кое-что истинное о способе существования вещей. Когда вы приезжаете в какое-то далекое место, всё кажется немного жутковатым, то есть странным, но знакомым, знакомо странным — и вместе с тем странно знакомым. Выключатель на стене кажется немного ближе, чем обычно, и он вроде как расположен чуть-чуть не там, где следовало бы. Кровать подозрительно тонкая, да и подушка не совсем та, к какой вы привыкли, — это я, кстати, описываю свои ощущения от поездок в Норвегию. Зимой день начинается около десяти утра. В девять часов утра еще совершенно темно. День уже наступил, но не тот, к которому вы привыкли.
Термин, которым Хайдеггер обозначал то, как такие выключатели смотрят на вас, подобно неприметным героям экспрессионистского полотна, — «vorhanden», то есть «наличное». Обычно, когда вы сосредоточены на своих задачах, вещи в каком-то смысле исчезают. Выключатель — просто часть дневного ритуала, вы щелкаете им, вам надо вскипятить чайник, чтобы сделать кофе, то есть вы, другими словами, просто возитесь на кухне в первых лучах утренней более-менее истинности. Вещи вроде как исчезают — они просто тут; они не высовываются. Не то чтобы они совсем не существовали. Они просто не такие странные, теперь они — те версии самих себя, которые меньше давят своей очевидностью. Это качество вещей, которые вроде бы просто вокруг нас, а мы не обращаем на них особого внимания, указывает нам на способ их существования: вещи не существуют в постоянном непосредственном присутствии. Они представляются существующими лишь тогда, когда ломаются, когда становятся иными версиями вещей, к которым мы привыкли. Соответственно, вы занимаетесь своими делами в норвежском отеле, идете спать, а когда просыпаетесь, всё снова выглядит нормальным, и, собственно, именно так на самом деле и существуют вещи; они, как говорит Хайдеггер, zuhanden, то есть подручны или сподручны[8]. Они у вас в руках, как в выражении «взять что-то в свои руки». Есть еще довольно забавная английская его версия: «Держи свои волосы на голове» («Keep your hair on!»), то есть «не кипятись» (предполагается, хотя на это и не обращают внимания, что ты носишь парик…).
Вещи наличны для нас, когда они выпячиваются, когда ломаются. Вот вы бежите по супермаркету, почти все покупки уже сделаны, но тут можно поскользнуться на полу (кто-то слишком хорошо его отполировал). Когда вы поскользнулись и неловко ткнулись в пол, вы впервые замечаете его, его цвет, узор, то, из чего он сделан, даже если он всё это время, пока вы набирали товары, поддерживал вас. Быть наличным, присутствовать — модус, производный от просто «бывания», а это, по Хайдеггеру, означает, что бытие — не наличие, и потому он называет свою философию деконструкцией или деструкцией[9]. Он занимался деструкцией метафизики наличия, которая утверждает, что некоторые вещи реальнее других, причем реальнее они потому, что постоянно наличны.
Норма для одних, катастрофа для других
Подобная нормализация не противоречит истине — такое бывает, и, возможно, она имеет какое-то отношение ко сну в каком-то определенном месте. Но в том ли дело, что существование вещей в качестве подручных, zuhanden, и есть нормальное положение вещей? Объектно-ориентированная онтология доказывает, что подручность вещей — всего лишь верхушка чего-то намного более глубокого и странного. Существует некое мистичное расхождение между подручностью и наличием. Разные вещи случаются, и мы не обращаем на них особого внимания (подручность), однако иногда те же самые вещи кажутся непривычными, когда ломаются (наличие). Причина в том, что сами по себе вещи совершенно и всецело неуловимы — то есть они, как говорится, несводимы. Ничто не может получить полный доступ к вещам, включая и сами эти вещи. Вы можете щелкнуть выключателем, лизнуть его, проигнорировать его, подумать о нем, расплавить его, разогнать его протоны в ускорителе частиц, написать о нем стихотворение, медитировать о нем до тех пор, пока не станете Буддой. Но всё это не сможет исчерпать реальность выключателя. Выключатель и сам может стать разумным, обрести дар речи и отправиться на ток-шоу. Но сказанное им на ток-шоу будет не собственно выключателем, а только его автобиографией. «Да, я попал в руки этому парню-философу, у него был синдром смены часовых поясов, и это было и правда странно… Рождение мое было трудным».
Даже выключатель, попади он на шоу Опры Уинфри, мог бы сказать нечто вроде того, что Дэвид Бирн поет в своей песне «Once in a Lifetime»: «Это не мой прекрасный дом…»[10] Причина в том, что вещи таинственны в радикальном, совершенно неизбывном смысле слова. Английское слово «таинственный» («mysterious») происходит от греческого «muein», то есть «не размыкать уст». Вещи неизречимы. Вы обнаруживаете подобный аспект вещей, если каким-то образом чувствуете эту не-ощутимость, например в опыте красоты, или, как говорит Китс, ощущаете ощущение того, что не ощущаешь[11]. Так что неуверенное, пробное сослагательное наклонение — «и могло бы так статься, что вы живете» — не просто временный сбой: это определенно феномен, который встречается не только у одушевленных существ, не говоря уж о сознательных или тем более людях. Он в каком-то смысле повсюду, поскольку бытие — не наличие.
Кант показал, что есть разница между реальным и реальностью. В некотором роде она подобна различию между нотной записью — кучей точек и линий на странице — и «реализацией» нот, создаваемой музыкантом и публикой, пришедшей на концерт. Реальность, если угодно, — ощущение того, что нечто реально: музыка есть то, что она есть; например, есть скрипичная соната Баха, и она отличается от какой-нибудь электронной танцевальной музыки, однако она на самом деле не «существует», пока вы не сыграете ее или не услышите.
Кант предполагает, что таким «реализатором» является «трансцендентальный субъект», то есть довольно абстрактная универсальная сущность, которая отличается от меня, маленького человека, но при этом, судя по всему, тащится за мной, как невидимый воздушный шарик, «полагая» вещи в качестве больших и малых, быстрых или медленных (и шарик довольно скучный, поскольку отвечает лишь за протяженность в пространстве и времени). После Канта был выдвинут ряд других кандидатов на роль «реализатора». Гегель доказывает, что им является то, что он называет Духом, то есть величественная поступь самой истории западного человечества. Маркс утверждает, что это экономические отношения между людьми: конечно, картофель существует, однако он на самом деле не существует, пока я не накопал картошки и не сделал из нее чипсы. Ницше заявляет, что это «воля к власти»: вещи реальны, ведь вы говорите, что они реальны, а поскольку у вас в руках ружье, я спорить не собираюсь.
Тогда как Хайдеггер утверждает, что речь идет о таинственной сущности под названием Dasein. По-немецки слово означает «бытие здесь», и это значение специально сделано довольно смутным. Хайдеггер полагает, что более специфические вещи (такие, как «субъект» Канта, само понятие человека или же «экономических отношений») представляют собой «модусы» Dasein, что-то вроде ключей, отмечаемых на нотной записи. Древняя Месопотамия — это Dasein в тональности агрокультурной «цивилизации», тогда как аборигены — это Dasein в тональности палеолитических охотников и собирателей. Люди не «обладают» Dasein, поскольку Dasein производит или реализует человека, точно так же как скрипач реализует сонату Баха. И хотя ничто не указывает на то, что Dasein может быть только человеческим, именно это опрометчиво утверждает Хайдеггер. Dasein не вполне здесь, он непостоянен, подобно мерцающему свету фонарика. Однако, по Хайдеггеру, он бывает только человеческим, и немецкий мерцающий фонарик намного аутентичнее других видов такого фонарика. Разумеется, это не имеет никакого смысла, причем в категориях самого же Хайдеггера. Именно это доказывает ООО. Денацификация Хайдеггера не означает, что его надо игнорировать или обходить стороной. Она на самом деле означает, что надо быть бо´льшим хайдеггерианцем, чем сам Хайдеггер.
Так что, если ощущение истины красоты и говорит вам нечто истинное о чем угодно, — а что угодно в ООО как раз и называется объектом, причем объекты такого рода строго отличаются от объективированных вещей, поскольку они таинственны по самой своей сущности, — ощущение истины говорит именно то, что вещи открыты. Также опыт красоты говорит вам, что эта вещь, вещь, которую я вижу прямо здесь, неуловима. Она вполне жива, однако я не могу прибрать ее к рукам… Не могу держать ее в узде. Примерно то же самое говорит зеркало заднего вида в американских машинах, на самой границе поля зрения: ПРЕДМЕТЫ В ЗЕРКАЛЕ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ. Или возьмем объекты на полке художника Хаима Стейнбаха. Они по самой своей сущности чудные, с придурью, они не на месте, и эта не-уместность вещей не просто функция поломки или сбоя вещей, их становления vorhanden. То, что вы испытываете при синдроме смены часовых поясов или глядя на инсталляцию Хаима Стейнбаха, связано именно с тем, как, собственно, существуют вещи.
Всё это сводится к тому, что нормализация вещей как раз и является искажением. Искажением искажения. Быть в определенном месте, существовать в какой-то эпохе, например эпохе массового вымирания, — само по себе жутко. Мы не обращали особого внимания, и дефицит внимания сохранялся примерно двенадцать тысяч лет, с начала агрокультуры, которая со временем потребовала промышленных процессов, а потому и ископаемых видов топлива, а значит, и глобального потепления с массовым вымиранием.
Любовь, не эффективность
Реструктурация или деструкция логистики мира, выросшего из агрокультуры, которую в другом тексте я называю агрологистикой, — одна из вещей, которые могли бы покончить с глобальным потеплением, однако обычно считается, что это не вариант, поскольку бы отсюда следовало, что надо смириться с не-«модерным» взглядом[12]. Агрологистика — это логистика господствующего способа агрокультуры, который появился в Месопотамии и некоторых других частях света (в Африке, Азии и обеих Америках) примерно за десять тысяч лет до нашей эры. Агрологистика по своей внутренней логике связана с выживанием: людям неолита нужно было пережить (мягкое) глобальное потепление, поэтому они осели в виде устойчивых сообществ, ставших потом городами, чтобы хранить зерно и планировать будущее. Они начали проводить различия между сферами человеческого и нечеловеческого, то есть тем, чему пристало находиться внутри городской черты, и тем, что существует за границей поселения, причем эти различия сохранились и по сей день. Также они провели различия в своей собственной среде (отсюда кастовая система). В самом скором времени после запуска агрологистической программы появились те феномены, которые мы связываем с жизнью как таковой, особенно патриархат и социальная стратификация, а также разные типы классовых систем. Важно помнить о том, что всё это исторические конструкты, следствия того, что кочевники и охотники-собиратели осели и построили города, основанные на определенной форме режима выживания.
Современный взгляд был основан на монотеизмах, которые сегодня выглядят ветхими и откровенно кровавыми (хотя сам этот современный взгляд числит себя последней стадией расколдовывания, освобождающей от монотеизма), причем их собственный корень — в приватизации заколдовывания во времена неолита и его «цивилизации».
Экологическое сознание — это сознание непреднамеренных последствий. Одно из направлений экологической политики стремится осветить вообще все вещи в мире, используя ровный немигающий свет, чтобы никаких непреднамеренных последствий не осталось. Но это невозможно, поскольку вещи таинственны по самому своему существу. Такая экологическая политика привела бы к чудовищной ситуации, «обществу контроля», если вспомнить тут удачный термин, придуманный философом Жилем Делёзом для описания нашего современного мира. В экологическом обществе контроля сегодняшняя ситуация, когда детей каждые пять секунд проверяют на то, способны ли они походить на довольно медленное вычислительное устройство, показалась бы пикником анархистов. Еще больше предсказуемости, еще больше эффективности. Если грядущее экологическое общество будет выглядеть так, я на самом деле не хочу в нем жить. На самом деле оно даже не было бы экологическим. Это был бы тот же самый мир, но в версии 9.0.
Следовательно, грядущее экологическое общество должно быть немного бардачным, разбитным, расслабленным, чудаковатым, ироничным, глупым и грустным. Да, грустным — в том смысле, который имеет в виду героиня британского научного-фантастического сериала «Доктор Кто»: грусть — это счастье глубоких людей[13]. Красота в этом смысле тоже грустна. Грусть означает, что есть что-то, чем вы не можете вполне овладеть. Не можете схватить. Вы не понимаете, кто на самом деле ваш бойфренд. Моя замечательная жена — не до конца моя. А это, в свою очередь, значит, что красота тоже неуловима, красота как таковая, так что красота должна быть окаймлена чем-то слегка отвратительным, чем-то, что нормативные теории эстетики всегда пытаются устранить. Должно быть двусмысленное пространство между искусством и китчем, красотой и отвращением. Неустойчивый мир, мир любви, philos. Мир соблазна и отвращения, а не авторитета. Более-менее истины, а не твердой истины и твердой лжи. Истина — это своего рода более-менее истина в разрешении 1000 dpi. Это не то же самое, что сказать, будто всё — ложь. Такое утверждение пытается не быть более-менее истинным, и именно поэтому оно в конечном счете противоречит самому себе. Если всё — ложь, тогда и высказывание «всё — ложь» тоже должно быть ложью, и так далее…
Искусство, которое говорит о своих субстанциях
В общем, мы здесь говорим не о традиционном понятии постмодерна. В определенном смысле постмодернистское искусство — и я отнес бы к этой категории и песню «Once in a Lifetime» группы Talking Heads — на самом деле является началом экологического искусства, то есть искусства, которое включает в саму свою форму собственную среду (или среды). Конечно, всякое искусство экологично, так же как всякое искусство говорит тем или иным образом о расе, классе и гендере, даже если и не открыто. Однако экологическое искусство откровеннее. Возможно, на уровне самосознания постмодернизм знал об этом не всё время, однако амбиентная открытость и странная искаженность многих его форм говорят о Земле, из которой они в конечном счете сделаны. Происходит что-то реальное. Крайняя постмодернистская позиция утверждает, что ничто не существует, поскольку всё есть конструкт. Эта идея, ныне известная под именем корреляционизма, оставалась популярной в западной философии на протяжении примерно двух столетий. Мы недавно имели с ней дело, когда обсуждали различные типы «реализатора». И опять же, идея в том, что вещи сами по себе не существуют, пока они не «реализованы», — примерно в том смысле, в каком дирижер «интерпретирует» музыкальное произведение, а продюсер «реализует» сценарий в виде фильма.
Но с данной идеей случилась одна забавная штука. Чтобы реальность была корреляционистской, должен быть как коррелят, так и коррелятор: должна быть скрипичная соната, а не только скрипач. Перед нами словно два ползунка на микшерском пульте. Со временем ползунок коррелятора был выведен на максимум, тогда как ползунок коррелята опустили до минимума. И это привело к довольно-таки скучной (и как нельзя более антропоцентричной) идее о том, что мир есть в точности то, что из него делают люди, поскольку коррелят сведен к минимуму настолько, что звук такой, будто это не дуэт, а просто соло коррелятора.
Родословная корреляционизма начинается с Канта, который, как мы отметили, стабилизировал взрывоопасную идею о том, что причинность невозможно увидеть напрямую, что она может выводиться исключительно статистически, — это была идея, которой Дэвид Юм взорвал домодерные теории о причине и следствии. Кант стабилизировал взрыв, сказав, что, хотя нельзя увидеть, к каким результатам причинность приведет в будущем, она может полагаться крепким задним умом, коррелятором в его ретроспективном взгляде. И опять же, по Канту, коррелятор — это то, что он называет трансцедентальным субъектом, а после Канта было предложено несколько альтернативных вариантов такого коррелятора, о которых я уже говорил, в частности дух истории (Гегель), экономические отношения между людьми (Маркс), воля к власти (Ницше), либидинальные процессы (Фрейд), Dasein (Хайдеггер).
Корреляционизм не врет: вы не можете схватить вещи в себе, факты отличаются от данных, а данные — от вещей. Но отсюда не следует, что тот, кому приходится решать, что реально, — коррелятор, решатель — реальнее всех этих вещей, и неважно, кто он: кантианский субъект, гегелевская история, марксистские отношения человеческого производства, ницшеанская воля к власти или мерцающий огонек хайдеггеровского Dasein’а. Так что, хотя «традиционный» постмодернизм, заданный Кантом, всё еще опирается на подобный корреляционизм, я здесь говорю об идее, подкрепляющей ООО, а именно о том, что само это отношение, возможно, не существует в той форме, в какой мы его себе представляем. Возможно, оно вообще не существует.
Темная экология
Вещи открыты. Открыты также и в смысле потенциала: вещи случаются в мире ООО, поскольку вещи не полностью подстроены под человеческий огонек, не полностью сплетены друг с другом, так как в противном случае в мире не могло бы ничего произойти, в нем была бы только полностью собранная мозаика, которую вы никогда не смогли бы расцепить или разобрать. То, что происходит в одном конкретном месте (скажем, на тротуар падает перо), означает, что меняется весь универсум в целом, во всех остальных местах. Вещи связаны, но, так сказать, в сослагательном наклонении. Есть место для того, чтобы случались всякие вещи. Или, как говорит композитор-анархист Джон Кейдж: «Мир кишит возможностями. Случиться может что угодно»[14].
Таким образом, чувство странности, возникающее у нас при встрече с тем фактом, что мы отвечаем за событие массового вымирания, является внутренне присущей этому событию характеристикой, избавляться от которой не следует. Не круто орать в лицо людям, что из-за них вымирают разные формы жизни, поскольку тем самым устраняется странность. И точно так же не круто говорить прямо обратное: «Какая разница? Всё так или иначе вымирает», как зачастую говорят некоторые правые, а также сторонники некоторых вариантов мнимоэкологического подхода в его крайних формах, например экологический мыслитель Пол Кингснорт с его проектом «Темная гора», поскольку последний тоже представляет собой попытку устранить странность. Такая разновидность мрачной уверенности упускает то, как, собственно, существуют вещи.
Мой подход к экологическому мышлению может быть описан как «темная экология» — так я ее называю. Темная экология не означает полного отсутствия света. Скорее это как Норвегия зимой или даже летом, поскольку свет в Арктике показывает в самом себе нечто ненадежное и уклончивое: длинные летние тени, ночь, которая в Хельсинки длится в июне по пятнадцать минут, тусклость. Свет как таковой не присутствует непосредственно, вы не можете ткнуть в него и не можете полностью его просветить: кто просветит просветителя? Свет — он существует просветами и сгустками, если следовать квантовой теории. И он, как утверждает теория относительности, не может достичь всех мест сразу.
Всё это похоже на процесс смерти в описании тибетского буддизма. Когда вы умираете, вы видите свет, но, в отличие от описаний в некоторых других религиях, свет не очевиден, и он не в конце туннеля, вы не идете к нему, и это не конец. На самом деле вы можете вообще его не заметить. Это своего рода вспышка, мигание, совершенно побочное и произвольное, и, если вы отказываетесь от подобного опыта природы сознания, вы перерождаетесь. В традиционной литературе указывается, что вспышка длится около трех секунд, или, как утверждается в некоторых учебниках по эзотерике, столько времени, сколько требуется, чтобы трижды просунуть руку в рукав. Вы не отказываетесь от какого-то вечно сущего логоса и не впадаете в неопределенность и смешение. Наоборот, вы отказываетесь от чудесного в своей неопределенности смешения и впадаете в фатальную уверенность.
В тибетском буддизме время между одной жизнью и следующей называется «бардо», то есть «между». В этом состоянии на поверхность сознания выходят всевозможные навязчивые образы, основанные на прошлых действиях (карма). Мы ощущаем, что теперь вещи другие, что мы, если говорить об экологическом сознании, попали в бардоподобное переходное пространство. Но на самом деле мы замечаем, что вещи просто не стоят на месте, не остаются одними и теми же. Если попытаться преодолеть бардоподобность, формам жизни, мышлению и опыту будет нанесен вред. За навязыванием тонкого, но жесткого различия между людьми и нелюдьми́ стоит, например, тот же импульс, что движет расизмом. Насилие уже свершилось — в форме поношения и дегуманизации некоторых людей. Мы, люди, содержим в себе нечеловеческих симбионтов, которые составляют часть того модуса, который позволяет нам быть людьми, ведь без них мы бы не прожили. Мы не являемся людьми всецело, вдоль и поперек. Мы сосуществуем со всеми остальными формами жизни в неопределенном пространстве между жесткими категориями.
Если экологическое действие означает, что надо причинять меньше вреда, а не повышать эффективность, значит, не столь уж экологично настаивать, раздавать подзатыльники или же применять другие подобные методы доставки данных, ныне считающиеся экологическими. Действия подобного рода пытаются разбудить нас от бардоподобного сна, однако сходство со сном и есть самое реальное в экологической реальности, так что, в сущности, режим информационного навала делает экологический опыт, экологическую политику и экологическую философию абсолютно невозможными.
Как думать о группах
Массовое вымирание запустили люди, но я, маленький Тим Мортон, и вы, такой же маленький, — мы ничего не делали. Повторим еще раз: ничто из того, что вы сделали, когда, например, заводили двигатель, не могло оказать статистически значимого воздействия. Однако миллиарды заведенных автомобилей, миллиарды кусков угля, обращенных в пламя, — всё это в сумме произвело эффект. Существует жутковатый разрыв между маленьким мной и мной как представителем того, что называют видом. Нужно недвусмысленно заявить, что глобальное потепление вызвали люди как вид, а не осьминоги. Однако вид — это как раз то, во что нельзя ткнуть пальцем. Получается, что я одновременно и человек, и не человек, поскольку я и внес вклад во всемирное потепление, и не внес — в зависимости от того, в каком масштабе меня мыслить, причем между этими масштабами нет гладкой точки перехода, которая бы отделяла существование в качестве одного человека от существования в качестве части совокупной популяции людей: мы совершенно неожиданно предстаем то в одном масштабе, то в другом. Таков еще один парадокс. Он кажется абсурдом. Правда ли, что семь миллиардов (сегодняшняя численность населения) — это просто один человек, умноженный на семь миллиардов? В плане вычисления существует совершенно гладкий переход между единицей и семью миллиардами. Но всё же между ними сохраняется какой-то мистический разрыв.
Если вы мыслите метафизически, вы можете применить к глобальному потеплению логику сорита. Парадокс сорита — это логический парадокс, связанный с кучами. Он касается того, что кучи — понятие неопределенное, то есть неясно, когда собрание тех или иных вещей становится кучей. Если забрать из кучи камней один-единственный камень, перестанет ли куча быть кучей? А если забрать десять камней? Когда начинается куча и когда она заканчивается? Головоломка указывает на значительную неопределенность, а некоторые философы не любят неопределенности, так что они вообще не верят, что кучи существуют. Проблема в том, что такие экологические вещи, как популяции (например, популяции людей) и экосистемы, хорошо описываются именно как кучи. Так что лучше разрешить кучам существовать, если мы собираемся быть экологичными, ведь заниматься глобальным потеплением и массовым вымиранием можно только в массовом, коллективном масштабе.
Если задуматься, глобальное потепление — это куча действий. Давайте проанализируем его, используя логику, вытекающую из парадокса сорита. Одно включение автомобильного двигателя не вызывает глобального потепления. Два? Тоже нет. Три? Нет. Вы можете дойти так до миллиарда, и всё равно будет работать та же самая логика. Так что глобального потепления не существует. Или — барабанная дробь — ваша логика отстой. Почему? Она отстой, поскольку не учитывает вещей, которые находятся между истинным и ложным, белым и черным. Такие экологические сущности, как формы жизни или глобальное потепление, требуют модальной и параконсистентной логик. Такие логики в какой-то мере допускают двусмысленность и гибкость. Высказывания могут быть вроде как истинными, слегка ложными, почти правильными.
Хайдеггер утверждает, что «истинное» и «ложное» различены не так жестко, как можно подумать. Вы не можете устранить более-менее истинность, не создав, как я уже говорил, проблем, поскольку «истина» относится к вещам, которыми занимается Dasein, тогда как сам Dasein является таинственным и ненадежным. Так что мы всегда в истине, поскольку Dasein — это истина, которую мы всё еще пытаемся найти за пределами Dasein. Мы всегда уже успели увязнуть в гуще заранее заготовленных понятий, которые не всегда легко применимы, поскольку вещи отличаются неопределенностью и уклончивостью. Возможно, именно поэтому социальные сети могут показаться настолько жестокими: например, в Twitter каждый отстаивает свою правоту, пытаясь уложиться в сто сорок символов. Тревоги по поводу «фейковых новостей» возникают лишь потому, что в определенном смысле все новости являются «фейковыми». Каждый пытается ограничить или устранить более-менее истинность. Но если вещи открыты, тогда они не полное ничто и в то же время не постоянное наличие, они не сводимы к другим вещам в качестве их частей или же способа доступа, такого как дискурс, экономические отношения или Dasein. Если вещи открыты, они с начала и до конца более-менее истинны. А отсюда на самом деле следует, что вы не можете говорить о них что угодно. Вы не можете сказать, что осьминог — это тостер, или что никакого глобального потепления нет, или что оно не было вызвано людьми, и причина именно в том, что вещи открыты и более-менее истинны. Вещи — в точности то, что они есть, но они не сводятся к своему способу явления, хотя их явление неотделимо от бытия, так что вещи — это скрученная петля вроде ленты Мёбиуса, в которой скручивание присутствует в каждой точке, без начала и конца. Явление — это внутреннее скручивание бытия.
Агрокультурный человек — то есть мы, — понимающий, что он находится в скрученном историческом, этическом или философском пространстве, испытывает то, что называют трагедией, которая представляет собой характерный для агрокультурной эпохи способ подсчета ущерба, нанесенного агрокультурной эпохой. Я угодил в скрученную петлю, в которой моя попытка избежать паутины судьбы привела к еще большему ее запутыванию. Трагедия предполагает, что подобное закольцовывание — зло, и несмотря на то, что вы, как вы сами выяснили, не можете избежать судьбы, особенно когда пытаетесь это сделать, есть всё же отчаянная надежда, что в конце или в каком-то лучшем горнем мире, который для вас недостижим, мы могли бы раз и навсегда ускользнуть от уз, — отсюда религиозный, в конечном счете, горизонт трагедии, в которой, к примеру, хор говорит, что здесь нет ничего, что не было бы Зевсом (в трагедии «Геракл» древнегреческого драматурга Еврипида).
Трагедия — это на самом деле малая область пространства комедии, скрученного в каждой своей точке. Прямо сейчас экологическое сознание представляет себя трагедией. Но рано или поздно мы начнем улыбаться, и, возможно, только тогда мы сможем по-настоящему заплакать. Поскольку нет никакого другого мира, в котором вещи были бы абсолютно прямыми, а не кривыми, забавно наблюдать, как мы, то есть человечество как вид, ведем себя так, словно бы иной мир существовал, и то и дело поскальзываемся, запутываясь в паутине судьбы, подобно герою слэпстика, чья попытка попасть из пункта А в пункт Б проваливается из-за того, как именно он пытается попасть из пункта А в пункт Б. Вот почему искусство, которое нейтрализует попадание из пункта А в пункт Б, разрушая иллюзию гладкого функционирования и показывая призрачную открытость вещей, оказывается в конечном счете радостным и забавным, хотя нам, чтобы дойти до него, нужно пересечь царство изысканной боли, уважая его и не пытаясь сровнять с землей. Мы и правда делаем Землю непригодной для нас самих, как и для других форм жизни. Я не предлагаю просто расслабиться и посмеяться над этим.
На самом деле речь идет о многих царствах. Царствах чувства истины. В экологическом плане траектория, скорее всего, будет вести нас от вины к стыду, от стыда к отвращению, а потом и к ужасу; с ужаса начинается смехотворность, которая умирает в меланхолии, чьей бодрящей субстанцией является грусть; грусть, в свою очередь, обусловлена страстным желанием, предполагающим радость[15]. В настоящий момент способ нашего разговора с самими собой об экологии застрял в режиме ужаса, то есть отвращения, стыда и вины. Со временем всё становится настолько ужасным, что кто-нибудь не выдерживает: «Да ты, наверно, шутишь!» — как герой в фильме Джона Карпентера «Нечто», увидевший последнюю мутацию феминизированного монстра симуляции. Раздается абсурдный, неуместный смех[16]. Мы еще до этого не дошли, но уже почти, и потому-то по-настоящему прогрессивное экологическое искусство, например произведения американского художника Марины Зурков, играет с сардоническим вариантом эко-юмора. Мы постепенно начинаем верить в такую тактику — не просыпаться от кошмара, а позволить себе провалиться в него еще больше, выйдя за пределы ужаса. Пространство, лежащее под смехотворным, — это меланхолическая область, где вещи становятся не такими ужасными и в то же время более неопределенными, где парят всевозможные фантастические создания, подобно русалкам, резвящимся среди водорослей и подводных лодок. Там постепенно открывается царство невыразимой нечеловеческой красоты, не связанной нормативными антропоцентрическими параметрами.
То же самое можно сказать иначе: мы начинаем верить в то, что попали в катастрофу, которая буквально означает пространство нисходящего вращения. Намного лучше думать, что вы попали в катастрофу, чем в бедствие. У бедствия нет свидетелей. Бедствия — то, что вы наблюдаете извне. Катастрофы же увлекают вас, так что вы можете что-то с ними сделать.
Подумайте об этом. Вся фантазия о «мире без нас» с подобной точки зрения весьма подозрительна. В последние два десятилетия философы, телепродюсеры и художники заинтересовались изображением Земли без человечества. Я не знаю точно, когда именно всё началось, но вполне уверен в общей причине: средства информации постепенно настраиваются на глобальное потепление и массовое вымирание. Парадокс в том, что, когда вы представляете себе будущее, когда люди уже вымерли, вы сами-то есть, иначе кто бы его воображал? Это всё возбуждение «по доверенности», как у зеваки, глазеющего на автокатастрофу, то есть оно может стать не менее мерзким и опасным. В реальном мире, учитывая, насколько тесно мы связаны со всеми системами Земли, если мы вымрем, очень многие формы жизни также вымрут или окажутся на грани вымирания. Борьба с антропоцентризмом не означает, что мы ненавидим людей и хотим вымереть. Она означает, что надо понять, как люди включены в биосферу на правах одного из множества существ.
Тем самым мы подходим к глубокой философской мысли о том, что мы просто не можем находиться снаружи и смотреть внутрь. Ученые называют данный факт «склонностью к подтверждению», а философы — «герменевтическим кругом» или «феноменологическим стилем». Таких вещей нельзя избежать. То, как я интерпретирую данные, всегда зависит от того, что я собираюсь найти. То, как я вижу самого себя, зависит от того, что я за человек. Способ моей интерпретации вещей переплетен с заранее заготовленными понятиями о том, что значит интерпретировать. Это позволяет понять одну странную вещь, а именно то, что жить в эпоху науки не значит жить в холодном мире объективности. Напротив, теперь вам понятно, что вы не можете достичь второй космической скорости, которая бы позволила оторваться от своего феноменологического стиля, погруженности в интерпретацию данных или склонности к подтверждению (это просто три разных способа сказать одно и то же). Мы не можем их отбросить.
Довольно забавно, что жизнь в эпоху науки означает, что мы перестали верить в авторитетную истину. Истина такого рода скорее уж средневековая, она всегда подкреплялась угрозой насилия, поскольку ее невозможно доказать: в нее надо просто верить. Тогда как наша современная эпоха — это пространство более-менее истины. Наука подразумевает, что мы всё еще можем ошибаться, ведь может статься так, что мы придерживаемся кучи странных предпосылок, которые не имеют никакого смысла, но это лучше, чем твердо верить в свою правоту, поскольку папа римский приказал нам во что-то верить.
Массовое вымирание — вещь крайне страшная, непонятная и ужасная, а сегодня оно еще и невидимо. Мы просто не понимаем, с чего начать, если не считать того, что можно игнорировать его или же возбуждать самих себя разрядами электричества, пытаясь не забывать о нем. Одно из недавних массовых вымираний, пермское вымирание, было также связано с глобальным потеплением. Оно произошло примерно двести пятьдесят два миллиона лет назад, и тогда виновниками были растения. В отличие от растений, мы можем принять решение не выбрасывать чрезмерного количества углекислоты в атмосферу, так что на этот раз результат не неизбежен.
Когда я говорю о «недавнем», я опять же намекаю на то, что было только пять предшествующих массовых вымираний за всю четырехмиллиардную историю жизни на планете. Сам этот факт, факт глубинного времени, совершенно дезориентирует. Он вызвал крайнее недоумение в начале XIX века, когда геологи начали о нем догадываться, и точно так же обескураживает он нас и сегодня. Мы привыкли говорить себе, что бедные викторианцы расстроились, поскольку он подорвал их веру в Бога. Но во что именно была подорвана наша сегодняшняя вера?
Экология без Природы
Экологическое сознание подрывает нашу веру в антропоцентрическую идею, согласно которой есть одно мерило для всех остальных, один масштаб, и не какой-нибудь, а именно человеческий. Ницше в XIX веке объявил о смерти Бога, и многие думают, что в результате люди оказались перед лицом бессмысленного существования. Но это не так, на самом деле всё наоборот. Смерть Бога открывает не какую-то заброшенную пустошь безнадежности, а пугающие джунгли, кишащие самыми разными тварями — в буквальном смысле. Это тысячи одинаково законных пространственно-временных масштабов, которые вдруг стали для людей доступными и значимыми. Мы настолько привыкли жить и мыслить на очень ограниченном промежутке временных шкал, что студенты, обучающиеся на геологов, говорят, что поначалу им приходится акклиматизироваться к намного большим периодам времени.
Сегодня нам известно, что экологическое сознание означает этическое и политическое мышление и действие во множестве масштабов, а не в одном-единственном. Но отсюда не следует, что оно будет чем-то вроде упоения властью, чувства, которое возникает, когда играешь с инструментами масштабирования в интернете, позволяющими плавно переходить от планковской длины (то есть наименьшей длины, которая ныне поддается измерению) к масштабу Вселенной в целом. Не будет оно похоже и на картинки с этими строгими, но всё же воодушевляющими циферблатами, на которых человек появляется только в последнюю секунду перед полуночью, или же на научные диаграммы, на которых человеку отводится скромное место в нижнем правом углу. Масштаб всех таких репрезентаций остается гладким и связным — это своего рода выхолощенная и сильно увеличенная версия старого доброго антропоцентрического масштаба, но теперь мы занимаем привилегированную, почти божественную позицию всеприсутствия за пределами универсума, где любой масштаб можно получить одним нажатием кнопки. Но всё будет не так. Подобные вещи смешивают время с измерением времени, а измерение времени — с немногими способами измерения, теми, что удобны человеку. Дело не только в том, что, как сказано у Экклезиаста, всему свое время («…время насаждать, и время вырывать…»), но и в том, что у травы, у горилл и гигантских черных дыр — у всего есть свое время, собственная темпоральность.
Психологические исследования показали, что мы хорошо пересказываем хорошо выстроенную цепочку геологических событий: Земля возникает из газопылевого облака, появляются микробы, за ними следуют грибы, рыбы, бабочки, приматы… Но мало кто из нас способен представить истинные длительности геологического времени, если только он не получил специального образования. Тогда как сегодня нам особенно важна именно способность понимать длительности, ведь следствия глобального потепления могут ощущаться и через сто тысяч лет. Что это, собственно, значит? У нас в голове обычно есть только две смутные категории времени: древнее и недавнее. Мы используем их в качестве шаблона для концептуализации того, что называем «доисторическим» (все люди, нелюди и всё, что с ними связано, что существовало до стадии «цивилизации»). Было бы лучше и логичнее, да и веры для этого потребовалось бы меньше, если бы мы видели во всем — и даже в сегодняшнем моменте — историю и не считали ее чем-то исключительно человеческим.
Я думаю, что у нас больше общего с викторианцами, чем мы сами порой готовы признать. В самом деле, внезапное появление на наших радарах того, что я называю «гиперобъектами», наделяет современную чувствительность как нельзя более викторианскими чертами. Мэри Эннинг нашла скелет динозавра в английской скалистой породе, и тут-то и открылась бездна времени. Были открыты обширные распределенные процессы эволюции. Позже в XIX веке была открыта гигантская метеорологическая система Тихого океана Эль-Ниньо. Маркс отследил невидимые деяния капитализма. Фрейд открыл бессознательное. И вот мы снова замерли в изумлении перед гигантскими сущностями, распределенными во времени и пространстве — распределенными настолько сильно, что в каждый момент мы можем указать лишь на их тоненькие срезы. Наша вера, как выяснилось, снова пошатнулась, но сегодня ситуация понятней: дело не в исчезновении бога агрокультурной эпохи. Всё намного хуже. Дело в оборотной стороне, бессознательном, непреднамеренных последствиях нашей веры в прогресс, которая намного старше богов агрокультурной эпохи, — ведь, по сути, она была условием их возможности. Сегодня свой облик являет нам социальная, философская и психическая логистика, которой двенадцать тысяч пятьсот лет, и этот облик катастрофичен.
На протяжении большей части всего этого времени такие логистики назывались Природой. Природа — просто-напросто агрокультурная логистика в замедленной съемке, миленькая пристройка к антропоцену, мягкий склон поднимающихся американских горок, в которых вы даже не подозревали американские горки. Агрокультурная эпоха совпала с голоценом (современный геологический период, начавшийся более десяти тысяч лет назад с отступления ледников), который оказался поразительно стабильным и цикличным на уровне таких систем Земли, как циклы азота и углерода. Вопрос спорный, но некоторые геологи полагают, что периодичность, мягкая цикличность голоцена была на самом деле следствием работы определенного агрокультурного режима. Данный режим сложился в Месопотамии и в других странах в начале голоцена. Если агрокультура действительно способствовала стабилизации систем Земли, это дезориентирует даже еще больше, как если бы перед самым началом приступа эпилепсии мозговые волны вдруг приобретали удивительно красивый и регулярный вид. То же самое происходит перед землетрясением, когда такая же картина наблюдается в динамике тектонических плит. С этой точки зрения то, что называется Природой, то есть гладкая цикличность, прекрасно запечатленная в феодальных символических системах, является самим антропоценом в его менее очевидном модусе. Потом возникает гигантский скачок в данных по системам Земли, который мы видим в фильме бывшего вице-президента США Эла Гора «Неудобная правда», скачок, который приходится где-то на 1945 год, что является признаком огромных выбросов углекислоты[17]. Всё пошло в разнос.
Внутренняя логика гладко работающей системы — до того момента, пока она не перестанет работать гладко, то есть до настоящего момента, — заключается в логических аксиомах, которые связаны с выживанием в каком угодно качестве. То есть с существованием, но неважно каким. Существованием, которое не обращает внимания ни на какие качества существования, то есть с человеческим существованием, которое есть, и к черту все остальные формы жизни, которые не стали нашим скотом (от термина «cattle» («скот») происходит наш термин «chattels» («личное имущество»), к которому во многих патриархальных обществах причислялись и женщины, и тот же самый корень в слове «капитал»). Существование превыше и по ту сторону качеств. Превосходство существования представляет собой базовую онтологию, базовый утилитаризм, и еще до того, как философия приступила к его формализации, оно уже было встроено в социальное пространство, которое сегодня охватило собой почти всю поверхность Земли.
Вы можете видеть его на гигантских полях, где крутятся автоматические сельскохозяйственные аппараты, демонстрируя собственную эффективность. Вы можете почувствовать его в аналогах этих полей, таких как гигантские бессмысленные лужайки, просторные паркинги, чрезмерные порции еды. Его можно заметить и в общем ощущении окоченения или шока как реакции на факт массового вымирания. Какое-то время назад люди порвали свои социальные, философские и психические связи с нелюдьми́. В каждом из аспектов нашего существования — в социальном и психическом пространстве, в пространстве философии — мы уперлись в голую стену.
Мы начинаем понимать, что мы где-то, в каком-то месте, и это жутко. Мы не нигде. И могло бы статься так, что вы живете в эпоху массового вымирания. Я всячески стремлюсь к тому, чтобы мы задержались в странной открытости жутковатого осознания того, что пространство было лишь удобным антропоцентрическим конструктом западного человека, позволяющим проложить путь вокруг Африки, выйти к Островам Пряностей и т. д. Поскольку странным образом это чувство открытости, это жутковатое ощущение того, что оказался где-то, хотя и не можешь выяснить где, как раз и является первым проблеском жизни в менее определенном стиле, в мире, который состоит почти что целиком не из нас.
Что мы тогда можем сказать об этом мире? Как о нем говорить? Что значит факт экологической взаимосвязанности? Это мы выясним в следующей главе.
Глава 2. …И кость ноги связана с костью свалки токсичных отходов[18]
«Всё со всем связано». Таких фраз полно в разговорах или книгах об экологии. Но что именно они значат? Кажется, что они совершенно понятны, но на самом деле в них много очень странного. Когда мы занимаемся экологией, выясняется, что вещи связаны друг с другом даже больше, чем можно было предположить. И странностей всё прибывает и прибывает, когда мы начинаем сживаться с этой более глубокой связанностью.
Например, нередко можно услышать о некоей «тонкой паутине жизни». Услышав что-то такое, например в документальном фильме, мы серьезно киваем головой и говорим про себя: «Да, да, знаю, тонкая паутина жизни. Разумеется». Это похоже на то, как в церкви слушаешь проповедь, которую не вполне понимаешь, но всё равно чувствуешь, что надо кивать, поскольку все так делают. Можно услышать и такое: «Весь мир у него в руках» (в гимне[19]) или «Я хотел бы купить миру колу» (в рекламе). А еще можно вспомнить о знаменитой фотографии «Синий марбл» («The Blue Marble»), сделанной НАСА, — фотографии восхода Земли.
Все эти формы опыта являются эстетическими. Они связаны с тем, как вещи выглядят или чувствуются. Они ни истинны, ни ложны. То есть когда мы визуализируем подобные вещи, мы не знаем, о чем говорим. Но думаем, что знаем. Следовательно, все эти хорошо известные образы Земли должны структурироваться множеством непроверенных и неисследованных идей и убеждений. Например, мы говорим себе, что все эти фотографии в стиле «синего марбла» показывают нам мир в виде некоего драгоценного целого, включающего и нас как незначительный фрагмент. Но что на самом деле представляет собой это целое? И действительно ли мы являемся его частью, а если да, то в каком именно смысле? Если вы подумали, что всё это кажется слегка религиозным, вы правы. У значительной части экологического мышления есть религиозный оттенок, поскольку оно включает очень глубокие и трудно выразимые (по крайней мере в настоящее время) понятия и чувства. Но также оно связано с религией потому, что религия, которая известна нам, возникла в агрокультурный период, называемый неолитической эрой, и именно данный период структурирует наш мир, причем эта структурация отвечает (ведь она действует уже двенадцать с половиной тысяч лет) за экологический кризис. Так что нам определенно стоит изучить религию получше.
Есть ли конец у песни, которую мы взяли у Иезекииля, песни о костях? Я имею в виду Иезекииля, того самого проповедника религии агрокультурной эпохи, который желает, чтобы силой Господа части снова воссоединились в чудесное целое. Но можно ли на самом деле остановить взрывное расширение всей этой «связности»? Представим себе словарь. Значение отдельного слова — связка других слов. И так далее: вы можете посмотреть в словаре каждое из них. Вы проверяете значение одного слова за другим. Но что, по-вашему, произойдет в итоге? Вернетесь ли вы к первому слову, описав правильную окружность? Или же ваше путешествие будет похоже скорее на изломанную спираль? Даже если вы случайно вернетесь к первому слову, будет ли ваш путь похож на круг? Не думаю. Более того, я думаю, то же самое случится, если рассмотреть, как связаны друг с другом формы жизни.
Вещи и мысли
Есть одна очень глубокая причина, по которой, когда исследуешь вещи с непривычной (для людей) точки зрения, они становятся странными — в том смысле, что вам нужно включить в свое описание собственную точку зрения, подобно Нео в «Матрице», который трогает зеркало и обнаруживает, что оно липнет к пальцу и отстает от стены, когда он пытается убрать руку[20].
Нечто похожее происходит во сне. Когда вам снятся всякие мерзкие твари, ползающие по потолку и падающие на вас, у вас есть определенное чувство или установка (или как там ее назвать) по отношению к насекомым — возможно, это ужас или отвращение, к которому примешивается странная отстраненность. Точно так же и в рассказе есть то, что происходит (нарратив), и то, как происходящее рассказывается (нарратор, который может быть единичным, множественным, человеческим, нечеловеческим и т. д.). Два этих аспекта образуют многообразие. Когда мы смотрим на «вещь», мы забываем, что «вещь» — просто часть такого многообразия. Нет никакого «меня» и сторонней «вещи», к которой я тянусь своим восприятием, так же как мог бы протянуть руку к банке с бобами в супермаркете. Однако мы, видимо, пытались построить наш мир на манер супермаркета, в котором было бы полно вещей, до которых можно дотянуться и заграбастать.
Когда мы живем так, словно верим в дуализм субъекта и объекта, который как раз и представляет собой модус, в котором мы обычно мыслим мир (даже если придерживаемся его бессознательно), возникает одно следствие: нам сложно принять то, что на самом деле логичнее и в конечном счете понятнее. Когда вы анализируете кошмар, выясняется, что насекомые и чувства, к ним испытываемые, в равной мере составляют аспекты вашего сознания. Возможно, насекомые — это неприемлемые мысли, которые вы как раз начинаете осознавать. Сильная сторона психоанализа и некоторых духовных традиций, таких как буддизм, в том, что они позволяют нам усвоить следующую идею: мысли и тому подобное не являются всецело «вашими», и это в каком-то смысле путь к освобождению, поскольку значение имеет не то, что вы, собственно, думаете, а то, как вы думаете. Вам известно, что факты никогда не существуют просто «где-то там», как консервы, которые терпеливо ждут, пока их заберут. Вам известно, что идеи служат кодами для установок, поскольку идеи всегда предполагают определенный способ их мыслить, то есть установку, и этим объясняется то, как работает пропаганда. Рассмотрим очень простой пример: термин «пособия» вызывает чувство презрения к их получателям, в отличие от слова «льготы». После 2010 года британской Консервативной партии удалось склонить почти все средства массовой информации к тому, чтобы говорить «пособия», а не «льготы», в результате чего к их сокращению стали относиться равнодушнее. Именно по этой причине замечательным упражнением, обучающим тому, как не вестись на пропаганду, выступает чтение поэзии. Дело в том, что стихотворение не то чтобы хорошо объясняет, как следует отнестись к идеям, в нем представленным. Если я говорю: «Иди сюда!» — понятно, что я имею в виду, но если я говорю: «Это старый моряк»[21], — вы можете растеряться. Благодаря чтению поэзии появляется определенное поле для маневра между идеями и способами их разделять. В свою очередь, пропаганда устраняет это поле.
Если начать думать о биосфере как о тотальной системе взаимодействий между формами жизни и средами их обитания (в большинстве случаев это просто другие формы жизни), похожей на то, что происходит в голове спящего человека, начнут происходит всякие интересные вещи. В подобной биосфере всё является симптомом биосферы. Нет ничего «постороннего», что не соотносилось бы с определенной позицией внутри нее. Я не могу подавить свои мысли, поскольку они всё равно проявятся в моих кошмарах в виде мерзких насекомых. Я не могу избавиться от ядерных отходов, спрятав их под какой-нибудь горой. Если расширить используемый пространственно-временной масштаб вплоть до момента, когда гора развалится, выяснится, что на самом деле я не сумел спрятать отходы раз и навсегда. В мире экологического сознания невозможно замести сор под ковер.
Эта биосфера включает еще и все мысли (и кошмары), которые бывают у нас. Она включает в себя желания, надежды и идеи насчет разных биосфер. Она не является чем-то просто физически размещенным на Земле. Она феноменологически размещена в наших проектах, задачах, вещах, которыми мы занимаемся. Предположим, к примеру, что мы решили переехать на Марс, чтобы избежать глобального потепления. Нам надо будет создать с нуля пригодную для нас биосферу, поэтому у нас возникнет та же проблема, что и на Земле, — быть может, даже намного хуже, поскольку в этом случае мы начинаем с самого начала. В плане опыта мы всё равно остаемся на Земле, причем «опыт» тут является немного неловким и неряшливым синонимом для феноменологии, как она понимается в философии. Неловким и неряшливым именно потому, что он требует доказательства множества вещей, в частности идеи о том, что есть своего рода «объективный мир» и что «субъективность» от него отличается. Тогда как феноменология той или иной вещи — это логика того, как вещь является, как она возникает или случается. Если мы переедем на Марс, переезд будет явлен в земном модусе, и неважно, какие координаты будут показывать нам карты.
Так что неверно говорить, будто биосфера находится «в» каком-то уже существующем пространстве. Биосфера — это сеть отношений между такими существами, как волны, кораллы, идеи о коралле, танкеры, из которых выливается нефть, — то есть сеть, которая сама является полноправной сущностью.
Когда теоретик систем Грегори Бейтсон писал об «экологии разума», он имел в виду, что психические проблемы в этом смысле являются экологическими[22]. То, как соотносятся друг с другом ваши мысли, равно тому, что называется «сознанием», а сознание подобно биосфере. Хотя сознание состоит из мыслей, оно независимо от мыслей, оно влияет на них как самостоятельная причина. Если вы испуганы, вы будете думать о пугающих вещах. Это так называемая «нисходящая причинность». Такая вещь, как климат, может влиять на такую вещь, как погода. Нельзя сказать, что климат — это просто график, отображающий связь погодных событий друг с другом. В нем есть нечто реальное. Вы не можете свести биосферу к ее составным частям, так же как нельзя свести свое сознание к составляющим его мыслям. В то же время вы не можете свести свои мысли к тому, о чем эти мысли, или, наоборот, к тому, как вы думаете о данной мысли: вам нужно и то и другое, поскольку мысль представляет собой многообразие. Всё это ведет к одной очень интересной идее: возможно, каждая вещь — многообразие. Или, в терминах Бейтсона, «система». Система отличается от вещей, из которых она сделана. Возможно, быть психически здоровым означает знать, что то, что вы думаете и как вы это думаете, связаны друг с другом.
Проблему может создавать не собственно то, что вы думаете, но то, как вы думаете. Другими словами, есть мысли о мыслях. Возможно, если изменить то, как мы думаем о таких вещах, как коралл или белый носорог, мы улучшим свое экологическое здоровье. Не исключено, что психическое здоровье и экологическое «здоровье» связаны друг с другом. Я считаю, что люди травмированы тем, что они порвали свои связи с нечеловеческими существами — связи, которые сохраняются в глубинах наших тел (например, в нашей ДНК, ведь пальцы, легкие или клеточный метаболизм бывают не только у человека). Мы порвали эти связи в социальном и философском пространстве, но они всё же сохранились, подобно мыслям, которые мы считаем невозможными и которые просачиваются в наших кошмарах.
Элементом растущего осознания экологических проблем является чувство отвращения, вызванного тем, что мы буквально покрыты нечеловеческими существами, что они пролезли внутрь нас, и это не какая-то фатальная случайность, а нечто неизбежное, ключевой фактор самого нашего существования. Если бы в вашей пищеварительной системе не было бактериального микробиома, вы не смогли бы есть. Возможно, чувство отвращения уменьшится, если мы привыкнем к тому, что погружены в биосферу, так же как невротические чувства теряют остроту, когда мы становимся дружелюбнее к своим мыслям — благодаря той же психотерапии или медитации. Уже существуют определенные формы экологической психотерапии, а одно из направлений психологических исследований иногда называют экопсихологией. Многие буддисты-учителя медитации тоже пишут об экологии — достаточно взглянуть на такие известные журналы, как «Shambhala Sun».
Месиво, или сколько именно связей?
Надеюсь, что к этому моменту вы уже освоились со взглядом на картину в целом, или на то, что в философии иногда называют тотальностью. Как говорится в некоторых учебниках по медитации, у вас уже должно было появиться панорамное сознание. Панорамное медитативное сознание — вещь специфическая. Речь идет не просто о бесцветной, не имеющей ни вкуса, ни запаха коробке, внутри которой крутятся разные мысли. Скорее, это что-то вроде электромагнитного поля с определенной частотой волны.
Что это значит? Быть немного более осознанным или просветленным — не значит стать всезнающим или вездесущим либо же, напротив, тупым зомби, который не может даже зубы почистить или ответить на телефонный звонок. Будда умеет водить машину и знает, как пользоваться сливом в унитазе. В том же самом смысле у биосферы, напоминающей гул огромного оркестра, есть совершенно особые качества, которые невозможно свести к частям биосферы.
Вещью является и то, как всё друг с другом связано.
Тот факт, что взаимосвязь также является определенной вещью, а не просто абстракцией или удобной идеей, влечет поразительные, поистине глубокие следствия. Но чтобы изучить их, нам надо будет сделать небольшое отступление. Оставайтесь на линии, мы скоро начнем. Для начала нам надо рассмотреть те вещи, которые мы часто называем идеями.
Третья мировая война начнется не с того, о чем вы думаете, но с того, как вы думаете. Это буддистская истина, но это истина и в поэзии Уильяма Блейка: его «Песни невинности и опыта» целиком и полностью посвящены тому, что он называет «противоположными состояниями души человеческой», которые мы сами могли бы назвать «различными модусами мысли о мыслях». Молотку всё кажется гвоздем. Цинику всё кажется безнадежным, а люди, у которых есть надежда, представляются ему дураками. Соответственно, можно лгать в тех выражениях, которые формально будут правдой. Вы можете сказать: «Мы всё запороли», — и эта фраза, сам ее модус, будет способствовать полному провалу, поскольку вы своим циничным аргументом лишаете собеседника сил. Значительная часть разговоров об экологии попадает в эту ловушку. Вот одна из причин, по которой не имеет большого смысла говорить, что «Земля умирает», даже если в каком-то смысле так и есть. Вполне разумно — и экологично — противодействовать подобным причитаниям, и отсюда вовсе не следует, будто бы вы поддерживаете большие нефтяные корпорации. Итак, вы начали думать о том, как вы думаете, будучи частью динамического многообразия, включающего то, о чем вы думаете, а также вещи, которые не являются всего лишь мыслями, например леса и города.
Всё это кажется странным и хипповым, поскольку мы к этому не привыкли и поскольку мы всегда спонсировали агрокультурные проекты, которые со временем привели к созданию промышленности, ставшей причиной всемирного потепления, — мы спонсировали их всеми теми философскими, психологическими и духовными ресурсами, какие у нас только есть. Если следовать внутренней логике наших дел, вещи представляют собой объективированные куски чего-то вроде пластика, которые просто валяются «где-то там», и я могу делать с ними всё, что захочу. Для поддержания подобной точки зрения творится немало насилия, и причина именно в том, что она неточна. Опять же, то, что мы думаем, и то, как думаем, — тесно связанные друг с другом вещи.
В западной философии думать о таком «многообразии» нас научил немецкий феноменолог Эдмунд Гуссерль. Переломные годы начала XX века оказались чрезвычайно важными из-за ряда прорывных открытий в науке (взять хотя бы теорию относительности). Но также это был момент, когда в западной философии случилось своего рода землетрясение. Гуссерль решил, что идеи не просто парят в пространстве, что они суть так называемые феномены, то есть у них всегда есть определенный цвет или запах, и этот цвет или запах — не просто какое-то украшение или произвольная добавка, а нечто внутренне присущее самому бытию идеи. Одной из мишеней Гуссерля стало движение в логике XIX века, которое получило название психологизма. Психологизм утверждал, что логические высказывания служат симптомами здорового мозга. Другими словами, логический смысл вытекает из правильно работающего мозга (что бы ни значило слово «правильный»). Логические высказывания — высказывания вроде «если p и если из p следует q, тогда q»; если бананы существуют и если из факта существования бананов следует факт существования банановых деревьев, тогда из всего этого следует, что банановые деревья существуют. Такие высказывания, по мнению психологизма, имеют смысл, поскольку их производит здоровый мозг. Но что такое здоровый мозг? Ну, это такая штука, которая производит логическое высказывание. А что такое логическое высказывание? Это такая штука, которая берется из здорового мозга. Но что же тогда такое здоровый мозг?.. Чтобы вырваться из порочного круга, нам понадобится какая-нибудь наука, которая сумеет выяснить, что такое здоровый мозг. Но наука опирается на логические высказывания. А что такое логическое высказывание? Это симптом… и т. д. Результатом оказывается регресс в бесконечность, и мы, получается, на самом деле вообще ничего не сказали.
Что ж, как рассудил Гуссерль, такого быть не может. Логические высказывания — это не просто симптомы чего-то другого[23]. Мы не можем свести их к продукту здоровых мозгов. Они обладают собственной реальностью. Логические высказывания, вместо того чтобы быть доказательством правильного психического функционирования либо же, если расширить идею, правильной человеческой ДНК или чего угодно другого, обладают собственными составными частями, то есть собственной ДНК. Они могут обходиться своими средствами. Логическое высказывание похоже в этом плане на твит или на мем: у него есть своя жизнь, и отсюда следует, что оно уникально и отлично от всего остального, у него есть цвет, аромат и текстура. И вы должны обращаться с ним, как и с молотком, каким-то одним образом, а не другим.
Идея Гуссерля была в том, что океан — не нечто пустое, унылое и огромное: на самом деле он кишит рыбой. Но о каком океане идет речь? Это океан разума, который был открыт Кантом примерно столетием ранее. Кант полагал, что для так называемого чистого разума не имеет значения то, что маленький я, Тим Мортон с его определенным ростом, сложением, цветом и гендером, с его желаниями, надеждами и т. п., мыслит какие-то разумные вещи. В разуме есть нечто трансцендентальное. Вы не можете ткнуть в трансцендентальное пальцем, но оно вполне реально. Океан разума в каком-то смысле плещется за моей головой. Это довольно холодный, необитаемый, непривычно прозрачный океан, поскольку он делает одну-единственную вещь — он математизирует, измеряет вещи и говорит мне, что такая-то галактика такой-то величины, что она существует такое-то время и таким-то образом движется по Вселенной. Однако Гуссерль показал, что, поскольку логические высказывания обладают самостоятельной реальностью, то же самое относится и к другим высказываниям, например высказываниям надежды, желаний, ненависти… Гуссерль словно бы открыл, что в океане Канта множество разноцветных рыб с собственной структурой ДНК, независимой от Тима и таких его характеристик, как рыжеватая щетина. Кант показал, что есть очень важная часть реальности, в которую нельзя ткнуть пальцем, а именно океан разума, а Гуссерль — что данный океан все-таки обитаем и что рыбы, в нем плавающие, — это совершенно самостоятельные сущности с собственной ДНК.
И вся эта рыба не ограничивается высказываниями, которые неопытному глазу все кажутся логическими. Существуют самые разные типы логических рыб, но также надеющихся рыб, любящих, ненавидящих, воображающих, которые выступают интенциональными объектами, и термин «интенциональный» означает, что они содержатся в мысле-океане (то есть это «интенциональный» в смысле «удерживаемый сознанием», а не в обычном смысле «указания на какую-либо внешнюю цель в акте сознания»). Так же как есть определенный способ обращения с акулой, есть и определенный способ обращения с чувством отвращения, то есть существует определенный способ иметь чувство, который сопутствует самому чувству. Акула и способ обращаться с ней — это два полюса одного феномена, как у магнита, они всегда идут вместе, и разорвать их невозможно. А значит, не вполне верно говорить, что у «меня» «есть» «мысль». Скорее так: «я» — то, что я каким-то образом вывожу или абстрагирую из феномена данной конкретной мысли, и точно так же в состав этого феномена входит и то, о чем эта мысль.
Мы настолько привыкли мыслить в рамках дуализма, что следствия факта независимости мыслей от сознания кажутся нам невероятными. Однако идею Гуссерля довольно сложно потопить, поскольку, как и у Канта, она не зависит от убежденности в чем-то внешнем по отношению к самой аргументации; нет никакой другой экологии за пределами той, в которой мы в настоящее время находимся, изучая эту аргументацию. Не бывает так, чтобы сначала феномены случались, а потом вы замечали их. Феномен включает в себя акт обладания им, обработки его молотком, его измерения, математизации или ощущения.
А это, в свою очередь, говорит поразительные вещи о таких формах действия, как работа молотком. Молоток — это нечто определенное, нечто очень специфическое — и всё же это не в точности молоток. Это самые разные вещи для самых разных существ. Это посадочная площадка для мухи. Для пыли это поверхность, на которой можно собраться. Это молоток, когда я берусь применить его в своем проекте с молотком. Однако молоток не пребывает в каком-то космосе и не ждет, пока его кто-то схватит. Молотки случаются, когда вы берете в руки штуку из металла и дерева, чтобы забить крючок, на который можно повесить картину. В таком смысле молоток — всё равно что стихотворение. Стихотворение — это не каракули на странице. Это то, как я выстраиваю каракули, когда читаю их, то, как редактор интерпретирует стихотворение, помещая его в антологии рядом с какими-то другими поэтическими произведениями, и то, как стихотворение преподается на соответствующем филологическом курсе.
Мир полон дыр
Работа молотком — это совершенно особая, живая штука с собственной ДНК, которая включает в себя меня и мое желание забить крючок для картины, вещь из металла и дерева под названием «молоток», стену, крючок… кость молотка, связанную с костью стены… Так что фанатским двенадцатидюймовым ремиксом Гуссерля оказывается не что иное, как фанатская объектно-ориентированная онтология, в которой вещи не исчерпываются тем, как мы их используем; они не висят где-то там в космосе, дожидаясь, пока кто-нибудь не начнет их использовать, интерпретировать их или молотить ими. Вещи не пребывают ниже своего способа явления, а «являться» — термин, который означает здесь нечто совершенно общее, включающее существование в качестве части таких феноменов, как поедание, работа молотком, интерпретация, чтение…
Всегда сохраняется определенное пространство более-менее истинной интерпретации, в которой осуществляются ваши мысли, идеи и действия, и о таком пространстве нужно помнить то, что (1) оно не вопрос выбора и (2) оно не является совершенно запечатанным, скорее оно пористое. Что это значит? Прежде всего, в подобном пространстве находятся не только ментальные, но и физические (а также психические и социальные) способы нашей «интерпретации» вещей. Скрипачка интерпретирует скрипичный концерт Берга, когда исполняет его. Когда я забиваю молотком крючок для картины, я интерпретирую стену в тональности молотка. А молоток соотносится со стеной, которая соотносится с моим домом, который соотносится с улицей, которая соотносится с водостоком на улице, и т. д. Есть ли какой-то способ остановить взрывное расползание этого контекста, физического и нефизического, в котором осуществляется всё то, что я собираюсь сделать? Нет, с чего бы он был.
Мысли и утверждения, пытающиеся достичь скорости, необходимой, чтобы оторваться от привязки к пространству интерпретации, просто не способны на это. Когда вы выпрыгиваете из мира, чтобы оценить его (чем бы ни был мир: стихотворением, видеозаписью Майкла Джексона, растением, Землей), вы всё равно остаетесь в нем, когда делаете прыжок. И это не какой-то случайный факт. Он означает, что поиски совершенного метаязыка, который бы работал в качестве совершенного полицейского для всех остальных «объектных» языков, невозможны. Ситуация похожа на знаменитый скетч группы «Монти Пайтон» под названием «Клиника споров». Мужчина приходит в какое-то заведение и говорит, что хочет спора. Бюрократ за конторкой ему отказывает. Тогда они спорят о том, является ли это началом спора. Потом полицейский арестовывает обоих, ссылаясь на «Закон о глупых скетчах». Следом их всех, включая первого полицейского, арестовывает другой полицейский. Затем приходит еще один и арестовывает всех остальных. Сцена заканчивается на том, что рука какого-то другого полицейского опускается на плечо последнего полицейского[24]… Все они, все полицейские, являются составной частью скетча «Клиника споров».
Это пункт (1). С ним странным образом связан пункт (2). В каком бы мире я ни был, он никогда не бывает завершенным и полностью моим (я сам никогда не бываю вполне своим). Я не могу добавить королевскую печать, особое условие, цветочный венок или вишенку на торте, которая бы гарантировала, что он был всё время с начала и до конца совершенно самотождественным. Это важные новости, поскольку выходит, что понятие мира является пористым: я могу разделить свой мир с тигром, а тигр может разделить свой мир со мной. Наши миры могут пересекаться. Хайдеггер утверждал, что только у людей есть по-настоящему богатый «мир», тогда как другие формы жизни, шныряющие вокруг («животные»), «скудомирны», а такие вещи, как камни, и вовсе не имеют мира. У него нет причин утверждать подобное, к тому же, что еще хуже, отсюда следует, что для Хайдеггера мир полностью запечатан и целен, чего не может быть по его же собственной теории, утверждающей, что вещи не могут схватываться напрямую. Нацизм для Хайдеггера был способом заблокировать наиболее радикальные выводы собственной теории, проигнорировать их, спрятаться от них в антропоцентрическом бункере. На самом деле многие философы, начиная с Канта, пытались так или иначе спрятаться от непомерной странности собственных теорий, чтобы те не выскочили за пределы той функции, которой, как они сами считали, должны были ограничиваться их идеи, — возможно, они боялись того, что подумают люди, или же того, что они сами могли подумать и что, вероятно, расходилось с тем, как они проживали свои жизни в каком-то ином отношении.
Я могу обменять эту вещь, которую в хозяйственном магазине называют молотком, на ту, что мы называем деревяшкой, или же на вон ту засохшую колбасу из оленины… и использовать ее, когда понадобится орудовать молотком. Я всё еще орудую молотком, хотя данный метод может сработать не так хорошо, если мясо в колбасе недостаточно затвердело, к тому же на стене могут остаться жирные пятна. Неважно: я, по крайней мере, показал, что есть четкое отличие между вещами, которые называются или называемы молотком, которые выглядят или крякают как молотки, и собственно «работой молотком», которая включает в себя стены, картины и мое желание поработать молотком, равно как и желание произвести впечатление на гостей, собравшихся на ужин, моей новой замечательной картиной. Такие феномены, как работа молотком, не могут действовать, пока не будет вещей, которые могли бы служить еще и посадочной площадкой для мух, с кусками металла на одном конце, вещей, которые не исчерпываются моей задачей, в которой надо поработать молотком. Словно бы ниже верхнего слоя гуссерлева океана, в котором резвятся все эти рыбы — такие как надежда, желание или мысли о том, что надо прибить картину молотком к стене, — находился искрящийся коралловый риф из всевозможных вещей, от которых рыбы зависят. Но это уж точно не вещи из бабушкиного сундука. На них на самом деле невозможно указать прямо, поскольку указание — это еще один способ доступа, такой же успешный или безуспешный, как и забивание молотком. Указание на вещи не исчерпывает того, каковы они есть.
И этот коралловый риф вещей включает в себя еще и биосферу.
Биосфера — не просто удобный ярлык для кучи вещей, скрепленных друг с другом. Биосфера — не просто контекст, который проявляется, поскольку я определенным образом интерпретирую кучу вещей. Биосфера — совершенно особая, самостийная вещь, которая отлична от своих частей и которая включает в себя деревья, червей, кораллы, а также идеи о биосфере. Так что общая картина заключается в том, что ваши идеи о биосфере и формах жизни, чувства и планы, с ними связанные, — всё это сосуществует с самими формами жизни и биосферой. Они часть того, что связано друг с другом. Вы не вне биосферы и не заглядываете в нее. Вы приклеены к ней, причем надежнее, чем мог бы сделать какой-нибудь суперклей.
Как так? Мы приклеены к биосфере феноменологически. Это значит, что, даже если вы удалитесь от нее физически, — можно взять рулетку и представить, что вы на расстоянии двухсот тысяч километров от Земли, за пределами ее гравитационного поля, — вы всё равно останетесь «в» ней в феноменологическом смысле, основанном на философском аргументе того рода, что я как раз здесь рассматриваю. Повторю то, что уже сказал раньше: представьте, что вы желаете переехать на Марс, поскольку здесь, на Земле, биосфера в совсем плохом состоянии. На Марсе вам надо будет воссоздать биосферу с нуля — так что у вас будет проблема даже хуже той, что на Земле. И хотя эмпирические измерения говорят вам, что вы в миллионах километров от Земли, на самом деле вы всё еще остаетесь на ней.
Не будет вполне точным — хотя это и кажется верным — сказать, что вещи похожи на продукты на полке супермаркета и что вы можете протянуться к ним из какого-то туманного пространства внутри так называемого «сознания» или «эго». Представьте себе Сатурн. Вы на Сатурне, прямо сейчас, по крайней мере какая-то часть вас. Вы мыслите в режиме Сатурна. Мыслите в тональности Сатурна. Ваш разум может быть где угодно, куда бы вы его ни поместили. Вы пребываете «в» биосфере в намного более сильном смысле, чем указывают Google-карты, когда они локализуют вас «на» какой-то улице. Вы «в» биосфере в том смысле, что вы «в деле»: вам она важна, вы озабочены ею. Вы повязаны с тем, что важно для вас. Вы образуете единство, и неважно, насколько вы близки или далеки в пространстве; вы феноменологически близки, даже если вы на другой стороне галактики.
Переплетение: где провести черту?
То, что мы хотим сделать, то, как мы что-то чувствуем, и то, что мы хотим или ощущаем, — всё это смешано. Давайте рассмотрим это месиво, которое в другом месте я назвал переплетением[25]. Вот как о нем можно сказать на официальном философском жаргоне: контекст релевантности структурно неполон. Месиво никогда не бывает совершенно правильной окружностью. Каждый раз, когда вы хотите что-то сделать, вы сталкиваетесь с гущей вещей, которые имеют значение для того, что вы собираетесь сделать. Если хотите пойти в супермаркет, вам нужна машина, которая требует дороги, а значит, должны быть правила уличного движения, которые зависят от мэрии, которая, в свою очередь, связана с устранением выбоин на дороге, а в выбоины попадают колеса вашей машины, когда вы пытаетесь добраться до супермаркета… и т. д. Понятно, что этот взрыв контекстуализации остановить невозможно.
Экологическое сознание — просто еще одно название для такого взрывного расширения контекста. Кости ноги не просто связаны с бедренными костями в смысле соизмеримости, а последние не просто точно так же связаны со свалками токсичных отходов. Все они имеют отношение друг к другу, и петля «отношения» не имеет формы правильной окружности, скорее это расширяющееся лассо, которое, видимо, способно охватить своей петлей всё остальное. Обычно мы пытаемся сдержать или как-то ограничить действие лассо. Однако экологическое сознание означает, что вы уже позволили ему захватывать всё больше и больше вещей, расширяться без конца.
Поразительный вывод здесь состоит в том, что никакой изящный круг контекста никогда не сможет полностью объяснить ту вещь, которой вы пытаетесь дать объяснение. Экологическое сознание предлагает вам мир, в котором любая вещь имеет значение для любой другой, но в то же время она совершенно уникальна, активна и отлична от всего остального. В этом мире значимо всё, что вы думаете и чувствуете, в том смысле, в каком я сказал о «кости ноги, связанной с костью свалки токсичных отходов».
Отсюда, в свою очередь, следует, что чувства безразличия тоже значимы. Ощущение отделенности от экологического сознания — это еще один модус… экологического сознания.
Это определенно фантастические новости: экологическое сознание сегодня очень доступно. Чтобы достичь его, вам не нужно загонять себя в особое состояние сознания. Чтобы стать экологичным, не нужно полностью менять мир. Вам даже не нужно расширять собственно лассо, которым захватываются релевантные для вас вещи. Простой идеи о том, что такое лассо релевантности, уже достаточно, чтобы вы заметили это. Поскольку мир всегда немного истрепан и поломан, поскольку лассо никогда не бывает ровным, правильным и закругленным, ваша миссия может связываться и взаимодействовать с миссиями других. А поскольку этот шероховатый и поломанный мир довольно дешев, мир может быть у самых разных вещей, какими бы они ни представлялись с нашей точки зрения — разумными, сознательными или просто одушевленными. Такой неровный и не вполне завершенный мир, со всеми недостающими элементами пазла, может быть у бабочки. И даже у дерева может быть такой же мир.
Быть связанным с чем бы то ни было — не такое уж большое дело, как его хотят представить высоконравственные экологисты. Когда они делают из него что-то важное, они задирают планку экологического сознания слишком высоко. Как будто быть экологически сознательным — примерно то же, что просветлиться, очиститься от своих грехов или получить способность видеть всё и сразу. Но я надеюсь, что мы покончили с этой угнетающей возможностью — будто можно видеть всё и сразу. А поскольку нельзя видеть всё и сразу, вы неспособны постичь целое, поскольку разные виды целого на самом деле существуют совсем не так: они не существуют повсюду и не сходятся со всем. Члены целого всегда избыточны по отношению к целому.
Следовательно, экологическое сознание и экологическое действие намного проще, чем мы думали. У вас уже есть экологическое сознание, вы уже совершаете экологические действия — даже путем игнорирования их или безразличия к ним. Как только вы это поймете, всё станет намного проще, по крайней мере для вашего ума и сердца. У вас появится пространство для маневра, поскольку такое же пространство будет у релевантности, у вещей, ведь вещи никогда полностью не совпадают с тем, как они предстают перед другими вещами и как они используются или интерпретируются ими (а иногда даже и самими собой).
Хорошо. Если вещи связаны друг с другом так, что эта связь не подпадает под зонтик, который был бы всегда больше их, где провести черту? Ведь вы только что решили, что нет столь большого зонтика, чтобы он содержал всё остальное, и вещей всегда больше, чем уместилось бы под ним.
То есть вы как раз дошли до смысла названия этой главы. Вы дошли до способа организации вещей, основанного на том, что некоторые философы называют контингентностью, а лингвисты — метонимией. Другими словами, теперь вы буквально говорите себе: «Кость ноги связана с берцовой костью. А берцовая кость связана с костью стула. А кость стула связана с костью фабрики электрических стульев. А кость фабрики электрических стульев связана с костью свалки токсичных отходов. А кость свалки токсичных отходов связана с костью биосферы. Кость биосферы связана с костью беседковой птицы (да, масштаб можно как увеличивать, так и уменьшать). Кость беседковой птицы связана с костью из тропического леса. Кость из тропического леса связана с электромагнитным щитом вокруг кости Земли. Электромагнитный щит вокруг кости Земли связан с вращающимся железным ядром кости Земли. А вращающееся железное ядро кости Земли связано с костью той сверхновой звезды, в которой было сформировано железо…» Эта бескрайняя децентрированная взаимосвязь и есть то, что французский философ Жорж Батай называет общей экономией[26]. Экономия означает тут не то, как «люди обращаются с деньгами», а то, как они организуют свои наслаждения, как они обмениваются вещами, пускают их в оборот и т. д. Мыслить экономии, то есть системы взаимосвязанных действий, в «ограниченных» или узких категориях, как мы обычно и делаем, когда думаем о жизненных циклах или кругообороте воды, когда у нас есть какие-то идеи о переработке отходов и т. п., значит мыслить в том модусе, который всегда остается открытым для этого более общего неуравновешенного пространства возможностей. Дело в том, что закрытые системы должны обитать в более широком и хуже организованном пространстве, в котором они могут попадать в ряд разных состояний, но никогда во все возможные. Ограниченные экономии — это как сгустки в заварном креме. Они состоят из крема и могут легко раствориться в более мягкой общей смеси, которую представляет собой крем.
Где бы на земле (или, если уж на то пошло, на небесах) могло бы остановиться это взрывное распространение связей, и имеет ли значение то, что это невозможно?
Мы говорим именно о взрывном расширении контекста, взрыве контекста. Интересно то, что большая часть контекстуальной критики в гуманитарных науках старается всеми силами взрыв сдержать. Исследователи обычно пытаются объяснить тот или иной культурный артефакт (зачастую сводя его значение на нет), связывая его с каким-то конкретным десятилетием, страной или кругом, в котором он возник, с биографией автора, состоянием (человеческих) экономических отношений, которые были в те времена в стране проживания автора. Вся эта информация важна для понимания разных вещей, людей и событий, однако она не является пределом знаний или понимания. Мы никогда не сможем добиться полного понимания даже одной-единственной книги, мысли или картины, сколько бы сведений мы ни собрали. Соответственно, экологически сознательная критика открывает головокружительную пропасть потенциально бесконечных и частично совпадающих друг с другом контекстов. Так что просто по определению не может быть одного контекста, который бы управлял всеми.
Холизм, но уже не старомодный
Мы постепенно начинаем разбираться с образами в стиле «паутины жизни», и только в предыдущем разделе мы нарастили на них кое-какое логическое мясо, чтобы не были одни лишь кости. Теперь понятно, что мы на самом деле не можем, по крайней мере не можем так вот запросто, сводить целое — то есть «вещь», образованную взаимосвязями, — к его частям. Но также мы замечаем, что не можем свести части к целому. «Свести» не значит «разбить на более мелкие части». Физическое целое, конечно, больше своих частей. Под «свести» мы имеем в виду «полностью объяснить в категориях того, что считаем более реальным». А это значит — подумать только, — что целое всегда меньше суммы своих частей.
Остановитесь на мгновение. Это же какое-то безумие! Разве мы не говорили себе всю жизнь, что целое всегда больше суммы своих частей? Разве не в этом смысл знаменитых фотографий «синего марбла»? Не в том ли смысл, что, если мы не будем заботиться о Земле как целом, все мелкие твари, копошащиеся на ее поверхности, просто исчезнут? И не значит ли это, что Земля важнее и на самом деле реальнее, чем шныряющие туда-сюда твари (синие киты, люди, слизевики)? В чем же дело?
Здесь мы применим логику, чтобы перестать ретвитить то, что снова и снова повторяем, хотя это никогда не было доказано, а именно то, что целое всегда больше суммы своих частей. Подобное заявление всегда казалось мне таинственным, но почему-то мы продолжаем повторять его, словно бы так и есть. Это своего рода вера, которая влияет на множество разных вещей. Можно представить себе, как сознание возникает из некоего «гула отдельных частей», то есть из всех активаций нейронов в мозге. Данная идея популярна в философии и в науке об искусственном интеллекте — идея о том, что интеллект или сознание могут быть каким-то образом произведены, например благодаря программному обеспечению. Карл Маркс полагает, что капитализм как таковой возникает из коллективного жужжания достаточного количества машин. Когда они в достаточном числе подключаются друг к другу, их стрекот нарастает, и — бах! — у нас возник промышленный капитализм. Экологические философы в том же ключе мыслят Гею, которая является более или менее персонифицированным целым, возникающим из работы таких систем Земли, как углеродно-азотный цикл, согласно предположению ученого Джеймса Лавлока[27].
Но на самом деле нет никаких причин так думать. Когда вы рисуете несколько вещей, круг, которым вы их очерчиваете, всегда будет больше данной подборки вещей — больше в физическом смысле. Иначе он не включал бы их в себя. Однако вид рисунка не совпадает с тем, что он значит логически. Если всякая вещь существует в том же самом модусе, значит, целое существует так же, как и его части, а это, в свою очередь, означает, что частей всегда больше, чем целого, а отсюда следует, что целое всегда меньше суммы своих частей. Всё просто элементарно, если продумать это подобным образом. Тогда почему же с данным выводом так сложно согласиться?
Сложность имеет отношение к наследию монотеизма. Даже если мы не верим в Бога, даже если мы агностики, мы продолжаем ретвитить монотеистические понятия. Или же наши понятия обладают монотеистической формой вопреки тому, во что мы, по нашему мнению, верим. Тот тип холизма, который я буду теперь называть взрывным холизмом (в котором целое всегда больше суммы своих частей), именно таков. Бог вездесущ и всеведущ, так что Он должен быть больше суммы частей универсума, сотворенного Им (если только это он). Или можно вспомнить об одной пламенной американской проповеди: все мы грешники в руках гневного Бога[28]. Он настолько высоко, что нельзя стать выше Него, Он настолько широк, что вы не можете охватить Его. Мой Бог больше вашего.
Всё сводится к идее грешников в руках гневного Бога. Мы малы, более того, мы онтологически малы: мы значим меньше Бога. Естественно, человек, замещающий Его на Земле, то есть царь, тоже значит намного больше нашего. Цари и боги появились на раннем этапе агрокультурного (неолитического) общества. Когда вы переходите к оседлому образу жизни и сельскому хозяйству, у вас появляется образ статического социального пространства, в котором вы находитесь (отсюда понятие государства: охотники и собиратели никогда бы не додумались до того, что можно организовать вещи подобным образом). Такое социальное пространство явно больше, чем принадлежащая вам маленькая делянка, причем в нем установлена строгая социальная иерархия (которая наряду с патриархатом сложилась за короткий период времени в начале неолита). Также в нем присутствует разделение труда: царь — это царь, вы — кузнец, вон тот парень — продавец кунжута. Все вместе мы образуем целое, которое кажется намного «больше» суммы своих частей. Однако это просто эстетическая картинка, то есть своего рода сильно пережатое изображение — как файл jpeg с низким разрешением — наличной социальной структуры с ее монотеизмом, царем и разделением труда.
В нашем мире куча вещей, которые функционируют в соответствии с представлением о том, что целое меньше своих частей. Например, в США такой налоговый кодекс, что, если вы состоите в браке, супругов считают за полтора человека. То есть, когда вы женаты, вы становитесь тремя четвертями человека. И в этом есть глубокая психологическая истина. Быть связанным — значит быть в каком-то странном смысле меньше, поскольку вы в таком случае открыты и меньше стеснены своим эго.
По-видимому, в любом отношении есть нечто подобное. Наверное, именно это мы понимали в браке неправильно. Возможно, на Западе мы думаем, что вещи, чтобы существовать, должны быть постоянными. На философском жаргоне такое представление называют метафизикой наличия. Так, мы полагаем, что браки должны быть постоянными. Мы считаем, что, когда они разваливаются, в этом есть что-то неправильное. Но если мы не лишены великодушия, мы поймем, что все отношения различны и, вероятно, что все отношения конечны. Что, если добавить к этой мысли различие между бесконечностью и постоянством? Брак может быть бесконечно глубоким и в то же время не быть постоянным. Представьте себе какой-нибудь фрактал. У него может быть бесконечное число частей — если не в реальном, то по крайней мере в математическом смысле. Но вы можете подержать его в руках. Возможно, именно это имел в виду поэт Блейк. И, возможно, нет ничего мистического в его строках: «Увидеть мир в одной песчинке… Вместить в ладони бесконечность…»[29]. Блейк понимал минусы религии агрокультурной эпохи и то, насколько репрессивной она может быть. В том же самом произведении он говорит о чудовищном состоянии Англии, которая стояла в те времена на пороге войны, и проводит аналогию с тем, как люди обращаются с животными: «Собака сдохла у Хозяина врат, / Предсказав развал государства»[30]. Нет ли тут параллели с тем, о чем думаем мы? Если брать современное состояние вещей, похоже, что в наших идеях о государстве, не говоря уже о нашем доме, недостаточно места для нелюде́й. И всё же мы владеем ими. К тому же они часть нашего мира, они занимают искусственные пространства, созданные нами. Пример — гибискус на моей улице, который пробивается сквозь растрескавшийся хьюстонский асфальт. Мы не звали сюда цветы, но они всё равно здесь.
Возможно, именно в этом кроется недостаток большей части созданного людьми пространства в так называемой «цивилизации»: оно не привечает существ, которые уже здесь, которые бродят вокруг, подобно беспризорникам, или же прорываются сквозь трещины в асфальте. Нелюди подобны незваным гостям. Но когда незваные гости — люди, мы следуем правилам гостеприимства, мы приглашаем их в дом (если только они не враждебны) и следим за тем, чтобы им не казалось, что их прибытие нам неприятно, даже если это так. Но какой может быть этикет по отношению к нелюдям? В общем, возможно, мы приближаемся к моменту, когда надо пересмотреть наши обычаи и правила, внести в них такие поправки, чтобы можно было учесть по крайней мере некоторых нелюде́й.
То, как существуют вещи, смешано с тем, как они являются другим вещам. Дерево связано с лесом, в котором оно находится, не просто потому, что оно «внутри» леса в метрическом смысле слова. Дереву должно быть дело до леса. Быть-частью-леса — одна из форм его явления: оно поглощает питательные вещества из лесной подстилки; оно сообщается с другими деревьями, стоящими по соседству; оно дает кров белкам. Так что, если мы применим к дереву те идеи, которые возникли у нас, когда мы недавно думали о молотках и использовании вместо них не официальных молотков, а засохшей колбасы, мы поймем, что бытие-в-лесу не исчерпывает бытие деревом. Это просто одна из вещей, которыми дерево может быть.
Логическим высказываниям, которые имеются у мозга (правда, мы до сих пор на самом деле не знаем, так ли это), совершенно не обязательно иметь отношение к мозгу, и то же самое можно сказать о куче других вещей. Однако логические высказывания всё равно появляются «во» мне — в той мере, в какой я «за» них. В точно таком же смысле деревья — не просто симптомы лесов. Это лишь одно качество, одна вещь, которой они могут быть. Вещи сплетены с интерпретациями вещей, но всё же отличны от них.
Погода — не просто симптом климата. Дождь может быть неприятным ощущением холодка под рубашкой, когда я отвожу сына в школу в семь тридцать утра. Дождь может быть чудесной купелью для коричневой горлицы на моем балконе. Но также освежающим питьем. Однако причиной дождя определенно является климат. Дерево — определенно часть леса. Мысль такого рода определенно является тем, что характеризует меня, Тима Мортона, мыслящего эту мысль.
Вещи намного больше смешаны друг с другом, чем нам хотелось бы думать, и в то же время намного более отличны друг от друга. Биосфера состоит из своих частей. Однако она отлична от них. А это, в свою очередь, означает, что ее части не сводятся к биосфере как «высшей» сущности. Отсюда же следует, что мы думали о таких вещах, как биосфера, абсолютно неправильно. И опять же, данный образ мысли мы называем холизмом, и в обычном случае холизм означает, что целое всегда больше суммы своих частей. Части полностью поглощаются целым, как соль, которая растворяется в воде. Но на самом деле вещи так не работают — даже если говорить о солевом растворе. Представьте себе виолончель и флейту-пикколо, которые играют вместе в одной комнате. У одной высокий и пискливый регистр, у другой — низкий и бархатистый. Две ноты, издаваемые ими, не сливаются в амальгаму, которая бы стерла отличительные черты флейты и виолончели. Из них двоих не возникает какой-нибудь флейтончели или виолейты. Однако их звуки соотносятся друг с другом, и вместе они образуют аккорд. Аккорд отличается от них, у него другое действие. Открытая металлическая тональность флейты и суровая, вязкая, глуховатая тональность виолончели сочетаются в нем, как два ингредиента коктейля. Вкус коктейля отличается от виски и бальзама, из которых он сделан. Однако, как только коктейль смешали, нельзя сказать, что виски больше нет, что эффект виски полностью исчерпан коктейлем.
Целое не больше суммы своих частей. На самом деле целое меньше суммы своих частей. Эта мысль кажется настолько безумной, что нам надо будет продумать ее еще несколько раз. Но как только вы разберетесь, мыслить так будет на самом деле намного легче. И это намного более благородный образ мысли — благородный по отношению к частям, то есть, если брать наш случай, более экологичный, более расположенный к полярным медведям и кораллам. Холизм обычного типа — на самом деле механизм, хотя экологическое мышление часто облекает его в красивые зеленые одежды, как солдата в камуфляж. У солдата всё равно есть ружье, и он по-прежнему может вас убить. Механизм в расплывчатых зеленых пятнах остается механизмом. Механизмы представляют собой вещи, части которых заменяемы. Если у вас сломался стартер, можно найти новый. Сам по себе этот компонент ничего не значит. Но в экологии эта идея крайне опасна. Отдельные виды, получается, ничего не значат. Важно лишь благо целого. Однако если целое и части отличаются друг от друга так, что целое не полностью поглощает и не растворяет в себе части, то тогда части значат очень многое.
Я думаю, что мы просто всё время тащим за собой, не слишком задумываясь, обычную форму холизма. Мы поступаем так, поскольку тем самым бессознательно воспроизводим старый добрый агрокультурный теизм. Мой Бог больше и злее вашего. Если, раз вещи соотносятся друг с другом, мы можем забыть о них и сосредоточиться исключительно на сверхбытии, то есть сети, которую создают вещи, то мы можем проигнорировать вымирание. Придет что-то другое и будет работать не хуже той формы жизни, которая должна вымереть. Биосфере вполне хватит и медуз, представляющих собой форму жизни, которая, по мнению некоторых авторов, переживет серьезное глобальное потепление. Не будет никаких рыб-клоунов, коралловых рифов, горбатых китов и морских губок. Кому какая разница? Жизнь не остановится. Но если вы называете это жизнью, тогда я не хочу иметь к ней никакого отношения.
Тот образ Земли-из-космоса, который мы так хорошо усвоили, должен нам что-то поведать. «Синий марбл», чувство «мира у нас в руках» отличается от кораллов и полярных медведей (и всех остальных), что составляют сам мир. Это не розовый грейпфрут. Не зеленый кристалл. Это синий марбл, синий шарик. У него особые внутренние качества. И как, собственно, и видно по фотографии, он меньше своих частей. Я не хочу сказать, что он меньше физически. Если измерить его, он, конечно, окажется намного больше, ведь это Земля целиком. Я имею в виду, что он онтологически меньше. Онтологически в том смысле, какой имеет отношение к его бытию, а не только к тому, как он явлен, к данным, которые можно выделить на экране, измерить линейкой или прикоснуться к ним кончиком языка. Земля — одна. Полярный медведь тоже один. Есть множество полярных медведей, коралловых рифов и попугаев. Есть одна биосфера. Просто одна. Целое меньше суммы своих частей, поскольку целое — одно, а частей много, а вещи, если они вообще существуют, существуют в одном и том же смысле. Давайте я объясню это.
Мысль о том, что вещи существуют в одном и том же смысле независимо от того, что это за вещи, некоторые авторы называют плоской онтологией. Сначала она кажется несколько причудливой, но на самом деле я могу вам точно сказать, что с ней легче. Она избавляет нас от кучи надоедливых парадоксов, которые проистекают из преданности идее о том, что некоторые вещи не так реальны, как остальные, поскольку они могут быть сведены к другим вещам, например их частям или целому, частью которого они являются, как это обсуждается в современных дискуссиях. Если, к примеру, считать, что атомы, из которых вы состоите, реальнее, чем вы сами как человек, тогда вам придется объяснять, как возникает ваша личность на атомарном уровне, а эта задача может оказаться почти что неразрешимой. К тому же вам надо теперь объяснить, как возникли атомы. И самое главное, вам надо обосновать, почему ваше представление о «реальном» означает, что атомы реальны в «лучшем» смысле, чем такие вещи среднего размера, как лошади или люди. Наука никогда не заявляет, что атомы реальнее помидоров, — она не допускает подобной онтологической заносчивости.
Вот как соотносятся друг с другом вещи. Они, скорее, соотносятся как ноты флейты и виолончели в гостиной солнечным воскресным днем. Они отличны, и точно так же отлично целое, в состав которого они входят. Вещи отнюдь не связаны друг с другом в безвкусном вареве, в котором полностью распались все ингредиенты. Хорошо то, что современная физика тоже начинает говорить нечто подобное. Есть электроны, и есть бозоны Хиггса, которые наделяют электроны массой. Однако нельзя свести электроны к бозонам Хиггса. Возможно, существует гигантский океан гравитонов, который наделяет всё сущее пространством. Однако всё работает так, что электроны сами напоминают маленькие океаны внутри намного большего океана поля Хиггса. Океанчики обособлены, это не протоны, однако в то же время они входят в состав более общего поля, и то же самое относится к протонам. В том же смысле мы могли бы сказать, что существует конкретный оркестр, играющий совершенно конкретную Пятую симфонию совершенно конкретного Людвига ван Бетховена, и в нем есть совершенно конкретные инструменты. Виолончели — это не флейты-пикколо, не трубы и не литавры… и это не Венский филармонический оркестр, это Королевский филармонический оркестр, а композитор — не Густав Малер, а Бетховен. Нет общей размазни, называемой «музыкой», специфически оформленным сгустком которой была бы музыка Бетховена. И биосфера — не размазня, к которой можно свести всё на свете. Мыслить в такой манере было бы ужасно. И к тому же очень сложно. Если бы дела обстояли так, как дуб мог бы отличаться от панд, как они вообще могли бы возникнуть из серой размазни?
У нас есть проблема с такими словами, как часть и целое, особенное и общее. В определенном смысле целое — на самом деле лишь отдельный тип особенного, а не генерализация особенных вещей. А значит, между целым и частями пролегает прямо-таки мистичный, то есть онтологический, разрыв. Вы можете почувствовать его, если сравните пугающе мелкие и хрупкие фотографии Земли в стиле «синего марбла» с гигантскими деревьями, которые обступают вас в джунглях. Два образа разделены резким скачком перспективы. Вы можете представить, как камера наезжает и показывает деревья в джунглях, которые находятся внутри «синего марбла». Собственно, зачастую именно так сегодня и работает экологическое воображаемое. Однако это просто попытка сгладить онтологический разрыв. Возможно, лучше думать, что между двумя масштабами всегда есть внезапный квантовый скачок, поскольку всегда есть онтологический скачок между вещью и ее частями. Если бы атомы в кипящем чайнике были одушевлены, они не испытывали бы ничего похожего на мягкий поток пара, выходящего из носика. Электроны атомов просто перескакивают с нижней орбиты на верхнюю — неожиданным и случайным образом. Возможно, эстетика гладкости не задалась. Возможно, ее побочный эффект в том, что из-за нее мы ощущаем себя внутри гигантской машины, тогда как видеокамера — что-то вроде Бога, поскольку она радует нас тем, что мы можем узреть глубины Его мира, по собственной воле исследовать и заменять любую его деталь, ведь теперь можно плавно увеличивать и уменьшать масштаб, — отсюда чувство всемогущества. Но как эта идея послужила нам и другим формам жизни, если мерить сегодняшним днем?
Чувство «квантового скачка» в плане опыта намного точнее. И это наводит меня на мысль, что причина в одной глубинной черте реальности, а именно в том, что реальность сама состоит из таких скачков, поскольку вещи отличны друг от друга и уникальны. Вот вы в самолете, вы постепенно снижаетесь, снижаетесь, и вдруг раз — это зум — вы почти приземлились, и возникает совершенно иное чувство, быть может намного более взвинченное, поскольку мы начинаем соотноситься с землей. Вы что-то мямлите, и вдруг раз — зум — и вы уже женаты и у вас дети. Дэвид Бирн (с которым мы уже сталкивались чуть ранее) спрашивает: «Хорошо, как я сюда попал?»[31] И вот именно это чувство жутковатой неуместности не является, как мы выяснили в предыдущей главе, произвольным дополнением. На самом деле без него никак.
Всё дело в том, что вы уже здесь. Понимание этого дает нам ключ к тому, что такое экологическое действие, а последнее, в свою очередь, указывает на то, как надо оценивать экологическую этику и политику. Эти вопросы мы рассмотрим в следующей главе.
Глава 3. Настройка
Давайте подумаем о режиме доставки экологических советов — реже пользуйтесь машиной, покупайте в местных магазинах, экономьте энергию, то есть обо всех этих привычных «ты должен», которые слышишь снова и снова. Нам как индивидам либо читают проповеди, чтобы мы устыдились и задумались, как поменять привычки, чтобы потом, возможно, нам полегчало, когда мы решим, что другие о нас теперь иного мнения, либо читают лекции, заставляя нас прочувствовать свое бессилие, поскольку мысль о революции или каких-то иных грандиозных политических переменах, конечно, воодушевляет, но также наводит на размышления о том, что такие революции могут встретить сопротивление или же сдуться, ведь власти слишком сильны, а революции всегда кооптируются… Вероятно, они просто невозможны в том масштабе, который имел бы значение. Иногда я думаю: «Серьезно? Мне надо собрать большую группу людей и прямо сейчас начать революцию, и только тогда я смогу каким-то образом соотнестись с белыми медведями?»
Однако осознание чувственно воспринимаемого присутствия других форм жизни не обязательно требует каких-то больших идей или действий. Как насчет того, чтобы зайти в местный садоводческий магазин и понюхать растения?
Откуда берется постоянная, совершенно специфическая ориентация на будущее — на то, что надо «сделать», чтобы стать экологичным? Это своего рода гравитационный колодец, в котором может застрять экологическая мысль, размышляющая об этике и политике. Вы думаете о «будущем» как о том, что «радикально отличается от настоящего». Вы думаете: «Мне надо изменить образ мысли прямо сейчас, и только тогда мои действия обретут смысл». То есть вы мыслите в русле агрокультурной религии, которая в основном создана для того, чтобы сохранять агрокультурные иерархии. Вы пытаетесь занять правильную позицию по отношению к некоему трансцендентному принципу, то есть совершаете действия, опираясь на словарь добра и зла, вины и искупления. Агрокультурная религия (иудаизм, христианство, индуизм и т. п.) подспудно иерархична: есть верхний уровень и нижний, а само слово «иерархия» означает «правление священников». Когда вы оформляете экологическое действие подобным образом, вас засасывает гравитационный колодец, но в нем не может быть собственно экологического пространства. Во многих отношениях он совершенно бесполезен. Например, на самом деле нет причин ощущать индивидуальную вину: ваши индивидуальные действия в статистическом плане не имеют значения.
Нам не нужно представлять экологическое будущее как нечто радикально отличное, по крайней мере не в таком смысле. В этот момент у некоторых из вас возникнет желание закрыть книгу, поскольку вы только что поняли, что я просто квиетист, который не хочет заниматься таким слонами в лавке, как неолиберальный капитализм. Но вы ошибаетесь. Я говорю именно о том, как заняться слонами, учитывая, что практически все формы занятия слонами не принесли пока особой пользы нашей планете Земля (как и всем живущим на ней созданиям, включая людей). Нет ничего плохого в некоторой нерешительности, задумчивости и рефлексивности. Однако антиинтеллектуализм — любимое хобби… интеллектуала. По завершении экологических конференций обязательно кто-нибудь встает и восклицает: «Но что же мы будем делать?» И этот вопрос имеет отношение к вине, вызванной тем, что несколько дней мы просидели за размышлениями и разговорами (а быть может, и к тому, что сидеть на стуле несколько дней было просто физически неудобно).
Я собираюсь придерживаться совершенно другого подхода. Я хочу убедить вас в том, что вы уже экологичны и что для выражения этой экологичности в социальном пространстве, возможно, не потребуется чего-то такого, что было бы совершенно иным в радикальном или религиозном смысле. Но не думайте, будто в итоге ничего не поменяется, будто вы останетесь тем же, когда узнаете об экологичности. Описать то, что произойдет, довольно сложно, но что-то наверняка произойдет. Так, можно рассечь само ваше бытие чрезвычайно острым, а потому почти невидимым скальпелем. Кровоточить начнет в каждой точке. Как-то так.
Пару лет назад я давал интервью одному журналу. Интервьюер задал мне кучу вопросов вроде бы в стиле адвоката дьявола — настолько много, что я начал думать, что ему и правда не нравится мысль о том, что надо действовать экологично. Возник вопрос, как бы его убедить. Потом я спросил себя о том, является ли сам режим убеждения наилучшим способом работы с его позицией. Как я только что сказал, в режиме могут присутствовать кое-какие баги, оставшиеся от религиозных дискурсов, первоначально построенных в том числе для того, чтобы оправдать наличие широкой разделительной полосы между людьми и нелюдьми́ (коровы — здесь, лягушки — там, кошки — и в этом их привлекательность, но также, возможно, причина подозревать их — на ничейной земле между тамошним и здешним). Тогда как экологическое действие сводится, конечно, к тому, чтобы такой разделительной полосы не было.
И тут у меня возникла одна идея.
«У вас есть кошка?» — спросил я. «Да», — ответил он, немного удивившись этому простому и несколько постороннему вопросу. «Вы ее гладить любите?» — «Да, конечно». — «Ну, значит, вы уже соотноситесь с нечеловеческим существом без особых на то причин. Вы уже экологичны».
Журналисту моя реплика не понравилась. Расхожее мнение гласит, что быть экологичным — особый, совершенно отличный способ бытия, примерно то же самое, что быть монахом или монашкой. Теория действия, которая питает этот особый вид бытия, тоже покрыта религиозной патиной, совершенно старомодной и сегодня бессмысленной. Так давайте рассмотрим другой подход.
Нам понадобится определенное время, чтобы разобраться с той частью моей реплики, в которой говорится, что нечто делается «без особых причин». Как и на то, чтобы точно определить, что значит «соотноситься». Оба момента связаны с понятием, которое я буду называть настройкой. Я думаю, что мы уже экологичны, но просто не осознаем этого. Те же из нас, кто говорят, что они экологичны, скорее всего, высказываются в том модусе, у которого практически нет ничего общего с ненасильственным сосуществованием с нечеловеческими существами, которое в общем и целом я и имею в виду под экологической этикой и политикой. Такое ненасилие необязательно должно быть экстремальным, как в джайнизме. И быть может, оно неспособно притворяться совершенным или чистым. В нем полно двусмысленностей, поскольку акулы могут вас съесть, вирусы — убить, и нам, то есть людям, было бы неплохо оградить себя от вирусов и акул. Кроме того, мы не можем заранее определить, насколько широкой должна быть наша сеть заботы, поскольку наши знания о формах жизни неполны, в частности, мы не знаем, как они связаны друг с другом, и к тому же наши действия могут стать причиной дополнительных взаимосвязей, запутывая нас во всем еще больше. В этом плане ненасилие — штука скользкая и непростая.
Свобода воли переоценена
На последней паре страниц мы, кстати говоря, сделали пару шагов в сторону этики и политики, хотя вы могли этого и не заметить. Так, мы прояснили одну вещь: традиционную экологическую этику и политику можно совместить с этикой и политикой прав животных. Хотя может показаться, что они находятся в естественном родстве, некоторые полагают, что объединение двух дискурсов — фактически нерешаемая задача, нечто вроде квадратуры круга. Энвайронментализм и экология как наука обычно работают с популяциями, а не индивидами, а популяции считаются чем-то совершенно отличным от индивидов, так что, как порой утверждают критики, выступающие за права животных, само это отличие означает нечувствительность к конкретным нечеловеческим существам, например к тому, как их могут контролировать и управлять ими. В свою очередь, дискурс защиты прав животных обычно обращен на конкретные формы жизни, то есть на то, как они страдают, как с ними следует обращаться, даже если таких форм много. Однако внешнее различие в фокусировке двух типов мышления может быть не таким строгим, как кажется, и это связано с нашим предметом, а именно с нашими вопросами касательно способа мыслить целое и части. Рассмотрим строгое различие между тем, что считается средой (или экосистемой), и определенной формой жизни (отдельным животным).
Мы, к примеру, полагаем, что экосистемы (или, если уж на то пошло, популяции форм жизни) — это целостности с частями, которые соотносятся с ними механически, то есть части заменимы. Если у вас сломался двигатель, надо заменить какую-то деталь и тем самым его починить. Наука придерживается этического нейтралитета, но можно представить применение экологии как науки для оправдания той или иной не слишком приятной этики. Какая-то форма должна вымереть? Ну и ладно, целое всё равно породит новый компонент, который займет место вымершей формы. Легко понять, что защитникам прав животных не слишком нравится подобное.
Но о правах нам тоже надо будет сказать пару слов. Если мы выбираем между механическими целостностями и отдельными индивидами, как они определяются в стандартных учебниках, в которых даются определения таким вещам, тогда я не хочу иметь никакого отношения ни к тому, ни к другому. Возможно, на самом деле это две половины, больше не составляющие целое, как любил говорить философ Теодор Адорно. Проблема в том, что права, гражданство и субъектность (как и терминология, связанная с данными понятиями) — все они имеют отношение к владению вещами. Индивидуальные права основаны на правах собственности, так что, к примеру, владение самим собой, самообладание — это и есть критерий обладания такими правами. Но если у всего есть права, ничто не может быть собственностью, так что ни у чего не может быть прав. Всё просто. Язык прав вообще не может работать, если расширить его до масштаба всей Земли. Есть еще одна проблема: чтобы пожаловать кому-то права, вам, если следовать традиции, нужно показать, что этот кто-то — и правда кто-то, то есть показать, что у него имеется представление о самом себе. Соответственно, если взять пример из американского законодательства, бедному шимпанзе придется ждать, пока люди смилостивятся и признают у него наличие такого представления о самом себе. До сих пор такой подход не приносил шимпанзе особой пользы, как и большинству других нечеловеческих существ.
Вот почему таким замечательным был ответ Эквадора на политику нефтяной корпорации Chevron. Тридцать тысяч эквадорцев, живущих в амазонских джунглях, подали на Chevron иск на сумму в двадцать семь миллиардов долларов за то, что компания занималась разработками на нефтяном поле Лаго-Агрио, которые привели к сильному загрязнению верхнего плодородного слоя почвы вязкой нефтью. В 2007–2008 годах Эквадор переписал конституцию страны, включив в нее «права природы»[32]. Итак, у нечеловеческого мира есть право существовать и восстанавливаться. Если вы считаете, что это страшно антропоморфно, ничего не поделаешь. Проблема в том, что у нас, людей, нет другого способа включить нелюде́й в язык прав, кроме как подвести их под человеческий зонтик, под которым мы и сами прячемся. Сложность, как мы увидим далее, состоит в том, что многие наши средства, используемые для принятия верных решений, уже пропитаны антропоцентричными химикалиями.
Различие между действием и поведением, которое основано на доктрине средневекового неоплатонического христианства о душе и теле, определяет то, как мы проводим различие между нами самими (кому позволено действовать) и нелюдьми́ (у которых, как мы полагаем, может быть лишь какое-то поведение, как у кукол или андроидов). Но разве мы неоплатонические христианские души? Разве само бытие личностью не связано с паранойяльным беспокойством по поводу того, что на самом деле вы, возможно, не личность? Можно ли избавиться от двусмысленности, не разорвав чего-нибудь?
Есть еще одна дополнительная проблема. У таких нелюде́й, как слоны, мы наблюдаем некоторые эмоции, однако не спешим пожаловать слонам те эмоции, которые кажутся нам менее «полезными». Мы готовы признать, что слоны голодны, когда они кажутся голодными, но нам трудно пожаловать им право быть счастливыми, когда они выглядят и правда счастливыми[33]. По какой-то неведомой причине это был бы антропоморфизм, а многие мыслители-экологисты сторонятся антропоморфизма, хотя я и доказывал, что избежать его невозможно, поскольку, даже если у вас есть такая цель, всё равно есть вы, человек, который соотносится в своей человеческой манере с той или иной формой жизни. Интересно, что, по нашему мнению, чистое выживание (а потому и голод) «реальнее» того или иного качества «существования» (такого как счастье). Тот факт, что выживание как таковое, голод считаются «реальными», то есть не имеющими особого отношения к человеческому существованию, многое говорит о нас самих, — но что именно и каковы следствия для нас, не говоря уже о слонах? Экологическую катастрофу устроили во имя выживания, голого существования без какого-либо внимания к качеству существования. Объективно говоря, принятый по умолчанию утилитаризм, если рассматривать то, как мы его отыгрывали, оказался крайне вреден именно нам, не говоря уже о других формах жизни. И этим всё сказано, не так ли? Утилитаризм смахивает на разговоры про то, что остается «в сухом остатке». Возможно, нам не нравится, когда рабочие страдают, но надо же поддерживать прибыль на стабильном уровне, корпорации должны существовать и дальше, просто чтобы существовать. Два типа мышления — о выживании и о сухом остатке — выступают друг для друга синонимами.
Можно сказать, что энвайронментальный подход заботится о целом за счет индивидов, тогда как подход прав животных делает прямо противоположное: ему важны индивиды, но он жертвует целым. Кажется, мы зашли в тупик. Но обратите внимание на одну черту двух подходов. В требованиях «заботиться о целом в ущерб индивидам» и «заботиться об индивидах в ущерб целому» есть нечто общее. Они пытаются предложить убедительные причины заботиться о нелюдях. Но что, если наличие убедительной причины заботиться и было существенной частью проблемы? Сужая свой фокус, движение по защите прав животных и энвайронментализм приводят причины, которые оказываются редукционистскими. Редукционизм не обязательно означает, что большие вещи состоят из маленьких, которые реальнее больших. Иногда мы можем свести маленькие вещи к большим. Энвайронментальный подход полагает, что целостности реальнее (и намного важнее) своих частей, но в то же время может описывать части как нечто более реальное (и намного более важное), чем целое.
Мы можем начать выходить из тупика, обратив внимание на то, что так называемая среда — это просто формы жизни и расширенные экспрессии их генов: вспомните о паутине паука или же плотине бобра. Если вы думаете в подобной манере, значит, вы уже думаете о целом и частях иначе.
А когда вы думаете о вещах подобным образом, на самом деле нет разницы между мыслью о том, что называется экосистемой, и тем, что называется единичной формой жизни. То есть проблема решена.
Подобное мышление о целом и частях — ключевой компонент старой доброй теории художественного вкуса. Произведение искусства — это целое, и в нем много частей; например, материалы, из которых сделано целое, составляют лишь одну его часть. Мы также можем отнести сюда и интерпретативные горизонты потребителей искусства, контексты, в которых были собраны материалы искусства, — каковые контексты, как мы уже отмечали, выступают крайне взрывоопасным понятием. В этом плане очевидно, что частей намного больше, чем целого. В эпоху экологического сознания не существует какого-то одного масштаба, который бы управлял всеми остальными. А значит, искусство и художественный вкус не будут стоять на месте, чего как раз желают многие теории искусства (например, кантовская). В отсутствие одного-единственного авторитетного (антропоцентрического) мерила вкуса, которым можно было бы судить искусство, наш взгляд на него связан еще и с тем, в каком смысле целое всегда меньше суммы своих частей. Произведение искусства подобно прозрачному пакетику, полному глаз, и каждый глаз — точно такой же пакетик с глазами. В самой красоте обязательно присутствует нечто мистичное и даже отвратительное, и эта мистичность ощущается тогда, когда мы относимся к вещам экологично. Дело в том, что красота просто случается, наше эго ее состряпать не может. Сам по себе опыт красоты — такая сущность (entity), которая не совпадает со «мной». Это значит, что в опыте присутствует некая неустранимая мистика. Вот почему вкусы других людей могут показаться чудными или дурацкими.
Дело в том, что выбор — заботиться или не заботиться, интересоваться чем-то или нет — всё равно непременно оказывается иллюзорным. Вы всегда находитесь в пространстве заботы, всегда в более-менее истине (о чем мы говорили в предыдущей главе). Если вы говорите, что «мне на это наплевать», то вам всё же в какой-то степени не наплевать, раз вы об этом сказали. В реальном мире, когда люди говорят, что им наплевать на что-то или кого-то, за их словами зачастую скрывается очень сильный интерес.
Рассмотрим такое явление, как «безальтернативная утилизация отходов», когда вам не нужно разбирать мусор на пластик, картон, органические отходы и т. д.: утилизацией за вас занимается мусорное ведро, так что вам уже не нужно думать об этом. Некоторые сторонники энвайронментализма выступили против такой системы — к примеру, они ходили по домам в Хьюстоне (в Техасе), где я сейчас живу, и уговаривали людей подписать петиции. Но зачем? Зачем искать в новом методе признаки лицемерия? Потому что он устраняет идею свободы воли и все эти спектакли в стиле «смотрите, какой я хороший»? Представление о том, что мы находимся за пределами мира и смотрим на него, выбирая из меню какое-то определенное решение, на самом деле является опасной иллюзией.
Когда вы играете в игру наподобие крикета или бейсбола, мяч достигает биты за несколько миллисекунд. Ваш мозг за ним не поспевает. Вы можете постоянно тренироваться, чтобы успеть отбить мяч, когда он к вам попадает. Всё вроде просто. Но если задуматься о том факте, что мяч всё равно быстрее мозга, что же тогда происходит? Что бы ни происходило, это прямое опровержение неоплатонической христианской идеи, которую мы продолжаем ретвитить, — идеи о том, что у нас есть какая-то вещь вроде сознания или души, которая находится внутри нас, как газ в бутылке, и которая чем-то решительно отличается от бутылки, играя роль своего рода кукловода, дергающего за ниточки. Вы думаете, что сейчас ударите по мячу, но вы уже ударили по нему. Свобода воли, как я всё время говорю, переоценивается.
Но всё это еще страннее и интереснее. Рассмотрим один реальный сценарий. Самый быстрый на Земле игрок в «укладку стаканчиков» (есть такой мальчик) состязался с нейробиологом Дэвидом Иглманом на его шоу «Мозг», которое шло по каналу «PBS» в Америке в 2015 году. Оба игрока были подключены к сканерам мозга. Мозг ученого чрезмерно напрягается, и он проигрывает. Мозг мальчика, в свою очередь, вообще практически не работает[34]. Он как зомби. У него нет сознательного намерения разложить стаканчики, и в его голове нет никакого кукловода, который бы дергал за ниточки. Происходит нечто совершенно другое. Его способность раскладывать стаканчики находится целиком и полностью в его «теле». Быть может, мозг больше похож на диспетчера, который запускает какие-то процессы, а потом откидывается на спинку кресла и просто наблюдает? Мы, собственно, только что это опровергли: ощущение того, что решение было принято, может возникнуть чуть позже того, как мы совершили какой-то акт. Так что мозг не может быть даже перводвигателем механизма, который продолжает работать после того, как вы нажали кнопку. Скорее всего, наблюдаемая нами ситуация не является ни механической (как во втором варианте), ни оркестровой (первый вариант). Нет никакого начальника, который бы запускал машину, и нет дирижера, которому было бы нужно постоянно всё «планировать», да и, как сказал бы вам любой концертирующий музыкант (например, мой отец), дирижер на самом деле никогда так музыкой не управляет.
Обе модели имеют отношение к мифу. Миф состоит в том, что, чтобы существовать, нужно постоянно присутствовать, то есть в метафизике наличия. Модель души-и-тела, «дирижера» кажется вполне современной, поскольку она связана с менеджментом, владением, всеми теми вещами, которые соотносятся с понятием частной собственности и влияют на то, что мы творим на нашей Земле. Но, как мы только что поняли, выясняется, что это просто ретвит одного христианского неоплатонического понятия.
Кроме того, модель действия «с включением» зависит от механистической теории причинности, которая требует, чтобы в самом начале причинно-следственной цепочки находилось какое-то богоподобное существо, иначе мяч не покатится. Потом мяч механически бьет по следующему мячу. То есть механистическая теория оказывается лишь разновидностью (возможно, подновленной) теории «дирижера». А потому она попросту модификация нашего неоплатонического ретвита: душа — это возничий, а тело — повозка…
Давайте введем новое слово: априорность[35]. Оно нам очень пригодится, поскольку мне не придется обращаться к содержательному, но довольно неловкому выражению, пришедшему из одного из моих любимых философских направлений, — деконструкции. Я имею в виду знаменитое выражение «всегда-уже», которое использовалось Хайдеггером, а потом и Жаком Деррида, наследником хайдеггеровского подхода, который сам Хайдеггер называл Destruktion (деструкцией), а Деррида — деконструкцией.
Априорность указывает на такую нашу настройку на что-то иное, которая оказывается своего рода танцем, в котором нечто иное тоже уже настраивается на нас. Собственно, в некоторых видах опыта просто нельзя сказать, что настраивается в первую очередь, что логически или хронологически идет первым. Одна из подобных форм опыта — обыденный опыт красоты. Мы у него можем многому научиться — давайте же приступим.
Вы настраиваетесь
О нашей актуальной исторической фазе можно говорить по-разному — как о начале экологической эпохи, о попытке разобраться с глобальным потеплением и т. д. Но у всех подобных наименований есть общая черта: речь о переходе к более сознательной заботе о нелюдях. Все разговоры именно об этом, и вы поймете потом, что они намного страннее, чем кажется.
В ноябре 2015 года я участвовал в проекте «Ледяные часы» («Ice Watch») исландско-датского художника Олафура Элиассона. Проект представлял собой установленную рядом с парижским Пантеоном инсталляцию, которая была спроектирована так, чтобы ее могли видеть делегаты, представляющие страны Земли на двадцать первой сессии Конференции сторон по вопросам изменения климата, известной также как саммит по глобальному потеплению, который продлился тринадцать дней. В Копенгагене, примерно за неделю до установки «Ледяных часов», на кинофестивале CPH: DOX мы вместе с Элиассоном записали публичный диалог об инсталляции. На диалоге присутствовало около тысячи человек, желающих послушать разговоры об экологии и искусстве.
«Ледяные часы» состояли примерно из восьмидесяти тонн льда, собранного в Гренландии и переправленного в целостности и сохранности в Париж, где лед был собран в виде двадцати гигантских блоков, образующих круг. Сверху льдины выглядели как насечки, обозначающие время на ручных часах. Глыбы льда были достаточно велики, чтобы на них можно было залезть, посидеть или даже полежать, а поскольку никакого защитного барьера вокруг них не было, люди делали с ними в том числе и это. Проект предполагал документирование всевозможных способов, которыми вы могли получить доступ ко льду. Вы могли пройти мимо него. Можно было его проигнорировать. Можно было потрогать. Можно было протянуть к нему руку. Вы могли о нем поговорить. Вы могли представить о нем доклад на конференции под названием «Возделывать будущее» («Façonner l’avenir»). Можно было поспать на нем. Сделать это можно было без проблем, поскольку солнце растопило лед, и в нем образовались мягкие карманы, а края сгладились.
В определенной мере суть «Ледяных часов» сводилась к очевидному визуальному приколу: смотрите, лед тает, время истекает. Но это была просто приманка. На самом деле происходящее было намного интереснее, так что заранее заготовленные понятия едва не лопались от натуги, а может, даже приходилось выйти за их пределы — выйти в простом и дружелюбном, но всё же глубоком смысле. Часы — вещи, читаемые людьми. Но также это вещи, на которые приземляются мухи, которые игнорируют ящерицы, от которых отражается солнце. Пыль оседает на стеклянном корпусе часов, защищающем циферблат. Пылевой клещ совершает огромный переход и находит себе убежище на обратной стороне часов, между ними и моим запястьем. Но вернемся к тому, что я только что сказал о «Ледяных часах»: их топит солнце. Солнце тоже получает доступ ко льду. Как и мостовая. Климат Парижа тоже пробивается ко льду.
Лед, в свою очередь, получал доступ к нам. Казалось, он посылает нам волны холода или засасывает наше тепло — как посмотреть. Этот способ доступа и представлял то, как всё видел сам Элиассон: встреча с «Ледяными часами» — в определенном смысле диалог с глыбами льда, а не односторонняя человеческая беседа с зеркалом, которое случайно оказалось изо льда. Разговор такого рода идет у нас с нечеловеческими существами вот уже тысячи лет. Именно по этой причине мы оказались в дерьме под названием «глобальное потепление». Климатическим фактоидам, которые мы слышим в новостях, вторит значительная часть искусства, пытающаяся работать с глобальным потеплением и вымиранием. Например, некоторые художники составляли огромные списки форм жизни, которым грозит вымирание. Но здесь есть риск уподобиться всё тем же фактоидам, превратиться в огромный навал данных. Искусство важно для понимания нашего отношения к нелюдям, для схватывания объектно-ориентированного смысла нашего существования. И эту задачу искусство проваливает, когда пытается подражать передаче массивов данных; такая операция не является достаточно художественной. Вопрос не просто в эффективном убеждении. Фактически в этом и заключается проблема искусства экологических данных. Эстетический опыт связан на самом деле не с данными, а с данностью, то есть с качествами, которые мы переживаем в опыте, когда нечто воспринимаем. (Как я уже говорил, данные — просто «то, что дано» и отнюдь не только то, что связано с числами и диаграммами.) Эстетический опыт представляет собой опыт солидарности с тем, что дано. Это солидарность, чувство априорности, возникающее без особых причин, без какой-то особой повестки — как эволюция или биосфера. Нет никаких убедительных причин проводить различие между теми нелюдьми́, которые «естественны», и теми, которые «искусственны», то есть созданы людьми. Сохранять подобные различия становится просто слишком сложно. Поскольку же произведение искусства само является нечеловеческим существом, солидарность в художественной сфере уже является солидарностью с нелюдьми́, независимо от того, является ли искусство откровенно экологическим. Откровенно экологическое искусство — это всего-навсего искусство, которое выносит солидарность с нечеловеческим на передний план.
Элиассон хотел сделать что-то такое, что логически предшествовало бы сбору данных, не говоря уже об их распространении. Для сбора данных вам надо обладать качествами восприимчивости. Для проекта вам понадобятся соответствующие устройства сбора данных. Всё это должно вас как-то интересовать. Ученого, занимающегося глобальным потеплением, должно в достаточной мере волновать глобальное потепление, чтобы проводить эксперименты, в которых, собственно, можно что-то о нем выяснить. В опыте красоты происходит нечто схожее со слиянием разумов. Это опыт, в котором я не могу сказать, что именно служит причиной опыта красоты — я сам или же произведение искусства: если я попробую свести его к себе или к произведению искусства, я практически полностью его уничтожу. По мысли Канта, это означает, что опыт красоты подобен операционной системе, на которой работают всевозможные крутые политические приложения, такие как демократия. Ненасильственное сосуществование с тем или иным существом, не совпадающим с вами, — довольно надежное основание для нее.
Поскольку существо, вами не являющееся, — это произведение искусства, то есть оно необязательно является человеческим, сознательным, чувствующим или просто живым, мы говорим о возможности расширить демократию изнутри самой кантовской теории и включить в нее нелюде́й. Некоторых людей эта мысль пугает, в том числе самого Канта, из-за чего, в частности, он и стремился обезвредить магический ингредиент — опыт красоты, на котором работает на самом деле вся остальная его философия (подобно Хайдеггеру, он отшатывается от собственной мысли, не доводя ее до возможных радикальных выводов). Вместо этого он, скажем так, добавляет каплю опыта красоты, чтобы подперчить антропоцентрический — и вполне мелкобуржуазный — суп, но ее оказывается слишком много, и вот суп испорчен, поскольку им уже не может питаться антропоцентрический патриархат. Забавно то, что подорвать Канта, как и Хайдеггера, можно, если отнестись к нему серьезнее, чем он относится к самому себе, — данную тактику я унаследовал, разумеется, у деконструкции. Достаточно лишь увеличить объем ингредиента, с которым суп становится настолько вкусным.
Когда вы сталкиваетесь с опытом красоты, он не относится ни к чему определенному. Если бы речь на самом деле шла о тарелке супа, вам могло бы захотеться его съесть. Тогда вы бы знали, в чем тут дело: всё дело в «будущем вас», в будущем с приятно набитым животом. В определенном смысле вам было бы известно будущее такой-то вещи, такого-то объекта, то есть тарелки супа. Но поскольку суп красоты не предназначен для еды, поскольку это просто мистическое, слегка телепатическое слияние разумов между мной и чем-то, что мной не является, будущее вам неизвестно. В способ получения доступа к вещи, которую вы считаете красивой, встроено некое странное качество «еще-не». А раз красота, с моей точки зрения, в чем-то схожа с обладанием данными, но данные при этом указывают лишь на самих себя, я просто испытываю в опыте саму данность данных, того, что дано. Я испытываю в опыте то, в каком смысле данные не указывают на вещи напрямую. Не потому ли нужны ученые? Ведь они выясняют закономерности в данных, указывающие на вещи. Вот почему наука является статистической. И по той же самой причине высказывание «Люди — это причина глобального потепления» на самом деле радикально отличается от тезиса «Бог сотворил Землю за семь дней». Вам не нужно безоговорочно верить в первое высказывание. Вы можете просто признать, что оно практически наверняка соответствует истине. Вы можете быть правы на девяносто восемь процентов, и это лучше, чем грозить мне пытками, пока я не признаю то, что вы абсолютно правы, раз у вас нет другого способа быть правым, кроме как колотить меня, пока я не соглашусь.
Я также ощущаю нечто волшебное и таинственное в самом себе, когда у меня случается опыт красоты. Лед — своего рода ящик Пандоры, в который запрятана бесконечность. То же относится и ко мне. Опять какое-то «ощущение рта». Я ощущаю текстуру когнитивного, эмоционального или какого-то иного феномена. Я испытываю в своем опыте ощущение мысли, или, говоря точнее, — поскольку я не могу сказать, в чем дело, в чувстве или же в мышлении, но знаю, что это реально и что это происходит, — я, получается, испытываю ощущение истины. Словно бы я мог как по волшебству оглядеть уголки своей души и посмотреть на ту часть самого себя, которая, собственно, и обладает мыслями, тогда как в обычном случае, если я пытаюсь сделать это, я обнаруживаю просто еще одну мысль. Я не могу увидеть весь мой феноменологический стиль, полный способ моего собственного явления в один прием, поскольку тотальное событие, которое зовется «мной», доступно только проблесками. Некоторые зовут вещь, которая вечно исчезает за углом, сознанием, Кант именует ее трансцендентальным субъектом, однако, как мы уже поняли, нет особых причин держаться за эти понятия.
Каким-то волшебным образом я вижу невидимые аспекты вещи, включая и вещь по имени Тимоти Мортон. Я постигаю непостижимость вещи. Точно так же можно сказать, что я вижу будущее, но не предсказуемое будущее, а непредсказуемое. Я вижу возможность иметь будущее как таковое: я вижу будущность (futurality)[36].
«Ледяные часы», сделанные из глыб льда, были собраны Элиассоном рядом с парижским Пантеоном для того, чтобы вы могли понять: будущее — вовсе не контейнер для льдины. Оно исходит непосредственно из самой глыбы льда, то есть льдина сама создает будущее. Лед — это и правда часы. Но не часы, заведенные людьми. И даже более того, он — своего рода структура времени, структура темпоральности. Он задает трехмерные координаты прошлого и будущего. И это парадокс. Будущность — не какой-то серый туман, который был бы одинаковым и для льдины, и для протона, разогнанного где-то под Женевой. Разные объекты — разные будущности. Невыразимость или непостижимость могут существовать в самых разных видах. Всё это кажется парадоксальным лишь потому, что мы привыкли ко времени и пространству, напоминающим контейнеры, в которых сидят вещи, куда мы их укладываем и где пытаемся их удержать (и неважно, является наша попытка иллюзорной или нет). Для Канта и его последователей, в свою очередь, время есть нечто полагаемое, оно представляет собой часть эстетического опыта: время расположено перед вещами онтологически — это не океан, в котором они плавают, а своеобразная жидкость, вытекающая из вещи.
Следовательно, нам нужно проявлять осторожность, когда мы, люди, создаем какие-то проекты, поскольку мы буквально проектируем будущее, и это будущее не совпадает с нашей идеей о вещи, с тем, как, по нашей мысли, она будет использоваться и т. д., — последнее является лишь нашим режимом доступа. Будущее возникает непосредственно из самих объектов, задуманных нами. Прямо сейчас очень многие объекты на Земле проектируются по одноразмерному, устаревшему лекалу темпоральности с давно истекшим сроком годности. Этот шаблон мы унаследовали от неолитической агрокультуры — настолько он древний. Именно он дал толчок промышленности с ее ископаемым топливом, а потому и глобальному потеплению с массовым вымиранием. Выходит, проектировщикам надо задумываться о том, что именно они проектируют. Когда они что-то разрабатывают, возможно, им следовало бы мыслить в нескольких разных темпоральных масштабах. Пластиковый пакет предназначен не только для людей. Он еще и для чаек, которые в нем задыхаются, и теперь мы можем видеть это на фотографиях таких художников, как Крис Джордан, который фотографирует существ, застрявших в тихоокеанском «мусоровороте». Кружка из полистирола — не только для кофе: она будет медленно перевариваться почвенными бактериями в течение пятисот лет. Ядерное устройство предназначено не только вашему врагу. Оно и для тех, кто будет существовать через двадцать четыре тысячи лет. Диетическая кола не только ваша. Она еще и для моих зубов, для моих кишечных бактерий, которые могут погибнуть из-за содержащейся в ней кислоты. Вот почему в книге «Экологическое мышление» я ввел понятие гиперобъекта. Гиперобъект — вещь, пространственно-временной масштаб которой настолько огромен, что мы можем видеть лишь тонкие ее срезы; гиперобъекты синхронизируются и рассинхронизируются с человеческим временем; но в конечном счете они «заражают» всё подряд, если мы оказались внутри них (этот феномен я называю липкостью). Представьте себе все пластиковые пакеты, какие только есть, — все пакеты вообще, все, которые будут когда-либо существовать в каком угодно месте. Такая гора пластиковых пакетов представляет собой гиперобъект, сущность, значительно распределенную в пространстве и времени, так что за один прием вы, очевидно, можете получить доступ лишь к ее тонким срезам, и подобный способ существования, разумеется, трансцендентен по отношению к простым человеческим режимам доступа и человеческим масштабам.
Время течет из вещей
Всё испускает время, не только люди. Поэтому когда мы говорим об устойчивом развитии (sustainability), на самом деле мы в основном говорим о поддержании некоей рамки темпоральности, соразмерной человеку, и этого можно добиться только за счет других существ, то есть вполне вероятно, что мы их вообще в таком случае не учитываем. Что именно мы можем устойчиво развивать, если не одноразмерную агрокультурную темпоральную трубу, которая засосала в себя все формы жизни, подобно пылесосу, поскольку работает уже двенадцать с половиной тысяч лет? И проектирование разных вещей по этому шаблону принесет в конечном счете (то есть уже принесло) вред и людям, что вполне очевидно, ведь всё, что мы знаем и понимаем, и даже то, чего мы не знаем и не понимаем, неизбежно связано друг с другом. Когда начальник нацистской пропаганды Йозеф Геббельс слышал слово «культура», он хватался за пистолет. Я же, когда слышу словосочетание «устойчивое развитие», хватаюсь за солнцезащитный крем.
Всё, что мы рассматривали на нескольких предшествующих страницах, представляется вам этическими и политическими следствиями кантовского опыта красоты, чем-то чудесно незакрытым, поскольку та будущность, которую открывает произведение искусства, является безусловной, то есть она не подвержена постепенному разложению. Невозможно исчерпать значение даже одного-единственного стихотворения, картины или музыкальной пьесы, а стало быть, произведение искусства является своего рода порталом, который позволяет вам бросить взгляд на безусловную будущность, выступающую условием возможности предсказуемых будущих. Искусство, быть может, — лишь небольшой уголок в нашем распланированном совершенно сознательно (или даже слишком сознательно) — и слишком утилитарном — социальном пространстве, в котором мы позволяем некоторым вещам делать с нами это. Что бы стало, если бы мы позволили всё большему числу вещей иметь ту или иную власть над нами?
Отсюда не следует, что функциональные вещи должны быть красивыми, как говорил социалист Уильям Моррис. Дело в том, что, согласно такой точке зрения, вещи — это просто неоформленные сгустки, лишенные каких-либо украшений. Но мы говорим, что никаких таких сгустков не существует. Есть глыбы льда, люди, солнечный свет, Пантеон, белые медведи. Цель не в том, чтобы взять такие вещи, как диваны и дома, и сделать их красивыми в том смысле, который (к примеру) по карману представителям рабочего класса. Вещь такого рода страдает тем же синдромом, что и устойчивое развитие: она выполнена в антропоцентрическом масштабе.
Точно так же мы не можем сделать то, что считаем противоположностью, а именно сказать, что искусство красиво в своей бесполезности, и, если вы не цените его, это ваша проблема. Ведь тогда вы вновь допускаете, что его функция для людей, то есть его актуальное антропоцентрическое функционирование является базовой функцией. Искусство — то место, где вам удается понять, что значит быть человеком, или что-то в таком роде, и именно поэтому то, чем я занимаюсь, называется гуманитарными науками. Но этого недостаточно, что становится понятным, когда, к примеру, пишешь заявки на грант, которые выглядят какими-то ходатайствами. Пожалуйста, не обижайте меня, господин Источник Финансирования. Я такой образованный пиар-парень, который приукрасит скучную булку сциентизма замечательными цукатами гуманитарных смыслов.
Экологическое сознание сводится, по сути, к пониманию того, что есть множество разных форматов темпоральности. Оно равноценно безоговорочному признанию существования существ, которые отличаются от вас и с которыми вы сосуществуете. Как только признание сделано, отменить его не получится. Пути назад нет.
Заколдовывание: причинность как магия
До сего момента я не слишком выходил за пределы элементарного, вполне себе кантианского Канта. Ну разве что совсем немного. Но теперь я собираюсь вывести регуляторы на кантианском микшерском пульте на максимум, чтобы добавить острых ноток, которые сам он допускает только в микроскопических дозах. Вернемся к нашему бедному претенденту на грант, а также к сторонникам «искусств и ремесел», начиная с Уильяма Морриса. Что блокируется их языком? Блокируется тот факт, что искусство — на самом деле не просто украшение. Оно может действовать как причина. Оно что-то с вами делает. Платоники были правы: искусство всегда приводит в волнение (возможно, приятное, но не всегда), и такое волнение как следствие воздействия искусства не входило в ваши планы, а потому его можно с полным правом назвать демоническим, в том смысле, в каком демоны — это посланники богов, то есть речь идет о послании из некоего другого места. Платоники правильно определяют силу искусства, а потому некоторые из них (включая самого Платона) хотят запретить его или же подвергнуть строгой цензуре. Произведение искусства что-то с вами делает, и потому, если вы думаете, что что-то сделать вам могут только формы жизни, само по себе это представляется фактом несколько мистичным и непонятным. Если вы к тому же думаете, что только у людей есть волшебная способность наделять вещи смыслом и темпоральностью, тогда шок будет еще больше, поскольку, как я уже доказывал, искусство испускает время, и на его примере мы узнаём, как вообще любая вещь испускает время. Она проектирует ваше будущее точно так же, как вы проектируете ее будущее.
Кант хочет, чтобы мы слышали это не более чем на десять процентов, но это очень важный ингредиент общего микса, без которого не обойтись. Однако, по Канту, если вы услышите больше, вам будет грозить опасность чар или заколдовывания, препятствующего опыту красоты, что, с точки зрения его учения, недопустимо. Допустимо, когда нас что-то ошеломляет настолько, что мы лишаемся дара речи, но только если вы всё же не влюбляетесь в источник такого эффекта, не зовете его на свидание и тем более не позволяете ему позвать на свидание вас. Кант признает, что возникает своего рода слияние разумов, но лишь до какого-то предела, и это на самом деле имеет отношение к тому, как вы, то есть человек, вменяете вещам реальность. Ведь, по Канту, на самом деле опыт исходит от вас, а не от произведения искусства. Загадка разгадана. Результатом оказывается расколдовывание. Мы можем расслабиться. Кант не превратился в Йоду. Что, конечно, было в планах, поскольку он сам был большим фанатом паранормального (возможно, в том же смысле, в каком гомофобов неотвратимо влечет гомосексуальность). Он сам был зачарован, что, однако, возмущало или вовсе пугало его. Поэтому, хотя Канту пришлось включить в свою теорию идею о том, что вещь на самом деле работает в силу слияния разумов с нечеловеческим существом, он значительно ограничил ее, так что вы бы даже не заметили, оставил лишь микроскопическую каплю «субстанции Йоды», основу супа, ингредиенты которого вы ощущаете, даже если не понимаете, что они собой представляют.
Под «субстанцией Йоды» я имею в виду настоящую Силу, о которой говорил немецкий врач XVIII века Франц Антон Месмер и которая так влекла Канта. По словам Месмера, животный магнетизм, Сила, порождается формами жизни, она окружает их и проникает в них — как в том случае, когда Дарт Вейдер делает рукой хватательное движение и, подобно гипнотизеру, внушает человеку мысль о том, что он задыхается. Животный магнетизм по всем параметрам и способам применения совпадает с Силой из «Звездных войн»; как отмечает Оби-Ван Кеноби, это «энергетическое поле», которое «окружает» нас и «проникает» в нас, и мы можем взаимодействовать с ним для исцеления кого-либо или для причинения вреда[37].
В этом и состоит проблема с искусством, не так ли? Оно засасывает нас, и неважно, говорит ли оно истину, ведь оно такое более-менее истинное, оно не является истинным или ложным, однако оно всё равно распространяет вокруг себя невероятное колебание истины, оно притягивает меня своим лучом и может даже сказать: «Твое маловерие, Тим, удручает», а потом задушить меня на расстоянии. Искусство телепатично — это жуткое дальнодействие, которое как раз не нравилось Эйнштейну в квантовой теории. Оно приводит вещи в движение, не касаясь их. Вместе с тем искусство остается глубоко двусмысленным: мы не можем сказать, говорит оно нам истину или лжет. Оно двусмысленно и могущественно — в одно и то же время и по одним и тем же причинам.
Я могу, когда меня захватывает опыт красоты, раствориться. Искусство как особая вещь может настолько хорошо со мной сойтись, что я просто исчезну. Композиция группы My Bloody Valentine, если вывести ее на максимум, может и правда меня убить. Но мне самому от нее оторваться невозможно. От голоса оперной певицы, входящего в совершенный резонанс с физической структурой бокала, последний взрывается. Возможно, опыт красоты подобен в какой-то мере слабому сигналу, предупреждающему о смерти, сигналу, который зажигается в моем пространстве опыта. Возможно, красота в определенном смысле представляет собой смерть, как, собственно, и говорили эстеты-декаденты. Она служит напоминанием о том, что вещи хрупки, поскольку, когда одна вещь обволакивает другую, последнюю может накрыть настолько, что она распадется. Возможно, когда Оскар Уайльд сказал на своем смертном ложе: «Я вступил в смертный бой с этими обоями: или я, или они», он говорил истину в буквальном смысле слова. Его высказывание казалось шуткой лишь в силу наших предубеждений, в частности идеи о том, что явление поверхностно, тогда как сущности (essences) по природе своей остаются за гранью явления. Мы думаем, что желтый цвет не может так много значить. Кстати говоря, обои победили.
Так что, когда я переживаю в своем опыте красоту, я сосуществую по крайней мере с одной вещью, не являющейся мной, — вещью, которая не обязана быть сознательной или живой. Я сосуществую с ней в непринудительном смысле, в котором возможность смерти вполне ощутима, однако всё же разбавлена или подвешена. Мы сосуществуем, мы солидарны. Меня что-то преследует, я зачарован, заколдован, я под властью чар, вещи могут выйти из-под моего контроля, но они не выйдут, по крайней мере пока. Настоящее разваливается, и я остаюсь с неопределенной, призрачной будущностью, которая как раз и есть то, чем случается быть этой глыбе льда. То, как она выглядит, как ощущается, где покоится, ее масса и форма — всё то, что мы можем назвать явлением, представляет собой прошлое. Глыба льда — своего рода вокзал, на котором прошлое и будущее проносятся мимо, не касаясь друг друга, а то, что я ошибочно называю «настоящим», — своего рода относительное движение двух проносящихся мимо поездов прошлого и будущего. Я называю его «теперешним» (nowness), чтобы отличить от овеществленного атомарного «настоящего», которого, по-моему, вообще на самом деле не существует. Вещь — это в точности то, как крошится печенье, как оно могло бы раскрошиться еще больше, и мне приходится сосуществовать в слегка грустном, меланхоличном пространстве, где случилось крошение и где открывается неопределенное будущее. Вам известно, что все печенья крошатся. Именно поэтому они и могут быть печеньем. Вещи изначально хрупки, во всех них есть фатальный изъян, позволяющий им существовать, поскольку они всегда именно то, что они есть, и никогда не то, как являются. Они трансцендируют все режимы доступа, однако они уникальны и определенны. Разрыв между бытием и явлением — разрыв онтологический, то есть вы не можете указать на него, он относится к самой сути вещи, и именно из-за него печенье может крошиться. Даже черные дыры испаряются.
А поскольку это не соотнесено ни с каким конкретным антропологическим масштабом или каким-то частным масштабом эго, когда обнаруживается разговор красоты и отвращения или уродства, вы не можете его устранить. Разговор идет между объектами и так называемой абъекцией, — данный специальный термин используется некоторыми мыслителями для описания функций тела и отношения тела со своими симбионтами, от которых западный человек-субъект научился себя отличать. Чем больше мы узнаем об объектах, как они понимаются в ООО, тем больше понимаем, что не можем вычистить из них их «абъектные» качества, поскольку они никогда не бывают первозданными чистыми вещами, они всегда в отметинах и заусенцах, в них полно разных нестыковок и аномалий, как, собственно, и в людях. А поскольку вы находитесь в пространстве истины, вы ведете разговор с актуальностью, хотя это, возможно, не ваша актуальность или не человеческая актуальность. Произведение искусства не может быть всего лишь репрезентацией. У вещи могут быть на вас, что называется, планы. Это чувствуется в гравитационном притяжении, в телепатической магии вещи. По той же причине возникает разговор между наличием цели или функции и существованием за пределами цели или функции, поскольку функция или цель вещи не исчерпывает ее. Возможно, план или функция отнюдь не ваши, а цель вовсе не какая-то конкретная человеческая. В таком случае, выходит, вы ведете разговор с утилитаризмом, то есть разговор о счастье, но о чьем счастье и какого рода? Отсюда, в свою очередь, следует, что вы ведете разговор с тем, что вы, возможно, считаете неодушевленным предметом, таким как глыба льда, то есть вы даете себе увязнуть в телепатическом слиянии разумов с тем, что человеку-субъекту видится самой страшной участью, а именно превращением в объект. А поскольку пространство истины более-менее истинное, то есть оно хотя и не очевидная истина как таковая, но всё же насыщено данными более-менее истины, вам неизвестно, истинно оно или нет: произведение искусства — это ложь, говорящая правду, или, возможно, тот род истины, что лжет. Вас телепатически соблазняет существо, которое, возможно, лжет.
На самом деле речь о существах, во множественном числе, так что всё намного, намного хуже или, наоборот, лучше. Ведь в произведении искусства по определению намного больше частей, чем целого произведения, причем, опять же по определению, вам нельзя дискриминировать ни ту сторону, ни другую, то есть нельзя считать, что части важнее целого, или, наоборот, целое важнее частей, или, наконец, что одна часть важнее остальных, поскольку это означало бы обнаружение определенной цели, а у опыта нет такой возможности. Она бы его уничтожила. Данный вывод определяется тем аспектом теории ООО, с которым мы уже сталкивались (и который я здесь отстаиваю): всегда есть множество частей, которые превосходят целое, а не целое, которое бы полностью поглощало все части. Произведение искусства субсендируется (subscended) своими частями. Мы в какой-то мере уже разобрали понятие, скрывающееся за данным термином. Напомню то, что я уже доказывал: целостности переполнены своими частями; в некоем фундаментальном, но кажущемся странном смысле целое меньше суммы своих частей.
Эти части — еще и малые структуры темпоральности, малые вокзалы внутри вокзалов, множественные лучи, затягивающие нас, толпы гипнотизеров. Возможно, они составляют бесконечный регресс, — их же не проверишь. Поскольку вам известно, что нельзя свести такое-то пятно краски к чему-то, что им не является, например к его частям (каким-то мелким кристаллам или мазку), нельзя исключить его причинно-следственное воздействие на вас. Вы понимаете, что свобода воли наверняка переоценена, и нам потребуется какое-то другое химическое вещество, с которым мы будем сосуществовать, но не права, субъектность, гражданство или свобода воли. Нас манят порталы бесконечности. Максимальное эстетическое притяжение и отталкивание, как хоррор, наложенный на порно. И вы всё равно не можете оторваться. Это не трансцендентная красота, но всё равно красота. Иначе говоря, это не лучший друг вашего буржуазного субъекта, но, скорее, нечто наподобие анархической революционной армии извивающихся частей, ползающих вокруг и внутри вроде как плотного и единичного куска сыра.
Китч — субсендентная часть красоты, преследующая — как призрак — антропологически откалиброванные формы красоты. В определенном смысле китч, или отвращение, — это Сила Икс (как в «Людях Икс») самой красоты. Без нее красота не могла бы состояться.
Возможно, вы сошли с ума.
Все вещи, которые Кант пытается отцензурировать, возвращаются, не уничтожая опыта красоты как такового. В самом деле, они составляют глубинный уровень его воздействия, выступая тем, без чего он не может обойтись.
Не бывает совершенного проекта
Это не обычный утопистский или левацкий способ критики теорий, касающихся нашего отношения к искусству, или эстетики. Обычный способ заключается в следующем: вы говорите, что искусство представляет собой лишь конструкт и на самом деле не существует, то есть оно, скажем так, выступает всего-навсего способом воспроизводства человеческой буржуазной идеологии, основанным на присущих буржуазии идеях вкуса. Я же говорю, что на самом деле искусство — это небольшой, но узнаваемый фрагмент некоего гораздо более обширного и в основном нечеловеческого мира влияний и проектов, которые к нам совершенно не сводятся и попирают наши представления о том, что «кому» принадлежит и кто всем управляет, из-за чего кажется, будто в причинности есть нечто анимистическое или паранормальное. Искусство вовсе не клей, служащий для фальшивой связки таких буржуазных дихотомий, как субъект и объект. Я говорю об особой субстанции, токсине, опасном для антропоцентризма, механистических теорий каузальности, закона непротиворечивости и обычного утилитаризма. Например, закон непротиворечивости — важная опора западной философии, однако он не был доказан, он просто декларировался (впервые его постулировал Аристотель в книге «Гамма» своей «Метафизики»). Его легко нарушить, и точно так же несложно вывести определенные логические правила, позволяющие некоторым вещам быть противоречивыми. Поскольку экологические сущности (entities) по определению противоречивы (они сделаны из всевозможных вещей, ими не являющихся, у них размытые границы и т. д.), нам лучше дать себе разрешение нарушать этот мнимый закон, по крайней мере чуть-чуть[38].
Искусство лишь отчасти работает в качестве машины воспроизводства человеческой буржуазной идеологии — когда вы добавляете его в суп самую малость, не слишком внимательно исследуете его или же считаете украшением. Но, присмотревшись к нему, вы бы увидели всевозможных субсендентных микробов, которые кишат внутри, и каждый такой микроб пытается вас загипнотизировать.
Подобная встреча с искусством говорит нам кое-что о встрече с любой спроектированной вещью. Потому-то и можно спать в ледяной скульптуре, что люди и делали с «Ледяными часами» Олафура Элиассона. Точно так же туристы могут снимать селфи на ее фоне, и с этим ничего не поделаешь. Вещь переполнена частями, масштабами, темпоральностями и сексуальностями, так что она никогда не подстраивается полностью под наш вкус, под стандарты хорошего вкуса, но отсюда вовсе не следует, что она всегда исключительно уродлива или что красота и уродство — ложные категории. Это означает, что красота — дикая, призрачная, навязчивая, как привидение, несводимая, жутковатая. И причинная. А стало быть, различие искусств и ремесел или искусства и дизайна разваливается, оставляя нетронутым различие между тем, для чего существует вещь, и ее открытостью, будущностью. Часто говорят, что «красивое» — противоположность «полезного». Красивое считается обузой, и именно поэтому современный мир в значительной своей части уродлив. Но на самом деле красоту, полезность и бесполезность вообще нельзя разделять. Вот почему каждое решение оказывается политическим. Решением позволить часам быть посадочной площадкой для мухи. Пластиковому пакету — убийцей птиц. Картине — быть увиденной только теми людьми, которые могут заплатить за входной билет. Проживая в здании, спланированном так, чтобы отводить грязный воздух куда-то еще, мы понимаем, что «где-то еще» значит «больше нигде», поскольку все на одной и той же планете.
Такое существование-между манит и раздражает; оно означает, что у вас никогда не будет совершенного проекта или устройства. Ведь из взаимосвязанности не следует, что есть очевидное целое, очевидным образом трансцендирующее свои части, целое, которое больше, лучше и круче своих частей, тогда как части — просто детали в машине целого. Политическая система — тоже вещь с определенным устройством, спроектированная вещь, так что это относится и к тем видам будущей политики, которые нам требуются. Включение кроликов означает исключение болезней, смертоносных для кроликов. Я понимаю это буквально. В силу взаимозависимости, когда вы заботитесь об одной сущности или группе сущностей, другая (или несколько других) остается в стороне. Биоцентрическая экологическая философия ошибается, когда говорит, что у вируса СПИДа есть такие же права на существование, как и у человека, больного СПИДом. Нам надо сделать выбор. И я, разумеется, выберу больного СПИДом.
В силу разрыва между бытием и явлением быть вещью как таковой значит нести в себе глубокий изъян; чтобы просто существовать, у вас должна быть невидимая внутренняя трещина, пронзающая вас насквозь. Так что сеть вещей не может быть совершенной, и вещь сама по себе не может быть совершенной. Вы не можете запечатать будущность, чтобы время не вытекало из вещей и не причиняло неудобств, не можете достичь конца истории, которая ныне включает в себя историю, рассказанную деревьями, геологическими слоями и паттернами погоды. Вам придется проектировать свою улицу со знанием того, что в какой-то момент ее будут переходить лягушки. В какой-то момент она станет частью геологического слоя. В какой-то момент от лужицы отразится солнечный луч и ослепит водителя, что приведет к смерти пешехода. В какой-то момент… Дорога открыта, и всё же это именно такая-то конкретная дорога, такое-то черное дорожное покрытие с белыми полосами на нем.
Здесь мы узнаём кое-что о проектировании и дизайне. Дизайном могут заниматься люди, но также и нелюди — они им занимаются постоянно. Вспомните об эволюции. Это определенный дизайн, но без дизайнера. В более широком смысле нет ничего, что существовало бы без какого-либо дизайна. Нет такой вещи, как необработанная материя, которая бы ждала, пока ей придадут какую-то форму. Представление о такой материи — экологически опасная фантазия так называемой западной цивилизации. На самом деле любая вещь в какой-то мере выступает историей о том, что с ней случилось. Мое лицо было «спроектировано» угревой сыпью. Стекло было разработано стеклодувами и резчиками. Черная дыра была распланирована гравитационными силами гигантской звезды. И главное, вещи в принципе не могут быть необработанными поверхностями, которые могли бы форматироваться лишь человеческой формовкой или же проекцией желания.
Соответственно, вопрос в том, с кем или с чем мы собираемся объединить силы, какие именно аффордансы[39] предоставим будущим существам и как позволим состояться призрачной передышке от насилия, потенциально бесконечному круговороту удовольствий и боли с нами и без нас, подобному глазу, который оказывается пакетиком, полным гипнотических глаз, — состояться так, чтобы передышка не провалилась так быстро. Ведь мы занимались провальным бизнесом довольно долго, мы в нем и правда преуспели, и сегодня он убивает не просто пчел, но и нас самих. Так что я лучше позволю субсендентной красоте произведения искусства держать меня своими бесконечными притягивающими лучами, как пакетик с гипнотизирующими глазами. Что делать с этими незваными гостями? Я думаю, пусть пока побудут поблизости.
В настоящей красоте присутствует «эффект новогодней елки»: в ней намечена скользкая дорожка к китчу, и в нем мы замечаем «отвратительную кромку» красоты, то есть существует больше субсендентной красоты, чем под силу справиться красоте нормализованной. И когда я говорю об искусстве, это не просто метафора, которая помогла бы нам понять качество существования. Субсендентная природа искусства подразумевает, что экологическое искусство, которое так себя именует, не может заключаться в каких-то духоподъемных постерах, изображающих величие горных цепей. Оно должно вовлекать уродство и отвращение, мистичное наваждение, чувство нереальности в той же мере, что и чувство реальности.
В свою очередь, экологическое сознание не может быть чистым, первозданным, святым. Почему не может быть экологии для нас, простых смертных? Для тех из нас, кто не хочет идти в поход, а, скорее, хотел бы натянуть одеяло на голову и слушать всё утро странную готическую музыку? Когда мы сможем начать смеяться — и не просто оздоровительным и чистосердечным смехом, но и с иронией, ощущением комичности, избыточным чувством радости? На что был бы похож экологический анекдот?
Способ настраивания
Этот раздел я начну с цитаты из психоаналитика Жака Лакана: «Les non-dupes errent». Это каламбур, построенный на его собственных выражениях «le nom du père» («имя отца») и «le non du père» («нет отца»)[40]. Обе фразы связаны с тем, как мы понимаем символический порядок, в котором живем, то есть с тем, как усваиваем такие структуры власти, как патриархат, и наделяем системы власти речью. Когда Лакан переворачивает выражения, он имеет в виду следующее: если вы полагаете, что во всем разобрались и что вы видите всё насквозь, именно в этот момент вы больше всего заблуждаетесь. Конечно, забавный момент состоит в том, что на данное высказывание распространяется его собственная истина.
Поскольку вещь невозможно понять в ее полноте или непосредственно, на нее можно только настроиться, достигнув большей или меньшей степени близости. Такое настраивание не является «всего лишь» эстетическим подходом к протяженной субстанции, по сути своей бессодержательной. Раз явление нельзя полностью отодрать от реальности вещи, настраивание — это живое динамическое отношение с другим существом, и оно никогда не достигает завершения.
Экологическое пространство настраивания — это пространство лавирования, поскольку в нем невозможно сохранить жесткие различия между активным и пассивным, прямым и кривым. Когда корабль лавирует, что он делает: идет против волн или, наоборот, они его гонят, как он выбирает свой курс — целенаправленно или случайно? Рассмотрим пример адаптации. Все мы полагаем, что нам известно, что это такое. Но, если задуматься, адаптация — сложное и крайне любопытное явление. Эволюционирующий вид приспосабливается к другому эволюционирующему виду, а то, что мы по привычке называем «окружением» (которое кружит вокруг), состоит из других форм жизни и того, что один дарвинист назвал «расширенными фенотипами», то есть из результатов мутаций их ДНК и их симбионтов (примерами таких расширенных фенотипов может быть паутина пауков или плотины бобров)[41]. Одна подвижная мишень адаптируется к другой мишени, которая, в свою очередь, зажата в постоянно видоизменяющемся пространстве адаптации. Такой процесс просто по определению не может быть «совершенным», поскольку совершенство означало бы, что движение остановилось, тогда как адаптация — это просто движение в пространстве адаптации. Следовательно, совершенство означало бы завершение адаптации, каковое функционально невозможно, пока эволюция сохраняется, а вместе с ней и формы жизни. И поэтому, когда мы говорим, что форма жизни x «полностью адаптирована» к водовороту фенотипов — включая и «ее собственные», например ее также-постоянно-эволюционирующий бактериальный микробиом, — мы несем чушь, что-то вроде «круглого квадрата». Мы пытаемся сдержать или остановить, пусть даже исключительно в мыслях, лавирование жизненных форм, настраивающихся друг на друга. Телеология — мысль о том, что вещи случаются в соответствии с некоей конечной целью (а потому цели оправдывают средства), — служит топливом «совершенной адаптации», но именно с такой телеологией, то есть аристотелевскими представлениями о развитии и вырождении видов, как раз и было покончено благодаря дарвинизму[42].
Феномена адаптации самого по себе должно хватить для признания того, что настраивание и есть модус осуществления причинно-следственной связи. То есть модус причинности как таковой: именно так один шар бьет по другому шару, именно так фотон испускается кристаллической решеткой и точно так же армия вторгается на чужую территория, а фондовый рынок обрушивается. Рассмотрим, что происходит, когда голос оперной певицы настраивается на винный бокал. Когда настраивание достигает максимальной точности, бокал взрывается[43]. Вспомним о том, что в эпоху палеолита изображения или танцы, представляющие нелюде́й, считались частью самого процесса охоты на нелюде́й. Шаман подражает движениям и привычкам жертвы, он инсталлирует ее в собственном теле, позволяя последнему резонировать с нечеловеческими способностями и качествами. Люди — необязательно Пакман-подобные существа[44], перемалывающие всё подряд, — хотя такой способ мышления и был модным несколько последних столетий западной философии (и особенно диалектической философии Гегеля). Люди — это чувствительные хамелеоны.
Особый и весьма показательный способ адаптации мы обнаруживаем в синдроме, который называем камуфляжем. Осьминог приобретает расцветку того фона, где примостился. Палочник исчезает в листве, чтобы скрыться от хищников. На базовом уровне быть живым — значит адаптироваться, не исчезая вместе с тем целиком, то есть защищаться своим настраиванием, но не до полного растворения. Из этих скромных примеров того, что кажется «всего лишь» эстетическим, должно стать ясно: настраивание — не тот случай, когда есть некое пустое и глыбовидное субстанциальное существо, поверхностные качества которого настраиваются, тогда как субстанция остается той же самой, что вроде бы, по нашей мысли, должно происходить, когда мы настраиваем скрипку, но забываем о том, что струны, дерево и изгиб скрипки образуют такое единство, что настройка струн путем подкручивания колков на шейке скрипки — не то же самое, что установка приложений на смартфоне, поскольку у скрипки «платформа» сама меняется при натяжении или ослаблении струн. Настраивание глубинно, а не поверхностно, и именно отсюда возникла легенда, согласно которой Будда учил медитации как определенной форме настраивания: струна ситара не должна быть ни слишком тугой, ни слишком провисшей, и точно так же фокусировка сознания на предмете медитации — мантре, дыхании, любом предмете, на котором фокусируется медитирующий, — должна быть внимательной, но расслабленной. Взаимодействие между «внимательностью» и «расслабленностью» образует динамическую систему, которая просто не может стоять на месте, из-за чего возникает феномен, с которым сталкиваются многие новички в медитации. Мысли у них постоянно скачут, поскольку они наблюдают внутренние, а не поверхностные качества сознания как такового: сознание мыслит (в самом широком смысле слова), сознание «сознает», так же как океан волнуется волнами. Движение представляет собой внутреннее качество. Этот факт становится особенно интересным, когда предметом медитации оказывается само сознание, то есть когда сознание настраивается на сознание. В таком случае предмет опыта — вовсе не ничто, а некое странное бытие, которое невозможно пришпилить к наличию, на которое я мог бы указать пальцем[45]. И на то есть глубочайшая онтологическая причина: явление (волны) — внутренне присущее бытию (океану) качество, но всё же оно отлично.
Форма жизни похожа на один обязательный для XVIII века эквивалент нашего iPod и колонок Bose — эолову арфу. Это струнный инструмент, который ставят на открытое окно. Он входит в резонанс с ветрами, гуляющими возле дома. Производимый такой системой настраивания тягучий и гармоничный, немного неземной звук кажется странным образом современным, словно бы герои Джейн Остин слушали дроун-группу Sonic Youth, когда пили свой чай, играли в карты и интересовались намерениями мистера Бингли в «Гордости и предубеждении». Однако чай и карты — тоже системы настраивания. В данном случае они выступают характерным для высшего класса режимом потребительского перформанса, где основным тоном, по которому настраивается система, является создание и поддержание определенного чувства «комфорта»: в общении должна сохраняться непринужденность, а помехи в статус-кво следует свести к минимуму. Всё это аристократическое настраивание — зона дроуна, устойчивых тонов, подверженных минимальным отклонениям. Пространство вежливого общения, если конвертировать его в звук, было бы и правда похоже на какую-нибудь дроун-композицию Sonic Youth.
Рассмотрим также «богемные» или романтические (то есть рефлексивные) перформансы в потребительском пространстве, — перформанс высшего уровня мы называем консюмеризмом, поскольку сегодня он поглощает все остальные режимы[46]. Рефлексивный потребительский перформанс очень похож на медитацию, поскольку человек настраивается в нем на собственный опыт: первоначально потребляется именно опыт, который всегда опыт другого, как в феномене посещения магазинов без намерения купить или же в интернет-серфинге. Можно с полным правом сказать, что такое настраивание выступает своего рода «духовностью», примеры которой даны применением наркотиков, блужданием фланера или же психогеографией радикальных французских ситуационистов конца 1960-х годов.
То, как вы являетесь, и то, кто вы есть, тесно переплетено друг с другом. У обычного одноклеточного организма есть химическая, более или менее точная, репрезентация той области, в которой он плавает. Полное соответствие — совпадение химических составов — означало бы смерть, которой как раз и может называться такое состояние, когда вещь на самом деле полностью отождествляется со своим окружением. Поразительным исследованием данного факта является работа Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия»[47]. Копировать, мимикрировать, влиять и испытывать влияние, настраиваться и настраивать — всё это мы постоянно делаем в наших средах, с другими людьми, когда растем и учимся быть взрослыми, участвовать в той или иной деятельности, и, когда происходит такое настраивание, действует какая-то причинно-следственная связь, вот почему мы думаем, что «первобытные» люди (то есть не-мы) воображают, будто фотографии крадут у них души. Репрезентация и действие не так уж далеко отстоят друг от друга. Если я сфотографировал вас, разве я в определенном смысле не завладел какой-то вашей частью? В определенном плане я и правда сделал это, причем совершенно буквально: фотоны, на которые повлияло ваше тело, когда они от него отразились, приземлились на объектив моего фотоаппарата, когда я щелкнул затвором.
Возможно, фотографии на самом деле крадут у вас душу. Или, пожалуй, фотографии показывают вам, что ваша душа вообще не ваша и что она наверняка не внутри вас, она не может быть каким-то паром в бутылке. Следовательно, область настраивания выступает чем-то вроде месмерического пространства животного магнетизма. В самом начале Нового времени данная сила одновременно открывается и вытесняется. Когда в фильме «Темный город» герой выясняет, что может «настраивать», это означает, что он обладает способностью к телекинезу: он способен совершать жуткое действие на расстоянии (о котором говорил Эйнштейн)[48].
Хотя Новое время предоставило агрокультурной логистике возможность разрушать Землю даже с большим успехом, чем раньше, оно также — по непреднамеренной иронии — высвободило не-агрокультурную («палеолитическую») идею взаимосвязанной, каузально-перцептуальной эстетической силы. Феноменологическая и герменевтическая философия (некоторые из ингредиентов этой книги) позволили заново открыть настраивание — о чем я вскоре расскажу. В Новое время люди заново открыли нечеловеческих существ за пределами разравнивающего всё подряд и овеществляющего понятия Природы, созданного словно специально для того, чтобы глушить наше чувство пространства настраивания, — возможно, так же, как «хорошо темперированный» клавир разработан для того, чтобы сократить число призрачных гармоник, преследующих звук в силу того, что он всегда должен быть физически воплощенным: не существует звука как такового, чистых тонов, есть лишь звук струны, звук какого-нибудь генератора синусоид. Следовательно, у объектов есть так называемый тембр, который не может быть каким-то произвольным дополнением. Явление похоже на что-то в этом роде: лучше понимать его не в рамках зрительной метафоры, не как какое-то украшение на торте, а скорее как тембр объекта, его одиночное качество, составленное из обширного множества внутренних и поверхностных качеств, благодаря которому объект есть то, что он есть, и в то же время связан со своим местом и с другими объектами вокруг него.
Мы заново открыли лавирующее братство и сестринство нечеловеческих существ, ранее приглаженных и упакованных в виде Природы и собственно «среды». Родство, как в сестринстве, как в роде человеческом, имеет отношение именно к жутковатой близости, в силу которой искусственно произведенный гуманоид, «репликант» Рой выкрикивает это слово («Родство!»), когда одной рукой затаскивает истекающего кровью врага на крышу высотного здания в конце «Бегущего по лезвию» — врага, воплощенного в агенте Декарде и принадлежащего тому же роду (что им обоим неизвестно)[49].
Так что в результате несколько мистичного и ироничного поворота бегство человечества от «лавирования», то есть бегство от нашей собственной материальной воплощенности, от тембра, грозящего нам родством с шимпанзе, рыбами и дрожащими за окном листьями дерева, завершилось возвращением к лавированию. Гегель описывает, как история свершается на своей теневой стороне, и заявляет, что сова Минервы (тотем справедливости, символ Афин) вылетает в сумерках[50]. Однако сова Гегеля не просто вылетела с наступлением сумерек. Она залетела прямо из одного сновидения в сны спящих, убежденных в том, что они уже проснулись и смахнули с себя все пережитки так называемой первобытности. Изучая настраивание, мы изучаем то, что присутствовало всегда: экологическую близость, то есть близость между людьми и нелюдьми́, которая была подавлена силой, что само привело к насилию.
Начать отслеживать полет — значит резко сменить курс на лавирование. И первым делом мы могли бы спросить — в контексте какого-нибудь сборника статей о лавировании и экологии, — действительно ли существительные не интересны, пока мы не уподобим их глаголам, то есть не наделим их потенциалом действия или силой, ведь существительные обозначают вещи, а вещи — это же статические сущности, скрывающиеся за явлениями, которые, как я утверждал, находятся в постоянном движении. Рассмотрим такое существительное: будущее. Будущее, или, как убедительно называл его Деррида, l’avenir (грядущее), радикально открытое будущее, служащее самим условием возможности предсказуемого будущего: действительно ли термин «будущее» не волнует, не приводит в движение? Что происходит в конце этого предложения? Грядет ли его смысл? Пребывает ли он в полной мере? Предложение что-то значит, однако вы пока не вполне понимаете, что именно, словно бы смысл, то есть тон, на который оно настраивается, лежал как раз за его концом, как слон, водоросль, вспышка гамма-излучения. Так вещь ли будущее? И что такое вещь? Не протаскиваем ли мы контрабандой базовую, принимаемую по умолчанию онтологию, еще даже не успев начать думать или говорить о мышлении, когда говорим, что «вещь» — это существительное, что существительное статично и что оно должно приводиться в движение, чтобы получить право войти в сборник статей о лавировании? Необходимо все объекты, какие только есть в мире, загнать в стойло, а потом прогнать их строем, пока они не свалятся от усталости, ведь именно такая работа делает их свободными?
Разве за всем этим не скрывается бинарная оппозиция движения и покоя, поддерживающая базовые (и в то же время неправильные) механистические теории причинности? Бинарная оппозиция, которая к тому же выступает частью искусственного, социального пространства неолитической агрокультуры, которой, чтобы воспроизводить саму себя, со временем понадобились выбросы углекислого газа? Основополагающее влечение (статичное или в движении?) ограничить (глагол; значит, с ним всё хорошо?) онтологическую двусмысленность (существительное; значит, оно под подозрением?), — влечение, которое является структурным (а куда деть прилагательные?) постнеолитическим социальным пространством, с его суровым темперированием пространства настраивания, превращенным в выкрашенную сепией антропоцентрическую согласованность с телосом «выживания».
Объектно-ориентированная онтология, как и деконструкция, — это способ мыслить, желающий снова сбить нас с толку, чтобы мы перестали понимать положение вещей, считающееся само собой разумеющимся. Язык как таковой сам входит в состав этого принимаемого за данность мира, и мифы о происхождении письма рассказывают о том, почему оно — неприятный сосед, жутковатая и странноватая сестра речи, подвижного, текучего, «живого» силового поля, которое, по легенде, напрямую связывало нас друг с другом до Падения, до современного города-государства. Неолитическое общество с его линейным письмом А и линейным письмом Б, нужными для учета скота, с длинными списками существительных, подобными накладным или же записям в бухгалтерских книгах, — это аутоиммунное расстройство, распространяющееся на собственные онтологические протоколы. Оно сводит мир к антропоцентрически откалиброванной материи, поддающейся манипуляциям, причем ему самому не нравится то, что оно делает, — разве не таково основное содержание историй о происхождении мира, известных по агрокультурным религиям? Теперь нам приходится пахать поле, а это отстой, ведь пахота отделяет нас от зверей и от собственной жизни, которая могла бы не ограничиваться выживанием (кровью и потом), но пахать надо. Нам не нравится сверхъестественная подвижность письма, его призрачная дифференциация и отсрочка, то есть тот факт, что оно не ограничивается учетом, составлением списков разного барахла. Нам нравятся четкие границы между письмом и речью, между моим полем и твоим, между Небесами и Землей, Богом и Человеком, человеческим и нечеловеческим (известным также под именем Природы), царем и крестьянином, глаголом и существительным. Однако столбики двойной записи в гроссбухе говорят нам об учете, который никогда не останавливается, в отличие от фантазий о том, как обнулить накладные и счета. Ведь кредит настраивается на дебет, а дебет — на кредит, то есть у нас имеется динамическая по существу система настраивания. Предложения никогда не обнуляются. Возможно, эти феномены объясняют то, почему мы говорим, что есть только две совершенно надежные вещи: смерть и налоги.
Если письмо действительно изобрели в агрокультурную эпоху (по крайней мере, тогда и правда был изобретен определенный, вполне узнаваемый, вид письма, а именно дискурс учета), письмо — обоюдоострый меч, одновременно яд и лекарство, или фармакон, как любил говорить Деррида[51]. Представляется, что письмо выступает частью влечения к манипулированию, кодификации и собиранию, которые необходимы для четкого отличения одного от другого. Однако сама попытка разграничения — причем ООО заявляет, что причина в том, что оно онтологически, а не только лингвистически невозможно, — вызывает призрака радикально свободной, не поддающейся манипуляции игривости вещей, риффы которой становятся заметны даже в пределах языка, когда тщательно выстроенные намерения идут наперекосяк, а противоречивые сорняки прорываются сквозь трещины в социально-философском асфальте. «Чума» — это глагол или существительное? Может быть, нам нужен какой-то философский инсектицид или гербицид, которым можно было бы опрыскать слова и объекты, чтобы избавиться от их двусмысленных полутеней, от покрывающей их бактериальной слизи, от их трикстерских качеств? «Трюк» — это глагол или существительное?
Язык не желает стоять на месте. По какой причине? Согласно ООО, дело в том, что вещи вообще не хотят стоять на месте, даже если с любой возможной точки зрения они пребывают в полном покое.
Аромат духов соблазнительно лавирует между глаголом и существительным: со временем появляются «нотки», поэтому духи обращены к будущему, — как долго сохранится их аромат? Во что он превратится? Духи так дразнят нас, поскольку они то и дело меняют направление, настраиваясь на человеческую кожу. Поэтому, возможно, лучше было бы мыслить объекты ООО так, словно бы все они в данном отношении были подобны духам. Слово «эссенция» может означать внутреннее бытие и в то же время внутренний аромат, и именно поэтому духи могут называться эссенциями, отсюда «essential oil» — «эфирное масло». Духи настраиваются на кожу, испуская различные запахи в разные моменты времени в зависимости от того, кто ими пользуется. Мы позволяем духам лавировать, а они заставляют нас лавировать к ним или от них. Почему тогда не карандаши, не пепел, не звездорылы?
Давайте начнем лавировать между овеществленными категориями. Овеществленными, объективированными, превращенными в простую «вещь», — мы снова за старое, снова думаем, что быть вещью — наверняка худшая участь из всех возможных. Способ применения объекта в ООО — это зеркало, в котором вы видите отражение собственных предрассудков относительно объектов. Если вы полагаете, что они объективированные, статичные, подлежащие манипуляции сгустки чистой протяженности, украшенные привходящими качествами, то есть если вы думаете, что им нужны глаголы, чтобы прийти в движение, или прилагательные, чтобы похорошеть, — значит, вы решите, что я просто сбрендил.
«Колебание». Глагол или существительное? Движение или покой? Лавирование колеблется: в определенном смысле колебание — это квант лавирования. Так что мы начнем процесс лавирования, взяв вроде бы совершенно другой курс, не зная, начинать ли вообще. Возможно, вы приметесь изучать протоколы дисциплины под названием «социология» и спросите себя: как мы дошли до этого? И сможет ли такое риторическое отклонение, такой путь косвенных приемов (assay of bias), как говорит герой «Гамлета» Полоний, такая крученая подача поймать скользкого карпа правды (carp of truth), как говорит всё тот же Полоний?[52] Если оно что-то ловит, будет ли это больше похоже на схватывание (когда вы бросаетесь с руками в холодную воду и хватаете рыбу) или же на захваченность? В последнем случае меня гипнотизируют рыбешки, я не могу оторваться от их резких движений, так что мои глаза тоже начинают подергиваться в глазницах туда-сюда, подобно рыбам. Когда я ловлю рыбу, возможно, нужно, чтобы она меня поймала.
Нецивилизованные действия
Макс Вебер был одним из первопроходцев социологии как научной дисциплины, созданной около века назад, однако структурный принцип социологии исключает фундирующее понятие, на котором она основана, а именно понятие харизмы. Вебер утверждал, что общества, основанные на харизматической власти, то есть общества с вождями, которые излучают ощущение того, что могут вести за собой, поскольку им присуща какая-то сила (тут можно вспомнить о раннем христианстве или исламе), уступают место «расколдованным» бюрократическим обществам, то есть, к примеру, современным европейским государствам. Однако социология не объясняет заколдовывание. Социология сама расколдована, она действует в точности как бюрократическое общество, которое, по словам Вебера, служит истоком расколдовывания; социология — составная часть логистики того, что Вебер называл «расколдовыванием мира».
Социология боится понятия, введенного ее собственным основателем, понятия, которое немного пугало и в его времена, поскольку харизма связана с силами, которые многие называют сверхъестественными или паранормальными. Как и Канта, Вебера и самого крайне влекло паранормальное. В целом модерн — то есть мировую историю с конца XVIII века — можно считать неким крайне неловким танцем, в котором паранормальное то затягивалось в круг, то, наоборот, исключалось из него. Например, Фрейд разрабатывал свои теории для того, чтобы вымарать теорию гипноза, которая, в свою очередь, была способом цензурирования идеи животного магнетизма, гипотетической силы Месмера (о чем мы уже говорили). Маркс утверждает, что капитал заставляет столы подсчитывать стоимость, словно бы они были еще мистичнее танцующих столов квазирелигии спиритизма, которые, казалось, приходили в движение, когда дух овладевал медиумом[53]. И так далее — стоит только начать искать, можно найти немало примеров этой тайной, пока еще не рассказанной истории модерна, замысловатого танца известного и неизвестного, видимого и невидимого, нормального и паранормального[54].
Еще раньше паранормальное было вытеснено религией, поскольку религия стала тем способом монополизировать харизму (как называл ее Вебер), который неолитическое общество стало применять около двенадцати тысяч лет назад. Религия постановила, что харизма должна означать качество, присущее тем, кто уже могуч, то есть ограничила ее царем, у которого прямая линия с Богом, назойливо жужжащим у него в ухе и повелевающим говорить народу, что ему делать, но никогда не велящим одного: «Упраздните агрокультурное общество, создавшее патриархат и тиранию во имя чистого выживания, и вернитесь ко временам охотников и собирателей, к менее иерархическому и менее кровавому сосуществованию с нечеловеческими существами». Ведь это было бы нелепостью. Боже упаси отречься от антропоцентрической равной темперации, в силу которой всё остальное подстраивается под наш базовый телеологический тон. Ведь иначе вышел бы смешной примитивизм, разве не так?
В общем, все мы еще месопотамцы. Мы люди неолита, столкнувшиеся с катастрофой, вызванной неолитической фантазией о гладко функционирующей агрокультурной логистике, и мы хотим сохранить философские основания последней во что бы то ни стало, ведь иначе… Это же немыслимо, это был бы какой-то обскурантистский нью-эйдж, неофашистский примитивизм (дополнительные эпитеты можете поискать самостоятельно…).
Столь яростное сопротивление прямо пропорционально не невозможности или сложности подобного упразднения, а, скорее, тому, насколько просто было бы его провести. Это не значит, что мы отказались бы ото всякого контроля над нашей жизнью. У нас просто был бы другой контроль. Мы, например, всё равно могли бы заниматься сельским хозяйством, ведь им занимались многие охотники и собиратели; совершенно не обязательно цепляться за неолитическую модель.
Провести такое упразднение было бы несложно, поскольку логика, подкрепляющая неолитическую логистику, страдает вполне очевидными (когда начинаешь их изучать) парадоксами, ведущими к когнитивному и социальному насилию (в общепринятом смысле насилия между людьми) и экологическому насилию (в общепринятом смысле насилия по отношению к нелюдям). В равной темперации полно неловко втиснутых и кое-как состряпанных частот, которые нужны именно для того, чтобы устранить «биения», возникновение ритмически пульсирующих звуков между отдельными тонами, поскольку человек, играющий на инструменте, должен отбивать на нем ритм в согласии с человеческим телосом мелодии, каким он представляется в данный момент. Биологической истиной остается то, что мы не совсем из неолита: возраст наших тел составляет три миллиона лет, и в них немало неандертальской ДНК и тому подобного, но то же самое верно в философском и политическом смысле. Поскольку не бывает совершенной адаптации к своему фенотипу, сам поиск совершенства, заметный сегодня в производстве генномодифицированных семян, которые должны отличаться устойчивостью к пестицидам, обязательно приведет к разрушительным последствиям самого разного толка. Равная темперация глушит блуждающие гармоники тембра инструмента, монокультура глушит биологическое разнообразие, логоцентризм глушит игру означающего… а мечта об «экологическом обществе» как беспредельной эффективности (фантазия совершенного настраивания) глушит непростое сосуществование разных форм жизни. Мы думаем, что лавирование нам не по вкусу, — пока гитарист не сыграет несколько риффов.
Не только поборники — благодетели — неолитического общества держат курс в сторону от лавирования. Те, кто вроде бы должны находиться по другую сторону разделительной полосы, а именно «глубокие экологисты» и анархо-примитивисты, тоже всего лишь воспроизводят агрологистику и ее вредное понятие Природы, идею о радикальном различии между людьми и нелюдьми́, поскольку считают необходимым видеть в человеческом социальном пространстве войну против таких вещей, как «сорняки» и «болезни», — ведь их теории радикальной дистанции от нормы всё еще строятся на том, что норма и правда служит нормой. Все эти подходы по-прежнему ориентируются на бинарную оппозицию. Подобные понятия различия как жесткого разделения людей и нелюде́й свойственны именно агрологистике, стратегии выживания любой ценой, которая появилась в начале голоцена и создала петли обратной связи, которые более чем известны нам в силу События Массового Шестого Вымирания, то есть того факта, что, в частности, пятьдесят процентов живых существ, которых биология называет животными (противопоставляемыми, кстати говоря, грибам и вирусам), были стерты с лица земли антропогенным глобальным потеплением в последние пятьдесят лет. Экологическая мысль требует различия иного рода. Конечно, совершенно очевидно, что слизень отличается от панды. Но отличается он так, как может отличаться дальний родственник, а не в смысле белого и черного, различия «здесь» и «там» или добра и зла.
На самом деле было бы слишком легко демонтировать философское основание нашего «мира» (или «цивилизации»). Без такого основания он бы просто рухнул. Единственная вещь, которая мешает нам пойти на это, — привычные инвестиции в мир, заметные по сопротивлению ветровым электростанциям: нам нравится, когда наша энергия остается невидимой, когда она запрятана в подземные трубы, ведь только так можно наслаждаться видами. Простого упоминания о переменах в нашей системе энергообеспечения уже достаточно, чтобы воскресить призрак сконструированности нашей так называемой Природы. Подумайте о птицах, которых убьет турбинами! (Подумайте о целых видах, которые были стерты с лица земли потому, что турбин не было. Да и могут ли птицы «полностью адаптироваться» к нефтепроводам?) Подумайте о снах, которые мы потревожим! Всё время мы только и делали, что настраивали мир на антропоцентрические тона, то есть отграничивали пространство настраивания. Возможно, нам придется учить птиц настраиваться на ветряки, а это такая морока. Мы хотим, чтобы в нашем статичном танатологическом мире нам было уютно.
Смерть, как отметил Фрейд, уютна: напряжение между вещью и существами, шныряющими вокруг нее, снижается до нуля. Клеточная стенка прорывается, и внутреннее содержимое клетки выливается в окружающую среду. Бокал лопается, и различие между ним и окружающим пространством исчезает. Беспокойство и чувство жути вызывает как раз-таки жизнь, все эти энергии, струящиеся вокруг, обмены между внутренней средой организма и внешней, обмены организмов — в любом возможном физическом и метафорическом (а также метафизическом) смысле слова. Смерть же означает либо полное небытие, либо непрерывное повторение одного и того же, кружение по кругу, как в вечном двигателе, — вот что я имею в виду. Часто смерти очень много в поп-композициях, поскольку смерть — нечто весьма гладкое, легко усвояемое; когда я говорю о смерти в поп-музыке, я имею в виду совершенно очевидные, но кажущиеся многим тусклыми правильные ритмы в размере четыре четверти, все эти навязчивые мелодии, на которые так легко подсаживаешься. И художник может либо обмануть смерть, либо сам стать смертью. Многие поп-певцы суть воплощения смерти, поскольку смерть всегда выходит в чарты. Не путайте сентиментальную лирику и танцевальные мелодии с жизнью. Горячечное, маниакальное повторение и есть то, что Фрейд называет влечением к смерти. Песни такого типа пытаются раздробить энергии жизни на аккуратные пакетики смерти. С такой точки зрения проблема некоторых разновидностей поп-музыки не в низком или плохом вкусе. Проблема в том, что это смерть, умеренно (но не слишком) разогретая, чтобы приобрести вкус. Смерть достаточно сильна и убедительна; тогда как жизнь хрупка и непостоянна. Раковые клетки маниакальны, они могут воспроизводиться (повторять себя) намного лучше обычных клеток, то есть они живее нормальных клеток, и именно поэтому они вас убивают.
Забавно, что, если вы попытаетесь избежать смерти, в конечном счете вы ее, возможно, накликаете. Задумайтесь о том, что мы едим бургеры и жареную картошку, чтобы не сталкиваться с горьким вкусом танина. Горечь — это вкус, который распознают даже новорожденные, безо всякой культурной тренировки, то есть с самого рождения они могут скорчить гримасу, показывая, что чувствуют что-то горькое. Горечь — признак яда. Но в малых дозах некоторые яды очень нужны; тут можно привести пример витаминов, которые в большом количестве приводят к серьезным заболеваниям, но если вообще обходиться без них, то можно заболеть. Возможно, вы хотите есть бургеры, поскольку вам не нравится горький вкус. Но тогда вы быстрее умрете от сердечного приступа или инсульта. Жизнь — это равновесие между полным уклонением от каких-то веществ и особой дозировкой, в которой вы снова и снова их потребляете.
Многие из наших маниакально-навязчивых действий — когда мы, к примеру, постоянно моем руки мылом, сегодня еще и антибактериальным, — и есть то, что приносит смерть в ее разных экологических формах (вспомним о сверхустойчивых бактериях). Маниакальное бегство от смерти и есть смерть. Это мистическая петля обратной связи, в которой запуталось общество нашего типа.
Упразднение основ агрокультурной логистики требует упразднения «метафизики наличия», то есть идеи о том, что для существования нужно присутствовать постоянно. Существовать, в соответствии с такой трактовкой, — значит быть сгустком протяженной материи, которая скрывается за явлениями. Реальность — это пластичная необработанная поверхность, ждущая, что мы (люди) напишем на ней, что нам захочется: «Куда хочешь сегодня пойти?» (реклама Windows в 1990-е годы); «Просто сделай это» (Nike), «Решаю я» (Джордж Буш), «Мы создаем реальности» (пресс-конференция по войне в Ираке, 2005 год). У метафизики наличия есть устойчивый привкус, который заключается в базовых, принимаемых по умолчанию теориях субстанций. Мы, ученые, думаем, что выше их, однако они определяют нашу физическую жизнь, которую мы рады воспроизводить, и мы ретвитим их в виде более крутых, надушенных, обновленных версий, которые спекулятивный реализм называет корреляционизмом, представляющим собой кантианскую (и посткантианскую) идею о том, что вещь нереальна, пока ее не отформатировали Субъект, История, человеческие экономические отношения, Воля к Власти или Dasein… В определенном смысле подобные теории даже хуже (поскольку деструктивнее в экологическом отношении), чем обычная разновидность онтологии субстанций. Объясняется это тем, что корреляционизм считает вещи не сгустками, а своего рода чистыми листами или экранами. У сгустков хотя бы три измерения. Представьте, что можно, как делают некоторые, доказывать, будто синие киты существуют только потому, что мы так говорим (то есть они суть социальные конструкты, дискурсивные продукты эпистемических формаций, концепты, проецируемые нами на какие-то сгустки морской материи)… И знаете, какое-то время это работало, никаких синих китов не осталось…
Собственно, данный конкретный вид, к счастью, еще до конца не вымер. Его вымирание пока не произошло потому, что в середине 1970-х люди были очарованы записями голосов синих китов. Очарованы — в смысле? Если говорить в категориях харизмы, это значит, что некоторые из нас попали под влияние энергетического поля, излучаемого звуками китов. Тот факт, что в моей сфере (то есть в академии) это совершенно неприемлемый, совершенно недопустимый способ описания случившегося, являет собой болезненную и одновременно приятную иронию. Вы не можете говорить, что какие-то вещи происходят из-за вибраций. Так говорят только хиппи. А мы не хиппи. Мы клевые чуваки в черных костюмах — и лучше умрем, чем наденем то, что один комик называет «цветастой, мешковатой, как бы этнической одеждой». Мы только и делаем, что стараемся не быть похожими на Йоду.
И если настраивание служит топливом для лавирования, то харизма — топливом для настраивания. Харизма заставляет нас колебаться, дрожать в ее силовом поле.
Но что, если бы харизма была настоящей? Что означало бы генерирование такого энергетического поля? Прежде всего то, что искусство — не просто вишенка на торте. А еще — и этого всегда боялась «цивилизованная» философия со времен Платона — что искусство (как страшно!) оказывает на меня воздействие, над которым я не властен. Искусство демонично: оно проистекает из некоей неувиденной (или даже невидимой) потусторонности, которой я не распоряжаюсь и которую не могу воспринимать напрямую, как если бы она лежала прямо передо мной, наличествовала постоянно. Опасное причинно-следственное мигание: магия. Магия — табуированная причина и следствие, немыслимая причина и немыслимое следствие: либо смешные, либо опасные, либо невозможные, либо причудливо сочетающие все эти характеристики, как в истории Фрейда про чайник. (Как нечто может быть одновременно невозможным и опасным?) Мы говорим о том, что Эйнштейн называл жутким дальнодействием, под которым имел в виду квантовую запутанность и которое также означает то, что произойдет, если вы попробуете себе зрительно представить часовню Ротко, даже если сами находитесь в другом месте, даже если вы никогда в ней не были или даже никогда на самом деле не видели ни одной картины Ротко, даже открытки с изображением его картины, но просто слышали о Ротко.
Часовня Ротко — это не связанное с какой-то определенной деноминацией пространство в центральном Хьюстоне, одна из последних работ Марка Ротко, она расположена прямо за домом, где я живу. Это прохладное темное помещение, в котором стены украшены гигантскими версиями характерных для Ротко абстрактных полей вибрирующего цвета, в темно-фиолетовых, синих и черных тонах. Мы можем, как обычно, утверждать, что харизмой живопись Ротко наделили люди, — вполне приемлемый способ объяснения по-гегелевски. Мы делаем царя царем, инвестируясь в него. Но что именно мы инвестируем? Психическую энергию, которая, как вы помните, выступает способом отцензурировать животный магнетизм, похожий на Силу из «Звездных войн». Что, если такая установка является не только совершенно мазохистской, но и попросту неверной? В конце концов, как доказал Шрёдингер, можно полагаться на то, что по крайней мере две мельчайшие вещи (электрон, фотон) могут быть «запутаны» таким образом, что если сделать что-то с одной вещью (например, поляризовать ее или изменить спин), то другая будет моментально, то есть быстрее, чем допускается скоростью света, поляризована соответствующим образом. Этот комплементарный акт осуществляется на любом произвольном расстоянии. Можно наблюдать две частицы с таким поведением на расстоянии нескольких километров друг от друга: одна может быть на одной стороне города, другая — на борту спутника и т. д.; под произвольностью мы здесь имеем в виду «даже если другая частица находится в другой галактике». Сегодня физики экспериментирует с масштабами, которые в триллионы раз превышают масштабы электронов и фотонов, и получают положительные результаты. Например, вы можете запутать подобным образом кластеры атомов углерода, которые называются из-за их формы бакиболлами: они похожи на геодезические купола Бакминстера (Баки) Фуллера. Можно ввести микроскопический, но видимый камертон в состояние квантовой когеренции и увидеть (невооруженным глазом), как он вибрирует и в то же время не вибрирует. Вы можете остудить микроскопическое, но всё же видимое зеркало почти до абсолютного нуля и изолировать его в вакууме — чтобы ничто не могло воздействовать на него механически — и наблюдать, как оно мерцает, колеблясь безо всякого механического импульса[55]. На сегодняшний день не было обнаружено каких-либо лазеек, то есть нет какой-то лежащей в основе субстанции, которая бы, например, означала, что на самом деле перед нами не две частицы, а одна[56]. Сущности различаются. Но они разделены не полностью. (Идея напоминает о том, что я недавно говорил о потребности экологического мышления в различии иного рода.)
Причинность — сама по себе магия. Однако магия и есть то, что мы всё время отчаянно пытаемся уничтожить.
Магия включает в себя причинность и иллюзию, взаимопереплетение причинности и иллюзии, которая в языках с древнескандинавскими корнями известна также как «мистичность» («weirdness»). «Мистичный» — значит странный на вид, но также имеющий какое-то отношение к року[57]. Неолитическая онтология хочет, чтобы реальность не была мистичной. Со временем мистичность сужается до карт таро и смутных замечаний о синхронистичности. Но что в таком случае означает сплетение иллюзии и причинности? Оно означает, что способ явления вещи — не просто произвольное декоративное оформление сгустка протяженности. Явление как таковое — и есть то место, где живет причинная связь. Явление крепко припаяно к вещам как таковым, к их сущности, хотя само слово «припаяно» тут не подходит. Явление и сущность напоминают две разные «стороны» ленты Мёбиуса, которые суть «одна и та же» сторона. «Мистичность» («weird») означает не что иное, как скрученную петлю, если обратиться к этимологии. Минимальная топология вещи — это лента Мёбиуса, поверхность, которая в каждой своей точке лавирует, так что скручивание повсеместно. Дело в том, что явление вещи отличается от того, что она есть, и в то же время явление от нее неотделимо. Нет очевидной линии разрыва между тем, что такое вещь, и веще-данными. Настраивание подобно изучению ленты Мёбиуса, особого объекта в форме скрученной петли. Сделать такую петлю несложно: оторвите тонкую бумажную ленту, скрутите ее, а потом соедините вместе концы. Вы увидите, что, проведя пальцем по такой ленте, вы попадете на «другую сторону», если вести отсчет от точки, с которой вы начали, пускай вы ни разу не «перескакивали» на другую сторону. В этом есть нечто мистическое, поскольку получается, что у такой формы только одна сторона.
К неудовольствию сциентистской идеологии, господствующей в нашем мире, и неолиберализма, заставляющего нас относиться по-сциентистски к себе самим, друг к другу и к другим формам жизни, само представление о том, что явление — это и есть место пребывания причинности, принадлежит канону современной науки. Аргумент Юма заключался как раз в том, что при изучении вещей вы не можете увидеть причину и следствие как таковые. Всё, что у вас есть, — это данные, а причина и следствие — это просто корреляции данных. Поэтому вы не можете сказать: «Люди вызывают глобальное потепление», «Сигареты вызывают рак» или же «Пуля, которой вы в меня стреляете, прижав дуло к моему виску, меня убьет». Вы можете сказать: «Существует девяностосемипроцентная вероятность того, что…» — открывая тем самым возможности для отрицателей, которые на самом деле отрицатели модерна, не желающие отказаться от неуклюжей, механистической, видимой, постоянно наличествующей причинности, на которую можно указать.
Как мы уже поняли, Кант обосновал эту обескураживающую идею: всё, что у нас есть, — это данные, но не потому, что ничего нет, а именно потому, что вещи есть, однако они изолированы от нашего способа их схватывания. Пример Канта: капли дождя падают вам на голову, они мокрые, холодные, сферические. Это данные капель дождя, а не сами капли. Однако это капли дождя, а не резины. Они дождекаплевидные: их явление переплетено с тем, что именно они суть[58]. Как доказывает Кант, искусство дает нам ощущение данных, данность данных или просто данность. Ощущение-данных выступает, по его словам, пространством настраивания, единственным местом во всем универсуме, в котором может происходить месмерическое колебание — колебание крайне важное, поскольку оно поддерживает существование априорного синтетического суждения, ведь в таком опыте у меня появляется магическое ощущение чего-то потустороннего моему (схватываемому) опыту, вкус трансцендентальной потусторонности, которую Кант желает сузить до границ способности трансцендентального субъекта к математизации. Однако аналогия Канта — и именно по данной причине он боится аналогий — это капля дождя, а такие математизируемые качества капли дождя, как размер и скорость, тоже относятся, по его словам, к области явления.
Эстетическое измерение — это необходимая опасность, маленькая отцензурированная зона месмерического настраивания, без которой мы не знали бы, что есть мистический зазор между тем, что такое вещи, и тем, как они являются, причем именно благодаря ему мы знаем, что должны относиться к существам, называемым нами людьми, как к целям, а не средствам, ведь то, как вы меня применяете, полностью меня никогда не исчерпывает. Благодаря такому настраиванию я в конечном счете открываю, что мое внутреннее пространство бесконечно, как «TARDIS» доктора Кто. Но, если следовать внутренней логике «Критики способности суждения» Канта, пускай и не ее явной аргументации, столь же вероятно и то, что прекрасная вещь внутри тоже больше. Опыт говорит нам, что, возможно, какая угодно вещь — тоже «TARDIS». Ведь опыт красоты — именно тот феномен, в котором я не могу сказать, кто его начал: я или вещь. Однако Кант приходит к выводу, что на самом деле отсюда всё же следует, что его начали мы (субъект). То есть это значит, что я не слишком отличаюсь от других вещей, таких как сверчки и даже биты для крикета[59]. Но также получается, что сверчки и биты для крикета особенны в том отношении, в каком я считаю особенным самого себя как личность. Следовательно, биты для крикета могут быть каким-то образом немного более «живыми», а сверчки (пожалуй, и летучие мыши тоже) — в каком-то смысле «людьми». Безумие, да? Неудивительно, что вам не позволяется говорить такие вещи вслух в университетской столовой.
Небольшой кусок месмерического, магического динамита заложен в ключевой точке архитектуры модерна: тон, насыщенный гармониками, которые не вполне настроены на человеческие телеологические координаты, а потому вызывают «отвращение». Трансцендирующий самого себя субъект гарантируется таинственной силой, проистекающей из не-субъекта («объекта»). Я могу быть тем, кто решает, включен свет в холодильнике или нет (корреляционизм), однако сначала всё равно нужен холодильник, по какой-то причине меня к нему тянет. Народ саамы из северной Скандинавии долго подавляли жадные корпорации и государство, занятое самоутверждением. Почему тогда саамы не желают ответить порчей на ту порчу, которую навели на них глобальные корпорации? Причина в том, что это связало бы их культуру с культурой корпораций во взаимном пространстве настраивания, то есть их культура была бы искажена подобной попыткой[60].
Люди странные, когда ты чужой[61]
Вещи — в точности то, что они есть, и вместе с тем никогда не то, чем они кажутся, а отсюда следует, что они практически неотличимы от тех существ, которых мы называем людьми. Человек — это существо, которое так вот и лавирует. Как только мы начинаем понимать различие не как жесткое различие, а как жутковатое родство, на что я уже указывал, мы понимаем, что люди намного больше похожи на нелюде́й, а нелюди намного больше похожи на людей, чем нам хочется думать, — и две фразы не вполне сходятся друг с другом. Радикально неразрешимым вопросом является то, сводимы ли мы к чему-то бесчувственному, несознательному, безличному, или же вещи, отличные от нас, например лисы или чайные кружки, сводятся к чему-то более высокому, в частности к личности, как она обычно понимается. Я мог бы быть андроидом, а андроид мог бы быть личностью, и это самое большее, что мы можем сказать. Устранение неопределенности за счет сведения одного к другому и есть то, что называется насилием. Если я решаю, что вы просто машина, я могу как угодно вами манипулировать. Если же я решаю, что вы человек, а человек значит «не машина», тогда я могу решить, что остальные вещи, напротив, просто машины, и ими-то как раз манипулировать можно.
Я наигрываю мелодию под названием «я сам», на которую вы настраиваетесь, но она сама настраивается на вас, так что у нас получается ассиметричный разрыв между «мной самим» и мной, между мной и вами[62].
Мы живем в мире трикстеров. Наше поведение в мире, этика мира трикстеров — всё это имеет отношение к сохранению сослагательности и колебаний в модусе «быть может». И к настраиванию. Как я уже говорил, в контексте мысли о жизни настраивание представляет собой танец между полным становлением вещью, абсолютным камуфляжем полного растворения (выступающего разновидностью смерти) и постоянным отгораживанием от вещи (что является другим видом смерти), механическим повторением, создающим стены, в частности клеточные стенки. Между «я есть то» и «я я я» — другими словами, между сводимостью к какому-то другому материалу («я просто куча атомов или механических компонентов») и полной отличенностью от него («я человек, и только некоторым существам выпало быть людьми»). То, что называется жизнью, больше похоже на сверхъестественное дерганье между двумя типами смерти, отклонение, внутренне присущее тому, как вещь сохраняется, являясь, как говорят некоторые авторы, метастабильной. Некоторым вещам, чтобы оставаться одними и теми же, надо отклоняться. Вспомните о том, что окружность — это просто линия, которая в каждой своей точке отклоняется от самой себя благодаря соблазнительной силе числа, существующего в измерении, перпендикулярном измерению рациональных чисел (числа пи).
Я часто водил гостей в часовню Ротко, а потому собрал немало прекрасных примеров, показывающих, что, если вы боитесь искусства или критичны к нему (возможно, вас учили, что оно всегда является продуктом политической репрессии, буржуазной чувствительности, мистификации, призванной сбить вас с толку, или чего-то в таком духе), тогда настраивание, которое в ней происходит, покажется вам скорее неприятным. Дело в том, что вы не можете отмахнуться от него или списать со счета как какой-то нереальный идеологический эффект. Здесь на самом деле что-то происходит: нет, ни в коем случае, выведите меня отсюда поскорей! Поскольку часовня «религиозна», вы не можете поместить картины, развешанные по стенам, в ящик с наклейкой «Искусство». Поскольку же «религиозность» здесь не конкретна, а скорее что-то наподобие свободно парящей «духовности», вы в то же время не можете засунуть ее в ящик концептуальности. Религия превращается в нечто вроде художественного вкуса, а художественный вкус превращается в нечто вроде духовного созерцания. Два этих превращения не слишком хорошо ложатся друг на друга. Поэтому вам не так-то легко отмахнуться от того, что вы чувствуете, признав в чувстве всего лишь социальный конструкт.
Что в итоге? Некоторые академические ученые выдерживали в часовне Ротко не более двух минут. Тогда как такие мои друзья, как Бьорк и Арка (еще один музыкант), зависали там надолго, пропитываясь этим местом.
Почему чувство настраивания пугает некоторых людей? Причина в том, что оно не кажется тем, что вы контролируете, скорее это нечто такое, что исходит из картин и самого пространства. Мы настраиваемся на похожие на врата прямоугольники в красновато-лиловом пространстве, поскольку они тоже настраиваются на нас, ждут и манят. Картина в часовне Ротко — портал, но что может прийти через него? Такая картина — это врата к тому, что Деррида называет l’arrivant (это существительное или глагол?), будущим будущим, неотменяемым, непредсказуемым будущим. Философия, являющаяся удивлением (а потому и ужасом, эротизмом, злостью или смехом) в его концептуальной форме, служит настраиванием на то, что вещь оказывается порталом для будущего будущего. Любовь к мудрости включает в себя то, что мудрость не дана полностью, по крайней мере пока. Возможно, если бы ей когда-нибудь удалось полностью телепортировать в себя мудрость, она бы просто перестала быть философией. Хвала небесам, философия — не мудрость. Но если это не так, я не хочу иметь ничего общего с философией.
Возможно, нам хочется ограничить эстетический опыт, отформатировав его как «искусство», понимаемое в каком-то предсказуемом, заранее данном смысле. Мы можем пойти еще дальше и решить, что искусство выступает отражением товарной формы, что и правда поможет нам удерживать критическую дистанцию, ведь не дай бог нам чем-нибудь соблазняться. Искусство показывает нам, как тревожащее своей двусмысленностью притворство вплетается в эстетический опыт: удивление основано на способности обманываться. Чем легче мы относимся к тому, что нам лгут, тем мудрее мы могли бы стать. «У вас бывает чувство, что вас дурят?» (Джон Лайдон, также известный как Джонни Роттен, сказал так однажды на концерте Sex Pistols). Так что, возможно, мы могли бы списать со счета картину Ротко, что и делает критик Брайан О’Догерти в своей известной статье о коммодификации художественного пространства, ужасного «белого куба» современной галереи, размноженного в миллионах минималистских интерьеров жилых домов[63].
Мы хотим, чтобы искусство гарантировало нам, что нас не дурачат и не обдирают, что нам ничего не втюхивают, не проституируют нас и ничего нам не продают, то есть что мы не настраиваемся. Но именно этого искусство и не может сделать. Теория искусства в Новое время обычно стремилась отличать искусство от одурачивания, продажи или обдираловки, а также от опасного статуса «объекта»; в результате искусство ограничивается узким регионом опыта, чрезвычайно выхолощенного в силу своей усложненности, то есть опытом, который, будучи чище любой бело-кубической чистоты филистера, покупателя и собственника, развешан по белым стенам, но выше всего того, что отдает грубым консюмеризмом.
Как заметит любой, кто хоть немного знаком с индустрией искусства с ее высокими ставками и высокими ценами, это воздержание (и воздержание от воздержания) является не чем иным, как высшим уровнем потребительского пространства: рефлексивным, «романтическим» модусом богемного консюмеризма, которым все мы захвачены. Вспомните, как все мы любим говорить, что больше не следим за модой и вместо этого выбираем собственный стиль. Один стиль может быть в таком случае выборкой из какого-то чужого стиля, и может казаться, что вы парите над всеми остальными, над дурачками, попавшими в ловушку консюмеризма. Однако перформанс, который мы могли бы назвать «Я не консюмерист», является как раз высшим консюмеристским перформансом. О’Догерти не по душе то, что он считает абстрагирующим, овеществляющим «Глазом», создаваемым самим пространством белого куба. Но еще меньше он выносит бедного телесного «Зрителя», комичное униженное тело, которое Глаз тащит по галерее[64]. О’Догерти говорит, что в силу самого способа устройства художественных галерей мы передвигаемся по ним пассивно, наблюдая за самими собой с абстрактной дистанции. А пассивность плоха, поскольку быть пассивным — значит быть объектом, то есть не субъектом. Не дай бог стать объектом, не дай бог быть пассивным, ведь это хуже смерти.
Настраивание — это ощущение власти объекта надо мной: меня затягивает его лучом в орбиту объекта. И в то же время нам говорят, что манипулировать нами нельзя. Мы пишем такие статьи, как «Внутри белого куба», о том, что пространства белого куба неизбежно всех нас соблазняют — за исключением, конечно, меня, автора статьи о белом кубе, и вас, умудренного читателя, к которому статья обращается, поднимая над всеми остальными и вознося за пределы бренного животного тела и абъектного мира объектов — как неоплатоническую душу, трансцендирующую тело. «Повинуйся своей жажде» (реклама прохладительного напитка Sprite в 1990-е годы) на меня не действует. Каждый одурачен объективацией, но не я, не тот, кто пишет предложение «Каждый одурачен объективацией». Все предложения идеологические, за исключением предложения «Все предложения идеологические». Вам понятно, как это работает?
Модус критики — это модус удовольствия от неудовольствия, садистская чистота умывания рук, освобождающего от преступного соблазна, словно бы расстраивание (detuning) означало выход из пространства настраивания, тогда как на самом деле происходит нечто совершенно другое — перенастройка (retuning). В логике подобного режима самое плохое, что только может случиться, — китч, который можно начать делать или которому можно начать радоваться. К счастью, дети никогда о таких вещах не слышали. Мой сын Саймон говорит мне, что, если свести глаза в кучку и посмотреть на картину Ротко, красные линии начнут вибрировать и поплывут к вам, и вы почувствуете тошноту и головокружение, причем это возбуждающие и в каком-то странном смысле приятные ощущения, как от вращения в кресле на колесиках. Судя по всему, картины — не просто товары, которым место в витрине. Видимо, они все-таки как-то выходят за пределы настроенной на человека «потребительской стоимости». С точки зрения О’Догерти, лучший вид искусства, который он называет постмодернистским, — это бесконечная беседа между субъектами (людьми) о том, чем могло бы быть хорошее искусство, словно бы настраивание не было частью выступления оркестра, что является мифом, который развеивается уже на первых секундах альбома «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band»[65]. Позволить себе на самом деле наслаждаться вещью — вот от чего с удовольствием отказываются. И даже шестилетнему ребенку ясно, что Ротко пытается взорвать вам мозг.
Искусство распыляет свою харизматическую причинность, невзирая на нас. И мы всё еще впускаем его к себе, в отличие от многих других вещей в современном мире, пусть и на строго заданных условиях (утонченности, вкуса, стоимости). Искусство выступает царством страсти, не имеющей особых причин: мне просто нравится этот специфический оттенок синего, я хочу, чтобы вы почувствовали вес этого металлического носка, зашли на эту инсталляцию, посмотрели, заглянули за занавес. Время романов — время похоти: все первые романы были непременно порнографическими (Аретино). Так что, когда мы говорим об искусстве, мы ведем разговор на территории любви и желания — неустойчивых, неспокойных, неуверенных партнеров.
Давайте расширим наш взгляд и перейдем от произведения искусства к более общему описанию этого региона. Любовь — не нечто прямое, поскольку и реальность не бывает прямой. Во всем одни изгибы и кривые, вещи вечно лавируют.
Из-враще-ние (Per-ver-sion). О-круж-ение (En-vir-onment). Эти термины происходят от глагола «лавировать», «менять курс» («veer»). Лавировать, резко поворачивать куда-то — выбираю ли я такие действия? Или меня просто заносит? Свободу воли переоценивают. Я не принимаю решения, находясь за пределами Вселенной, и не ныряю потом в нее на манер олимпийского ныряльщика. Я уже в ней. Я похож на русалку, меня постоянно тянет и толкает, постоянно куда-то несет, я порхаю туда-сюда, разворачиваясь и открываясь, двигаясь вместе с течением, отталкиваясь с силой, которую могу собрать. Среда — это не нейтральная пустая коробка, а океан, полный течений и пульсаций. Она окружает. Она кружит вокруг, доводя меня до головокружения. Эстетическая червоточина, изгибающая земное и экологическое в космологическое. Вращение глубокого космоса, нисходящее преломленным лучом света в холодную воду потока, в котором я был пойман рыбой, которую ловил несколькими страницами ранее.
Пространство-время и есть подобный сгиб, кривизна. Неверно было бы сказать, что сначала пространство-время плоское, а потом оно искривляется объектами. Объекты и есть не что иное, как искривление пространства-времени, то есть последнее представляет собой искривляющее силовое поле, которое генерируется ими. Кривизна, сгустки и бугры — всё странным образом полно всего, но воздух нигде не застаивается. Пространство-время — не плоский белый лист, в который потом вносится какое-то возмущение. Пространство-время и есть возмущение. Мы, как возмущающая линза материи-энергии, видим столько, сколько можем увидеть, но всегда не полностью, через выпуклый калейдоскоп пространства-времени. Вещь испещрена временем. Но это не сгусток, который был бы покрыт временем и подкрашен косметикой движения. Более того: вещь и есть темпоральная пестрота.
Писатель XIX века Джон Рёскин был крупным исследователем архитектуры, и он доказывал, что современное стремление отчищать старые дома, которое очень заметно и сегодня, представляет собой кощунственное стирание того, что он любил называть налетом времени[66]. В определенном смысле Рёскин стремился к некоему онтологическому переописанию вещей: снимать налет времени — значит наносить ущерб современной вещи, поскольку вещь на самом деле и есть темпоральный налет. Если мы хотим очистить здание от того, что считается дополнительным налетом, значит, мы предполагаем, будто вещь скрывается за своим явлением, а это старая базовая онтология субстанций. Дать вещам возможность загрязняться — значит допустить то, что вещи не воюют со временем. Более того, «грязный» потолок Сикстинской капеллы, украшенный Микеланджело, сегодня похож на то, как он выглядел бы при мерцающем свете свечи.
Мир Ньютона — это царство прямолинейной любви, мгновенных лучей гравитации, которые суть любовь Господа, достигающая любой точки сразу, вне времени, как вездесущее существо, воздействующее на статичные протяженные сгустки, возбуждающее их, толкающее и гонящее их, как скот.
Но мы живем не в ньютоновском мире.
Мир Эйнштейна — это царство извращенного желания, невидимой ряби гравитационных волн, составляющих пространство-время, невидимый океан, в котором парят погруженные в него звезды. Мы любим мертвых. Мы любим фантазии. Но любят ли они нас в ответ? Нас тянет к ним, и, когда такое бывает, время расширяется и сжимается, как полимер. В таком мире ни один Бог не мог бы быть всеведущим, ведь в нем время — это неустранимое качество вещей, часть жидкости, которая волнами истекает из вещи. Есть части вселенной, которые наблюдатель никогда не сможет изучить. Они вполне реальны. Там происходят разные вещи. Однако некоторые наблюдатели никогда не будут знать, где они происходят или же когда они происходят. Некоторые люди во вселенной никогда не узнают, что вы читаете это, поскольку они не смогут узнать. Но так же и вы не сможете узнать их[67].
Во вселенной, управляемой скоростью света, части скрыты и темны, они ушли в себя. Сумрачный дантовский лес вселенной, подводный лес колышущихся водорослей. Эта идея должна показаться вам крайне ободряющей. Она означает, что вы не можете быть вездесущим и всезнающим. Вы не можете посмотреть вниз на бедных страдальцев вселенной с позиции вне времени и садистически улыбнуться их страданиям, удостоив их ухмылкой, которую мы часто называем жалостью. Вот что мы порой называем абстрактным взглядом Просвещения, то есть того периода нововременной Европы и Америки, когда были сформулированы всеобщие ценности — за счет, к сожалению, таких настоятельных частностей, как раса, класс и гендер. Многие произведения этого периода, такие как «Руины империй» К. Ф. Вольнея или «Королева Маб» Шелли, выстроены именно с этой позиции за пределами вселенной, чтобы можно было ее судить.
Каждая сущность во вселенной Эйнштейна похожа на постоянно меняющую направление турбулентность потока, мировую трубу или водоворот, который не может всё знать. Есть такая тьма, которую не разгонишь.
Рассмотрим теперь еще более странное и еще более точное описание вещей, то есть квантовую теорию. В квантовой теории невозможно сохранить бинарную оппозицию движения и покоя, то есть строго определенных понятий глагола и существительного, или же объекта и качества. Объекты, максимально изолированные от других объектов, продолжают вибрировать, даже если их ничто не толкает, то есть если, так сказать, они не подвержены воздействию механических причин[68].
Представление о том, что я нахожусь вне мира и заглядываю в него, задумываясь о том, какое решение принять, является этическим эквивалентом онтологии субстанций, отделяющей бытие от явления файерволами и фунгицидами. Однако традиционные «консервативные» версии этого направления мысли, называемые энвайронментализмом, также пытаются сдержать волнение, колебание, полное вибраций настраивание. Они называются энвайронментализмом, но в нем недостаточно вращательного момента, присущего о-круже-нию.
И это неудивительно, раз «традиционная» агрологистика заканчивается на ее актуальной версии, так что есть определенная линия преемственности, связывающая представление о руководящей роли традиции с игрой бесконечной (человеческой) свободы и «выбора». Обычно эстетическое измерение представляется в виде особого клея, который склеивает вместе два полюса, позволяя людям придавать всему остальному правильную форму, чтобы полностью приспособить свой мир к своим требованиям. Но это так не работает. Мы уже видели, что данное измерение на глубинном уровне переплетено с вещами как таковыми, а не с форматированием (силами человека). Есть какая-то смелость в том, чтобы дать себе уснуть и позволить прийти снам, и она похожа на ту смелость, которая нужна, чтобы дать искусству влиять на тебя. Галлюцинаторные фантазмы — условие возможности того, чтобы вообще видеть хоть что-то. Слух — скрещение звуков, издаваемых моим ухом, и внешних звуковых волн, возмущающих жидкость в моем ухе. Не-я манит, заставляя меня колебаться.
Побег из Зловещей долины
Когда мы изучаем формы жизни, обнаруживается, что они намного более странные, чем мы думали, и отчасти это объясняется тем, что само понятие «жизни» намного более странное, чем мы считаем. Биология — дисциплина, название которой было придумано в 1800 году, — наука о жизни, и один из результатов научного подхода к жизни состоит в том, что становится всё сложнее провести черту между живыми вещами и неживыми. В конечном счете все мы сделаны из химических соединений.
Мы говорили о причинной связанности форм жизни, о том, что вещи соотносятся друг с другом в том, что можно назвать паутиной жизни. Давайте теперь посмотрим на то, что больше относится к области эстетики и этики, как эта связь ощущается и на что такие соединения похожи.
Если мы говорим, что вещи связаны друг с другом, они необязательно полностью перемешаны. Вещи зависят друг от друга; отсюда следует, что некоторые вещи могли бы больше зависеть от каких-то одних вещей и меньше — от других. Это провисающая и расползающаяся система связей, что-то вроде большой модели из кубиков лего или же болтающийся мобиль, в котором тонкие провода соединяют кусочки картона, вращающиеся над вашей кроватью. Если бы всё было полностью смешано друг с другом в кашу, тогда связь не была бы проблемой — как в каузальном отношении, так и в этическом или эстетическом. Но связь представляет собой огромную проблему. Например, известно, что экологические благотворительные организации хотят, чтобы мы жертвовали деньги, и для этого пытаются воздействовать на нас картинками так называемой харизматической мегафауны, то есть таких больших и милых животных, как панды. Но как насчет слизняков, червей или, если уж на то пошло, бактерий? Глобальное потепление — тяжелое испытание и для бактерий, а их проблемы могут, в свою очередь, оказаться катастрофой для почвы и для людей.
Всякий раз, когда мы думаем о том, как выглядят формы жизни, как мы ведем себя с ними и что знаем о нашем отношении с ними в царстве причин и следствий, мы имеем дело с крайне шаткими и хрупкими системами. Похоже, что у нас выработался крайне однобокий взгляд на формы жизни — с его особой эстетикой. Наша связь с ними в данной области не похожа на плоскую равнину с плавным уклоном: наверху склона находятся формы жизни, с которыми мы можем идентифицироваться, а внизу — те, которые нас совершенно не трогают. Это не пологий склон. Он больше похож на то, что в робототехнике называют «Зловещей долиной».
Что за Зловещая долина? Представьте, что вы стоите на вершине холма. Вы бросаете взгляд через долину на другой холм, который находится на ее противоположной стороне. На нем стоит небольшой миленький робот, возможно герой классических «Звездных войн» R2D2 или не менее привлекательный робот BB8 из недавних «Звездных войн». Теория Зловещей долины утверждает, что роботы такого типа кажутся привлекательными, поскольку они на вас совершенно не похожи, так что, когда они общаются с вами, вы не видите здесь никакой угрозы своему представлению о собственной личности — напротив, это даже забавно. То есть у вас нет ощущения, что они заходят на вашу делянку, которая как раз и означает, что вы человек, а они — нет.
Далеко за вершиной этого холма находятся роботы, которые вообще не имеют никакого отношения к чему бы то ни было очевидно человеческому, например промышленные роботы. Вам на них совершенно наплевать. Они не пытаются разговаривать с вами, в отличие от R2D2, который больше похож на мягкую игрушку, изображающую животное. Далее, если заглянуть вниз, в долину, вы увидите всевозможных существ, которые чем больше на них смотришь, тем больше раздражают. Там находятся роботы, которые выводят нас из себя своими человеческими качествами, схожестью с человеком. Еще ниже лежат трупы. В самой нижней точке долины находятся ожившие трупы, зомби. Они мертвы и отвратительны, но также отвратительно живы. Ближний к нам склон долины облюбовали очень даже живые на вид куклы, чуть выше уровня зомби.
Где-то в Зловещей долине живут и все гуманоидные, гоминидные, человекообразные существа, которых мы считаем либо генетически близкими к нам, либо спроектированными так, что они на нас похожи. Теория утверждает, что нас выводит из себя то, что они слишком на нас похожи. Только недавно было, к примеру, признано, поскольку невозможно игнорировать данные ДНК, что мы, Homo sapiens, не только генетически намного ближе к неандертальцам, но у нас еще и был секс с ними, так что значительная часть нашей современной ДНК происходит непосредственно от неандертальцев. Мы снова и снова рассказывали себе историю о том, что, хотя неандертальцы и похожи на нас, они в то же время в достаточной мере непохожи, чтобы между нами и их «примитивной» природой была удобная дистанция, но, возможно, на самом деле мы просто знаем, что Homo sapiens ближе к неандертальцам, чем мы могли бы подумать, что мы тоже немного неандертальцы, — и это нас бесит. А еще мы вечно твердили себе, что они не sapiens (то есть не мудрые), а потому не такие, как мы. Поэтому нам «пришлось» стереть их с лица земли, ведь они, по сути, стояли на пути наших проектов, в которых мы заглядывали в намного более далекое будущее, чем было им доступно. Или же мы говорим себе, что они не могли быть такими же сознательными, как мы, поскольку раз у них не было сильного чувства будущего, значит, у них было мало воображения, а может, и вовсе не было. Вот почему они не заметили, как мы заманили их в засаду и истребили. Эта аргументация, похоже, ходит по замкнутому кругу. Мы можем доказать, что неандертальцы не были такими уж крутыми, поскольку мы избавились от них, поскольку они не были крутыми. Иррациональная замкнутость имеет отношение к тому, как мы сегодня мыслим формы жизни, включая нас самих, и как ощущаем их, то есть к бессознательным, полусознательным или иным структурным установкам, которые определяют то, как мы себя ведем в данный момент.
Крутизна склонов долины может быть удачным показателем таких синдромов, как расизм и спесишизм[69]. Очень крутые склоны долины указывали бы на то, что вы проделали немалую работу по изгнанию жутких существ из своего мышления, чувства или сознания (или что там у вас) в какие-то нижние сферы. Они настолько вас бесят, вызывают такое отвращение, что вы о них практически забыли. Или вы могли бы быть более терпимы к ним, и ваша долина стала бы более плоской.
Но независимо от того, крутые у нее склоны или нет, это всё равно долина. Вы всё еще так или иначе отличаете себя от существ в долине. Но почему они там оказались? Я думаю, главное качество тут — двусмысленность. Связаны они со мной или нет? Когда я смотрю на них, у них обнаруживаются знакомые черты. Но есть в них нечто крайне странное: быть может, они, к примеру, андроиды, и, если они андроиды, а я очень похож на них, тогда не исключено, что я и сам андроид. И именно поэтому они выводят меня из себя: возможно, у меня с ними намного больше общего, чем мне самому хочется думать. Когда вы начинаете мыслить подобным образом, долина становится артефактом антропоцентризма, расизма и спесишизма — ксенофобии, страха «другого», который зачастую на самом деле является страхом того, что у нас с «другим» есть что-то общее. Неприятным и подспудным ощущением того, что мы не так уж отличаемся от роботов и зомби — или людей других культур и гендеров — вопреки тому, что мы сами обычно говорим. Близость как раз и вызывает жутковатое чувство беспокойства. Вместо того чтобы признать его, мы чаще отмахиваемся от него, пытаясь сохранить дистанцию между нашей вершиной превосходства и долиной внизу.
Нам нужно, чтобы между существами были четкие и жесткие различия, что вполне обоснованно называется дискриминацией. Но если что-то отличается, мы вовсе не обязательно можем отличить его от нас в каком-то этическом или онтологическом смысле. В этом и состоит проблема с нашей бедной неандертальской женщиной. Она выглядит совсем как мы, страшно похожей, но она всё же отличается от нас. Она не укладывается в категории.
Если посетить сегодня какой-нибудь местный музей естественной истории, можно увидеть, как, например, в музее Хьюстона, где я бываю, графическое изображение на целую стену с десятками форм жизни, которые связаны с нами прямой линией эволюции, начиная с лемуров и заканчивая нами самими. График выглядит как расползающаяся, неровная сеть. Он похож на ваше семейство, изображенное на родословном древе. Формы жизни похожи на вас, они достаточно похожи и достаточно связаны с вами, чтобы на когнитивном уровне вы чувствовали себя удобно, то есть, что называется, «как у себя дома», хотя это и не всегда так уж удобно, например если приходится гостить у родственников.
Но именно по этой причине формы жизни не похожи на вас. У дяди Джона всегда была неприятная привычка, внушающая вам отвращение. Вы не представляете, почему именно она ваша сестра, ведь вы как будто с разных планет. Эти существа одновременно знакомые и странные. На самом деле чем больше вы о них знаете, тем более странными они становятся. Нельзя избавиться от ощущения странности, узнав больше о той или иной вещи. Разве наука — не способ это понять? Наша Вселенная стала намного страннее сегодня, когда мы знаем о ней намного больше.
Слово, обозначающее нечто одновременно близкое и странное, — это «жуткое» («uncanny»). Мы расисты, гомофобы и сексисты, когда дело доходит до существ, которых мы отправляем в Зловещую долину, поскольку туда же мы отправляем и людей. Здесь мы имеем дело не совсем с инаковостью. Возможно, задачей этики и политики не является терпимость, положительная оценка или принятие инаковости. Возможно, их задача — терпимость, положительная оценка и принятие странности, которая в конечном счете сводится к двусмысленности, то есть принятие того, что вещи словно бы колеблются, к примеру между знакомым и странным.
Не связан ли художественный вкус со способностью позволить вещам пребывать в двусмысленности? Дело не в том, что в мире есть всевозможные картины, скульптуры, книги и музыкальные произведения, а также всевозможные культуры, имеющие отношение к тому, как такие вещи делаются, воспринимаются, интерпретируются и т. д. Дело, скорее, в том, — и это, возможно, наиболее фундаментальный момент, — что у вас нет ни малейшего представления о том, что произведения искусства «скажет» через мгновение, и особенно это заметно, когда вы прожили с каким-то любимым произведением несколько лет.
На еще более глубоком уровне при восприятии искусства происходит нечто странное, что-то такое, что многим философам было неприятно. Их нервирует то, что опыт отношения к искусству усложняет — а иногда и делает невозможным — сохранение долины, в которой мы видим другие сущности в качестве «других». Давайте выясним, почему так происходит. Вполне очевидно, что искусство как-то на меня воздействует, и воздействие оказывается в значительной части непрошеным: я его не просил, но именно в этом прикол. У меня не было ни малейшего представления о том, что на меня могло быть оказано именно такое воздействие. Всё мое понимание «воздействия» как такового, его значения поменялось из-за произведения — и так далее. Когда мне нравится какое-то произведение искусства, мой разум будто бы странным образом сливается с ним, это смахивает на телепатию, пусть даже я «хорошо понимаю» (но понимаю ли?), что вещь, которую я так ценю, не является сознательной, чувствующей или хотя бы живой. Я ощущаю неизвестное воздействие на меня, которое исходит из того, чем я захвачен, а потому не могу сказать, кто «это начал», — может быть, я просто навязываю свои представления о красоте любой старой вещи, или же, наоборот, вещь полностью подчинила меня своей воле?
Реальный опыт того, что мы порой называем красотой, не связан ни с наклеиванием на вещи ярлыков, ни с нашей полной инертностью. Скорее, это выявление во мне того, что мной не является: в моем внутреннем пространстве возникает чувство, которое я сам сфабриковать не мог, а значит, оно было послано мне «объектом» на стене в галерее, но, когда я пытаюсь выяснить, где же именно пребывает чувство и что такого в вещи или во мне, что могло бы стать причиной наличия у меня данного ощущения, я не могу определить это, не уничтожив сам эффект красоты.
В чем различие между «терпеть» и «ценить»? Всё дело в моменте сосуществования. Если я терплю — значит, я позволяю чему-то существовать в рамках моих понятийных координат, даже если на самом деле мои координаты этого не допускают. Если я ценю — значит, я просто восхищаюсь чем-либо, и неважно, какие у меня координаты. Вот почему мы используем слово «ценить», когда говорим об искусстве. Никто не скажет в положительном смысле «Я и правда вытерпел струнный квартет Бетховена». Но вполне можно сказать: «Я и правда ценил эту мелодию диско», — и будет понятно, что вы имеете в виду нечто положительное.
Если думать об этом в таком ключе, можно понять, почему способность ценить двусмысленность составляет основу экологичности.
И знаете, что отсюда вытекает? Что ваше безразличие к экологическим вещам и есть то самое место, в котором вы найдете верное экологическое чувство. Это важная причина, по которой без толку пытаться устранять безразличие слишком быстро и агрессивно, путем проповедей. Вы не знаете, почему вам не должно быть наплевать: разве не это чувство мы испытываем, когда сталкиваемся с чем-то красивым? Каким образом цепочке аккордов получается выжать из меня слезу?
Причин для добропорядочного отношения к другим формам жизни предостаточно, но они окружены призрачным полумраком ощущения того, что их ценят без особых на то причин. Если вы что-то любите, у этого обычно нет никакой особой причины. Если же вы можете перечислить причины, по которым «должны» любить данного человека, скорее всего, вы в него не влюблены. Если же у вас нет ни малейшего представления, это уже ближе. Двусмысленный призрачный эстетический ореол вокруг этических решений не говорит нам, как поступать, и не говорит даже, совершать ли вообще какие-либо поступки. Ему присуща своеобразная «пассивность», словно бы даже наше различие активного и пассивного не было таким уж точным и жестким, а то, что часто подразумевается под пассивным, на самом деле было тем самым полумраком, о котором мы говорим. Как именно вы относитесь к прекрасному произведению искусства — активно или пассивно? Вы определенно не хотите его съесть, поскольку вы бы его лишились, а вам оно нравится. Но в то же время оно не молотит вас дубинкой. Оно влияет на вас, но без применения силы.
Если вы терпите какую-то другую форму жизни, скорее всего, вы оставляете ее в Зловещей долине, хотя и допускаете, что вам надо спуститься и помочь ей, но потом обязательно вернуться на свою вершину. Когда же вы цените какую-то форму жизни без особых на то причин, вы будто бы немного разравниваете Зловещую долину. Будете и дальше так разравнивать, Зловещая долина будет становиться всё более плоской. Она разравнивается в то, что мне нравится называть Призрачной равниной.
Что такое Призрачная равнина? Это область, которая кажется совершенно плоской, причем она ширится во все стороны. На ней я не могу легко отличить живое от неживого, чувствующее от не-чувствующего, сознательное от не-сознательного. Все мои категории, которыми как раз и была вырыта долина, приходят в негодность. Они сбоят на самом глубинном уровне. Если бы они просто исчезли, у меня был бы ответ: я мог бы, например, разложить жизнь до нежизни, заявив, что на самом деле нет никаких живых существ, а есть только связки химических соединений (это популярное решение проблемы большого объема знаний, материалистическое и редукционистское). Соответственно, сбой можно было бы устранить, а я сумел бы избежать двусмысленности. В подобном случае неправильным в Зловещей долине было бы то, что она внушала мне чувство этой двусмысленности.
Но я не думаю, что дефектность Зловещей долины состоит именно в этом. Скорее, она в том, что по обе ее стороны находятся вершины. Дефект в том, что мы-то сами не в долине, как и роботы, которых мы любим представлять в качестве забавных игрушек. Вспомните о том, что опыт выстраивается в виде долины, в которой такие существа, как зомби, оказываются между вершинами: мы, «здоровые» люди, живем на одной вершине, тогда как роботы-миляги — на другой. А вот зомби обитают в Зловещей долине, поскольку хотя они и воплощают в себе картезианский дуализм сознания и тела, который мы применяем и к самим себе, но делают они это нестандартно и «неправильно»: они суть не что иное, как ожившие трупы. Похоже, они просто насмехаются над дуализмом, то есть являют собой пародию на него, и, когда мы смотрим на них, у нас возникает фантазийное представление о том, что в самом дуализме сознания и тела есть глубокий изъян.
Понятие Зловещей долины объясняет расизм, и оно само является расистским. Производимое им решительное разделение «здоровых людей» и приятных на вид роботов типа R2D2 (не говоря уже о собаке Гитлера Блонди, которую он очень любил) открывает запретную территорию, полную жутковатых существ, чье пребывание в области Исключенного Третьего само по себе является скандалом. Расстояние между R2D2 и здоровым человеком, похоже, достаточно точно проецируется на то, как мы ощущаем и проживаем сциентистское разделение субъекта и объекта, и дуализм всегда предполагает вытесненную абъекцию, о чем мы уже говорили. R2D2 и Блонди очень милы, поскольку они существенно отличаются от нас и при этом слабее. Именно жесткое разделение вещей на субъекты и объекты создает жутковатую запретную зону Исключенного Третьего, состоящую из сущностей, которые постепенно приближаются ко мне, — и это, несомненно, источник антисемитизма, бесконечного контроля над тем, кого считать человеком, защита Homo sapiens от неандертальцев[70]. Расизм, если говорить всего лишь об одном примере предубеждений, начинается тогда, когда вы пытаетесь сделать вид, будто есть четкое различие между вами как человеком и другими, дружественными существами «там», на другой вершине, которую мы называем Природой. Ведь это значит, что вы уже создали глубокую долину с крутыми склонами, в которой связанные друг с другом существа самых разных видов оказались заперты, как в ловушке, так что вам их не видно. Если угодно, у вас могут быть субъекты (то есть мы) в противопоставлении объектам (собаке Гитлера, R2D2, безликим промышленным роботам, камням) только потому, что у вас есть абъекты (существа в долине) и вы сделали так, чтобы они «не отсвечивали». Вы смотрите через долину на R2D2 и видите, что он от вас существенно отличается (спесишизм), поскольку вы спрятали всех жутких надоедливых существ в пустой долине между вами и маленьким миленьким роботом.
Когда же долина выравнивается и становится равниной, ко всем возвращается их абъекция, которую вы пытались спустить в долину, как в унитаз.
На Призрачной равнине есть кое-какие основные правила вежливости, и они имеют отношение к идее гостеприимства по отношению к чужакам. От чего зависит подобное гостеприимство? В конечном счете оно зависит от мистической идеи о гостеприимстве по отношению к тому, кому вы не можете оказать гостеприимства. Существует своего рода невозможное, призрачное гостеприимство по отношению к негостеприимному, которое тенью преследует более однозначные виды гостеприимства и без которого последнее бы просто не состоялось.
Глубинная причина обязательного лавирования, свойственного настраиванию, его косвенного, беспокойного и подвижного стиля в том, что сущности, на которые оно настраивает, сами скользкие и жуткие. Эволюция демонстрирует нам континуум: люди родственны рыбам, так что, если достаточно углубиться в прошлое, вы обнаружите, что одна из ваших самых дальних прабабушек была рыбой. Однако вы — не рыба. Всякий раз, когда мы делим континуум на части, мы обнаруживаем подобные парадоксы. Формы жизни всегда остаются жуткими, то есть чем больше мы о них узнаем, тем страннее они становятся, и наука не смягчает этот факт, а лишь усугубляет его. Вот почему я придумал термин «странный незнакомец» («strange stranger»), которым обозначаю такие формы жизни. Мы то и дело оказываемся в позиции хозяина, принимающего гостей. Но прием гостей зависит от беспокойного чувства открытости к ним: неизвестно, кто еще пожалует на порог. Слово «хозяин» («host») происходит от латинского слова, означающего одновременно друга и врага[71]. У нас буквально гостят самые разные существа, которые могут моментально перестать быть друзьями и стать врагами, — в этом и состоит суть аллергической реакции. Симбиоз, представляющий собой вариант взаимосвязи форм жизни, состоит из всевозможных беспокойных отношений, в которых существа не ходят строем друг за другом.
Экология Икс
Существует также своего рода этическая и политическая Зловещая долина. Что происходит, когда вы выпускаете призраков из долины, призраков, которые не дают вам покоя этими вроде бы расходящимися версиями того, что считать человеческим? Что происходит, когда она становится этико-политической Призрачной равниной?
Когда забота раскручивается, сводится к голой схеме, упрощается для того, чтобы разогнать ее энергию, она теряет некоторые из своих ценных качеств. Давайте снова вспомним о каллиграфической надписи «МЕНЬШЕ / ПАРЬСЯ» («CARE / LESS»), о которой я говорил в начале книги, о замечательной миниатюре этой проблемы, в которой что-то вроде бы «небрежное» («careless») могло смешиваться с «расслабленностью» («carefree»), а некоторые модусы заботы и «озабоченности» в конечном счете предстали слишком тяжеловесными. Я не говорю, что вы можете спасти Землю, сидя за видеоиграми на диване. Я говорю, что экологичность, которой посвящена данная книга, не совпадает с упертой религиозностью, но в то же время она не совпадает и с упертым атеизмом, поскольку последний представляет собой просто религию, перевернутую с ног на голову. Поскольку формально организованная религия является способом самопонимания агрокультурного общества, свойственным агрокультурной эпохе, в ней полно багов, которые помогли разрушить Землю. «Собирайте себе сокровища на небе» (как проповедовал Иисус) означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что происходит здесь, внизу, поскольку это не так реально и важно, как происходящее на небе. Хайдеггер как-то отметил, что христианство было платонизмом для масс. Я же могу сказать, что, по крайней мере в историческом плане, платонизм сам был неолитическим теизмом для образованной элиты.
Точно так же более-менее истина преследует собственно истину. Двусмысленное качество небрежности/расслабленности можно представить себе в качестве призрака, подобного призракам Призрачной равнины, то есть как своего рода этического призрака. Более-менее истина таинственным образом затеняет, дублирует, подрывает и подкрепляет истину. Короче говоря, в этом и состоит в какой-то мере проблема: попытка развеять полумрак и добиться более гладкой формы заботы создает еще более серьезные проблемы. Без-заботность безразличия преследует заботу как ее собственный призрак. Но если мы изгоним духа, то вернемся к выживанию ради выживания, но какой от этого прок для жизни на планете? Мы крайне заняты, и наши сегодняшние неолиберальные махинации — просто последняя версия сверхзанятой ментальности, которая держит нас в тисках начиная с десятитысячного года до нашей эры. Единственная эмоция в медиа, которую мы любим ненавидеть, — это безразличие.
Будучи гордым (?) представителем поколения Икс, я помню, как нам говорили, что нам в 1990-е годы было на всё наплевать. И это интересно, поскольку, когда мне было двадцать с чем-то, я оглядывался и видел в нашем «цивилизованном» мире сплошь озабоченность: у людей депрессия от современных условий труда, они не знают, что делать с экологическими проблемами, нуклеарные семьи становятся субатомными, подростковый возраст растягивается до тридцати лет. На этом фоне настырного продавливания озабоченности некоторая расхлябанность (как в фильме Ричарда Линклейтера «Халявщик») стала удивительно свежей позицией[72]. Я думаю, мы могли бы провести различие между клаустрофобными, пластиковыми формами заботы и более воздушными, более гибкими.
Мне нравится быть представителем поколения Икс. Люди из пиара и рекламы, которые придумали подобные наименования, не знали, какой ярлык на нас наклеить, поскольку мы вели себя не так, как ожидалось. И это интересно, если вы принадлежите той же линии деконструктивистской философии, что и я (Хайдеггер, Деррида и т. д.). Когда Хайдеггер пишет слово «Бытие», он перечеркивает его буквой «X», и этот жест Деррида называет «вычеркиванием». Вы не можете сказать «Бытие» в совершенно положительном смысле, с каменным лицом, поскольку в таком случае Бытие сразу стало бы чем-то вроде огромного белого куска мыла, раздувшимся и твердотелым.
БЕЗ/ЗАБОТНОСТЬ — ореол заботы, ее аура. Когда нам начинают выкручивать руки, экологические речи приобретают сильный привкус махинаций агрокультурной эпохи, из-за которой у нас как раз и возникли огромные проблемы, то есть это всё тот же гигантский кусок белесого мыла. Я не хочу жить в мире, который будет создан подобными махинациями. Отстойность (говоря языком поколения Икс) сегодняшнего мира показалась бы в таком мире лучшим, что вообще было в нашей жизни. Я говорю о мире, основанном на постоянно растущей эффективности и постоянно растущем контроле за энергией. Вы, возможно, заметили, что некоторые люди мыслят экологическое общество именно так. Я же думаю, что это мир, в котором мы можем быть намного более щедрыми и креативными, чем когда-либо в истории, намного менее «озабоченными» в том смысле выживания, который враждебен реальным формам жизни.
Пластиковая забота, сведенная к своей голой схеме и эффективности, крайне токсична, особенно если масштабировать ее до величин Земли и практиковать в течение двенадцати с половиной тысяч лет. Нам нужна, напротив, игривая забота. Но это не означает заботы, которая была бы циничной. Такой озабоченности нам хватает: крупные корпорации продвигают «позитив» в принудительном порядке. Сегодня вы должны распевать корпоративные песни, участвовать в коллективных мероприятиях по тимбилдингу, а на работе применять игровые интерфейсы (так называемая геймификация). Нам требуется что-то прямо противоположное, что-то вроде игривой серьезности. У этого режима на лице всегда играла бы легкая улыбка, поскольку ему известно, что все решения в том или ином отношении ущербны. Расширенная забота, забота с ореолом без/заботности, с большей вероятностью пустит под свой зонтик другие формы жизни, поскольку она меньше сосредоточена на чистом выживании. Противопоставление эгоизма и альтруизма, которое мы порой акцентируем, само выстроено с позиции унифицированной заботы. Вы полагаете, что есть какое-то эго и оно нуждается в защите и развитии, так что забота о вещах, отличных от эго, будет предполагать почти что немыслимое опустошение эго, которое в ряде религиозных доменов агрокультурной эпохи называлось кенозисом (это греческое слово, обозначающее «опустошение»). Здесь определенно нет ничего забавного, да и вообще это кажется попросту невозможным. Это какой-то искусственный прием, напоминающий то, как люди смеются над буддизмом: ведь разве можно желать избавиться от желания?
Если мне не удастся привлечь вас к расширенной идее заботы, тогда, по сути, вся книга окажется пустой тратой кучи времени. Поскольку получается, что, хотя сам я соскочил с крючка и не забрасывал вас фактоидами, втайне я не даю соскочить с крючка вам и по-прежнему читаю проповеди, пытаясь исподтишка вас обратить. То есть я тоже занимаюсь махинациями, которые просто ниже радаров. В таком случае сам стиль моего письма на деле является полной противоположностью игривой серьезности: это была, получается, серьезная игривость, нацеленная на определенную цель и не без «позитива». Я, выходит, пытаюсь убедить вас и думаю, что верить — значит во что бы то ни стало не отказываться, а это как раз и есть разновидность втюхивания.
Но на самом деле, дорогой читатель, я говорил серьезно. Я абсолютно серьезно сказал то, что вам не нужно избавляться от собственного безразличия. Вы совершенно правы. Вы упорно трудитесь и взамен получаете так немного, вам надо постоянно улыбаться на работе, надо исполнять роль собственного папарацци и выкладывать на Facebook свои селфи каждые пять минут, надо лайкать правильные вещи. Если говорить в терминах Фрейда, ваше маленькое бедное Я оказалось под обстрелом с обеих сторон: со стороны импульсов Оно и со стороны требований Сверх-Я, которые в равной мере иррациональны и в нашей культуре «репрессивной десублимации» часто налагаются друг на друга[73]. И теперь я еще прошу вас озаботиться судьбой белых медведей? В нагрузку ко всему остальному? Столько бешеных кликов, гордости за то, что было сказано то, что надо, что само по себе является целью, параметры которой меняются ежедневно, как статистика. Самым важным в Сверх-Я является то, что выполнить его требования невозможно. Но что это — качество самой нашей психики или баг? Как бы там ни было, данное качество разбухло из-за религии агрокультурной эпохи, а актуальное экологическое воплощение качества, хотя и хочет добра, является попросту способом пропитать экологическое пространство ненужными запахами — запахами занятой, усердной, предприимчивой интенсивности в модусе «надо двигаться дальше, нельзя стоять на месте»[74].
Возможно, некоторые из нас заботятся о чем-то в совершенно неверном ключе — слишком агрессивно, слишком меланхолично, слишком уперто. Хайдеггер утверждает, что даже безразличие является формой заботы[75]. Быть может, безразличие само указывает на способ заботиться о людях и нелюдях, причиняя меньше насилия — просто позволив им существовать, как бумажкам у вас в руке, как рассказу, который вы можете ценить — или не ценить — без особых на то причин[76].
Я серьезно, дорогой читатель. Ваше безразличие содержит в себе экологические химикалии, поэтому не выплескивайте ребенка вместе с водой. На самом деле, возможно, надо оставить и ребенка, и сомнительную воду, в которой его мыли, а выбросить, напротив, саму идею о том, что вам нужно что-то выбросить. В последней главе мы рассмотрим несколько современных стилей выбрасывать разные вещи во имя экологичности и сравним их с той экологичностью, которая не отвергает двусмысленности.
Глава 4. Краткая история экологической мысли
На календаре обычный школьный день, и Гомер Симпсон везет своего сына Барта и дочь Лизу вместе с их друзьями в школу. Играет радио. Гомер вдруг узнает музыку своей молодости, но дети хотят, чтобы он переключил станцию. Вместо этого он досаждает им длинным рассказом об истории рок-групп семидесятых. Одна группа проторила путь для другой, та — для третьей, и так продолжалось до тех пор, пока не появился The Alan Parsons Project, «который был катером на воздушной подушке и просто парил надо всеми». Он углубляется в бессчетные подробности, рассказывая о том, как одна группа превращалась в другую. Гомер учит детей наслаждаться музыкой, но для них это не имеет никакого смысла. Он думает, что крут, а они считают его просто занудой[77].
Именно так написаны большинство глав вроде этой: в них авторы пытаются что-то авторитетно внушить, теряя чувство юмора, и в конце концов становятся для читателя просто невыносимы. То же самое произошло и со мной, когда мне предложили написать книгу вроде этой, — я сразу представил себе Гомера, объясняющего Grand Funk Railroad своим недоумевающим детям, которым неловко за отца. Такая книга была бы снабжена выносками и «простыми» категориями, соответствующими названиям глав. На самом деле такие вещи в итоге становятся чудовищно сложными, поскольку они просто не продуманы в достаточной мере.
Представьте, что вы в магазине грампластинок — если только предположить, что они всё еще существуют, — или, еще лучше, на сайте iTunes, Spotify или какого-то другого поставщика музыки. Вы можете выбирать из ошеломляющего количества жанров, да и само понятие жанра выглядит совершенно непонятным. Рассмотрим один-единственный относительно узкий спектр жанров. Что именно отличает электронику от электронной музыки, а техно от электронной танцевальной музыки? Что на самом деле означает используемая в iTunes категория «музыка девяностых»? Если она означает «любую музыку, записанную в девяностые», в этом нет никакого смысла. Что происходит с музыкой, опубликованной в декабре 1989 года или в январе 2000-го? Что происходит с музыкой, написанной в 2010 году, которая берет начало в музыке, написанной в 1995-м, или отсылает к последней? Это «музыка девяностых»? Почему нет?
Есть много способов написать эту главу занудно и неточно. Первый из них я буду называть методом магазина грампластинок. Он страдает от непроясненных философских предпосылок. Историю порой читать сложно, поскольку она всегда оформляется подспудными понятиями, которые часто не подвергаются критике. И это главная причина, по которой мы не будем пользоваться таким методом в главе. Привычные классификации слишком привычны. В некоторых случаях нужно их перетрясти, продумать их заново.
Метод магазина грампластинок состоит в том, что мы берем кучу уже имеющихся ярлыков и бездумно применяем их, вообще никак не изучая. Тогда мы имеем дело со способом осмысления экологического мышления, свойственным кому-то другому (а может быть, и группе каких-то неизвестных людей), но не ставим вопрос о том, что это за люди. Мы просто получаем их категории в наследство и не задаем вопросов. Потом категории пускаются в оборот и в результате легитимируются еще больше. Мыслить, не пользуясь категориями, которые мы то и дело ретвитим, оказывается в итоге попросту сложно. А это, в свою очередь, означает, что на территории мысли появляются разбитые вдрызг колеи и колдобины, например всевозможные ложные парадоксы и проблемы. Тут можно вспомнить стандартные дискуссии о «природе как противоположности воспитания», каких немало в популярных СМИ. Всё это намного больше мешает, чем помогает.
Я буду выстраивать главу особым образом. Самое главное, она не будет организовываться методом магазина грампластинок. Вместо этого мы вернемся назад и разберемся с горизонтом как частью представления о том, что жанр служит горизонтом ожиданий. Обусловленность горизонтом означает, что у вас есть то или иное месторасположение. Вы соотносите край леса, горную гряду и вон те облака с вашим телом и вашим положением. Находиться в рамках такого горизонта — значит иметь определенную позицию, а последняя — не что иное, как метафора для установки. Такой подход представляется намного более точным, а также намного более содержательным. Не забывайте о том, что идеи приходят к нам в связке с установками. Так что мы не будем рассказывать историю, мы будем изучать разные стили мышления, разные способы обладать идеями. Красота подхода состоит в том, что, применяя его, мы сможем учесть происходящее в реальной жизни, а именно то, что люди придерживаются множества пересекающихся друг с другом и противоречащих друг другу установок.
Вот причина, по которой в этой главе мы проигнорируем те названия и ярлыки, которые люди или течения дают самим себе. Мы не будем обращать внимания на священных коров. Не принимайте их слова на веру. Иначе вы будете снова и снова говорить одно и то же, и на слуху будут оставаться, таким образом, одни и те же люди. В этом случае у нас получится непереваренная история, которая будет проталкиваться через заранее подогнанную пищеварительную систему, какая-нибудь история идей, мировоззрений или чего угодно. Такая история, сколько бы сносок к ней ни сделать, будет похожа на рассказ Гомера Симпсона о группе Jefferson Starship. В общем, у нас не будет рассказов о великих турах, как и никаких куч информации, и причина одна и та же. Проблема такого рода вещей в том, что из-за них упускается представление о крайне важных модусах повествования, в которых излагается тот или иной материал, сам по себе очень важный.
Вместо того чтобы рассматривать идеи «во» времени, как стеклянные марблы в заранее заготовленной коробке, мы рассмотрим что-то вроде разных ориентаций. Мы изучим стили, определяющие то, как быть экологичным в режиме мышления. Один стиль полагает, что приближается конец света. Другой — что люди неважны. Эти ориентации могут сойтись друг с другом, поскольку, в отличие от мировоззрений, они не требуют плотно упакованной, жесткой системы, в которой всё является симптомом некоего взрывного холистического целого, большего суммы своих частей.
Способы экологичности требуют определенных слов и определенных аргументов: в одном философском направлении (представленном такими авторами, как Лакан и Альтюссер) они именуются позициями субъекта. В этом случае феноменологический подход, не будучи ни в коей мере импрессионистским или же «субъективным», намного более точен: исследуя вопрос «На что похож мир хеви-метала?», можно получить намного более содержательное представление о хеви-метале, чем если заняться исчерпывающим перечислением всевозможных типов метала, используя жаргонные наименования (блэк, дэт, спид, дум, грайнд…).
Это должно объяснить, почему в главе нет подробного описания экологических идей. Понятно ведь, что способ описания людьми самих себя, особенно если они пытаются пристроить свой товар в магазин грампластинок, никогда не будет точным. Причина в том, что в феноменологии называется стилем, а в нейрологии сегодня называется адаптивным бессознательным. Вы никогда не можете увидеть себя целиком. Именно на этом принципе построена комедия. Она вызывает смех, поскольку комический герой просто по определению не может видеть себя целиком. Пытаясь не быть собой, он в итоге выдает самого себя вопреки себе же. Так что у нас не будет никакой «глубокой» или «плоской» экологии, «ярко-зеленой» экологии, «экотерроризма», «постколониализма» или чего-то в подобном духе. Это всё ярлыки из магазина грампластинок.
Но в то же время в главе есть определенные идеи об экологических идеях. Что я имею в виду? Давайте разберемся. Когда вы будете во всем этом разбираться, обратите внимание на то, что такие стили можно найти где угодно: в журналах, в интернете, в разговорах, в искусстве, музыке, архитектуре, в схемах поведения и в государственной политике… Я здесь сделал одну вещь — выделил активные составляющие каждого стиля, независимо от того, где именно они проявляются. Мы называем такой подход феноменологической редукцией, которая означает, что за скобки выносится всё, кроме цвета, запаха, момента движения (в метафорическом смысле) стиля как такового.
Иммерсивный стиль
Рассмотрим, к примеру, совершенно элементарную идею существования в окружении как такового. Возможно, вы удивитесь, узнав, что у этой идеи есть своя родословная, что она прививает определенные способы мысли и чувства, которые необязательно благотворны для реально существующих форм жизни.
Удивитесь ли вы, узнав, к примеру, что идею можно возвести к самым первым дням агрокультурного общества? Разве это не очевидно? Вот вы устроились в городе. Вашими предками были охотники, собиратели и кочевники, но какое-то время назад какие-то из ваших не столь отдаленных предков присоединились ко всем остальным и тоже где-то осели. Вы выглядываете на улицу из дома. Вы окружены разными вещами. Вы представляете себе окружение в качестве чего-то такого, что каждый год крутится вокруг вас, как какой-то динамический круг. Вы называете его «periechon», то есть буквально «вещь, которая идет кругом»[78].
Есть куча слов, связывающих то, как мы мыслим среду, с чувством оседлого пребывания в городе. Но на самом деле среда — это о-кружение, то есть лавирование то туда, то сюда. Еще один динамический вихрь.
Взять слово «ambience» («окружающая среда», «атмосфера»). «Ambo» — по-латыни «по обе стороны», тогда как английский суффикс — ence указывает на нечто динамичное, нечто, обладающее собственным стилем. «Ambience» — то, что происходит по обе стороны от нас, но это имеет смысл, если только вы живете в доме. Само слово «экология» происходит от греческого «oikos», то есть «дом», так что можно подумать, что «экология» — это правила домоводства, способ функционирования дома, истина о доме или что-то в таком роде. Но дом забавный: стены у него толстые и пористые, в нем множество вещей, которые нам, возможно, здесь не нужны; крыша прохудилась; причем кажется, что другие дома налезают на наш. В определенном смысле образ дома и образ того, что кружится вокруг нас (если только речь не о лавировании с внезапной сменой курса), — это, собственно, неправильный способ воображать экологическое сосуществование. (Что, надеюсь, доказывается книгой.)
Похоже, данный тип экологического мышления пытается в числе прочего передать, выразить или исследовать определенное чувство погруженности во что-то. Само это что-то за многие годы не раз менялось, однако у базового стиля сохраняются поддающиеся определению координаты.
Когда вы задумываетесь об экспрессии ДНК, о том, какие эффекты производят гены в самом мире, вы начинаете понимать, что экспрессия не заканчивается на макушке той или иной формы жизни, что она каким-то образом распространяется вовне. Например, экспрессия ДНК паука (фенотип паука) не заканчивается на кончиках его лап: фенотип простирается (самое меньшее) до последней нити в паутине паука. Пауки плетут паутину, поскольку гены паука обеспечивают ее плетение. Поэтому гены паука определяют не только форму его тела. Точно так же фенотип бобра достигает края его плотины[79]. Человеческий фенотип в настоящее время, похоже, охватывает значительную часть поверхности Земли и проникает вглубь ее коры — до определенного уровня, и именно поэтому мы называем современный геологический период антропоценом.
Так что, если теперь подумать о среде, произойдет нечто интересное. Если вы будете искать среду, которая была бы выше форм жизни и выходила бы за их пределы, вы ее не найдете. Даже скалы и воздух, которым вы дышите, являются частью фенотипа определенной формы жизни. Вы дышите благодаря экологической катастрофе под названием кислород. Кислородная катастрофа произошла в силу того, что кислород — это, так сказать, экскременты бактерий: следствием их успеха, пускай и непреднамеренным, является то, что анаэробные бактерии отравили свою собственную среду задолго до того, как то же самое сделали люди. (Но это не значит, что люди должны уничтожить свою среду, потому что они успешны или потому что уничтожение неизбежно.) Поэтому бактерии постепенно эволюционировали, чтобы скрыться в других одноклеточных организмах и стали митохондриями, энергетическими ячейками животных, и хлоропластами, энергетическими ячейками растений (вот почему растения зеленые). Интересно, не так ли? В определенном смысле тот факт, что вы дышите, также является бактериальным фенотипом. Точно так же бактериальным фенотипом является то, что в нашей идиллической картинке экоутопии, похожей на Эдем, всё должно быть таким зеленым. Это настолько удивительно, что вы можете даже удариться головой о железные перила, стоит вам о том задуматься, а поскольку железо — еще один бактериальный фенотип, вы всё равно не избавитесь от наших друзей и врагов, наших хозяев и паразитов — бактерий.
Стиль аутентичности
Далее, у нас есть бессчетное множество способов писать об экологии, под которыми мы в общем и целом имеем в виду самые разные способы репрезентации или исследования — в звуках, красках, словах и т. д. Легко понять, какой способ в США самый любимый: повествование от первого лица. Существует особый стиль экологического мышления, который выступает параллелью этому жанру, и его следует изучить, особенно для того, чтобы понять, как его избегать и зачем. В наиболее яркой форме вы можете найти его в том, что порой называют «описаниями природы» (nature writing), которые являются наиважнейшим для Америки экологическим стилем. Его, конечно, используют и другие, но его пуританские коннотации, свидетельствующие о нетронутой, богом посланной «девственной природе», определенно восходят к первым белым поселенцам, прибывшим в страну.
Этот стиль я буду называть стилем аутентичности. Дело в том, что в нем самое главное — быть по-настоящему аутентично экологичным, а потому вам надо сказать, что вы экологичны, сначала себе, а потом и всем остальным. Такой стиль связан с репрезентацией: он имеет дело с авторизацией самого себя, и часто его задача в том, чтобы быть автором (письма).
Так вот, замечательное качество повествований от первого лица (поверьте на слово специалисту по литературоведению) в том, что они внутренне ненадежны. «Внутренне» — значит структурно, то есть, если парафразировать, «независимо от того, что вы об этом думаете, и независимо от того, как автор пытается выкрутиться». Не может быть способа доказать, что «я», которое ведет повествование, полностью совпадает с «я» как предметом повествования. Эта фундаментальная черта повествования от первого лица всегда очень кстати, иначе бы вы застряли в том, что только что сказали о себе, и в том, что как именно люди понимают то, что вы о себе говорите. Вы и ваше селфи полностью совпадали бы друг с другом, что было бы совсем не круто. Если бы реальность совпадала со своим образом, ничего бы вообще не могло произойти. К счастью, вы можете сказать: «Мне скучно», а потом сказать: «Мне интересно». В крайнем случае вы можете даже сказать: «Я лгу», а поскольку существует неустранимый зазор между говорящим «я» и «я» как предметом речи, вы от такого высказывания не лопнете.
Из-за этого происходят и другие забавные вещи, когда вы пытаетесь удостоверить подлинность повествования от первого лица. Так, вы думаете, что, если добавить больше деталей, люди вам поверят. Но чем больше деталей вы вводите в повествование, тем более странным становится ваше описание или тем более безнадежным начинает казаться ваше положение, так что ваша тактика терпит поражение. Также она проваливается и в случае описания природы, поскольку, когда вы пытаетесь описать подлинную природу (вместе с подлинным вами, что лишь усугубляет проблему), в итоге у вас накапливается всё больше и больше слов, тогда как ваш пунктик именно в том, что, как вы сами же и подчеркиваете, вы совсем не тот человек, который любит сидеть в запертой темной комнате со своим лэптопом; вы, напротив, такой человек, который любит бывать на природе, жить дикарем в пустыне или где-то еще. Так что вы начинаете использовать какой-нибудь дневниковый стиль с проставленными в повествовании датами, которые могут быть как явными и точными, так и просто подразумеваемыми самой хронологией событий.
Говорящее «я» и «я» как предмет речи структурно различаются. Невозможно свести одно к другому — то есть, конечно, можно, но для подобного сведения требуется так называемая романтическая ирония, про которую я скоро расскажу. Но именно это качество, качество чудесное и обязательное для того, чтобы можно было наслаждаться хорошими мемуарами или же экранизацией, экологистская проза как раз и пытается вечно вымарывать, постоянно терпя провал, поскольку оно неотделимо от формы повествования от первого лица. Всё равно что пилить сук, на котором сидишь: ведь литературное богатство висит именно на нем. Это бессмысленно в литературном плане и на самом деле бессмысленно и в экологическом, поскольку искусственно сглаженное, пытающееся-быть-искренним (а потому непреднамеренно смешное) экологическое повествование от первого лица (в качестве примера можно привести какие-нибудь серьезные дневники с описаниями природы или же рассказы о путешествиях) и есть способ превратить мир в шоколадный батончик или в пакет кукурузных чипсов, а потому любому видно, как вы поедаете их, сидя на диване (хотя и делаете вид, будто путешествуете по так называемой «дикой» природе).
Английские поэты-романтики знали, насколько подозрительно первое лицо, и именно поэтому они его использовали. Поэтому неправильно считать их наивными описателями природы, хотя мы нередко так и делаем, и пусть даже сами они рассказывают о встречах с горами или о страшном, но в то же время бодрящем звуке морского прибоя. На самом деле они пытались обойти этот замечательный природный материал, который ко времени, когда они начали работать, уже успел устареть. Период до романтизма назывался эпохой чувствительности или сентиментализмом, — именно тогда европейские ученые открыли нервную систему и разработали всевозможные теории, объясняющие, как смысл возникает непосредственно из ощущений. Природа означает то, что ощущается спонтанно, нечто такое, что можно постичь безо всяких колебаний и размышлений, нечто скрытое под неизменно фальшивыми хитростями общества и тем, что сентиментализм называл «обычаем». Вспомните, к примеру, о Руссо, который говорил, что люди по природе своей свободны, но общество заковало их в кандалы.
Эти поэты и писатели как раз и пытались освоить довольно скользкое повествование от первого лица, а потому в их произведениях рассказчики порой даже специально заявляют читателям, что они им врали, или же завлекают их, а потом доказывают, что верить им было нельзя. Романтизм не означает какого-то витания в облаках: данный подход предлагает менее антропоцентрическую установку, которая в действительности больше согласуется с научным любопытством; они обнажали то, как сама их позиция меняет то, что они видят. Подумайте о разнице между взглядом на скалу издалека, когда она представляется далеко расположенным предметом, внушающим чувство благоговения, и изучением поверхности скалы при помощи лупы, когда она распадается на детали и, соответственно, утрачивает свою величественную весомость. В XVIII веке эквивалентом iPhone с его камерой и палки для селфи было так называемое стекло Клода — люди часто брали это приспособление в путешествия. Стекло Клода представляло собой полусферу из окрашенного сепией зеркала; вам нужно было встать в особую позу для осмотра пейзажа по предписанным правилам, а затем посмотреть в зеркало. В нем в перевернутом виде отражался пейзаж, который вы созерцали, — в таком виде, словно бы он был написан сепией. В отличие от стекла Клода, лупа показывает поверхность скалы в очень странном виде, поскольку скала в этом случае больше не удовлетворяет нашим антропоцентрическим требованиям, переставая служить красивым фоном (решительно отличаясь тем самым от наших селфи).
Точно так же поэт-романтик придвигается вплотную к своему личному опыту, знакомится с ним поближе, причем личный опыт выступает своего рода внутренним эквивалентом поверхности скальной породы. В опыте не бывает сквозной строки штрих-кода или проставленного знака копирайта — «Это опыт такого-то [вставьте здесь ваше имя]», — то есть не бывает имени автора, которое было бы инкрустировано в него наподобие слов в леденцах, которые продавались раньше на британском побережье. Отсутствие такого штрих-кода особенно заметно, когда опыт по-настоящему интимен. Представьте, что вы попали в автокатастрофу. Это чрезвычайное интенсивное событие, настоящая травма. И именно потому в нем возникает чувство нереальности. Чувство нереальности сопутствует менее центрированному на вас и более опасному для эго событию, которое становится частью вас самих (и, возможно, останется травмой на всю жизнь), одним из ваших самых ярких и даже пестуемых (вероятно, в дурном смысле слова) воспоминаний.
Таким образом, когда писатели, пишущие о природе, переливают из пустого в порожнее, возможно, перед нами серьезный регресс по сравнению со стилем, у которого нам уже пора было бы чему-то научиться, то есть по сравнению с мощной двусмысленностью того же Уильяма Вордсворта, множественностью призрачных голосов Шарлотты Тернер Смит, скукой Шарля Бодлера, мистичной в самой своей экологичности. И именно по этой причине им не удается быть экологичными, что как раз требовалось. Ведь экологичность включает ощущение моей мистической включенности в то, что я испытываю в опыте; это не может быть прямой, ничем не опосредованный опыт.
Религиозный стиль
Если даже понятие среды является продуктом неолита, а потому частью проблемы, а не решения, не следует ли отсюда, что наше экологическое время мы должны потратить, оплакивая ужасы так называемой цивилизации? Из этого предположения возникает определенный стиль, который я буду называть религиозным стилем. Данный режим становится с каждым днем всё популярнее, а способы его применения — всё более невоздержанными. Так, пространством всё более резких суждений и обвинений стали социальные сети.
У религиозного стиля давняя родословная. Рассмотрим, к примеру, такой популярный литературный жанр, как пастораль. В пасторали пара людей, похожих обычно на пастухов, — в них есть нечто от кочевников, и, возможно, именно поэтому они используются, — взбирается на холм, чтобы посмотреть вниз — на полное разложение, царящее в городе, и оплакать зло как саму суть цивилизации. Обычно экологический подтип религиозности принимает форму мизантропии, которая всё равно остается антропоцентризмом: люди — зло, поскольку они стали причиной экологического краха. Эта идея встроена во все повествования, которые иудео-христианство называет Грехопадением, но также и в рассказы других религий агрокультурной эпохи о переходе к сельскохозяйственному обществу, например в индуизме. В определенном смысле любой антропоцентризм является, судя по всему, мизантропическим, поскольку в конечном счете он вредит и самим людям. Возможно, нам стоило бы называть его мизантропоцентризмом.
У Гегеля было очень яркое описание такого религиозного стиля — он называет его «прекрасной душой»[80]. По Гегелю, у знания бывают самые разные ароматы, и это значит, что идеи и их ароматы всегда немного разбалансированы, как шагающие пружинки «слинки». Способ мыслить идею и сами идеи всегда различаются. Из-за дисбаланса многообразие идеи-с-ароматом перекатывается через себя, подобно такой шагающей пружинке. Базовый дисбаланс, характерный для «прекрасной души» как особого стиля, напоминает поведение чрезмерно религиозного человека, так называемого святоши. Человек такого типа видит в мире зло или, точнее, смотрит на зло как на вещь, от которой сам может избавиться. Зло — это не часть меня, оно где-то внутри меня, но я могу от него освободиться. Ясно ли вам, в чем тут дисбаланс? Такой стиль разбалансирован, поскольку взгляд, который видит во зле вещь, которая «где-то там», и есть зло как таковое. Вспомните о том, что «Аль-Каида» считала источником любого зла на свете Америку, а администрация Буша считала таким же злом саму «Аль-Каиду». Когда вы считаете зло вещью, которая существует «где-то там», отдельно от вас, вы способны запустить в нее самолет или же разрушить ее мощной бомбой. Вы можете оправдать убийство. Зло — это взгляд, который видит зло в качестве чего-то от меня отдельного.
Это типичное и в то же время дурное следствие множества разновидностей энвайронментальной позиции. Вспомним о взгляде с края Солнечной системы, которому открывается то, что Карл Саган назвал «бледно-голубой точкой», то есть картина Земли размером с один-единственный пиксель. Это последняя фотография Земли, снятая космическим зондом «Вояджер», когда в 1990 году он покидал пределы Солнечной системы[81]. Саган делает то, что делали также некоторые просвещенческие авторы, то есть представляет человеческие события в качестве мелких и малозначительных, ведь они происходят на огромном и безразличном фоне: мысль тут в том, что мы не должны так уж волноваться из-за наших человеческих дел, должны жить в мире и любви и т. д. Но установка, позволяющая ввести этот вроде бы хипповый стиль, совпадает с установкой того взгляда на зло, который изолирует всё зло в виде отдельной точки, одного-единственного пикселя в гигантском изображении универсума, что само по себе является позицией бесконечного презрения и враждебности.
Подлинно духовная позиция — понимать, что, в чем бы ни заключалось зло, оно является внутренним аспектом тебя самого. В том же смысле можно заметить, что мы сделаны из самых разных существ, окружены и пронизаны ими, но в каком-то сочетании они могли бы сильно нам навредить. Другими словами, это равноценно неустойчивой позиции хозяина, которая, как мы выяснили, является сущностью симбиоза. И отсюда следует, что многие формы энвайронментализма на самом деле совсем не экологичны. Они пытаются до чего-нибудь докопаться, выделив какую-либо частную сущность, например большую корпорацию, производящую токсические продукты, особый вид потребителя или консюмеризм как таковой, не обращая внимания на то, что такая сущность завязана на всевозможные сети и системы. Кого винить в глобальном потеплении: американцев, которые изобрели кондиционирование воздуха, или китайцев с индийцами, которые рады им пользоваться? Это не значит, что все существа одинаково виновны. Глобальное потепление вызвали люди, а не черепахи. Но суть в том, как именно мы мыслим вину.
Эффективный стиль
В то же время вы можете вообще не интересоваться добром и злом, по крайней мере напрямую. В экологической сфере можно усматривать область, нуждающуюся в правильном обслуживании, а потому ваш этический или политический спектр занимает промежуток от эффективности до неэффективности. Ваш подход будет в таком случае нормативным, как и в религиозном стиле, но не откровенно нормативным: вы цените гладкое функционирование биосферы, оптимизированное под существование человека и не наносящее слишком большого урона другим формам жизни.
Эффективный стиль будет удостоен самого длинного описания в главе. Причина в том, что он очень популярен, а также в том, что в нем много разных подвижных деталей.
Чтобы действовать в этом стиле, не нужно быть поклонником геоинженерии. Геоинженерия, ставшая с начала 2000-х популярным способом мыслить решение важнейших экологических проблем, означает вмешательство в биосферу в самом большом, а именно планетарном, масштабе. Например, технократы могли бы прийти к выводу, что лучшее решение проблемы глобального потепления — поставить в космосе гигантские зеркала, которые бы отражали тепло Солнца, или же насыпать в океаны железных опилок, чтобы стимулировать рост фитопланктона, в частности фотосинтезирующих водорослей. Привлекательность подхода заключается в том, что он наделяет нас чувством власти. Проблема же состоит в том, что, поскольку любые проекты геоинженерии влияют на всю биосферу в целом, повернуть назад не получится. Нет способа заранее проверить, что именно произойдет, как и нет способа откатить то, что уже произошло, если под «откатить» имеется в виду «устранить все последствия».
Геоинженерия — только один из способов применения экологического стиля. И этот способ поучителен, поскольку он показывает, как западная философия последних двух столетий осмысляла реальность, выработав господствующий тип мышления, который можно назвать корреляционизмом и о котором мы уже говорили. Корреляционизм, то есть мысль о том, что мир не реален, пока какой-нибудь коррелятор (обычно так или иначе связанный с человеком) не «реализует» его, может породить фантазию о том, что реальность представляет собой чистый лист, ждущий, что его заполнят какие-то (человеческие) проекции, то есть что-то вроде киноэкрана в ожидании фильма, который на нем покажут. Мысль о том, что мир — это чистый холст, ждущий коррелятора, который на нем что-нибудь нарисует, в экологическом смысле, очевидно, вредна: мир — не пустой экран, а коралловый риф, экосистема на альпийском высокогорье, кит-горбач.
Менее экстремальный взгляд — представление о том, что миру опасно навязывать (человеческое) желание, словно бы он был чистым листом и словно бы мы знали, что для него во благо. Оно пытается свести к минимуму воздействие коррелятора, не давить, стремится к эффективности и минимизации углеродного следа. Такой стиль, хотя он и достоин восхищения, поскольку во многих отношениях он совершенно правильный, всё же скован некоторыми ограничениями. Это очень популярный способ экологичности. Он привлекателен, поскольку основывается на представлении о настраивании, которое мы исследовали в предыдущей главе. Подобно лодке, несомой океанскими волнами, данный стиль эффективности стремится минимизировать энергопотребление, желая держаться уже установленного курса, то есть правя судном, но не прилагая слишком больших усилий. Такой стиль оказывается динамическим танцем, который следит за моментом движения мира в любое мгновение, а потому по самой своей природе отстаивает статус-кво. Он преобладает в теориях социальных систем, основанных на кибернетике — от греческого слова «kubernētēs», от которого происходят слова «кибернетика» и «губернатор» и которое означает кормчего или лоцмана.
Управление или овладение посредством отслеживания, лавирования, корректировки — все эти понятия тоже порождают фантазии господства. Идея в том, что можно «сделать как надо». Но если система динамична и темпоральна, сделать как надо не значит стоять на месте. Данная идея близка к более открытому представлению о настраивании, которое само похоже на то, что происходит, когда играешь музыку вместе с другими людьми: можно заметить, что музыка является прежде всего и преимущественно своего рода слушанием. Но различие в том, что подход эффективности всегда должен основываться на тех или иных заранее заданных параметрах, чтобы можно было определить, что эффективно, а что — нет. Задача в том, чтобы устранить ошибки, что, в свою очередь, сводится к устранению разницы между заранее установленным прошлым и открытым будущим. Эффективность душит креативность, которая выступает более фундаментальным подходом к настраиванию. То есть из этого может возникнуть особый экологический «стиль жизни», способ построения того мира, который казался бы гладко функционирующим, поскольку он основывался бы на фантазии о том, что можно каким-то образом приблизиться к совершенно гладкому функционированию.
Однако гладкость является гладкой только в каком-то одном определенном масштабе. Гладкость моих действий, когда я паркую автомобиль на узком пятачке, оказывается страшным сбоем с точки зрения улитки, раковину которой раздавило колесом моей машины. Представление о том, что есть множество миров, поскольку есть множество форм жизни, и ни один мир или масштаб не является «правильным», означает, что эффективность эффективна только с определенной точки зрения. Например, представление об устойчивом развитии предполагает, что имеющуюся у нас в настоящее время систему стоит поддерживать. Также оно предполагает, что «поддержание в течение длительного времени» является показателем успеха, а из этого вытекает модель существования, связанная с сохранением, продолжением, постоянным наличием. Но мы уже выяснили, что вещи так не работают. Поэтому в конечном счете стиль эффективности оказывается душным и некреативным, поскольку он не допускает сбоев и происшествий, но ирония в том, что вещи существуют, скорее всего, именно в таких сбоях и происшествиях. Нельзя сказать, что вещи функционируют гладко, пока что-то не сломалось. Гладкое функционирование — всегда миф.
Батай дал имя этому мифу о гладком функционировании — он назвал его ограниченной экономией. Ограниченная экономия — это экономия, господствующей темой которой является эффективность, то есть минимальное энергопотребление. Земля конечна, так что экономические потоки следует ограничить ее конечными размерами и мощностями. Значительная часть экологической этики, политики и эстетики основана на экономике ограничения.
Хотя это кажется довольно разумным, в стиле ограниченной экономии есть существенное упущение, а значит, в конечном счете он не может удовлетворить — по крайней мере в духовном плане — тех, кто стремится его поддерживать. Поскольку сбои и неполадки глубже (гладкого) функционирования, у энергии вещей есть избыточная интенсивность, которую невозможно эффективно сдерживать. Соответственно, возникает недостаток внимания к тому, что именно эффективно поддерживается. А поскольку модель эффективности всегда будет немного отставать от событий (пусть хотя бы на несколько мгновений: вы не можете радикально опережать события, поскольку нужно собрать данные о текущей ситуации, чтобы эффективно с ней работать), она никогда не сможет точно отслеживать состояние вещей, несмотря на то что обещает именно это.
Художники разных направлений и люди, принадлежащие к различным духовным традициям, проблему понимают интуитивно. В их традициях цель — не столько избавиться от негативных эмоций или даже трансформировать их, сколько принять их и раскрыть их внутренние энергии, которые вырываются за пределы эго: основной проблемой считается само эго, а не восприятия или различные феномены, происходящие в его пределах, например гнев. И опять же, страдание вызывает не то, что вы думаете, а то, как вы думаете. Гнев время от времени возникает, но, если вы не цепляетесь за него, он становится просто еще одним цветом или ароматом энергии. Речь не о том, что эмоции надо отталкивать или отрицать, а о том, что надо изучать их, не слишком за них цепляясь. Если же вы за них цепляетесь, ощущения будут просто ужасные: гнев «мой», так как же мне от него избавиться… Какие-то из этих идей должны войти в свод экологичности, иначе существует опасность построения общества контроля (если использовать специальный термин Делёза), которое будет настолько суровым, что, как я уже говорил, сегодняшнее общество, и так почти невыносимое, покажется в сравнении с ним полной расслабухой.
Кроме того, предельным горизонтом эффективности выступает нефтекультура, а именно тот факт, что нефть, ценный токсичный ресурс, диктует нам, как себя вести. В мире без нефти не нужно было бы придумывать экологические действия в тональности нефти. Иначе мы вели бы себя по законам энергетической экономики, которой больше нет. И в этом не было бы ничего замечательного. Я думаю, что экологическая политика должна быть направлена на расширение, модификацию и развитие новых форм удовольствия, а не на ограничение тех скудных радостей, которые у нас уже есть, раз мы мыслим только в том режиме, что дозволяется нашей актуальной практикой. Как выглядело бы удовольствие за пределами нефтяной экономики?
В прошлом году я перевел энергопотребление своего дома с плана, зависимого от ископаемого топлива, на такой план, который основан на ветровой энергии (в Техасе есть удивительно большой комплекс ветряных электростанций). Первые три дня действия нового плана я просто раздувался от самодовольства и сознания собственной добродетели. Я чувствовал себя очень чистым и эффективным. Мне казалось, наконец-то я понял, что такое устойчивое развитие. А потом…
Я понял, что могу устроить в каждой комнате дискотеку и всё равно причиню намного меньше вреда формам жизни, чем при использовании ископаемого топлива для обеспечения хотя бы элементарных функций дома. Солнечная и ветровая энергия означали бы прекращение выброса углекислого газа, так что глобальное потепление уменьшилось бы или даже прекратилось (в зависимости от того, сколько людей будет пользоваться солнечной энергией), что, в свою очередь, привело бы к уменьшению или даже прекращению вымирания форм жизни. К тому же быть мертвым — ужасное неудобство, если ваша цель — удовольствие; сохранение форм жизни само по себе служит источником определенного удовольствия (и не забывайте о том, что можно наслаждаться их существованием, получать удовольствие от того, что причиняешь меньше вреда). И тогда я понял, что именно таким было бы ощущение от жизни в экологически настроенном обществе. Вместо того чтобы надзирать за удовольствием, мы бы изобретали его новые разновидности.
Отсюда вытекает нечто почти невероятное. (И то, почему это невероятно, само по себе представляется интересным вопросом. Мы им еще займемся.) Приготовьтесь к удару.
Значительная часть экологических речей — это на самом деле речи от лица нефтяной экономики. По сути, почти все экологические речи на самом деле неэкологичны. Они чудовищно искажены нефтяной экономикой, в которой мы живем. Весь жаргон эффективности и устойчивого развития нацелен на конкуренцию за скудные высокотоксичные ресурсы.
Но если вы полагаете, что современная жизнь тяжела и что в ней слишком много ограничений, а также всевозможных форм надзора и контроля, приготовьтесь к худшему. Представьте себе, как выглядело бы экологическое общество, основанное на принципах ограничения и эффективности. Если мы движемся в этом направлении, я предпочел бы жить не на Земле, а где-то еще.
Работа с паранойей
Экологическое сознание сталкивает нас с одним весьма неприятным фактом. В экологическом сознании больше нет никакого места «вовне», поскольку, как нам известно, слив из нашего туалета не поступает в специальное место, которое было бы где-то там «вовне», он просто отводится куда-то еще. Если нет «вовне», тогда нет и здесь. Мы утратили реальность. Самой важной ее частью был суффикс — ость. И в свете экологического сознания мы хорошо понимаем, почему так вышло. Дело не в том, что у нас вообще ничего нет. У нас есть реальное. Но в нем больше нет особого смысла. В этом, собственно, и заключается проблема с режимом навала данных, и в этом ее объяснение. Режим навала данных просто подчеркивает неспособность вещей что-либо для нас значить. Наше сознание более не реализовано в человеческом масштабе, оно больше не настроено на антропоцентризм. В потенциале ситуация замечательна, если мы сможем «присвоить» ее и изучить. Однако нам понадобится проработать травму, а это большая работа. Надо будет выяснить, как жить теперь, когда мы стали законченными параноиками. Задача может оказаться очень сложной, но не неразрешимой: люди всё же способны восстановиться после травмы. Нам надо будет научиться более игривому отношению к отсутствию очевидного твердого основания смысла, отсутствию очевидного масштаба действий и наблюдений. И это тоже трудно, но не невозможно. В военное время люди учатся тому, как справляться со своей ситуацией, какой бы сложной она ни была. Можно научиться прокладывать путь через кошмар. Надо просто выйти из нашей зоны комфорта, помня о том, что некоторые человеческие зоны комфорта были чрезвычайно дискомфортными для других форм жизни, а в долгосрочной перспективе и для нас самих.
Конец света
Итак, двойная проблема. Конечно, мы можем отремонтировать планету. Но как? В психическом отношении у нас такое ощущение, словно мы совершенно раздавлены. Методы, на которые мы вынуждены опираться, если хотим всё перезапустить, сами выступают частью проблемы. В настоящий момент способы перезапуска реальности обычно основываются на разрыве наших связей с нечеловеческими существами, разрыве во всех смыслах: социальном, психическом и философском. Политические, технические и психические инструменты починки вещей, которыми мы располагаем, не годятся. Но в то же время нельзя свернуться в позе зародыша и впасть в отчаяние, — это тоже не сработает. Вместо того чтобы думать, что всё бессмысленно и что апокалипсис уже наступил — так что всё без толку — и что теперь надо придумывать с нуля, что делать с вещами (с такими установками мы никуда не уедем), лучше бы начать с того места, где мы уже оказались, и применять инструменты, которые у нас уже есть, пусть не самые лучшие или даже поломанные, а там посмотрим, как они будут меняться в процессе работы в разных масштабах и с формами жизни, которые нам незнакомы и для которых мы инструментов не придумали. По ходу дела наши орудия могут претерпеть ряд изменений.
Я решительно против фатализма мысли о том, что это конец света или что конец мира неминуем. Забавно подумать, что конец мира в определенном смысле уже произошел, если под миром понимать устойчивую систему ориентиров для наших действий. Если Ницше заявил, что Бог умер, возможно, мы должны смело провозгласить, что умер мир. Сегодня это ошеломляющее многообразие масштабов мысли и действия — масштабов экосистемы, планеты, биосферы, человека, синего кита — само по себе означает конец «мира». И так даже легче, поскольку выходит, что нам не надо цепляться что есть мочи за фантазию — неточную и жестокую фантазию антропоцентризма. Это похоже на хорроры, в которых герой выясняет, что уже умер. Если вы уже мертвы, бояться больше нечего, так ведь?
Неокончательные выводы
Быть экологичным — всё равно что быть преподавателем. Когда вы только начинаете преподавать, вы лезете из кожи вон, и это просто мучительно. Вам хочется нравиться студентам. А еще хочется, чтобы они нравились вам. Вы не хотите ощущать муки, которые сами же и провоцируете, поскольку слишком уж стараетесь. Вы начинаете работать с агрессией (или бросаете работу). Вы понимаете, что стали каналом для негативных, но также позитивных чувств — и ваших, и студентов, и задача ваша в том, чтобы сдерживать эти чувства во благо студентов. Затем вы спрашиваете себя, почему вы так напрягаетесь, и, возможно, начинаете отпускать вожжи. Начинаете доверять. И понимать, что вы преподаватель, неважно какой, поскольку по крайней мере один человек знает, что вы — его преподаватель. Теперь можно расслабиться.
То же самое происходит, когда вы становитесь родителем. Какое-то время вы тратите на отчаянные попытки быть родителем. А потом в один прекрасный день понимаете, что вы и есть родитель, и тогда можно расслабиться. По меньшей мере один человек знает, что вы его родитель.
Вы — существо, которое может быть только телесным и которое ни на секунду не отделялось от других биологических существ, живущих внутри вашего тела и за его пределами. Вы чувственно настроены на всё происходящее в вашем мире, из-за чего вы в итоге блокируете какую-то его часть, поскольку боитесь, что стимуляция может оказаться слишком сильной. У вас есть представление о том, что есть нечто внутреннее для вас и нечто внешнее, и это, возможно, самая глубокая причина, заставляющая вас думать, что экологичность требует какой-то радикальной перемены.
Если уж попал в ловушку неотложного экологического сознания, ужаса вымирания и глобального потепления, упустить этот ключевой пункт крайне сложно. Мне даже трудно сказать, сколько конференций по экологии я посетил, где в итоге возникала атмосфера полного отчаяния — ведь надо сжать кулаки и зубы и сделать что-то радикально иное. Но это просто разводка: как только вы создали совершенно иное пространство, вы уже отделили себя от него огромной пропастью, а в академическом мире, если вы правы или умны, придется показать и себе, и всем остальным, насколько пропасть глубока и широка. Вы только что убедили и себя, и остальных, что никогда не добьетесь экологичности. Та единственная вещь, которая могла бы помочь, тонет в страхе того, что наши реакции на наплыв данных (океаны окисляются! Потепление климата! Все виды вымрут!) окажутся слишком сильными.
Но вы уже являетесь симбиотическим существом, сплетенным с другими симбиотическими существами. Проблема экологического сознания и действия не в том, что они ужасно сложны. Она, напротив, в том, что они слишком просты. Вы дышите воздухом, ваш бактериальный микробиом тихонько жужжит, на фоне продолжает идти эволюция. Где-то поет птица, над головой пробегают облака. Вы закрываете эту книгу и оглядываетесь вокруг.
Вам не нужно быть экологичным. Ведь вы уже экологичны.
Над книгой работали
Данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы Музея современного искусства «Гараж» и ООО «Ад Маргинем Пресс»
Перевод — Дмитрий Кралечкин
Оформление — Раздизайн, Евгений Корнеев
Редактура — Артем Морозов
Издательство благодарит Елену Бондал за помощь в подготовке настоящего издания
Тимоти Мортон
Стать экологичным
Издатели:
Александр Иванов
Михаил Котомин
Выпускающий редактор:
Лайма Андерсон
Корректор:
Дарья Балтрушайтис
Оформление:
Раздизайн, Евгений Корнеев
Компьютерная верстка:
Марина Гришина
Все новости издательства
Ad Marginem на сайте:
По вопросам оптовой закупки книг издательства Ad Marginem обращайтесь по телефону: (499) 763–32–27 или пишите на: sales@admarginem.ru
ООО «Ад Маргинем Пресс», резидент ЦТИ «Фабрика», 105082, Москва, Переведеновский пер., д. 18, тел./факс: +7 (499) 763–35–95
info@admarginem.ru
Примечания
1
Цитата из «Упадка искусства лжи» («The Decay of Lying — An Observation»). — Примеч. пер.
(обратно)2
См.: Фрейд З. Жуткое // Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. С. 265–281.
(обратно)3
Pink Floyd. Песня «Breathe» из альбома «The Dark Side of the Moon» (EMI, 1973).
(обратно)4
К числу удивительно прозрачных книг Грэма Хармана относится и работа «Разъяснения Хайдеггера: от феномена к вещи» (Harman G. Heidegger Explained: From Phenomenon to Thing. Chicago: Open Court, 2007), в которой убедительно доказывается, почему понять Хайдеггера на самом деле очень легко. Хайдеггер утверждает попросту то, что бытие — это не наличие.
(обратно)5
См.: Parfit D. Reasons and Persons. Oxford: Oxford University Press, 1984. P. 355–357, 361.
(обратно)6
Фильм «Приключения Бакару Банзая в восьмом измерении» («The Adventures of Buckaroo Banzai across the Eighth Dimension»), реж. У. Д. Рихтер (20th Century Fox, 1984).
(обратно)7
См.: Chakrabarty D. The Climate of History: Four Theses // Critical Inquiry. 2009. Vol. 35, № 2. P. 197–222.
(обратно)8
См.: Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков: Фолио, 2003. С. 82–107.
(обратно)9
Хайдеггер М. Указ. соч. С. 36.
(обратно)10
Talking Heads. Песня «Once in a Lifetime» из альбома «Remain in Light» (Sire Records, 1980).
(обратно)11
Keats J. In Drear-Nighted December // Keats J. The Complete Poems / J. Barnard (ed.). London: Penguin, 1987. Line 21.
(обратно)12
Morton T. Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence. New York: Columbia University Press, 2016.
(обратно)13
Сериал «Доктор Кто» (Doctor Who), сезон 3, эпизод 10 «Не моргай» («Blink»), сцен. Стивен Моффат, реж. Хетти Макдональд (BBC, 2007).
(обратно)14
Cage J. 2 Pages, 122 Words on Music and Dance // Cage J. Silence: Lectures and Writings. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2011. P. 96.
(обратно)15
См. более подробное обсуждение: Morton T. Dark Ecology. P. 111–174.
(обратно)16
Фильм «Нечто» («The Thing»), реж. Джон Карпентер (Universal Studios, 1982).
(обратно)17
Фильм «Неудобная правда» («An Inconvenient Truth»), реж. Дэвис Гуггенхайм (Paramount Classics, 2006).
(обратно)18
Аллюзия на строки из Библии: «…и стали сближаться кости, кость с костью своею». — Примеч. ред.
(обратно)19
Имеется в виду американский спиричуэлс «He’s got the whole world in his hands». — Примеч. пер.
(обратно)20
Фильм «Матрица» («The Matrix»), реж. Лана и Лилли Вачовски (Warner Brothers, Village Roadshow Pictures, 1999).
(обратно)21
Имеется в виду «Поэма о старом моряке» («The Rime of the Ancient Mariner») С. Кольриджа. — Примеч. пер.
(обратно)22
См.: Бейтсон Г. Шаги в направлении экологии разума: избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии: в 3 кн. М.: КомКнига, 2010.
(обратно)23
Гуссерль Э. Логические исследования. Т. I: Пролегомены к чистой логике. М.: Академический проект, 2011.
(обратно)24
Monty Python’s Flying Circus. Скетч «Клиника споров» («Argument Clinic»; BBC, 1972).
(обратно)25
См.: Morton T. The Ecological Thought. Cambridge: Harvard University Press, 2010.
(обратно)26
Батай Ж. Проклятая доля. М.: Гнозис: Логос, 2003.
(обратно)27
Lovelock J. Gaia: A New Look at Life on Earth. Oxford, N. Y.: Oxford University Press, 1987.
(обратно)28
«We are all sinners in the hands of an angry God» (1971) — название знаменитой проповеди Джонатана Эдвардса.
(обратно)29
Blake W. Auguries of Innocence // The Complete Poetry and Prose of William Blake / D. V. Erdman (ed.). New York: Doubleday, 1988. Lines 1–3.
(обратно)30
Blake W. Op. cit. Lines 9–10.
(обратно)31
Строки из песни группы Talking Heads «Once in a Lifetime» из альбома «Remain in Light» (Sire Records, 1980).
(обратно)32
Чтобы понять, что произошло в Эквадоре, стоит посмотреть документальный фильм «Нефть» («Crude»), реж. Джо Берлингер (Entendre Films, Radical Media, Red Envelope Entertainment, 2009).
(обратно)33
Сафина К. За гранью слов. О чем думают и что чувствуют животные. М.: КоЛибри, 2018. С. 51–52.
(обратно)34
Эпизод 3 «Who Is in Control?» шоу Дэвида Иглмана «Мозг» («The Brain»; PBS, 2015–).
(обратно)35
«Alreadiness» — буквально «уже-сть», но, поскольку автор вводит неологизм в контексте хайдеггеровской философии и темы «всегда-уже», допустимо использовать имеющийся в русском языке термин «априорность». — Примеч. пер.
(обратно)36
Эта тема со многих сторон рассматривалась в работах Жака Деррида.
(обратно)37
Фильм «Звездные войны» («Star Wars»), реж. Джордж Лукас (20th Century Fox, 1977).
(обратно)38
Одна из лучших работ для первоначального ознакомления с этой темой — «В противоречии» Грэма Приста (Priest G. In Contradiction: A Study of the Transconsistent. Oxford: Oxford University Press, 2006).
(обратно)39
«Аффорданс» — термин Джеймса Гибсона, создателя «экологической теории восприятия», означающий возможности действия и взаимодействия, предоставляемые самим устройством или дизайном среды и объектов, окружающих человека и другие живые существа. — Примеч. пер.
(обратно)40
Эта фраза является названием двадцать первого семинара Лакана.
(обратно)41
Докинз Р. Расширенный фенотип. Длинная рука гена. М.: Астрель, 2010.
(обратно)42
Beer G. Introduction // Darwin Ch. On the Origin of Species / G. Beer (ed.). Oxford, N. Y.: Oxford University Press, 1996. P. xxvii — xxviii.
(обратно)43
Пример с бокалом подробно разбирается в моей книге: Morton T. Realist Magic: Objects, Ontology, Causality. Ann Arbor: Open Humanities Press, 2013. P. 193.
(обратно)44
Имеется в виду аркадная видеоигра Pac-Man. — Примеч. пер.
(обратно)45
Morton T. Buddhaphobia: Nothingness and the Fear of Things // Boon M., Cazdyn E., Morton T. Nothing: Three Inquiries in Buddhism. Chicago: University of Chicago Press, 2015. P. 185–266.
(обратно)46
Campbell C. Understanding Traditional and Modern Patterns of Consumption in Eighteenth-Century England: A Character-Action Approach // Consumption and the World of Goods / J. Brewer, R. Porter (eds.). London; N. Y.: Routledge, 1993. P. 40–57; Morton T. Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence. N. Y.: Columbia, 2016. P. 120–123.
(обратно)47
См.: Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. СПб.: Питер, 2004.
(обратно)48
Фильм «Темный город» («Dark City»), реж. Алекс Пройас (New Line Cinema, 1998).
(обратно)49
Фильм «Бегущий по лезвию» («Blade Runner»), реж. Ридли Скотт (Warner Brothers, 1982).
(обратно)50
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 56.
(обратно)51
Деррида Ж. Фармация Платона // Деррида Ж. Диссеминация. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 71–218.
(обратно)52
Shakespeare W. Hamlet / T. J. B. Spencer (ed.), A. Barton (intr.). Harmondsworth: Penguin, 1980. 2.1.63 (P. 99). (Использован перевод М. Лозинского: Шекспир У. Гамлет // Полн. собр. соч.: в 8 т. М.: Гос. изд-во «Искусство», 1960. Т. 6. С. 43. — Примеч. пер.)
(обратно)53
Маркс К. Капитал. Т. 1 // Собр. соч. 2-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1960. Т. 23. С. 80.
(обратно)54
Kripal J. Authors of the Impossible: The Paranormal and the Sacred. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
(обратно)55
Quantum Ground State and Single Phonon Control of a Mechanical Ground Resonator / O’Connell A. D. et al. // Nature. 2010. Vol. 464, № 7289. P. 697–703; Observation of Quantum Motion of a Nanomechanical Resonator / Safavi-Naeini A. H. et al. // Physical Review Letters. 17 January 2012. Art. 033602.
(обратно)56
В последнее время работа Антона Цайлингера была посвящена устранению лазеек в теории нелокальности, то есть сохранению парадокса двух сущностей, которые моментально настраиваются друг на друга.
(обратно)57
Weird, adj. // Oxford English Dictionary. oed.com (accessed: 09.04.2014).
(обратно)58
Кант И. Критика чистого разума. М.: Наука, 1999. С. 94.
(обратно)59
«Сверчки и даже биты для крикета» («crickets and even cricket bats») — игра слов, основанная на том, что «cricket» — одновременно «сверчок» и «крикет» (спортивная игра). Далее игра слов продолжается в «bats» — «биты» и «летучие мыши». — Примеч. пер.
(обратно)60
За обсуждение этого вопроса со мной я благодарен Тане Басс.
(обратно)61
«People are Strange When You’re a Stranger» — строка из песни Джима Моррисона «People are strange». — Примеч. пер.
(обратно)62
Тьюринг А. Вычислительные машины и разум. М.: АСТ, 2018; Декарт Р. Размышления о первой философии // Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1994. Т. 2. С. 3–72.
(обратно)63
О’Догерти, Б. Внутри белого куба. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
(обратно)64
О’Догерти, Б. Указ. соч.
(обратно)65
The Beatles. Песня «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» из альбома «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (Parlophone, 1967).
(обратно)66
Рёскин Дж. Семь светочей архитектуры. СПб.: Пальмира, 2017.
(обратно)67
Это важный вывод из геометрического доказательства теории относительности, представленного Германом Минковским.
(обратно)68
См., например: Quantum Ground State and Single Phonon Control of a Mechanical Ground Resonator / O’Connell A. D. et al.; Observation of Quantum Motion of a Nanomechanical Resonator / Safavi-Naeini A. H. et al.
(обратно)69
Спесишизм (speciesism) — дискриминация по признаку биологического вида. — Примеч. пер.
(обратно)70
Об этом говорит Джорджо Агамбен: Агамбен Дж. Открытое. Человек и животное. М.: РГГУ, 2012. С. 44–50.
(обратно)71
У Жака Деррида есть очень глубокая статья по этой теме: Derrida J. Hostipitality // Derrida J. Acts of Religion. London; New York: Routledge, 2002. P. 356–420.
(обратно)72
Фильм «Халявщик» («Slacker»), реж. Ричард Линклейтер (Orion Classics, 1990).
(обратно)73
Маркузе Г. Одномерный человек // Маркузе Г. Эрос и цивилизация. М.: Аст, 2003. С. 337–340.
(обратно)74
Я цитирую Дори из мультфильма «В поисках Немо» («Finding Nemo»), реж. Эндрю Стэнтон (Buena Vista Pictures, 2003).
(обратно)75
Хайдеггер М. Указ. соч. С. 60–61, 143–150, 159.
(обратно)76
Некоторые варианты серьезной экологической философии указывают в этом направлении. См., например: Агамбен Дж. Указ. соч.
(обратно)77
Мультипликационный сериал «Симпсоны» («The Simpsons»). Сезон 7, эпизод 24 «Гомерпалуза» («Homerpalooza»), сцен. Брент Форрестер, реж. Уэсли Арчер (Fox, 1996).
(обратно)78
См.: Spitzer L. Milieu and Ambiance // Spitzer L. Essays in Historical Semantics. New York: Russell and Russell, 1968. P. 179–316.
(обратно)79
См.: Докинз Р. Указ. соч.
(обратно)80
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Сочинения. М.: АН СССР, 1959. Т. 4. С. 351–361.
(обратно)81
Саган К. Голубая точка. Космическое будущее человечества. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
(обратно)
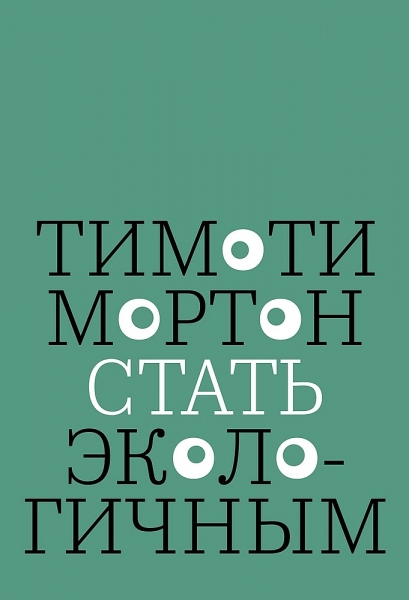


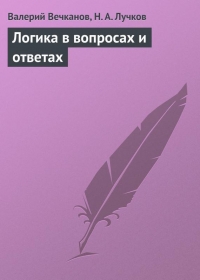
Комментарии к книге «Стать экологичным», Тимоти Мортон
Всего 0 комментариев