Введение
Наше время, это время великого кризиса всемирной истории. Борьба социальных сил поднялась до своей наивысшей точки. Апокалиптические[3] времена для старух обоего пола. Рождение нового мира для человечества. Время высокой героики для класса-преобразователя. Сумерки богов для уходящего и гибнущего порядка вещей. Все старые ценности трещат и рушатся. Происходит генеральная разборка привычек, норм, идей, мировоззрений; размежёвка, поляризация всех материальных и духовных потенций. Что ж удивительного в том, что и философия вовлечена в этот кругооборот, в эту титаническую борьбу? И что же удивительного в том, что философия марксизма, о которой профессиональные философы говорили несколько лет тому назад с презрительной усмешкой, поднялась теперь на ноги и упирается головой в самое небо? Ведь она не только вышла на улицу, как боевая сила: она — высочайшее обобщение теории и практики уже существующего нового уклада, социализма, величайшего всемирно-исторического фактора жизни. На неё стремятся противники нацепить компрометирующие ярлычки: новая религия, эсхатология[4], мессианизм[5]. Но хороша религия, когда она материалистична! Хороша эсхатология, когда социализм уже факт! Хорош мессианизм (понимаемый, как утопия), когда он захватывает сотни миллионов и — что главное! — побеждает! И как побеждает! В непосредственной классовой борьбе, в производстве, в технике, в науке, в исследованиях, в путешествиях, в героике, в философии, в искусстве, — словом во всех ярусах великолепного и трагического театра жизни! Он засыпает песком и поливает дезинфекционной жидкостью помойные ямы истории, он ликвидирует, к ужасу богобоязненных баб и хитрых жрецов, позеленевших от злобы и бешенства, даже религию, этот «духовный аромат» старого общества, где царили деньги, «вселенская блудница, вселенская сводня людей и народов», где царил капитал, из всех пор которого «сочилась кровь и грязь». Пролетарий оказался менее всего похожим на фонвизинского недоросля[6]: «зачем география, когда есть извозчики?» Это амплуа занимают его противники. Это они всё больше отвращаются от интеллекта, который отказывается им служить. Это они хватаются за каменные топоры, за свастику, за гороскоп. Это они начинают читать книгу истории по складам. Это они молятся каменным бабам и идолам. Это они повернулись спиной к будущему и, как собака Гейне, которой надели исторический намордник, лают теперь задом, и история им тоже показывает одно своё a posteriori[7]. Весёлые битвы разыгрываются на грандиозном пиршестве, и бой охватывает все сферы.
Философия часто была двуликим Янусом: одно её лицо было обращено на человека, другое на природу. Сократовское: «познай самого себя» соответствовало такому кризису греческой жизни, когда растерявшийся «субъект» искал своего места в обществе и, раскрыв широко глаза, спрашивал, что он такое, для чего ему жить, что такое добро? И философия раскапывала горы вопросов общественно-морального порядка. Но Бэкон Веруламский, который считал это почти праздным занятием и предлагал другие вопросы: о природе вещей, о физическом мире, об истине. Это шло вперёд, разгромив феодальные колодки, рациональное познание новых людей, людей буржуазного общества. Великие кризисы взрывают всю старую систему жизни, и ставят по-новому вопрос о человеке, и вопрос о мире, ибо распадаются и старые общественные связи, и старое мировоззрение. Так и теперь. Какие прыжки, какие пируэты проделывает философский дух современной буржуазии! От христианства, с его розовым елеем, до культа Вотана. От категорического императива Канте до торжественных гимнов крови и железу. От преклонения перед Разумом до интуитивно-мистических созерцаний. От точной науки до варварского преклонения перед самыми дикими суевериями. Поистине «пьяная спекуляция» идеалистической философии была титаном по сравнению с жалкими, но наглыми троллями[8] современного мистицизма, и даже их духовный предок Ницше, мог бы сказать о них: «Я сеял драконов, а сбор жатвы дал мне блох». Но блохи эти — блохи в интеллектуальном смысле. Материально они ещё вооружены первоклассным оружием, и им нужно противопоставить прежде всего материальную силу. Ещё в «Святом Семействе» Маркс писал:
«Идеи никогда не могут выводить за пределы старого строя: они всегда лишь выводят за пределы идей старого строя. Идеи вообще ничего не могут выполнить: для выполнения идей требуются люди, которые должны употребить практическую силу»[9].
Но и теория является силой, когда она овладевает массой. Люди, которые применяют практическую силу, должны быть идейными людьми. Поэтому — в особенности во времена кризисов — так важна и идейная борьба. Гигант нового материального мира, социализма, стал гигантом нового мировоззрения. Люди нового мира стали новыми людьми, целостными людьми, людьми воли и мысли, теории и практики, чувства и интеллекта, сердца и ума, души и духа одновременно. Когда-то глубоко-трагический немецкий писатель Гельдерлин жаловался в «Гиперионе»:
«Не могу представить народа, более разорванного, нежели немцы. Ремесленников ты видишь, но не людей, мыслителей, но не людей, священников, но не людей, господ и слуг… но всё же не людей»[10].
Бедняга не понимал, что классовое общество обрекает человека на нечеловеческое существование. Но именно это нечеловеческое существование возводится фашизмом[11] в вековечный закон иерархии, где «благородные» «сословия» должны вечно господствовать над «чёрным», и где навсегда человек должен быть прикреплён к каторжной тачке своей профессии и своего класса. Всё это опрокинуто в нашей стране. И потому опрокинуты и соответствующие мыслительные категории, тот «Домострой», который проповедуется и осуществляется в бывшей стране философов и поэтов. В истинно-русском «Домострое» даже насчёт младенцев говорилось:
«Не ослабляй бия младенца, аще бо лозою биеши его не умрёт, но здравее будет, ты бо бия его по телу, душу его избавляешь от смерти»[12].
Это становится верхом премудрости в фашистском раю. И та же патриархальная нагайка царит и в мировоззрении. Куда идти дальше, чем всерьёз провозгласить гносеологическим критерием истины толкования г-на Гитлера! Сам папизм не додумался до столь гениальной формулы! А вот ведь придумали!
Это падение мысли в помойную яму симптоматично. Но в великой борьбе к этой яме ведут многие тропинки и даже хорошо утрамбованные шоссе. Поэтому при размежёвке идей нужно брать в штыки и тех, кто отклоняет пути развития в сторону от широкой магистрали диалектического материализма, а их, к сожалению, ещё очень много. Часто они не ведают, что творят. Но, ведь давно сказано, что ignorantia non est argumentam[13] — что незнание не аргумент и не оправдание…
Кантианцы[14], позитивисты[15], агностики[16], феноменалисты[17] и другие — выбирайте! Время не ждёт. Время не терпит.
Мы хотим пройтись с читателем по аллее мысли, где стоят её сфинксы, её загадочные сфинксы[18], которые растерзали столько мозгов, но которые умели играть и на прекрасной арфе творчества.
Пойдёмте же, посмотрим ещё раз на старых знакомых, поглядим на их таинственные глаза.
Глава Ⅰ. О реальности внешнего мира и о кознях солипсизма
…Последующие поколения будут с великим удивлением узнавать, как старый классовый мир — и античность эллинов, и индийская мудрость, и утончённая философия капитализма — оставили в своих сморщенных и пожелтевших от времени книгах, в позабытых письменах, чудовищную теорию о человеке, отрицавшем весь остальной мир и всех других людей. Люди пили и ели, убивали и умирали, размножались, делали орудия, от каменного топора и наконечников стрел и до дизелей и динамо-машин, производили, научились взвешивать звезды и определять их химический состав. А философы утверждали, что всё это сон, иллюзия, фата-моргана[19], китайские тени, бродящие в сознании его, единственного solus ipse[20] сумасшедшего, вообразившего, что ничего, кроме него, нет, и что все разыгрывается в его сознании. И будут потомки наши вспоминать, как эти философы умирали, и на смену им приходили новые, читали своих предшественников, от них заражались солипсическим вздором, и — о, комики! — отрицали даже те самые отравленные источники, из которых они пили свою жалкую премудрость. Поистине, был достоин гибели такой мир, который производил таких людей!
Но пока — увы! — эти ходячие мертвецы, эти живые трупы, оторванные от материальной практики, «чистые мыслители», интеллектуальная людская пыль, ещё существуют и — что самое важное — заражают воздух экскрементами своего мозга и ловят в свои сети, тонкие липкие сети аргументов, которые многим ещё кажутся убедительными.
Давайте же начнём игру! Начнём потеху! Поблестим мечами, позвеним щитами!..
Дьявол солипсизма хитёр. Он драпируется в чародейный узорчатый плащ железной логики и смеётся, высунув язык. Сколько людей, начитавшихся епископа Беркли и Юма, Маха, агностиков, имя же им — легион, прикладывали свои горячие лбы к холодной стене и к косяку окна и спрашивали себя в изумлении: «Да как же? Ведь, вот, я могу разбить себе лоб об этот косяк? Какое же это не существующее?»…
Но тут появлялся Мефистофель и, скривив иронически губы, говорил:
«О, что за грубый аргумент, милый, наивный юноша! Что за вульгарность! Вы бы ещё сказали, что едите мясо с хлебом, перевариваете и выкидываете отбросы. Но разве ж речь, достойная философа? Это — аргумент для площадной черни. Ещё Гораций Флакк пел: „Odi profanum vulgus et cereco“ — „Я ненавижу чернь профанов“. Это для неё, с её запачканными руками, которые щупают запачканные вещи и занимаются грязным и низменным делом труда — убедительны такие вульгарные, поистине уличные доводы. Но для вас, мой юный юноша, для героев чистой мысли, для рыцарей духа, постыдно прибегать к таким доводам. Ибо откуда вы знаете, что мир существует? Не из ваших ли ощущений вы знаете обо всём? Но они — ваши, и только ваши! И не выпрыгнуть вам из них никогда. И что бы вы ни творили, какие бы теории ни строили, вы строите из этих кирпичей. Так откуда же другое? Будьте последовательны! Вам страшно? Вы боитесь одиночества? Вас пугает угасание мира? Вы хотите звёзд, любви, наконец — черт возьми! — дела, может быть, подвигов? Но всё это будет. У вас есть и звёзды, и любовь, и занятия. И вы можете наслаждаться, и любить, и читать, и даже работать, если вас это так интересует. Только все это — в вас, у вас, для вас. В вас — вся симфония мира. Не достаточно ли это?
А потом, мой юный друг, зачем вам утешения? Не есть ли это снижение вашего достоинства? Нужно смотреть в лицо истине, какова бы она ни была. Будьте же последовательны! Будьте бесстрашны! Ха-ха-ха!»
И бедный юноша вытирал свой потный лоб и косился на косяк, и ему мерещился снова высунутый язык чёрта-логика…
Но оставим эту игру воображенья нашего воображаемого юноши и его искусителя. Перейдём к сути.
В самом деле. В чём кажущаяся убедительность аргумента солипсистов, открытых и последовательных (таких мало всё же) и агностиков, их же — «тьма тем»? В кажущейся логической чистоте. Всё строго последовательно. Ничего лишнего. Всё — «из опыта». Ничего — не «примышлено». «Мне даны мои ощущения». Вот — железный инвентарь. Отсюда — остальное: всё мышление, все суждения, вся наука, вся «позитивная картина мира». Выпрыгнуть отсюда — нельзя. Можно только переорганизовывать эти «данные». Никакого скачка, никакого transensus’a[21] в другое — сделать нельзя. Ничего другого и нет — гипотеза другого ни на чём не основана, ибо есть только это, «мои ощущения», и в их пределах разыгрывается игра. Остальное — метафизика[22], праздные измышления. Можно, правда, верить. Но это уже отход от эмпирии, от опыта, если верить в то, что есть что-то за пределами «моих ощущений», sapient sat. С мудрого довольно.
Эта аргументация казалась многим настолько убедительной, что такой сильный критический ум, как Г. В. Плеханов, обронил как-то в печати фразу, что философия должна сделать спасительный прыжок веры, salto vitale[23], чтобы иметь возможность продолжать свою работу. Как тут, в самом деле, не вспомнить блаженной памяти митрополита Филарета и его «Катехизис»[24], «Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых»! — И как ухватились за эту «веру» все эмпириокритики[25], эмпириомонисты[26] , эмпириосимволисты[27]! С каким апломбом они издевались над «святой материей», над «transensus’ом», над «теологией»[28] диалектического материализма, они, кто проповедовал идеализм[29], богостроительство[30] и богоискательство[31] на фоне упадочной общественной психологии во времена реакции! Вот какие были дела! А в области теории, при всех своих ошибках, Плеханов всё же был первоклассной величиной, и Ильич[32] не раз говаривал про него: «Орел!».
«Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда на небо на подняться» — поучал ещё Крылов.
Но нужно ли было спускаться орлу ниже кур?
Да никак не нужно. И вовсе не надобно никакое salto vitale тем более, что это salto vitale, как две капли воды похоже на salto mortale[33] , с летальным, то есть смертельным, а не просто летательным исходом. На нужно было орлу спускаться в затхлый загаженный курятник!
В самом деле, давайте уж разбирать вопрос поглубже. Копать так копать! Мы даже готовы временно пойти на большую принципиальную уступку. Ибо «грубое» опровержение от практики есть великое опровержение. Это — великая мысль. Но мы готовы принять сражение и на так называемой «чисто логической почве», то есть на условиях, предлагаемых противником. Пожалуйста, милостивые государи!
Итак, «Мне даны мои ощущения».
Кому это «мне»?
Очевидно, что «я», это — философ-солипсист, или агностик. Человек взрослый, по своему культурный, читавший книги, писавший и т. д. Для удобства изложения совершив некое лицемерное перевоплощение, временный маскарад. Этот! Философ — я, пишет настоящие строки.
Следовательно, «мне даны мои ощущения».
Когда?
Да, очевидно, в любую минуту, в любой момент моего «опыта». Вот я пишу. Бумага, это комплекс белого, твёрдого гладкого, холодного; ручка — комплекс чёрного, твёрдого и т. д. Словом, по всем правилам Беркли — Юма, по всем нормам «Анализа ощущений» Э. Маха, это — мне дано. Из этих ощущений я составляю бумагу, ручку, свою собственную руку. Mutatis mutandis[34] то же и с остальными «элементами-ощущениями».
Но, позвольте, так ли это? Верно ли такое «чистое описание», которым столь гордятся философы данных направлений? Чисто ли они описывают? Не «примыслил» ли я что-либо? Чисто ли я изобразил сейчас то, что мне якобы «дано»?
Неверно и нечисто. Содержание моего «сознания» совсем не таково. Мои «переживания» (Erlebnisse) описаны не так. Правда, здесь есть и «белое», и «чёрное», и «гладкое», и «холодное». Но у меня это теперь же связано неразрывно и с понятием предмета, чистого ощущения у меня нет. Нет этой девственности и невинности ощущения. У меня «переживается» (в терминах противника) не «белое», «чёрное» и т. д., а эти моменты уже входят в понятие вещей, вещей, к которым я, кстати сказать, активно-практически отношусь: я вижу бумагу, я знаю, что она такое, для чего он мне нужна, я ее использую. Я должен произвести мыслительную работу, я должен сделать усилия, для того, чтобы вышелушить все эти «ощущения», чтобы изолировать их из связи понятий вещей, предметов, которые мне в действительности не пассивно «даны», а которые я так или иначе потребляю. Ощущения здесь продукт анализа, вторичное, а не первичное, фабрикат, а не сырьё, конечный, а не исходный пункт. Для меня, теперь (мы подчёркиваем это обстоятельство) эти ощущения добыты в результате мышления. «Я» — не Ева, только что сотворённая Господом из ребра Адамова, не имеющая в голове ни одного понятия, ничего не знающая и «окружённая» хаосом звуков, цветов, красок, с головой, переполненной одними впервые хлынувшими, «ощущениями». Я, не будучи женщиной, всё же давным-давно имел дела о Змием премудрости и не раз вкушал плодов от запретного древа познания добра и зла. Так зачем же меня хотят возвратить в невинно-девственно-варварское состояние райски-блаженного, глупого, безмозглого, не мыслящего существования?
Derr langen Rede kurger Sinn[35]: неправда, что «мне даны мои ощущения». Чистых ощущений, беспримесных ощущений у меня нет вовсе. Это — абстракция от того, что у меня есть в действительности. Это искажение моего «опыта». У меня ощущения сидят в порах понятий, я не начинаю за всё человечество процесса ab ovo, я не повторяю ab ovo[36] и своего собственного развития, от первых дней рождения. Я не только ощущаю, но я мыслю и работаю. И ощущаю и мыслю одновременно. И ощущения у меня не даны никакими изолированными моментами и не являются никак первоначально данными. В этом — действительность, а не в вашей, господа, абстрактной выдумке, не в метафизической иллюзии, преподносимой под видом антиметафизической «положительной науки». Для грубого эмпиризма[37], ползучего эмпиризма, как называл его Ф. Энгельс, для пренебрежительно относящихся к диалектике как раз и характерно то, что они впадают, под барабанный «антиметафизический» бой, в самую настоящую метафизику. Бим-бам! Бим-бам! Долой метафизику, и да здравствует «чистое описание»! Но подождите, господа! Ведь это вы же вырвали метафизические ощущения из их реальной связи. Ведь это вы оторвали ощущение от понятия, чувство от мышления, разложили во времени то; что едино, разорвали грубо-антидиалектически действительные связи и действительные процессы!
Итак: ощущения слиты с понятием в едином «потоке переживаний»; они переходят одно в другое в каждый данный момент «опыта» (мы ведём беседу в терминах противника, да будет это ему утешением в юдоли земной!).
Но отсюда проистекают громадные выводы. Ибо — понятие есть социальный продукт и немыслимо, как продукт чисто индивидуальный, так же, как и язык, который может развиваться лишь в обществе совместно живущих, совместно работающих и между собой общающихся людей. Ощущать может и ощущает индивидуум, как биологическая особь, как индивидуум в его «естестве». Мыслит только обобществлённый человек. Не обобществлённый человек есть дикая абстракция, он не есть человек, и тем менее философствующий человек, тем менее философское «я». Всякое понятие есть снятие индивидуального, снятие субъективности. Ни один дальтонист[38] не смог бы открыть, что он — дальтонист, если бы он был solus ipse.
Следовательно, любое понятие и любое адекватное ему слово, т. е. любой акт мышления и любой акт речи, предполагают «мы», отрицают изолирование и единственное я. Более того, они предполагают тысячелетнюю человеческую историю, в течение которой складывались понятия. Таким образом, это «мы» (следовательно, и «он», и «они») уже предполагается, они соприсутствуют, они сопричастны мышлению. Ибо мышление есть свойство обобществлённого человека.
Следовательно, налицо «сочеловеки», «Mitmenschen», говоря авенарианским языком. Но раз есть «сочеловеки», то нет ровно никаких логических оснований упираться в признании и нечеловеческих моментов, т. е. в признании природных вещей и процессов, предметного мира, «внешней реальности» вообще. Брешь проломана. Признав другого человека, во всей его телесности, тем самым я признаю и дерево, и траву, и землю, и всё прочее. Сквозь пробитую брешь сразу хлынул потоп действительности, реального внешнего мира, объективно существующего независимо от познающего субъекта. В нашей аргументации, следовательно, сочеловеки, это — только мостик, логический мостик. Весь реальный мир вторгается, как «данное», в противоположность бредовой ограниченности солипсиста.
Так падает девственная чистота и невинность солипсистической аргументации. Непорочное зачатие мира в голове без воздействия внешнего мира, т. е. мира вне головы, оказывается таким же мифом, каким является и непорочное зачатие агнца, въемлющего грехи рода человеческого.
Но тут к нам в странном негодовании и с красным лицом подбегает противник и, заикаясь, выпаливает, как из пулемёта, свои гневные тирады:
— Как, Вы отрицаете, что у ребёнка сперва есть ощущения, потом из них формируются понятия, потом…
И пошёл. И пошёл…
Успокойтесь! Волноваться вредно. И не хватайтесь за невинного младенца. Ибо он нисколько, ну ровно нисколько вам не поможет. Мы же условились, что речь идёт о взрослом, о философе. Но если взрослый философ нуждается в помощи маленького младенца и хватается за эту соломинку, чувствуя, что тонет, то можно поговорить и насчёт младенца. Какое же это непосредственно ваше «данное», милостивый государь?
Ребёнок, это не вы, а другое.
Вы не можете «переживать», как ребёнок.
Никаких «моих» ощущений здесь нет и в помине. Здесь предполагается его ощущения (то есть вы уже́ выпрыгнули из категории «моих»). Да вы ещё говорите не о конкретном ребёнке, а о ребёнке вообще, то есть делаете сводку и обобщения наблюдений над рядом детей.
Другими словами, вы предполагаете, кроме себя, ещё целый ряд маленьких субъектов (а, следовательно, volens-nolens[39] и окружающий их мир). Для отрицания мира вы хватаетесь за утверждение мира. Это, может быть, тоже диалектика, но да избавят нас от неё бессмертные боги!
Это вы делаете salto vitale, которое оказывается salto mortale для всей вашей гнилой, с позволения сказать, философии!
Значит, целиком подтверждается полная логическая несостоятельность всей школы солипсистов, агностиков-позитивистов и tutti quanti[40]. Их непосредственно-данное — никакое непосредственно данное, и продукт (логически) весьма скверного анализа. Таким образом, мы приходим к тому, что есть и другие люди, и внешний мир. Приходим к этому без всякого, «salto». Да иначе и быть не могло. Совершенно чудовищно представление, по которому логика и мышление, которое есть удлинение практики, вращались бы в совершенно противоположных и абсолютно разорванных навсегда разобщённых, предпосылках, т. е. практически трансформировала бы тот мир, который теория бы отрицала. Действительный опыт, опирающийся на гигантское развитие человечества и на всю его практику, по сути дела на всю жизнь, говорит о совершенно другом. У солипсистов — ни грана диалектики, ни грана исторического. Какое-то деревянное сумасшествие заскорузлость одиночки, величайшая бедность и духовная нищета интеллектуального кустаря, обеспложенный мир, втиснутый в маленькую черепную коробку.
Спрячьте свой язык, господин Мефистофель!
Спрячьте свой блудный язык!
Глава Ⅱ. О приятии и неприятии мира
Аргументация солипсистов, как мы видели, является дырявой аргументацией. Но все философские течения, подобные солипсизму, субъективному идеализму вообще, агностицизму и скептицизму[41], о котором Гегель — говорил в «Истории философии», как о чём-то неопровержимом, выглядят более или менее горделиво, лишь когда речь идёт о т. н. «чисто логическом» сражении с ними, хотя и тут они обречены на поражение. Принято в философии вести дискуссию в ограниченной плоскости самых высоких абстракций, точно нельзя подрыть и разрушить эти самые абстракции снизу, отправляясь от самых разнообразных проявлений человеческой жизнедеятельности. Возьмём с этой точки зрения солипсизм с его «я». Что это за «я»? «Я» есть известная целостность. Но эта целостность конечна. Никакое «я» не помнит себя в бесконечности времени, а только с определённого «возраста». Даже если привлечь к делу платоновское «вспоминание», то это мало поможет, ибо ясно, что здесь никакая не «данность», а умозрительное объяснение. А что же до «я»? И что же будет после «я»? На эти элементарнейшие вопросы у солипсизма нет ровно никаких объяснений: такие вопросы «не принято» ставить. А почему собственно? Да потому, что это, изволите ли видеть, «низменная» постановка вопроса. Но кто сказал, что уродство абстракции выше многообразной палитры?.. Субъективные идеалисты[42] нападают. А их нужно поставить в положение обороны. «Я» пьёт и ест и плодит детей. Проза? Прекрасно. Но всё-таки ест и пьёт? Или не ест и не пьёт? Имеет тело или не имеет?
Имеет мозг или не имеет? Совершенно, ведь, бессмысленно предположить, что существует только чистая духовная» субстанция «Я» без материального субстрата[43]. Ибо, если бы это было так, то откуда бы появилось у этого чистого «Я-духа», у этого «чистого сознания» сознание своей собственной телесности, своего организма, его болезней, телесных потребностей и влечений, т. е.: состояний сознания, которые в самом сознании связываются с телесностью? А если эта телесность так или иначе есть, то откуда она? Отсюда такие вещи, как родители, как время, как эволюция видов, как питание, как ассимиляция, как внешний мир и т. д. и т. п. Пускай солипсизм объяснит все эти проблемы! Пусть onus probandi[44] полежит немного на нём! Но на этих проблемах он будет сразу же чувствовать себя, как рыба, вытащенная на сушу. Ибо все вопросы материальной жизни (еды, питья, производства, потребления, размножения и т. д.) и всей культуры, и всего овладевания (теоретического и практического) миром становятся необъяснимыми, причём чудесные загадки начинаются с самого тела пресловутого solus ipse. Или же оное «Я» должно провозгласить себя бестелесным, вневременным, внепространственным, вечным, в вечности которого угасает различие настоящего, прошедшего и будущего. Но, однако, никто ещё не отваживался на такое «salto». Может быть, дело спасает всеобщее «Я»? Не «Я» солипсистов, а «Я» фихтеанского толка? Однако — увы! — при такой постановке вопроса исчезает вся привлекательность последовательности (quasi[45] — строго-эмпирической), которая отличает школу Беркли — Юма и их новейших сателлитов и лагеря позитивистического агностицизма и феноменализма. Ибо уже это-то «всеобщее „я“» (никак не есть «первоначально-данное», и его природа, как всеобщая абстракция интеллекта, как родовое сознание, ясна с первого взгляда. Оно, с другой стороны, является более прочным, ибо остальные эмпирические «я» приходят и уходят, а род остаётся. Но и тут не отделаться от тех же вопросов. А что было до человечества? И что же, вся история человечества — это, что ли, миф? И ко всем чертям нужно послать всю геологию, палеонтологию, биологию и всё прочее? Все свайные постройки, каменные топоры, лук и стрелы, копья, катапульты и баллисты, пирамиды, каналы, паровые машины, всю человеческую историю вообще?
Возвратимся снова к нашему solus ipse. Что он: он или она? Мужеского или женского рода? Или андрогин[46]?
Нам скажут: «фи! что за вопросы! что за глупости!». А почему? Если речь идёт о строгой (ха-ха-ха!) эмпиричности, то, между прочим, в сознании должно быть и влечение сексуального порядка (ибо эмоции, аффекты и проч. не отрицаются). Так вот, будем судить не по внешним признакам, а по «фактам сознания». Если скажут о мужском начале («М» Отто Вейнингера в «Пол и характер»), то, значит, есть и женщина вне сознания, реальная и настоящая. Если налицо Ж, то есть и мужчина. И т. д. А попробуйте-ка уклониться от этих вопросов! И здесь можно, конечно, некоторое время поломаться, сославшись на то, что такие вопросы «неуместны», и они де оскверняют белоснежные горные вершины мысли. Но это — дешёвое возмущение, это — извините — «благородство» шулера, пойманного с поличным.
Про скептика Пиррона рассказывают, что он, исходя из достоверности недостоверности чувств, шёл прямо на несущуюся на него колесницу, и что друзья его насилу оттаскивали его и выручали из неминуемой беды. Se non е vero е ben trovato[47]. Но это в своём роде единственный случай последовательности. На самом же деле ни один скептик, агностик, солипсист, поставленный под смертельный удар, не удержится от того, чтобы от этого удара отклониться. Откуда? Почему? Или убеждение серьёзно — тогда как объяснить это раздвоение и полярность «теории» и «практики», убеждения и поведения? Или именно поведение «серьёзно». Тогда неясно ли, что «убеждение» покоится «на песце»? «Принято2 опять-таки считать, что аргументы «ногами» не суть аргументы. А почему в сущности? Да просто потому, что до сих пор философствовали так сказать безногие, неполноценные люди, у которых теория была оторвана от практики, в сознании которых действительный мир заменился миром мыслительных абстракций и символов.
Посмотрите, в самом деле, на совокупность жизненных отправлений солипсиста и агностика! Если бы всё разыгрывалось только в его чистом сознании, зачем ему было бы вообще двигаться? В этом отношении в тысячу раз последовательнее были индусские мудрецы-спиритуалисты[48], годами созерцавшие свой собственный пупок, даже чувственный мир считался ими обманной пеленой. Тут точка зрения неприятия мира проводилась куда более последовательно, хотя, увы, даже бренное аскетическое тело всё же не могло целиком оторваться от прозаической воды, чашки рису, кореньев и плодов. А, ведь, с точки зрения приятия или неприятия мира принципиально безразлично, на что вы ориентируетесь: на акрид и дикий мёд или на ростбиф, фрукты и шампанское. Но здесь хоть можно сказать: ut desint vires, tarnen est laudanda voluntas[49]. А у западноевропейских отрицателей, неприемлящих мира, это неприятие выглядит скандалёзно-лицемерно. Нас, разумеется, интересует в данном случае вовсе не «моральная» сторона дела,— бог с ней, с этой стороной. Нас интересует тот факт, что поведение здесь опровергает теорию, которая так жалко удирает в кусты перед самыми ординарными фактами самой ординарной обыденной жизни. Но и у индусов добуддийского толка и у буддистов «brahma-nirwana» и «nibbanam» отрицали чувственный мир во имя идеального сверхчувственного мира, имевшего для них истинное вневременное бытие. А у субъективных идеалистов и солипсистов нет даже и этого. Тут гордыня духа пожирает всё и в то же время диалектически превращается в жалкую игру, которая в мириадах конфликтов с действительностью трусливо отступает буквально на каждом шагу.
«Нирваническая» практика, в которой воля направлена на своё собственное преодоление, на базе неприятия чувственного мира и самоуглубления, тем самым облегчает позицию, ибо сокращает сферу действия вообще, т. е. активного отношения к внешнему миру. Но вот как будет выпутываться неприемлющий мира солипсист, который, отрицая этот мир, действует, т. е. ходит, ест, пьёт, работает, любит, делает предметы и делает детей и т. д.? Ведь, одно дело, когда люди разглагольствуют о неприятии мира с точки зрения пассивно-созерцательной: здесь даже их собственная телесность как бы растворяется и испаряется, ибо предполагается, что она не функционирует, или, по крайней мере рассуждательство исходит из фикции, из того, «als ob»[50] этой телесности не было; она, эта телесность, не мозолит духовных очей, не вылезает наружу. Труднее приходится солипсистам, когда мы спрашиваем не только о пассивных «ощущениях», но и об актах воли (тоже, милостивые государи и милостивые государыни, факт сознания!) и телесных движениях, этим актам воли соответствующих и направленных на телесные объекты. Здесь всё связано одно с другим. Неприятие мира должно вести к отрицанию телесных движений, направленных на этот мир; к отрицанию телесности самого субъекта, к превращению субъекта в чисто-духовную субстанцию, вечную и неизменную, в которой угасает и время, и пространство, и весь Космос, и вся история, и жизнь, и смерть. Выходит, таким образом, что даже собственное тело «я» есть творение этого «я», как «чистого духа». Но — увы! Даже спиритам[51] нельзя уловить ни Беркли, ни Юма, ни одного из их последователей. А, с другой стороны, фактическая множественность претендентов на универсальную и единственную психическую монаду[52] разрушает эту единственность и вместе с нею эту единственную в своём роде сумасшедшую философему.
В действительности каждый акт практики выводит субъекта за пределы его «я», является прорывом во внешний мир, который остаётся и тогда, когда сам этот субъект перестаёт существовать и превращается в ничто. Здесь субъект, который иллюзорно пожирает мир, творя его, пожирается этим якобы им творимым миром, который утверждает свой железный приоритет над преходящим единичным бытием индивидуума, будь последний хоть трижды солипсист, не приемлющий реального внешнего мира.
Субъект солипсизма есть вещь в себе и для себя, вне соотношения со своими друзьями, вне связи, ибо он — всё. Но попробуйте к нему подойти экспериментально.
«Милостивый государь!» — скажете Вы ему: «так как Вы — единственная монада, и аз, грешный, существую только в Вашем сознании, и ваше тело — тоже, и вот эта рапира тоже, то позвольте мне проткнуть ею Ваше свиное (pardon!) сердце. Так как все это разыграется в Вашем сознании, то, разумеется, моя рапира ни капли не повредит Вашей сущности».
«Караул!» — закричит наш солипсист.
Тогда можно проделать другой опыт.
Предложите «неуязвимому» философу не вкушать никаких плодов земных и, исходя из независимости «духа», то есть чистого сознания, отказаться от грубой прозы пищи и питья. Он посмотрит на Вас дикими глазами.
А между тем, ведь, ясно, что с точки зрения его, якобы неуязвимой, позиции всё это — лишь в его сознании, которое не может погибнуть от таких вещей.
Скажут, это грубо. Но, ведь, это не аргумент. А эксперименты эти и реакции на них — аргумент.
И то же будет, если мы потянем к ответу не солипсиста, а, скажем индусского аскета, не приемлющего чувственного мира. Попробуйте отнять у него его скудные пищевые пайки. Он или умрёт (если согласится) или не отдаст их, что более вероятно. Но оба «ответа» будут аргументами за «внешний мир». И никакие хитросплетения мысли, никакие схоластические ухищрения не опровергнут убедительности этих «грубых» аргументов.
Все дело в том, что исходным пунктом является в действительности не «данность» «моих ощущений», а активное соотношение между субъектом и объектом, с приоритетом этого последнего, как величины независимой от сознания субъекта. Тут раскрывается всё значение тезиса Маркса (см. его замечания на книгу А. Вагнера, положение о Фейербахе, и «Немецкую идеологию») о том, что исторически человеку предметы внешнего мира не «даны», как объект мышления, а что исходным историческим пунктом является мир, как объект активного практического воздействия. Процесс ассимиляции[53] (через еду, питье и т. д. ), опосредствованный тем или иным видом производства, есть историческое (а, следовательно, и логическое) prius[54], а вовсе не «мои ощущения» или пассивно-созерцательное отношение между объектом и субъектом. Поэтому практика и аргументы от практики, как это будет подробно показано нами ниже, только с точки зрения интеллектуальной «чистоты», т. е. уродства отъединённого от целокупности жизненных функций, абстрагированного и гипостазиронного[55] интеллекта, не является теоретико-познавательным критерием. Иллюзии субъективного и объективного идеализма[56], отрицание мира вообще и отрицание материально-чувственного мира есть идеологическое извращение, как рефлекс потери связи с практикой действительного овладевания миром, реальной его трансформации[57]. Восточный квиетизм[58] (браманическая и буддийская «нирвана») и скептическая атараксия[59] не случайно совпадает с наиболее глубокими формами неприятия чувственно-материального мира или принципиальных суждений о его непознаваемости, когда все категории бытия превращаются в категории одной кажимости.
В «Феноменологии Духа» Гегеля, в учении о свободе самосознания, автор, анализируя и оценивая стоицизм[60] и скептицизм, дает en passant[61] убедительную критику скептицизма именно с этой точки зрения.
Гегель называет здесь рабским сознанием сознание, находящееся в полной зависимости от жизни и существования. Наоборот, стоическое[62] сознание есть равнодушие самосознания: оно свободно от цепей даже тогда, когда на человека надеты материальные цепи.
«Эта свобода самосознания, когда она выступила в истории духа, как сознательное явление, была названа, как известно, стоицизмом. Принцип его состоит в том, что сознание есть мыслящая сущность, и всякое явление имеет для него существенное значение или бывает истинным и добрым для него лишь постольку, поскольку сознание проявится в нем, как мыслящая сущность» («Феноменология Духа»).
Стоическая невозмутимость духа — «атараксия» (добродетель мудреца, известная и основным восточным философско-религиозным направлениям) имеет, таким образом, основой сознание ничтожности чувственного мира (в большей или меньшей степени). Скептическая философия, которая компрометирует всякое объективное знание, в том числе и уверенность в бытии мира, являются поэтому, как выражается Гегель, рабом по отношению к стоицизму, как господину, освобождая его от привязанности к чувственному, к ценностям вещей и условий жизни. Он разрушает все и всяческие противоположные утверждения, оставляя в неприкосновенности лишь равнодушие сознания, «атараксию».
В «Истории Философии» Гегель считает скептицизм неопровержимым с точки зрения единичного сознания.
«Мы должны,— говорит он.— …согласиться с тем, что скептицизм непобедим, но непобедим он лишь субъективно (наш курсив. Авт.), в отношении отдельного человека, который может упорно отстаивать ту точку зрения, что ему нет никакого дела до философии и признавать лишь отрицание… Его нельзя переубедить или заставить принять положительную философию, точно так же как мы не можем заставить стоять парализованного с головы до ног человека»[63].
Но в «Феноменологии Духа» Гегель со всей силой выдвигает не только соображение о «единичном», но и противоречие между теорией и практикой, словом и делом, столь характерное для всей скептической философии.
Скептическое самосознание «занимается уничтожением несущественного содержания в своём мышлении, однако, именно занимаясь этим, оно оказывается сознанием о несущественном. Оно высказывает приговор абсолютного исчезновения, однако, этот приговор существует и это сознание есть приговор об исчезновении; оно утверждает ничтожность видения, слушания и т. д., но в то же время оно само видит, слышит и т. д. Оно утверждает ничтожество нравственных постановлений и в то же время делает их господами своего поведения. Его поведение и слова постоянно противоречат друг другу, и таким образом оно есть двойственное противоречие, сознание неизменности и равенства себе в полной случайности и несогласии с собою» (Феноменология Духа ).[64]
Но когда эта двойственность в себе сознаёт себя, как двойственность, то есть становится двойственностью для себя, т. е. когда «самосознание» сознаёт свою собственную двойственность, то рождается новая форма сознания, которую Гегель называет несчастным сознанием. Оно сознаёт раскол между теорией и практикой, и практика, т. о., вторгается сюда, как фактор величайшей важности, наряду с дуализмом мира «сущностей и явлений» (об этом ниже). Несчастное сознание, это «несчастное, раздвоенное в себе сознание» (Феноменология Духа)[65].
На свой лад, где точка зрения объективного идеализма и идеалистической всеобщности, в порах которого (идеализма) сидит изрядная доля мистики, Гегель всё же схватывает две основные вещи:
a) противопоставление единичному скептическому сознанию факта всеобще людского, т. е. опыта многих, людей, общественного опыта;
b) противопоставление скептической теории практического начала, в том числе и, прежде всего, практики самих носителей скептической теории.
Таким образом, то, что в устах апологетов скептицизма (а также сторонников последовательного субъективного идеализма, или солипсизма) изображается как грубый и нефилософский аргумент, является на самом деле философским аргументом огромной важности, аргументом, наносящим сокрушительный удар по «самосознанию», которое держится на ногах лишь тогда, когда оно слепо по отношению к своему собственному содержанию, и которое становится несчастным сознанием, как только его кричащая раздвоенность в себе превращается в раздвоенность для себя, то есть, когда эта раздвоенность сознания становится ясной для самого сознания.
Почтенный аристократический философ говорит:
«Представьте себе подземное обиталище, похожее на пещеру, с длинным входом, открытым в сторону света. Обитатели этой пещеры прикованы к стене и не могут повернуть шею, так что их зрению доступна лишь задняя часть пещеры. На далёком расстоянии сзади них бросает свой свет сверху факел. В этом промежуточном пространстве находится наверху дорога и вместе с тем низкая стена, а за этой стеной (лицом к свету) находятся люди, которые носят, поднимая их выше стены, всякого рода статуи людей и животных, похожие на куклы в театре марионеток. Эти люди то разговаривают друг с другом, то молчат… Люди, находящиеся в пещере, будучи прикованы к стене, могли бы видеть лишь тени, падающие на противоположную стену, и принимали бы эти тени за реальные существа, а то, что люди, носящие эти куклы, говорящие между собою, до них доносилось бы лишь эхом, и они считали бы эти отзвуки речами этих теней. Если бы случилось, что один из этих прикованных был бы освобождён и получил бы возможность поворачивать спину во все стороны, так что он теперь видел бы самые предметы, а не их тени, то он подумал бы, что то, что он теперь видит, представляет собою иллюзорные сновидения, а тени представляют собой истинную реальность. И если бы даже кто-нибудь извлёк их из пещеры, в которой они были заключены, к свету, то они были бы ослеплены этим светом и ничего не видели бы и ненавидели бы того, кто извлёк их к свету, видя в нём человека, который отнял у них истину и дал им взамен лишь бедствия и горе» (Plat. De Republica)[66].
Здесь на одной стороне люди, как каторжники, закованные в цепи и прибывающие в юдоли не-истинного чувственного мира; с другой — мир идей, чистых форм, абстрактных сущностей, τον ειδων, недоступных чувствам человека, идеальных прообразов вещей, о которых человек может лишь «вспоминать». Недалеко ушла от этого и телефонная трубка Чарльза Пирсона («Грамматика науки»). И кантовский мир «нуменов», замкнутых «вещей в себе», взятых в противоположность миру «феноменов», «явлений» — стоит по ту сторону чувственного мира, ему «трансцендентен». И никакими силами человеку не впрыгнуть в это холодное царство. Таков печальный тезис Канта. То, что есть действительного в проблеме, было в виде вопроса блестяще сформулировано ещё древними скептиками, в частности Пирроном, как излагает его в учении о тропах Секст-Эмпирик. Гегель, не стеснявшийся в выражениях, в особенности по адресу Канта, говорит (в «Философии Природы»), что метафизика Канта, подобная заразе, с её учением о непознаваемых вещах в себе, глупее животных, которые набрасываются на чувственные предметы, чтобы их пожрать. Это верно и глубоко, ибо любой практический шаг по действительному овладеванию, т. е. преобразованию, переделке, трансформации предметного мира, есть выход за границы, отведённые «трансцендентальному субъекту» «Критикой чистого разума». Как ни «грубо» это доказательство, эта апелляция к практике, они весьма убедительны и с точки зрения теории познания, хотя тот же Гегель не без иронии отзывается о Диогене, ходьбой, то есть ногами, доказывавшем Зенону возможность движения. Ибо, в самом деле: люди по своей воле изменяют предметный мир так, как они хотят, а им вколачивают «идею», что они принципиально не могут познать этого предметного мира. Но это — тема особая и крайне важная. Мы ещё постараемся набить по этому вопросу шишки на медных лбах агностиков. А сейчас заметим вот что; и здесь мы готовы сделать противнику временную принципиальную уступку; будем рассуждать «чисто логически», хотя это понимание логики неверно, ограниченно, даже плоско-тривиально: ибо, поскольку мы вводим рассуждения о практике в качестве доказательства, сама эта практики переходит в теорию, она сама становится теоретическим аргументом.
В чём суть всех построений, толкующих о непознаваемости внешнего мира (не говоря уж о его отрицании, о чём выше был «весёлый разговор»)? В субъективности ощущений, представлений, явления, «феномена» в противоположность объективному, вещи в себе, «нумену». Цвет, звук, сладкое, горькое, твёрдое и т. д — всё это субъективные влияния, сигналы, идущие от нуменального мира «в себе». А каков же он «в себе»? Как пахнет роза, когда её никто не нюхает? Как «отмыслить» («abdenken»[67], термин Авенариуса) субъекта? И если его отмыслить (чего, по Авенариусу, нельзя), то что же останется? Как человеку представить мир в нечувственных формах? А если этого нельзя, то, значит его нельзя познать «в себе», он останется вечной загадкой, принципиально неразрешимой. Может быть, это и материя, может быть, это — дух; может быть, это совокупность монад; может быть, это царство платоновских «идей»; может быть, наконец, это бог — кто знает? Здесь — царство веры, фанатизм, чистого созерцания, мистики, иррационального[68] «познания». Гадайте хоть на кофейной гуще! Это все — «особо статья»!
Поражает ясностью постановки вопрос у Пиррона.
Секст-Эмпирик повествует:
«Первым уроком является различие организации животных, благодаря которому у различных тварей возникают различные представления об одном и том же предмете и одним и тем же предметом вызываются различные ощущения».
То же и с людьми: страдающий желтухой видит белое жёлтым. Это уж совсем, как у Маха, с приёмом сантонина («Анализ ощущений»). Таким образом здесь сразу утверждается двоякий субъективизм: 1) индивидуальный (желтуха, дальтонизм и т. д.); 2) общечеловеческий, родовой. А что же такое вещи в себе? Что они такое вне этих двух субъективных окрасок? Что они — объективно?
Хор отвечает: не знаем. Скептики: не знаем. Агностики: не знаем. Кантианцы; не знаем. Все они: и не будем знать; ignoramus, ignorabimus[69]. Ах, какие страсти-мордасти!
На троп[70] Пиррона мудро отвечает Гегель, который, несмотря на свой идеализм, благодаря крайнему объективизму этого идеализма, стоит на грани своей противоположности, материализма, и потому часто бьёт агностиков и кантианцев тяжёлым артиллерийским боем. Итак, Гегель:
«Но если они (скептики, Пиррон) и уничтожают чувственную одинаковость и тождественность и, следовательно, уничтожают эту всеобщность, то на смену ей выступает другая всеобщность, ибо всеобщность или бытие заключается именно в том, что мы знаем, что в набившем оскомину примере страдающего желтухой ему это кажется таким-то цветом, т. е. мы знаем необходимый закон, согласно которому для него наступает изменение в ощущении цвета» (История философии. Т. Ⅱ)[71].
Это превосходный ключ к проблеме, истинно-диалектический подход к ней. «Вещь в себе» и человек, объект и субъект (поскольку он есть) связан, находятся в определённом отношении. Если объект остаётся тем же, а субъект меняется, и мы знаем специфическую организацию субъекта и закон соотношения между объектом и субъектом, то мы уже кое-что знаем. Мы знаем, что «вещь в себе», т. е. внешняя реальность имеет объективное свойство вызывать совершенно определённые ощущения у одних и совершенно определённые ощущения у других субъектов. Кант, как известно, перегрыз зубами «Критики чистого разума» всякую связь между субъектом и объектом. У него даже категория причинности есть априорная[72] категория чистого разума, и только вопиющей непоследовательностью, взрывающей всю систему можно объяснить, что у того же Канта вещи в себе «аффицируют» наши чувства, т. е. что здесь налицо причинная связь.
Тут несомненный провал, несомненное фиаско, разрушение стройного здания.
Итак, мы знаем уже: 1) что вещи в себе суть причина наших ощущений, 2) мы знаем закон соотношения, т. е. объективное свойство вещей производить определённые ощущения.
Это со стороны объекта. Со стороны субъекта, объективным свойством которого является свойство иметь ощущения, мы видим, что мышление снимает субъективность, понимая её, как таковую.
Но здесь нужно подчеркнуть то, чего нет у Гегеля, что должно быть подчёркнуто марксистской диалектикой. Это — следующее:
Во-первых, то, что понят и фиксирован мышлением субъективизм (относительный!) дальтониста или желтушечного, могло произойти лишь из сравнений «опытов» многочисленных индивидуумов, то есть могло быть «дано» лишь в человеческом общении, продуктом коего и являются понятия, и системы понятий, и наука, как всё более и более правильное отражение объективного мира; во-вторых, то, что понят субъективизм (тоже относительный) родового, общечеловеческого (субъективизма, так сказать, второго порядка) является также результатом кооперации людей и богатейшего опыта сравнений разных организмов, уже и с выходом за пределы людей (невидимые человеком лучи видят, например, муравьи).
Но из всего этого не следует, что в ощущениях — только субъективное. Это — одностороннее и метафизическое воззрение. То же и в феноменах, т. е. в феноменальной «картине мира». Ибо в явлениях является мир: это не самопроизвольное одностороннее в себе бытие человеческого сознания (ни индивидуального, ни общественного, ни ощущения, ни представления, ни понятия первого ранга — феноменалистической картины мира); это — всегда соотношение, связь: никакого бы цвета не было бы, если бы не было объективно существующих световых лучей, никакой бы феноменалистической картины мира не было бы, если бы не было бы мира. Здесь объективное переходит в свою собственную противоположность. Или, как говорит Гегель в «Науке Логики»: «Явление есть не просто несущественное, а обнаружение сущности»[73], т. е., в переводе на наш язык, обнаружение объективного мира в категориях человеческих чувств.
Таким образом, рассматривать ощущения, как только субъективное, вне связи с объективным, нелепо. Эта сторона дела была хорошо сформулирована ещё «Геркулесом древнегреческого мира», Аристотелем, который (в «De anima») писал, что для ощущения «необходимо, чтобы было налицо ощущаемое». То есть, ощущение предполагает внешнее, внешнюю реальность, независимую от субъекта и связанную с субъектом, которую субъект ощущает. Он ощущает её, в нём ощущается она. Ещё резче: у Ильича (в «Материализме и эмприокритицизме») есть формула, касающаяся света: энергия внешнего раздражения переходит в ощущение цвета.
Ergo[74]: материальные лучи такой-то длины и скорости воздействуют на материю сетчатки, нервные токи идут, мозг «работает», инобытием чего является ощущение. Именно поэтому в «Философских тетрадках» Ильич выставляет тезис, что чувства не отделяют человека от мира, а связывают его с ним, приближают его к миру. Здесь взаимопроникновение противоположностей, их диалектическая связь, а не односторонняя субъективность и не абсолютная разорванность объекта и субъекта, не отрицание (как в «Эмпириокритической принципиальней координации» Авенариуса) реальности внешнего мира, якобы не могущего существовать без субъекта. Сама противоположность realiter[75] возникла исторически, когда природа создала, выделила из себя новое качество, человека, субъекта, исторически-общественного субъекта.
Интересен в высшей степени и восьмой троп Пиррона. Он гласит:
«Согласно этому тропу мы заключаем, что так как всё есть в отношении к чему-нибудь, то мы удержимся сказать, каково оно само по себе и по своей природе. Нужно, однако, заметить, что мы здесь употребляем слово „есть“ лишь в смысле „кажется“».
Тут, следовательно, говорится об отношениях в двояком смысле: во-первых, в смысле отношения к судящему субъекту; во-вторых, в смысле отношений между объектами, т. е. об отношении предмета к «другому», к другим предметам или процессам. О первом мы уже говорили. Теперь о втором. Здесь нужно сказать, что вещь в себе кантианская, т. е. «вещь», взятая вне какой-бы то ни было связи с другим, есть пустая абстракция, т. е. абстракция, лишённая всяких конкретных определений, то есть ничто, caput mortuum[76] абстракции, как выражался Гегель. В самом деле, что такое, например, вода вне определённой температуры, давления и других условий? Что такое вода «в себе»? Вопрос нелеп, ибо «в себе», т. е. вне определённых отношений, оно — ничто, leere Abstraktion («wahrheitslose leere Abstraktion»[77], как метко определяет Гегель). «Из того, что воздух, огонь и т. д. ведут себя так-то и так в одной сфере, нельзя сделать никаких выводов относительно их поведения в другой сфере»[78] — как формулирует вопрос Гегель в «Философии Природы». Поэтому, в сущности, нет фактов вне законов и нет законов вне фактов: и то и другое есть единство, ибо закон есть необходимое соотношение, связь чего-то с чем-то, переход одного в другое, становление, превращение и т. д. Потому не физические, химические, органические и т. д. свойства тел выражают отношение: электропроводимость, летучесть, теплопроводность, упругость, тяжесть, плавимость, протяжённость, временность, движение, наконец, даже свойство ощущать и мыслить,— всё это суть объективные свойства соотносящихся тел, законы, как соотношения. «Отмыслить» субъекта можно. Познание, исходя из чувственного, снимает субъективное и первого, и второго и т. д. порядка, приходя к объективным свойствам вещей и процессов, к соотношениям между ними, независимым от соотношения с субъектом. Вопреки эмпириокритикам, бытие природы без мыслящего субъекта было историческим бытием земли до появления человека. Но из принципиальной возможности и необходимости «отмыслить» (abdenken) «принципиальную эмпириокритическую координацию», не вытекает, что можно «отмыслить» все природные соотношения. Здесь вступает в силу так называемый «лысый» силлогизм[79], над которым ломали голову древние мудрецы, здесь количество переходит в качество.
Отсюда: скептики правы лишь против рассудочных, метафизических, антидиалектических определений, оперирующих вещью в себе, взятой вне всяких отношений. Такую вещь в себе, безразличную по отношению ко всякому другому, познать действительно нельзя по той простой причине, что она не существует, является ничем, небытием, пустой абстракцией, метафизической иллюзией. Так называемые отдельные вещи: (электрон, атом, химические элементы, планеты, индивидуумы органического мира и т. д.) мы берём в их относительной независимости, но всегда в определённых, искусственно выделяемых, более устойчивых соотношениях, которые именно в силу своей относительной устойчивости берутся за скобки и не замечаются: хорошо бы выглядел, например, человек в безвоздушном пространстве и при абсолютном нуле! И какова была бы тогда его «природа»? Или, вспомним, что говорил в «Диалектике природы» Энгельс о «вечности законов природы». Они существуют, если налицо есть определённые естественно-исторические условия. Они по существу так же историчны, как и любой общественный закон, только масштабы времени совсем иные. Последние исследования Эддингтона, например, доказали, что в физике космической, при колоссальных температурах и давлениях, при нагревании тела не расширяются, а, наоборот, сжимаются, в полную противоположность обычным земным соотношениям, т. е. другим связям вещей и процессов.
Так меняется.[80] Вот здесь-то и вскрывается вся нелепость трактовки цвета, звука и т. д., как только субъективного. Ибо:
1) свойство иметь ощущение есть объективное свойство субъекта, который сам может быть рассматриваем как объект;
2) это ощущение появляется в результате воздействия объекта. Мы можем рассматривать, ведь, само отношение между объектом и субъектом, как объективное отношение, и свойство порождать ощущения будет тогда объективным свойством объекта, а свойство иметь ощущения будет тогда объективным свойством субъекта. Если мы знаем, что у субъекта a, b, c объект x порождает ощущения α, β, γ, то мы знаем тем самым известные объективные свойства объекта. Возьмём, на первый взгляд, парадоксальный пример, о котором мы упомянули выше: ядовитого паука. Если паук кусает человека, человек заболевает. Что такое ядовитость паука? Это — его объективное свойство, которое человек познаёт. Вне соотнесения с человеком оно не существует: тарантул может кусать дерево и никакого свойства ядовитости не обнаружится; если же он кусает человека, то его ядовитость налицо. Эта ядовитость, следовательно, есть нечто соотнесённое с субъектом и вне соотношения свойство ядовитости не существует: существует лишь свойство выпускать определённый сок такого-то химического состава.
Правда, на это могут сказать: здесь речь идёт о субъекте, как физиологическом единстве, а в проблеме ощущений речь идёт о специфической трудности, ибо тут — новое, психическая сторона; тут, далее, вопрос не только об ощущении, как процессе, но и вопрос об ощущении, как отражении внешнего и об отношении содержания этого отражения к самому отражаемому. Это верно, но мы этого и не оспариваем. Только это не есть возражение.
В самом деле, в чем вопрос? Вопрос в том, прав ли был Кант, когда относительную субъективность феноменов превращал в абсолютную и заключая отсюда к непознаваемости вещей в себе. На это мы возражаем, и постольку и аналогия с пауком уместна; суть дела заключается в том, что мы, выражаясь словами Гегеля, знаем закон соотношения: ядовитость паука бессмыслица, Unding[81], как говорят немцы, вне соотношения с субъектом. С этой точки зрения сама «ядовитость» есть нечто субъективное. Но она в то же время выражает и объективное свойство, и познавая это объективное свойство (т. е. объективное соотношение между пауком и человеком), мы тем самым познаем паука с известной стороны. Это значит: всякий раз, как паук будет кусать человека, с ним будет происходить то-то и то-то. Паук — делаем мы заключение — ядовит. Не «в себе», но в соотношении. Когда мы говорим: роза красна, это значит: всякий раз, как человек смотрит на розу, у него возникает ощущение красного. Производить ощущение красного есть объективное свойство розы. Роза красна. Не «в себе», а в отношении. Но, повторяем, производить ощущение красного есть объективное свойство розы. Познавая это свойство, мы тем самым познаем и розу. Но так же, как за ядовитостью паука скрывается (вне отношения с человеком) его свойство выпускать жидкость определённого состава, так и за краснотой розы скрываются специфические световые лучи.
Таким образом, мы видим здесь всю диалектическую относительность понятий. Колючесть шипа розы есть объективное свойство шипа, но по связи его с телом человека или другого животного; вне этой связи понятие колючести бессмысленно; но это не мешает тому, чтобы оно выражало определённое объективное соотношение между объектом и субъектом.
Зная закон соотношения, мы знаем и относительность самого свойства, но это вовсе не незнание, как выходит, если следовать «дурному идеализму» Канта.
Мы имеем дело, однако, и с такими связями и отношениями, которые не зависят от субъекта. Если пропускается через воду электрический ток, то вода разлагается на кислород и водород, Весь процесс наблюдаем мы, грубо выражаясь, через очки нашей субъективности (причём мы знаем «закон» этих «очков»). Но само отношение между током и разложением воды совершенно от очков не зависит: оно объективно. Здесь два отношения: 1) отношение между током и водой; 2) отношение между всем наблюдаемым процессом и субъектом наблюдения. Но отношение между током и водой в его специфичности независимо от второго отношения, закон которого к тому же известен. Улавливаем ли мы это первое отношение? Конечно, улавливаем. Но это и значит, что мы познаём объективные свойства вещей и процессов. И каждый раз, как мы будем пропускать ток через воду, она будет разлагаться на водород и кислород. Этот процесс применяется и в технике, в промышленном производстве. Что же мы и здесь не знаем объективного свойства тока разлагать воду, или не знаем объективного свойства воды разлагаться под действием тока? Кто может сказать, что это не объективные свойства? Что здесь субъективного? Цвет воды? Запах? И т. д.? Но мы об этом даже и не говорим. Эту «субъективность» мы отбрасываем. Мы говорим о том, что вода разлагается, что есть объективное свойство тока в соотношении с водой и объективное свойство воды в соотношении с током. И это мы познаём. Но так же точно обстоит дело с громаднейшим и всё нарастающим количеством вещей и процессов в их связях и соотношениях. Это, правда, не кантовские «вещи в себе»: это действительные вещи и процессы в их действительных связях, переходах, движениях. В «Феноменологии Духа» Гегеля дан подробный анализ всех образований и ступеней, через которые и по которым проходит «Дух» (предметное сознание, самосознание, абсолютное знание). При рассмотрении предметного сознания, Гегель, изображая переход от чувственной достоверности к восприятию и от восприятия к понятию, даёт замечательную картину противоречий и трудностей в главном вопросе о соотношении между мышлением и бытием и о познаваемости вещей и процессов. Он великолепно изображает, как противоречия гонят сознание к мысли об универсальной связи всего сущего, и в заключении говорит:
«Связь с другой есть прекращение для себя бытия. Именно благодаря абсолютному характеру и своему противоположению она находится в отношении к другим [вещам,] и только это отношение имеет существенное значение; но отношение есть; отрицание своей самостоятельности, и, таким образом, вещь гибнет, как раз благодаря своему существенному свойству» (Феноменология Духа.)[82].
Здесь, по Гегелю, представление абсолютной общности не имеет уже чувственного характера и «впервые… сознание действительно проникает в царство рассудка».
Это место никак не должно нас смущать, ибо всё ещё речь идёт только о рассудочных категориях. Однако, вышеприведённые суждения нельзя оставить без некоторых возражений уже теперь. У Гегеля связь вещей, как известных предметных единичностей, имеет тенденцию превратиться в чистое отношение без относимого, точно так же, как, например, в «Философии природы» материя определяется через единство времени и пространства и их соотношений, а не наоборот, т. е. не так, чтобы время и пространство определялись, как формы существования материи. Если вещи не существуют вне отношения к другим вещам, то это вовсе не означает, что они «гибнут», то есть перестают существовать: отрицание изолированной вещи не есть отрицание вещи. Если отношение существует, как «существенное свойство» чего-то, то с гибелью этого чего-то должно гибнуть и это отношение. Отдирать одно от другого никак нельзя: это — антидиалектическая, голо-рассудочная операция: вещь предполагает отношение и уничтожает понятие вещи в себе, как абстрактной, бессодержательной и пустой: она всегда и везде, и для другого. Она сама — диалектическое противоречие, и философия должна брать её именно в этой диалектической противоречивости.
Чувство известной неудовлетворённости при обсуждении вопроса о познании часто проистекает из того, что люди думают не о познании предметного мира, а о чем-то другом; то есть не о том, чтобы получить отражение (правильное отражение) предмета, а о том, чтобы получить сам предмет, то есть превратиться в предмет.
Это стремление возникает в связи с аналогией с другими людьми. Если субъект X наблюдает живого «Y, человека» то он об Y судит по аналогии с собой. Он считает, что «познаёт Y» тогда, когда воспроизводит «переживания» Y в своём собственном сознании, судя об этом по мимике, по лицу, по движению тела и т. д. Другими словами, он познает Y тогда, когда он до известной степени сам превращается в Y, воспроизводит объект в себе самом, хотя в то же время и отделяет себя от этого другого. Но здесь предпосылкой является родовая однородность структуры, специфической живой материи и родовая однородность сознания, как его свойства, как его инобытия. «Сознание» многих самих взаимодействуют. Сознание каждого есть в то же время (на определённой ступени исторического развития) и объект себя самого. Это есть самосознание (Selbstbewusstsein). Ступень самосознания, как определяет Гегель в «Феноменологии Духа», есть «истина и достоверность себя самого», и в этом — отличие от предметного сознания. Однако, это отличие заключается и в том, что в то время, как кооперация или борьба людей в их телесности есть и кооперация или борьба их сознаний, соотношение между человеком и неорганической природой — совершенно иное. Здесь никак нельзя, чтобы бревно поместилось, как бревно, в его телесности, в сознании человека. Бревно может быть воспроизведено только «духовно» («geistige Reproduktion» у Маркса). Бревно не имеет сознания, как не имеет его весь неорганический мир (подробно об этом мы ещё будем говорить). Если бы субъект превратился в «бревно», т. е. в часть неорганической природы, то исчезло бы и сознание, и для этого субъекта, все проблемы мира, в то числе и проблема бревна. Такова смерть. В смерти, после разложения, то, что было мыслящим субъектом, становится однородным с неорганической природой и угасает в её безразличном равнодушии и равнодушном безразличии. Непонимание этого факта связано с различными обманами и иллюзиями, когда в природу всовывают многообразные типы сознания, одухотворяют её, превращают в бога, потом хотят причаститься этой — божественной благодати, в наивности своей воображая, что это-то и есть высший тип познания.
«Природа вещей» и её законы. Это выражает вечное движение, текучесть, непрерывное изменение соотношений и связей, мировую диалектику становления.[83]
Таким образом, процесс познания, отправляясь от чувственных показателей, исторически углубляется, снимает покровы субъективности, понимая эту субъективность и её относительность, зная её «закон», и издавая себе всё более адекватную действительности картину мира.
Примерно говоря, три ряда свойств мы можем перечислить здесь:
a) наиболее общие свойства, выражающие универсальные отношения: время, пространство, движение, форма, тяжесть и т. д.
b) качественно-специфические свойства, выражающие отношения вне зависимости от субъекта: физические и химические, биологические, общественно-исторические (твёрдость, жидкость, газообразность, электропроводимость, кристалличность, теплопроводимость, летучесть и т. д. и т. п.; способность ассимиляции, движения, размножения; способность ощущения; общественно-исторические свойства: способность мышления, речи, активного приспособления к природе и т. д.
c) свойство производить ощущения у определённых видов особо организованной материи (цвета, звуки и т. д. и т. п. ) и свойства в соотношении с субъектом вообще (например, ядовитость паука тарантула).
Два первые ряда свойств выражают меняющиеся, подвижные, текучие, диалектические соотношения между вещам и процессами независимо от познающего субъекта. Последний ряд выражает соотношение между внешней реальностью и её непосредственным проявлением в ощущениях субъекта, исторически, в процессе мышления, вырастающих во все более адекватную «картину мира», отражение этого мира, его «копию» (отнюдь не удвоение самой реальности!), а также объективные отношения между объектом и субъектом вообще. Роза «в себе», т. е. в одной связи природы, посылает лучи такой-то длины; в связи с глазом обычного человека она — красна; в связи с глазом дальтониста она зелена. Мы знаем её, вернее, мы познаём её, и в объективной связи, и в связи о субъектом и познаем законы соотношений, т. е. свойства вещей и процессов в их диалектической взаимозависимости и текучести.
Так прослеживаем мы (в историческом процессе познания) исторические превращения объективного мира, возникновение новых качеств, например, происхождения органических тел из неорганической природы, эволюцию организмов, эволюцию человеческих обществ и т. д.) Не лозунг Дюбуа-Реймонда: «Ignorabimus»[84] верен; верен и обоснован противопоставленный ему лозунг Эрнста Геккеля: «Impavide progrediamur»[85]!
Глава Ⅲ. О вещах в себе и их познаваемости
Итак, внешний мир, т. е. независимая от «моего» сознания (и даже от «нашего» сознания, абстракцией чего является «Я» идеалистической философии) существует. Его условно можно обозначить, как вещи «в себе», т. е. «вещи» вне зависимости от субъекта.
Однако, отнюдь не в кантианском смысле. Гегель (в «Истории философии», т. е. весьма остроумно) замечает, что кантианский «критицизм» есть худший вид догматизма, ибо он утверждает и я в себе, и вещи в себе на такой манер, что оба члена противоположности абсолютно не могут встретиться друг с другом. Кантианский великий непознаваемый X, вечная загадка, Изида под непроницаемым покрывалом, металл и жупел[86] всей новой философии, по сути дела имеет тысячелетнюю историю.
Знаменит платоновский миф о пещере, в котором в образной форме излагается учение о мире «идей» и мире явлений.[87]
Глава Ⅳ. О пространстве и времени
Одной из крупнейших философских ошибок Г. В. Плеханова, связанных с его «теорией иероглифов», была, по существу, кантианская трактовка пространства и времени. «Что время и пространство суть субъективные формы нашего воззрения, было известно ещё Томасу Гоббсу, и этого не станет отрицать ни один материалист» — писал Плеханов в своей известной полемике против Богданова («Materialismus militans»[88]). Здесь у Плеханова было чрезвычайно уязвимое место, и немудрено, что в эту брешь сразу же хлынули отряды теоретических противников. Так, например, В. Базаров весьма остроумно возразил: если время и пространство субъективные формы, а им только что-то «соответствует» в объективном, нуменальном[89], мире, т. е. в мире вещей в себе, то очевидно, что и движение есть субъективная категория, ибо оно предполагает время и пространство; следовательно, объективно существует лишь нечто «соответствующее» движению, как своему субъективному иероглифу. А отсюда тот вывод, что материя лишается даже движения.
Можно эту аргументацию развивать и дальше, например, опрокидывая её на понятие причинности. Плеханов совершенно правильно вскрывал вопиющее противоречие Канта, по которому категория причинности, с одной стороны, субъективно-априорна, а, с другой стороны, «вещи в себе» являются причиной феноменального мира. Однако, если время субъективно, то и отношение причинности не может быть объективным, ибо «следствие» следует за «причиной» во времени. А это неизбежно влечёт за собою вывод, что мир вещей в себе не может быть причиной наших ощущений, и сама причинность не есть объективная категория: ей лишь должно что-то «соответствовать». Другими словами, и причинность есть иероглиф, который принципиально нельзя расшифровать в его объективном значении.
Таковы моменты кантианства, пробравшиеся в материалистическую философию Плеханова.
Вопрос о пространстве и времени принадлежит к труднейшим вопросам философии. Для того, чтобы его правильно решить, необходимо отказаться от одного предрассудка, а именно от того, чтобы гасить качественное разнообразие форм и связей бытия. Этот предрассудок крайне мешает пониманию действительных связей и отношений. Мы имели случай убедиться в этом, когда анализировали вопрос о познаваемости «вещей в себе». В действительности «вещь в себе» не существует, а существует лишь в отношениях. А её хотят иметь «в себе». В действительности любой предмет порождает ощущение лишь в связи с субъектом, а его внесубъективные свойства хотят представить вне этой связи, в категориях ощущения. В действительности соотношения между мозгом и психикой есть оригинальное соотношение инобытия, а его хотят представить в чувственной форме других соотношений и т. д. Здесь — полное забвение диалектики, которая схватывает противоречия, переходы одного в другое и многоразличные связи и отношения в их специфичности и качественной оригинальности. Поэтому, когда хотят решать проблему пространства и времени по типу других форм и свойств бытия, попадают очень часто пальцем в небо.
Перейдём теперь, после этих предварительных замечаний, к существу вопроса. Возьмём для начала определение, имеющееся в работе Н. Морозова:
«Функция (наглядное изложение дифференциального и интегрального счисления)».
Там мы читаем: полное алгебраическое выражение для всякого существующего в природе предмета U будет:
U=x, у, z, t,
где х=длине, у=ширине, z=высоте, t=времени. U (обозначение «всякого существующего в природе предмета») будет функцией четырёх переменных, четырёх измерений, трёх пространственных и временного. То есть
U=f(x, у, z, t).
Уже при беглом взгляде на эту формулу видно, что она, вопреки автору, никак не может считаться полной, ибо в ней есть только то, что в ней есть: четыре измерения. Никаких других физических, химических, органических (биологических) и т. д. качеств и свойств в этой «полной» формуле не содержится и содержаться не может: она говорит лишь о пространстве и времени; она отвлекается от всего остального, она берет только количественные соотношения времени и пространства, и ничего более; в ней нет, так сказать, ни грана вещества вообще, ни вещества в его качественной определённости. В действительности же наличествуют бесконечные свойства, связи и опосредствования, и U есть f от всех них; оно — точка пересечения бесконечных влияний, и существует в их подвижной и многообразной сетке. В формуле Морозова, таким образом, предикат[90] выступает, как субстанция, форма, как сущность, одна сторона бытия, как само бытие, свойство, как целое, pars pro toto[91].
У Гегеля в «Философии Природы» мы находим такое определение природы:
«Первым и непосредственным определением природы является абстрактная всеобщность её вне-себя-бытия,— его лишённое опосредствования безразличия, пространство. Оно есть совершенно идеализированная рядоположность, потому что оно есть вне-себя-бытие; оно просто непрерывно, потому что эта внеположность ещё совершенно абстрактна и не имеет в себе никакого определённого различия», «Пространство есть чистое количество»…[92]
Здесь природа определяется через чистое пространство, а не пространство через природу. Пространство отдирается от природного бытия, само, в своей изолированности, всеобщности и безразличии ко всему другому, превращается в вещь в себе; т. е. «всеобщность вне-себя-бытия» природы превращается в природное «в-себе-бытие». На каком, в сущности, основании? Там же мы находим два суждения:
1. «То, что наполняет пространство, не имеет ничего общего с самим пространством»[93].
2. «Мы не можем обнаружить никакого пространства, которое было бы самостоятельным пространством; оно есть всегда наполненное пространство и нигде оно не отлично от своего наполнения. Оно есть следовательно некая нечувственная чувственность и чувственная нечувственность»[94].
Но если верно второе суждение, то как же можно говорить о первом? Здесь противоречие, но противоречие отнюдь не диалектическое. Если пространство является всегда наполненным пространством, то, очевидно, что пространство есть форма существования природы, мира, материи, выражение протяжённости, как всеобщего свойства всего материального. Отсюда — «чистая количественность», всеобщность, безразличие. Ещё Аристотель давал сложные доказательства против пустоты, «пустого пространства», как независимой величины, в которой помещаются тела. Но вопрос о пространстве, как и всякий другой вопрос, нельзя решать априорно; чисто-спекулятивно «из головы». Современная наука говорит о бесконечном количестве различных волн и корпускул[95], заполняющих пространство. Но если бы были даже обнаружены поры абсолютной пустоты, то и тогда бы пространственные соотношения были соотношениями между телами, то есть законом связи материальных тел.
Наоборот, если бы не было никаких тел вообще, то и пространство превратилось бы в чистое ничто, в абстракцию голой отрицательности. Таким образом, не пространство есть исходный пункт, а материальный мир, формой бытия которого является пространство, как всеобщая форма.
Пространство физики отличается от пространства обыденного сознания, но оно является более адекватным объективной действительности. Бесконечность пространства не есть бесконечность особой субстанции, а пространственная бесконечность бесконечного мира. Но любая конечная величина является, в свою очередь, бесконечной, в силу бесконечной дробимости. Поэтому пространство противоречиво в самом себе, и противоположности конечного и бесконечного переходят одно в другую. Пространство есть особая всеобщая форма существования материи, и должно быть понято именно, как особая форма; поэтому его нельзя рассматривать в одном ряду, скажем, с горючестью или светоносностью тел. У Аристотеля мы находим понимание этого.
Во-первых, у него пространство не есть само тело (См. Phis., Ⅳ, 1—3):
«Есть ли место — тело? Оно не может быть телом, ибо в таком случае в одном и том же месте были бы два тела».
Во-вторых,
«место не есть материя вещей, ибо ничто не состоит из него; оно не есть также ни форма (здесь речь идёт о форме в аристотелевом смысле энтелехии[96] души, активного начала, а не в нашем смысле. Авт.) или понятия, ни цель, ни движущая причина; и, однако, всё же есть нечто».
Здесь довольно хорошо (хотя только отрицательно) выражена оригинальность, своеобразие пространства, в отличие от других свойств материи и бытия вообще.
Время есть точно так же всеобщая форма существования мира. И здесь нужно сказать, что:
a) время отнюдь не есть самостоятельная величина, особая субстанция;
b) оно не есть нечто, в чём происходят процессы изменения, а лишь выражение этих самых процессов, что и вытекает и первого положения.
По этому поводу у Гегеля сказано очень хорошо:
«Но не во времени всё возникает и проходит, а само время есть это становление, есть возникновение и происхождение, сущее абстрагирование, всепорождающий и уничтожающий свои порождения Кронос»[97]…
Время не есть как бы ящик, в котором происходит процесс поглощения. «Время есть лишь абстракция поглощения», и то, что не существует во времени, является тем, в чём не совершаются процессы. Другими словами: нельзя себе представлять дело так, что, с одной стороны, существуют процессы, и эти существующие процессы помещаются во времени, как в ящике. Наоборот, процесс постольку и процесс, поскольку он уже происходит во времени. Следовательно, когда мы говорим, что всё возникает и уничтожается не во времени, а само время выражает процесс становления, то тем самым говорится, что процесс совершается именно во времени, но ещё в более строгом смысле слова, так как время уже входит в самое понятие процесса, а не так, чтоб сперва был какой-то вневременный процесс, который бы помещался потом во времени, приобретая временную характеристику. Однако, у Гегеля всё же, как и в учении о пространстве, есть оттенок отрыва времени от материи и явная тенденция определять самое материю через единство времени и пространства, а не наоборот. В действительности же единство времени и пространства есть единство основных всеобщих форм реального мира.
Время, как и пространство, и дискретно и непрерывно, и конечно, и бесконечно. Настоящее существует потому, что нет уже прошлого, оно есть его отрицание; а небытие его бытия, то есть его отрицание, есть будущее. Лишь настоящее существует, но оно результат прошлого и оно беременно будущим.
Трояк седого времени полёт: Грядущее идёт Медлительной стопою, Всегда безмолвное прошедшее стоит, А настоящее летит крылатою стрелою…Объективное время, отражаемое в научном понятии времени, однородно, тогда как субъективное время течёт то быстрее, то медленнее («скука» и медленность времени; ритмика жизни определённых организмов, скорость биологических процессов и ощущение времени и т. д.).
Особую проблему составляет проблема соотношений времени и пространства и их единства. «Здесь» есть также и «теперь». «Истиной пространства является время» — формулирует проблему Гегель. В движении материи выражается непосредственно это единство, ибо перемещение в пространственных координатах есть также перемещение во времени, и количество движения есть произведение скорости на время. Это единство пространства и времени является основанием теории (Минковский), которая рассматривает время, как четвёртое измерение пространства. Что оно является общим «измерением», то есть общей формой существования материи, это не подлежит сомнению. Точно так же не подлежит сомнению единство времени и пространства. Но это есть всё же диалектическое единство, а не тождество, и нельзя топить оригинальность времени в трёхмерном пространстве бытия.
«В представлении…— пишет Гегель.— нам кажется, что существует пространство и кроме того также и время. Против этого „также“ восстаёт философия»[98].
Это и так, и не так: так, ибо пространство и время взаимно обусловленные формы бытия; не так, ибо они не тождественные формы. Они составляют единство, но не тождество. И точно так же они привязаны к материи, как атрибуты материальной субстанции, её объективные свойства.
Объективность времени и пространства подтверждается опытом через бесчисленное множество показателей и через каналы всех чувств, дающие один и тот же результат. Формулы скоростей, количества работы, превращения энергии, геометрия, физика, механика и т. д.,— всё подтверждает с разных сторон функциональную зависимость от пространства и времени, как объективных форм движущейся материи. Все предварительные вычисления технологических производственных процессов, научных экспериментов и т. д. оперируют с величинами пространства и времени, и практика, и эксперимент, и прогнозы подтверждают объективность времени и пространства. Но время и пространство не суть самостоятельные величины. Ни Гегель, который имел тенденцию определять материю через единство пространства и времени, ни ряд выдающихся современных физиков, которые склонны считать время и пространство «истинной субстанцией» мироздания, не правы, ибо определять мир через уравнение, U = f~(х, у, z, t) — значит брать одну сторону дела, абстрактно и формально подходить к вопросу, антидиалектически субстанциализировать атрибут, изолируя его от действительной субстанции, «математизировать» бытие. Ибо отодранные от реальности время и пространство сами умирают, как время и пространство, перестают быть ими, превращаясь в мёртвую абстракцию, в сухую мумию абстрактного рассудочного чисто-количественного мышления, который считает феномены субъективным выражением объективного мира. В первом случае — цвета, запахи, краски, звуки; во втором — атомы, волны, лучи и т. д. Стоит сравнить, например, известное место в 1 т. «Капитала» о свете с рядом мест из «Анти-Дюринга»; «Философские тетрадки» Ильича (в особенности конспекты «Науки Логики») с «Материализмом и эмпириокритицизмом», комментарии к Фейербаху с комментариями к Гегелю. Поверхностному уму, уму недиалектическому, это покажется противоречивым колебанием. Между тем, здесь налицо диалектическое противоречие; которое имеет своё основание в том, что в «явлении» является «сущность», что как мы видели — субъективное нельзя трактовать как только субъективное.
Но здесь эту проблему мы хотим рассмотреть с точки зрения процесса познания, исторического процесса познания.
Что, например, делает новейший эмпиризм (вся школа Маха-Авенариуса, имманенты, философствующие математики и физики, группировавшиеся вокруг журнала «Erkenntnis»[99], фикционалисты, «позитивисты» и др.)?
Процесс познания у них только «Umformung»[100] ощущений, «непосредственных данных чувства». Так толкуется «Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu»[101].
Ничего нового. Процесс познания представляется таким, будто медведь ворочает «данную» глыбу валунов, паки и паки, перекладывает их так и этак. Всё — только «Umformung», да ещё такое, чтобы поудобнее было мыслить, поэкономнее, попроще. Вот уж поистине «простота хуже воровства»!
В «Философии Природы» Гегель весьма зло издевается над этим примитивом:
«Мы начинаем — пишет он — с чувственных сведений о природе. Однако, если бы физика основывалась лишь на восприятиях, и восприятия были не чем иным как свидетельством наших чувств, то работа физики состояла бы лишь в осматривании, прислушивании, обнюхивании, и т. д. Животные таким образом были бы также и физиками. В действительности, однако, видит, слышит и т. д. неких дух, некое мыслящее существо»[102].
Что в процессе истории познание шло от «чувственных сведений», это не подлежит никакому сомнению; это повторяется сокращённо и у человеческого индивидуума — нечто вроде филогенетического закона Геккеля, по которому человеческий зародыш воспроизводит эволюцию вида. Такая эволюция от чувств к мышлению отложилась в течение громадных тысячелетий в языке: videre, видеть, видение, wissen, ведение, ведовство, ειδος, idea, schauen, Anschauung, зреть, мировоззрение; concipere, conceptio; greifen, begreifen, Begriff; яти, пояти, понятие и т. д. Глаз и рука сыграли особо важную роль.
Но из того, что свидетельства чувств есть исходный пункт исторического процесса познания отнюдь не следует, как это утверждает грубый эмпиризм, что мышление не прибавляет ничего нового. Стоит только спросить себя: Да как же это так? Если мышление ничего нового не даёт, то каким же образом совершается чудо оплодотворения теорией практики! Каким чудом наука становится гигантским рычагом изменения мира? Как она выполняет эту свою жизненную функцию, если она — только удобная и максимально простая сводка, простое Umformung чувственных данных? Ведь ни один человек не сможет сказать, чтобы «комплексы ощущений», эти излюбленные «тёплое», «холодное», «красное», «зелёное» и проч. могли быть орудием трансформации мира, реального его преобразования. Значит, результат мышления есть качественное нечто другое, чем познавательное сырье ощущений. In intellectu сварился новый сплав, продукт, отличный от исходного сырья или полуфабрикатов. И здесь дело не во «врождённых идеях» и не априорных категориях Канта и не в чистых умопостигаемых платоновских «идеях», не в логическом prius внеопытного, чудом помещаемого в «трансцендентального субъекта», а в том, что сотнями тысячелетий длящийся «опыт» людей, в их сотрудничестве, выработал «объективные мыслительные формы» и, постепенно их видоизменяет, переваривает все новые порции чувственно — определяемого мира. Переход от ощущения к понятию, от чувств к мышлению, от субъективного — к объективному (здесь не в смысле материального, а в смысле копии, адекватно отображающей объективный мир), от индивидуального — к общественному, существующему в головах обобществлённых и сотрудничающих (так или иначе, что не исключает, а предполагает и борьбу) индивидуумов; новое качество продуктов мышления,— всё это книга за семью печатями для эмпириков. Не даром таких эмпириков Ф. Энгельс называл ползучими эмпириками, «интуитивными ослами» (не очень вежливая ругань по адресу Ньютона: но для себя, чего многие не понимают и очень оскорбляются за великого учёного). Переработка, «Umarbeitung» и «Übersetzung» Маркса (предисловие к Ⅰ т. «Капитала»), это есть такая же трансформация познавательного сырья, как практическая трансформация предметного мира. В продукте производства с известной точки зрения нет ничего нового и в то же время всё ново,— его потребительная стоимость например. И в мышлении нет никакого чуда пресуществления, а есть факт новых качеств, как результат активного процесса мышления, отнюдь не оторванного от практики, хотя и взятого (в разных общественно исторических формациях) в разного типа связи с нею (естествознание, например, по определению Маркса, есть теоретическая сторона производственного процесса). Люди не только лижут, нюхают, но и мыслят, и работают, и действуют сообща. Не даром великий Гёте говорил, что с отдельным человеком природа играет в прятки, и что только общество может её познать и овладеть ею. В историческом процессе познания люди, гигантски расширяя сферу восприятий, удлиняя, вопреки библии, свои органы и увеличивая, вопреки Фейербаху, число своих чувств созданием мощной, сложной и крайне чувствительной научной техники, макро- и микро-аппаратуры,— в то же время углубляют познание, снимая покровы субъективности. Субъективности индивидуальной (дальтонизм), родовой (субъективный коэффициент ощущения), земной (снятие геоцентрической точки зрения; ср. троп Пиррона о положении) и т. д. От примитивной трактовки солнца, как круглого блестящего круга, висящего на тверди, люди приходят к сложнейшему понятию, которое отражает громаднейший и многообразный комплекс объективных свойств объективного тела и его связей и опосредствовании: объёма, веса, химического состава, качественных форм материи, температур, характеристик движения, положений в солнечной системе и в ещё более гигантских системах разнообразных излучений, связи с землёй, трансформацией световой и тепловой энергии на земле, в бесчисленных видах и качествах и так до бесконечности (сюда не относится и анализ «отражений» солнца в сознании, от простого «круга» до обожествления Солнца)… Физика, химия, астрофизика, геология, зоология, ботаника, история — все науки поставляют свой материал! И вместо примитивного «комплекса ощущений» является понятие солнца, включающее огромное многообразие качеств и адекватное (в меру познания) объективно существующему великому светилу. Если искать рациональное ядро в идеалистической гегелевской диалектике, в его переходящих одно в другое понятиях бытия (бытия, наличного бытия, для себя бытия), сущности, явления, действительности и т. д., то здесь дана грандиознейшая попытка охватить ступени познания, соответствующего ступеням самого объективного бытия, Поэтому значительная часть полемических мест у Гегеля такова, что он тащит противника на аркане из субъективного болота в объективный мир, хотя и понимает его идеалистически, шиворот навыворот. Не иначе, вслед за Марксом и Энгельсом понимал дело и Ленин. Под отражением у него фигурирует вовсе не мёртвое и в значительной мере пассивное «зеркальное отражение» мира в ощущениях, а das Umgearbeitete и Umgesetzte, т. е. переработанное мышлением (пред. К «Капиталу»):
«Познание — писал Ленин в „Философских тетрадках“ — есть отражение человеком природы. Но это не простое, не непосредственное, не цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формулирования, образования понятий, законов etc., каковые понятия, законы etc. (мышление, наука = „логическая идея“) и охватывают условно, приблизительно, универсальную закономерность вечно движущейся и развивающейся природы. Тут действительно, объективно три члена: 1) природа; 2) познание человека = мозг человека (как высший продукт той же природы) и 3) форма отражения природы в познании человека, эта форма и есть понятия, законы, категории etc. (последний курсив наш. Авт.). Человек не может охватить = отразить = отобразить природы всей, полностью, её „непосредственной цельности“, он может лишь вечно приближаться к этому, создавая абстракции, понятия, законы, научную картину мира и т. д. и т. п.»[103].
При этом упомянутые абстракции и законы не суть формально-логические абстракции, т. е. абстракции с объединённым содержанием; наоборот, они «отражают природу глубже, вернее, полнее». Понятие солнца, о котором шла речь выше, абстрагируясь от субъективности, в то же время неизменно богаче блестящего чувственного пятиалтынного и даже более высоких его трансформаций.
Это, следовательно, повторяем, не пустые абстракции, а конкретные абстракции. С этой точки зрения можно видеть, как преувеличение одной из сторон познания ведёт его на ложные пути. Например: Если идти по пути абстракций от всех опосредствований и качественных определений, то получится, в конце концов, caput mortuum абстракции, wahrheitslose leere Abstraktion, кантовская вещь в себе.
Если постоянно связывать объект с субъектом, то есть считать невозможным абстрагирование от мыслящего субъекта, то получится «принципиальная эмпириокритическая координация», своеобразный идеализм типа Маха — Авенариуса.
Если родовые признаки, существующие в конкретном (так называемое «всеобщее»), выделяясь из «единичного» и «особенного», раздуваются и гипостазируются, то есть награждаются самостоятельным бытием, превращаясь в существо, то это приводит прямым путём к объективному идеализму. Если ощущения берутся вне связи с объективной реальностью, рассматриваются вне связи с ощущаемым, то есть не как проявление внешней «данности», а в себе, то это приводит к субъективному идеализму.
Если практику рассматривают в её оторванности от предмета практики, то это приводит к волюнтаризму[104], прагматизму[105] и т. д.
Если образование (социальное) понятий берут не как процесс познания на основе отражения объективного, независимо от субъекта существующего мира, тогда возникает социально-мифотворческий идеализм типа богдановского эмпириомонизма.
И так далее, и тому подобное.
Другими словами: процесс опосредствованного знания «чреват» многими опасностями. Многообразие его сторон, при преувеличении, раздувании, распухании одной из этих сторон вне соответствия с действительностью создаёт одностороннее искажение картины мира. Нет нужды говорить, что соответствующие искажения, само их направление, векторы мысли, определяются в значительной мере социально-исторической средой, создающей то, что Маркс называл «способом представления» как коррелатом «способа производства». Но это относится к вопросу о социологии мыслительных форм, что подлежит особому исследованию.
Эмпирики-позитивисты, феноменалисты всех сортов пугают тем, что признание внешней реальности есть удвоение мира, такая же метафизика, как, например, в объективном идеализме Платона. Отсюда — издевательства над «сущностью», объективной материей и т. д. Здесь разыгрывается настоящая вакханалия игры, спекуляции на страхе перед метафизикой, натурфилософией[106] скверного пошиба и т. д. Поэтому — логически — этот вид философии особенно распространён был среди философствующих физиков. Но эти страхи и ахи ровно ни на чём не основаны.
В самом деле, речь ведь идёт не о размножении объективной реальности, которая всегда одна и едина, будучи рассматриваема, как многообразная целокупность. Речь идёт — метафорически выражаясь — о разного рода её копиях, о разных картинах мира, более или менее соответствующих, адекватных, верных, глубоких и т. д. Сколько бы копий ни было — при чем тут умножение мира? При чём какое бы то ни было удвоение? У Платона это были две реальности: одна — «истинная», другая — «не истинная». Так то было у Платона. При дуализме[107] духа и материи это может быть очень часто, как, например, в ряде и религиозных концепций, где действительный мир есть мир чувственный, материальный, плотский и греховный, а над ним существует мир духовный, райский, свободный, божественный. Но при чем все это, когда мы рассматриваем вопрос о разнообразных формах отражения мира? Какое может быть здесь удвоение или умножение реальности? Ясно, что весь вопрос поставлен совершенно неверно. А между тем, ведь это возражение от «удвоения», раздутое Авенариусом (а затем Петцольдом) в так называемом учении об интроекции[108], составляло до известной степени внутренний полемический пафос всего направления в его борьбе против метафизики, под которую подводился и материализм. Правда, тогда почти никто из этих философов не знал диалектического материализма, но характерно то, что речь шла не о преодолении односторонностей механического[109] и вульгарного[110] материализма, а о борьбе с материализмом, как таковым. Как в вопросе об «ощущениях» и о реальности внешнего мира соответствующие философы подкупали «чистым опытом», так и здесь они подкупали борьбой с удвоением мира и метафизическими сущностями. Но все это не имеет никакого отношения к разбираемому вопросу о процессе познания, как ставит его диалектический материализм и о различных степенях адекватности «отражений». Процесс познания и состоит в смене этих отражений, от несовершенно-примитивных и грубых рисунков дикаря на стенах пещеры до сложнейших фотографий и рентгеновских снимков, от хаоса спутанных ощущений до грандиозной и величественной научной картины мира. Постоянное отвержение одних «копий» и переход к более совершенным, всеобъемлющим, глубоким, все более адекватным объективной действительности, и есть процесс бесконечного познания мира. Диалектический материализм не считает копий объективного мира за объективный мир. Объективность копии есть не объективность внешнего мира, а соответствие этому объективному миру. Так и только так можно ставить этот вопрос.
Глава Ⅴ. Об опосредствованном знании
Тезис сенсуалистов: «Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu» («нет ничего в интеллекте, что раньше не содержалось в чувстве») весьма радикален. Людвиг Фейербах, в своей войне (гневной, справедливой, священной) против «пьяной спекуляции» Гегеля, против замены мира действительности, предметного мира, игрой самодвижущихся понятий, против панлогистической[111] тарабарщины объективного идеализма, приведённого в грандиозную универсальную систему, поднял знамя чувства. В более широком, в общекультурном смысле и в историко-культурном контексте, это было одновременно и философским выражением целого движения за реабилитацию плоти, за её защиту от посягательств бесплотного духа, процесс, так остроумно описанный Генрихом Гейне в его знаменитых и полных блеска очерках по истории религии и философии в Германии.
«Как неразумно,— писал Фейербах.— желать превратить метафизическое существование в физическое, субъективное существование — в объективное, логическое или абстрактное существование — опять в существование нелогическое, действительное!»[112].
Война велась свирепая, и Фейербах чрезвычайно способствовал распадению гегелевской школы и формированию «левой», в купели которой зародился гений революционного марксизма. Фейербах до такой степени углубляя сенсуалистический принцип, что, например, писал так же (в «Лекциях сущн. религии»):
«У нас нет никакого основания воображать, что если человек имел больше чувств или органов, он познавал бы также больше свойств или вещей природы… У человека как раз столько чувств, сколько именно необходимо, чтобы воспринимать мир в его целокупности»[113]…
Это уже явное увлечение. Ибо, в самом деле, откуда эта предустановленная гармония? Ограниченное число чувств перед бесконечным качественным многообразием природы?.. Но эти «антропологические» увлечения, конечно, не отнимают великих заслуг благородного философа.
Читателю, внимательно следящему за марксистской литературой может показаться, что у самих классиков марксистской мысли есть как будто колебания в трактовке чувства и мысли или (что есть выражение этой дилеммы) между «наивным реализмом»[114], считающим мир феноменов за непосредственную «сущность» мира и материализмом такого толка.
Глава Ⅵ. Об абстрактном и конкретном
Нельзя ли поднять бунт против вышеизложенного? Как! Мы живём в чувственном мире, мы его непосредственно осязаем, видим, натыкаемся лбами на его твёрдость, чувствуем сопротивление. А вы всё же уводите в какие-то абстракции и законы! Да, ведь, это материализованная гегельянщина с её «всеобщими», идолами, которые пожрали конкретное и живое! Не писал ли Маркс о Бэконе, что у него материя улыбается человеку своим поэтически-чувственным блеском? Не писал ли Маркс, что потом материализм стал «человеконенавистническим» в своей серости, геометричности, абстрактности? Не уводите ли вы в это холодное царство трансформированного Гегеля вместо того, чтобы жить, работать и мыслить в той сфере, которая улыбается своей чувственностью? Не хотим мы этих абстракций, ощипанных мёртвых павлинов, из которых вы выщипали все их роскошные перья! Да и к тому же, кроме Маркса вот вам ещё две ссылочки:
№ 1. Ссылка на Гёте (Гёте о «Systeme de la Nature» Гольбаха):
«Судя по заглавию, громко возвещавшему, что в книге излагается система мироздания, мы, естественно, надеялись, что автор поведёт речь о природе, об этой богине, которой мы служили… Но как же велико было наше разочарование, когда мы стали читать его пустое атеистическое разглагольствование, в котором потонули без следа земля и небо со всеми красотами и созвездиями. Здесь говорилось о вечной материи, которая находилась в вечном движении, причём одно это движение… должно было создавать бесконечные феномены бытия. Это нас, впрочем, даже удовлетворило бы, если бы автор из этой своей движущейся материи действительно сумел развернуть перед нашими взорами всю вселенную. Однако, он знал о природе не больше нашего, ибо, установив несколько общих понятий, он сейчас же покидает их для того, чтоб превратить также и то, что является высшей природой, в ту же материальную, весомую, хотя и движущуюся, но бесформенную природу» («Dichtung und Wahrheit»[115]).
Ну, Гёте, как известно, пантеист[116], гилозоист[117] и так далее. А вот вам не кто иной, как сам ваш Гегель с его учёным колпаком! Вот вам.
№ 2. Ссылка на Гегеля:
«Чем больше возрастает доля мышления о представлении, тем более исчезает природность, единичность и непосредственность вещей; благодаря вторжению мысли скудеет богатство бесконечно многообразной природы, её вёсны никнут и её переливающиеся краски тускнеют. Живая деятельность природы смолкает в тиши мысли. Её обдающая нас теплом полнота, организующаяся в тысячах привлекательных и чудесных образований, превращается в сухие формы и бесформенные всеобщности, похожие на мрачный северный туман» («Философия Природы»)[118].
Эти вопросы мы ставим в порядке сократовской иронии, возбуждающего сомнения, бродильного фермента, заставляющего работать мысль, разъединяющего леность мысли и её привычную инерцию… Но, в самом деле, как же поладить с этими вопросами по существу? В чём же дело?
Во-первых, следует заметить, что человек вообще и общественно-исторический человек имеет многоразличные отношения к природе, не только интеллектуальные, но и теоретические. Он относится к ней и практически (в том числе и биологически), он относится к ней и художественно-эстетически[119]. Реально эти многоразличные отношения обычно и не рядоположны и не последовательны, а в той или иной пропорции слиты, взаимно проникают друг в друга и нераздельны, хотя и по-разному, в зависимости от исторических доминант, от общественно-культурного «климата», что определяется, в свою очередь, материальными условиями общественного развития. Следовательно, вопросы эмоционального отношения мы вообще здесь не рассматриваем, ставим их лишь для «затравки», позднее к ним возвратимся.
Во-вторых, поскольку мы ставим вопрос об интеллектуальном, познавательном отношении к природе, и поскольку в этой связи ставится вопрос о «богатстве», «многообразии» или, наоборот, о «скудости» или «бедности», мы на него уже ответили в общей форме в предыдущем изложении. Но здесь, чтобы удовлетворить бунтующего демона иронии, мы рассмотрим его с точки зрения сложных соотношений между абстрактным и конкретным, т. е. с точки зрения перехода от единичного ко всеобщему и от всеобщего к единичному.
Диалектическое учение Гегеля, материалистически истолкованное, представляет в этом отношении крупное приобретение, что бы ни говорили и как бы ни возмущались примитивные поклонники чистого сенсуализма[120].
Итак, приступаем к делу.
Что отвратительно, бесполезно, вредно, мертво? Формально-логическая абстракция, доведённая до пустоты. Она и есть ощипанный, выпотрошенный, вымоченный павлин. Здесь логический объём обратно пропорционален содержанию, обычный закон обычной школьной логики. Абстракция есть голый, ободранный, обезличенный стержень, даже тень его. Всеобщее здесь всеобщее в бедности и скудости тощих определений, есть отрицание множества качеств, есть ограничение одним-двумя признаками, превращёнными в сухую и сморщенную мумию.
Диалектическая абстракция есть конкретная абстракция, есть абстракция, включающая всё богатство конкретных определений. Но не вздор ли это? Не выверт ли? Не ходячее ли плоское противоречие? Не издевательская ли игра в понятия, та логическая мистика и тарабарщина, которая так часто встречается у Гегеля? Нет, именно такова структура диалектических понятий. В них всеобщее выделяется, при сохранении и субординации всего многообразия конкретных свойств, качеств, связей и опосредствовании. Это не первоначальный хаос конкретных неопределённостей, не хаос «первого конкретного», а космос, упорядоченное, содержащее закон, сущность, понятое адекватно действительности реальное богатство мира, соответственной его части, момента, стороны.
Вначале аналитически фиксируются различные «части» объекта, виды, функции; они изолируются и рассматриваются в их изолированности; затем даются переходы одного в другое; затем мышление вновь возвращается к исходному пункту, т. е. к конкретному. Но это конкретное («второе конкретное») отличается от исходного пункта (от «первого конкретного») тем, что здесь понята его сущность, его закон, его всеобщее, проявляющееся в особенном и единичном. Здесь, следовательно объект понят в его закономерности, понята связь его компонентов, понято основное в нём и понята связь между этим основным и его опосредствованиями. Никакого оскудения здесь нет. Наоборот, по сравнению с первым конкретным здесь есть огромное обогащение, ибо вместо безразмерных и равнодушных моментов здесь отображена живая диалектика действительного процесса. Маркс блестяще применял этот диалектический метод (являющийся и анализом, и синтезом одновременно) во всех своих работах. Возьмём, например, учение о кругообороте капитала (Ⅱ том «Капитала»). Первое конкретное: кругооборот капитала, ещё не понятый, в его сплочённости и неопределённости; это исходный пункт.
Далее, анализ: выделение форм денежного капитала, производительного капитала, товарного капитала и их кругооборотов; анализ отдельных кругооборотов в их абстрактной изолированности; они противоположны друг другу; они исключают друг друга; они отрицают друг друга.
Связь между ними: переход одной фазы в другую, одной противоположности в другую.
Далее, синтез, процесс в целом, единство противоположностей, возвращение к конкретному («второе конкретное»). Но здесь кругооборот капитала понят. Ясна его закономерность. В нём сохранены все конкретные моменты, но в то же время выделена и его сущность, взятая во всех опосредованиях. Абстракция «кругооборота капитала» конкретна.
Или возьмём такое абстрактнейшее понятие общественных наук как понятие общества. У Маркса оно включает понятие исторически изменяющихся общественно-исторических формаций, со всеми взаимодействиями базиса и надстроек и с выделением основных закономерностей. Здесь диалектически снято всё противопоставление «генерализующего» и «индивидуализирующего» метода, «логического» и «исторического», что в поте лица разрабатывала школа Риккерта. И в то же время здесь заранее с презрением отвергнута антиисторическая «целокупность» современных фашистских теоретиков, которые топят всё исторически конкретное и специфическое в фетише универсальной иерархической «общности». В марксовом понятии общества, следовательно, in nuce, in potentia[121] содержатся все возможные и крайне богатые определения. Диалектическая формула здесь охватывает всё богатство и разнообразие общественной жизни, как гигантский конденсатор. Здесь нет и следа обеднения по сравнению с какими угодно другими формулами и «отражениями». Конечно, реальная жизнь богаче какой угодно мыслимой теории. С этой точки зрения Гёте был прав, когда говорил о «серой теории» и «вечно-зелёном дереве жизни» — изречение, которое так любил Ленин. Познание есть процесс и охватывает всё лишь в бесконечном движении: оно лишь асимптотически[122] приближается к этому, в конечном никогда не охватывая всего. Но это ведь совершенно особый вопрос, другой, не тот, который мы разбираем.
Возьмём понятие материи, наиболее абстрактное понятие физики (в широком смысле слова). Формально-логическое её определение пусто и крайне бедно. Её диалектическое понятие включает качественное многообразие, исторические переходы одного вида материи в другой, конкретные свойства в их связи и переходах. Это не серое, механическое, бесформенное начало, которое так напугало и так разочаровало своей скукой молодого Гёте при чтении «Системы Природы» Гольбаха: это многообразное расчленённое единство.
Идеализм всякого рода всегда стремился так или иначе придать понятию, «общему», самостоятельное бытие, «истинное бытие», в противоположность «единичному», как бытию «неистинному»: платоновская «идея» и есть не что иное, как гипостазированное[123] понятие, обожествленная абстракция. Средневековый спор между «номиналистами»[124] и «реалистами»[125] как раз и заключался в том, что номиналисты выставляли тезис «Universalia sunt nomina» («общие понятия» суть «имена», «названия»), тогда как реалисты выдвигали противоположное утверждение: «Universalia sunt realia» («общие понятия суть реальности»). Точно так же в объективном идеализме Гегеля понятия превращаются в сущности, и реальное бытие примеривается к понятию, соответствует ли оно этой истинной реальности (с этой точки зрения у Гегеля действительно только то, что соответствует своему понятию!), а не наоборот, не понятие примеривается к реальным вещам и процессам для проверки своего соответствия с предметом. Поэтому Маркс и считал, что первой формой материализма был номинализм. С каким бешенством нападал Маркс на гегелевскую замену груш, яблок и т. д. «плодом вообще», действительных предметов их логическими тенями и отражениями! Именно этой стороной был замечателен и Л. Фейербах, с такой благородной страстью протестовавший против превращения логического бытия в действительное бытие, а действительного бытия в бытие логическое. Именно здесь и ставит Гегель в своей системе весь мир на голову и заставляет его ходить на голове. И именно по этому поводу Ленин писал в своих комментариях к «Наука Логики» («К вопросу о диалектике»):
«Идеализм первобытный: общее (понятие, идея) есть отдельное существо… Но разве не в том же роде (совершенно в том же роде) современный идеализм, Кант, Гегель, идея бога? Столы, стулья и идеи стола и стула; мир и идея мира (бог), вещь и „нумен“, непознаваемая „вещь в себе“; связь земли и солнца, природы вообще и закон, логос, бог. Раздвоение познания человека и возможность идеализма (религии) даны уже в первой элементарной абстракции („дом “ вообще и отдельные дома)»[126].
Но здесь мы хотим остановиться мимоходом на разъяснении одного вопроса, по которому нередко царит значительная путаница. А именно: ведь, и единичное имеет своё название, своё «nomen». Этому nomen соответствует конкретная, единичная реальность, вещь, существо, процесс. Само nomen же есть лишь отражение, логический коррелат[127] этой реальности внешнего мира (или мира т. н. «внутреннего», например nomen ощущения — но это опять-таки вопрос особый). И здесь, следовательно, нельзя подменять одного другим. Теперь спрашивается, что же соответствует общему, как логической категории, в действительности? Ничего? Или всё же что-то соответствует? Что ему не соответствует отдельное существо, это видно из предыдущего. Но что же соответствует — или, по крайней мере, может соответствовать ему в реальности? (Мы говорим может потому, что ответ фантазии, как это отмечал и Ленин, удлиняя какую-нибудь сторону, приводит к чистой иллюзии, которой ничего не соответствует). Ему может соответствовать — и обычно соответствует — черта, свойство, сторона и т. д. в самих конкретных вещах, повторяющаяся во множестве таких вещей. Эта черта, свойство, сторона не существует вне конкретных единичностей. Они не суть существо, особая индивидуальность. Но они существуют как свойство единичных, конкретных процессов, вещей, существ. Такова диалектика общего и отдельного, превосходно схваченная в вышеупомянутом фрагменте Ленина:
«Отдельное не существует иначе, как в той связи, которая ведёт к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть общее (так или иначе). Всякое общее есть частичка (или сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д. и т. д. Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого роде отдельного (вещами, явлениями, процессами)»[128].
Но тут как раз нас и может подразнить сократовская ирония. Как же так? Ведь, только что вы клялись богатством диалектических абстракций, а теперь сами говорите о их неполноте! И не в том смысле, что познание в каждый данный момент конечно и что оно бесконечно и полно лишь в вечности, а в другом, более прозаическом: общее теперь у вас неполно и по отношению к тому что вы знаете, т. е. что вам реально доступно так или иначе, о чём вы можете говорить!
Здесь действительно нужно сделать одно существенное пояснение. Диалектическое понятие есть всё же известное сокращение, конденсация «Abbreviatur». Богатство конкретных определений в нём, так сказать, дремлет, оно заключено в нём потенциально, оно должно быть развито. Грубо говоря: диалектическое понятие капитала не может заменить всех трёх томов «Капитала», и совершенно комично требование, чтоб оно их заменило. Легка была бы наука, философия, мышление вообще, если бы это было иначе!.. В данной связи есть ещё один любопытный вопрос, заслуживающий пристального внимания.
В «Философии Природы» Гегеля мы встречаем такое место:
«Если и эмпирическое естествознание подобно философии природы также пользуется категорией всеобщности, то оно всё же часто колеблется, приписывать ли этой категории объективное или субъективное значение. Часто нам приходится слышать, что классы и порядки устанавливаются только для целей познания. Это колебание оказывается далее ещё и во взгляде, что признаки предметов отыскиваются нами не в том убеждении, что они представляют собою существенные объективные определения вещей, а лишь в целях нашего удобства (sic![129]), так как по этим признакам мы легко распознаем вещи. Если бы существенные признаки были только значками (sic!) для распознавания и ничего больше, то можно было бы, например, сказать, что признаком человека служит мочка уха, которой никакое другое животное не обладает. Но здесь мы сразу чувствуем, что такого определения недостаточно для познания существенного в человеке… Соглашаются с тем, что роды представляют собой не только общими признаками, а являются подлинной внутренней сущностью самих предметов; и точно так же порядки служат не только для облегчения нам обзора животных, но представляют собой лестницы самой природы»[130] (курс. наш. Авт.).
В «Энциклопедии» тоже есть места, где общее, закон, эквивалентно роду (отсюда «родовое понятие»). Эта традиция идёт ещё от Платона (см. Ист. Фил. Гегеля, Ⅱ т.). Здесь, однако, включена и особая проблема, не совпадающая с тем, о чем говорилось выше. В самом деле, можно ли трактовать, например, понятие человеческого вида, homo sapiens, только как абстракцию «человека вообще», наподобие «стола вообще», «стула вообще»? Или здесь есть нечто особое? И, если есть, то что? Здесь есть особое, и при том крайне существенное, а именно: понятие человеческого вида (ступень в «лестнице самой природы») есть собирательное понятие, которому соответствует в объективной действительности реальная совокупность тесно связанных между собою, взаимодействующих индивидуумов, представляющих живое единство, не «существо», аналогичное животному индивидууму, а единство специфическое, единство sui generis[131], отдельные части которого умирают, другие возникают, и в целом налицо во времени меняющийся биологический вид. Тут понятию вида соответствует определённая реальность. Точно так же обстоит дело и с другими собирательными понятиями, если им соответствует не просто мысленная (например статистическая, математическая), а реальная совокупность. Например, под материей можно разуметь совокупность всех материй в их взаимной связи, переходах, превращениях. Это собирательное понятие материи, включающее все качественные особенности, все отдельные виды, все связи и процессы, соответствует объективной реальности. Здесь мышление шло тоже от единичного к общему, от конкретного к абстрактному. Но общее здесь само единичное, единичное второго порядка, единое и многое, новое, индивидуальное, реальное единство, реальная совокупность. Поэтому спор относительно объективной реальности вида отнюдь не есть простое повторение спора между «номинализмом» и «реализмом». Вид существует не как отдельные черты отдельных животных, но как их текучая совокупность. Синтетическая функция познания (отдельная черта, грань диалектического метода, который есть и синтез и анализ одновременно) состоит здесь не только в объединении определённых черт и свойств, аналитически обработанных, но и в объединении (мыслительном) индивидуумов, реально связанных в реальной жизни и этой связью противопоставленных «другому» (другим видам, внешней среде и т. д.).
Наивысшим абстрактнейшим, наивысшим конкретнейшим, самым общим из всех общих, совокупностью всех совокупностей, связью всех связей, процессом всех процессов является понятие Всего, Универсума, Космоса. Это самое абстрактное понятие есть в то же время совокупность всего конкретного. В нём угасает самая противоположность, ибо оно охватывает всё, и ему не противостоит ничто. В нём разыгрываются все бури становления, и оно само «течёт» в бесконечном времени и пространстве, существующем лишь как формы его бытия. Это — великая субстанция Спинозы causa sui[132], Natura Naturans и Natura Naturata одновременно, лишённая своих теологических привесков. Объективно — это богатство Всего. В мышлении, в отражении, в понятии, это — сумма всех человеческих знаний, вырабатывающихся исторически в течение многих тысячелетий, объединённых и сведённых в «систему», в грандиозную научную картину мира, с бесконечным количеством координированных понятий, законов и т. д. Любое «непосредственно чувственное» (чего на самом деле и нет!) поистине жалко перед этой громадиной!
Глава Ⅶ. Об ощущении, представлении, понятии
В «Философских тетрадках» Ленин ставил такой вопрос:
«Представление ближе к реальности, чем мышление?»
И отвечал:
«И да, и нет. Представление не может охватить движения в целом, например, не схватывает движения с быстротой 300 000 километров в секунду, а мышление схватывает и должно схватить»[133].
Этот вопрос, как нетрудно видеть, есть тот же вопрос, который мы решали, вопрос о соотношении чувственно-конкретного и мыслительно-абстрактного, вопрос об опосредствованном знании, но взятый с особой стороны. Поставим и мы его ещё раз в этой связи. Когда речь идёт об ощущении, то налицо должно быть ощущаемое, т. е. сам предмет, процесс, объект, материя. Ощущение наличествует только при непосредственном соприкосновении, только при непосредственном контакте между субъектом и объектом. Нужно материальное соприкосновение между объектом и субъектом, как материальными телами, нужно материальное воздействие объекта на материально-физиологические органы субъекта, чтобы у последнего получились такие материальные раздражения, психическим инобытием которых являются ощущения. В этом смысле ощущения ближе всего к действительному миру. «Ближе» здесь означает непосредственность самого процесса. Это и есть то самое чувственное начало, о котором шла речь у сенсуалистов всех оттенков и всех толков. Так как здесь есть материальное воздействие объекта на субъект, в котором (воздействии) объект, по Канту, «аффицирует» чувства субъекта; так и здесь объект, так сказать, материально переходит в субъект, бомбардируя его световыми, звуковыми, тепловыми волнами и проч.; так как здесь внешний мир представляется многообразным источником «раздражителей», а энергия внешнего раздражения переходит в «движение» нервно физиологического аппарата субъекта, инобытием чего и являются ощущения, то понятно, что ощущения «ближе» всего к реальности.
Представления есть уже отдаление от этой реальности и в то же время приближение к ней. Почему?
Аристотель пишет (De anima):
«…тот, кто ничего не ощущает, ничего не познает и ничего не понимает; если он что-нибудь познает, то необходимо, чтобы он это познал также и как представление; ибо представления таковы, каковы ощущения, и отличаются от последних только тем, что они не имеют материи»[134].
Это значит — в основном Аристотель здесь прав — что представлять предмет можно и без непосредственного наличия представляемого, но лишь на основе бывших ранее ощущений. Однако, здесь упущен элемент связи между ощущениями, т. е. момент целого. Представление воспроизводит ощущения в их объединённом виде, соотносимом с предметом. И как раз эта наличность связи в представлении делает представление ближе к предмету, к реальности. Но ближе не в смысле непосредственности (в этом смысле оно дальше), а в смысле своей полноты.
Дальнейший процесс познания (в сущности тут абстрактно изображается исторический процесс познания) приводит к образованию понятий: здесь, как мы знаем, переход ко всеобщему. Этот процесс мы подробно разбирали и можем его для данной проблемы подытожить так: в смысле непосредственности, например, «научная картина мира» неизмеримо дальше от реальности, чем ощущение и представление: оно, ведь, сложный продукт сложного мышления; в смысле адекватности отражения оно неизмеримо ближе к этой реальности, полнее, богаче, многообразнее.
И здесь мы подходим к вопросу с того конца, за который с такой гениальной простотой ухватился Ленин.
В самом деле, берём его пример. Глаз «видит» свет. Свет имеет скорость в 300 000 километров в секунду. Эта скорость обуславливает то, что глаз видит свет вообще. Но глаз не может наблюдать скорости света так, как он наблюдает («видит») скорость едущего автомобиля или поезда, где зрительно фиксируются изменения пространственных соотношений между поездом и окружающими предметами. «Субъект» не может себе поэтому и наглядно представить скорость в 300 000 километров в секунду. Представление здесь бессильно. А мыслить такую скорость можно сколько угодно, и каждый физик постоянно оперирует с этим понятием. Любая «астрономическая цифра» выходит за рамки представления, а все астрономы постоянно их употребляют. «Световой год» непредставим, как единица времени; а в астрономии это единица измерения. Все бесконечно-малые и бесконечно-большие величины не могут ни ощущаться в их бесконечном объёме, ни быть представляемы. Тем не менее они мыслятся, составляют предмет науки и имеют в целом ряде случаев (скажем, через математику, идущую к технике) огромное практическое значение. Соотношение между «физическим» (вернее, физиологическим) и психическим, как его инобытием, непредставимо наглядно, а мы его мыслим. Но вернёмся снова к опытным наукам в обычном смысле слова. Мы не имеем чувства электричества, а наблюдая его через чувствительные инструменты, создали электромагнитную теорию материи. Ощущая электроны в эксперименте единицами и пучками, мы мыслим электромагнитную картину Универсума. Мы не видим ультрафиолетовых лучей, а превосходно их мыслим. Мы никак непосредственно не ощущаем и не представляем бесконечного количества разных α, β, γ, и прочих лучей, с их гигантскими скоростями и т. д., а мыслим их с этими скоростями; мы не видим рентгеновских лучей; мы не ощущаем и не представляем наглядно процесса распада радия; мы не можем ощутить и представить себе температур и давлений на солнце или какой-либо звезде; но всё это мы превосходно мыслим. И т. д.
В чем здесь дело? Дело в том, что наши чувства — ограничены; а наше познание, как процесс, безгранично. За определённым порогом раздражения наши чувства отказываются служить. А с этим связана и ограниченность представления. Самое число чувств у нас ничтожно, о чём ,в противоположность Фейербаху, можно лишь пожалеть, да и они весьма несовершенны: самец бабочки «сатурния плодовая» чувствует, по наблюдениям Штандфуса, запах самки за 15 километров; известна зоркость орла; известна ориентация собаки по запахам и. т. д. Если у людей не было бы мышления, то недалеко бы они уехали в познании мира и в овладевании миром! В самом деле, ведь, та же собака по непосредственной одарённости чувствами стоит высоко: она слышит лучше, обоняет лучше нашего, людского. Другие животные видят неизмеримо лучше нашего. Как же это случилось, что человек оказался «наверху»? Без понимания процесса образования головного мозга и способности мышления, процесса, развивавшегося исторически у обобществлённого человека, вообще понять это невозможно.
Пойдём ещё дальше. В ощущении даётся единичное. Ощущением не охватишь всего сразу. Нельзя ощущать (т. е. в данном случае видеть, слышать, обонять и т. д. ) бесконечное многообразие природы. А мыслить можно (и должно). Афористически можно сказать, что ощущение антифилософично, а мышление, наоборот,— философично. Но что же у нас получается? Не подкатываемся ли мы «кувырком» к точке зрения идеалистического пренебрежения эмпирией, «чувственно-данным» опытом? Не превращаемся ли мы в сторонников отрыва от чувственного, сторонников «умопостигаемого» в противоположность постигаемому чувственно? Не будем ли мы искать платоновского «умного места», к которому только и можно подъехать «умом», плюющим на низменные чувства? Не проповедуем ли мы внеопытного знания? Не переходим ли на точку зрения какого-то универсализированного априоризма? Ведь, можно, в конце концов, спросить: да откуда же берутся ваши лучи, рентгены, скорости и всё, что вы, по вашим словам, не ощущаете, не представляете, а мыслите. Что за мистификация? Ответьте, пожалуйста!
Этот ответ прост; из опыта и через чувства. Но как — вот в чём вопрос. Когда я стою около электропечи и наблюдаю за инструментом, показывающим температуру, я вижу разные стрелки и т. д. и по ним сужу о температуре, а не сую палец в печь: да я бы и не мог «ощутить» жара, а просто бы сгорал, как не мог бы ощутить «холода» жидкого кислорода, опустив в него руку, а сразу бы её потерял. Я не «ощущаю» непосредственно рентгеновских лучей, но ощущаю показания приборов. Я не вижу, не слышу, не обоняю и т. д. химических элементов звёзд, а ощущаю сигналы приборов в процессе спектрального анализа (т. е., главным образом, вижу соответствующие показания приборов) и делаю различные выводы отсюда. Я косвенно вижу высокие температуры, вижу температуры низкие, вижу огромные давления по манометру, вижу по стрелкам приборов громадные напряжения электротока. Тут есть свои соотношения, где одно чувство выступает вместо другого. Значит, тут есть и опыт, есть и ощущения, но ощущения другого порядка: в них объект непосредственно не ощущается, но он всё-таки косвенно ощущается. Чтобы сделать мыслительные выводы, должна иметься громадная сумма прежде накопленного опыта, иначе этих ощущений, идущих от приборов, нельзя расшифровать. По прибору я определяю температуру в электропечи. Ощущать такую температуру я не могу. Наглядно представив её, т. е. чувственно представить как тепло, как горячее, я тоже не могу. Но мыслить — могу. Почему? Потому, что мышление способно сравнивать, умозаключать, обобщать: я мыслю гигантские температуры, их влияние на различные тела, скорости движения молекул и т. д., целый ряд связей и опосредствовании. Я могу мыслить t в 1000 °, как t в n раз большую, чем какая-либо ощущавшаяся мною и наглядно представляемая температура, точно так же, как в ленинском примере я могу мыслить скорость света, как известную мне скорость, увеличенную в n раз. Мыслить я это могу, как целое. Представить наглядно я не могу, ощутить — того менее, и однако, во всех этих примерах, всё имеет источником чувство и опыт: без видения (зрительного ощущения движения на приборах), без предварительного опыта, без опыта вообще, никакого знания не получалось бы. Химические элементы звезды я открываю в опыте и на основе ощущений, но не на основе непосредственного воздействия этой звезды на мои органы чувств. И открываю я через мыслительную работу, а не просто «чувствую» и «ощущаю». Здесь налицо диалектический переход от ощущения к мышлению и диалектическое их единство. Характерно, что идеализм Гегеля заставляет его пренебрежительно относиться к данным эмпирической науки, к чувственному, вопреки диалектике. С другой стороны, нередко можно встретить, особенно среди учёных-специалистов, явную недооценку мышления. Да и Фейербахова формула: «Чувства говорят всё, но чтобы понять их изречения, надо связать их. Связно читать евангелие чувств значит мыслить» всё же недостаточно: ибо нужна большая мыслительная работа по установлению этой самой связи, т. е. процесс выработки понятий, законов, связей, всё более глубоких обобщений, а в этом процессе и «зарыта собака».
Но тут мы снова возвращаемся к вопросу, которого мы касались в самом начале нашей работы, когда полемизировали с солипсистами. Современная буржуазная философия при рассмотрении процесса познания оперирует всё время с воображаемой Евой до её грехопадения. Она берёт субъекта в его какой-то дурацкой святости: когда этот субъект сталкивается с объектом, он точно впервые видит и слышит. Он только ощущает. Но, как мы выяснили довольно подробно, таких субъектов не бывает. Всякие новые ощущения переживаются одновременно с представлениями и понятиями; да в сущности для каждого субъекта остальные ощущения («тёплое», «холодное», «красное» etc.) суть продукта анализа: на самом деле люди видят, слышат, осязают других людей, деревья, столы, колокола, пушки и т. д., имея обо всем этом исторически выработанные понятия и отнюдь не начиная всего исторического процесс с начала, ab ovo. Если бы было иначе, то человечество топталось бы всё время на одном и том же месте, т. е. разыгрывалась какая-то фантастическая сказка про белого бычка. Этого к счастью нет в действительности: эта сказка про белого бычка разыгрывается лишь на книжных страницах буржуазной философии. Поэтому, когда человек ощущает, он, грубо и метафорически говоря, носит в себе выработанную систему понятий, более или менее адекватных действительности. Таким образом, близость к реальности, о которой говорил Ленин, в действительности заключается и в том, что непосредственное соприкосновение с реальностью через чувства (что выражается в ощущениях) реально сопровождается слитностью этих ощущений со все более близкой (близкой, как отражение, т. е. все более и более верной) системой понятий. Поэтому всякий общественный человек, то есть мыслящий человек, не бродит в мире, как сомнамбула, как субъект, преисполненный «хаосом ощущений», а более или менее хорошо ориентируется во внешнем мире: ибо он его так или иначе всё же знает, а не только ощущает, уже знает. Это знание — не априорно, но оно «дано» в каждый момент до всякого нового ощущения, и ощущение, будучи, в конечном счёте (в конечном счёте исторически) источником мышления, родником понятий, у любого субъекта падает уже в целое море сформировавшихся понятий. Но раз эти последние уже в значительной степени так или иначе соответствуют объективной действительности, то всякая дальнейшая ориентация в мире есть не что иное, как дальнейший синтез ощущения и мышления, то есть превращения ощущения в мышление, всасывание мышлением новых моментов ощущения. Так, удаляясь от непосредственности ощущения, мышление приближается к реальности, проверяя себя непосредственно предметной практикой, в которой субъект, активно овладевающий объектом теоретически, активно и непосредственно-материально овладевает им практически, трансформируя самое его вещество и становясь в максимально близкие к нему отношения.
Глава Ⅷ. О живой природе и о художественном отношении к ней
Обычное, так сказать, бьющее на поэзию, на чувство, возражение против материализма, развиваемое, например, с точки зрения гилозоизма и гилозоистического пантеизма (чрезвычайно ярко развивал эту тему Гёте, в том числе и в упоминавшемся месте против Гольбаха), это обычное возражение протестует против угасания красок, цветов, звуков и т. д. в их непосредственно-эмоционально-поэтическом значении («аффекционал», положительный, у Авенариуса). По этому поводу да позволено будет лапидарно[135] заметить:
1) Гольбах — не «модель». Диалектический материализм, в противоположность механическому, утверждает качественное многообразие мира, бесконечное разнообразие форм связей.
2) Диалектический материализм вовсе не считает цвета и т. д. только субъективными. В связи с глазом роза красна.
3) Человек пока испытывает влияние со стороны природы и чувствует (в том числе видит, слышит, обоняет и т. д.) бесконечно малую часть мира.
4) Когда он имеет «научную картину мира», он имеет неизмеримо более богатое целое (с бесконечным количеством свойств, связей, законов, моментов, видов и проч.). Эта эстетика (если брать эту сторону) куда богаче эстетики примитивного дикаря в его предполагаемом (в значительной степени иллюзорном) качеств «наивного реалиста».
5) В эту картину входит и чувствующий человек со всеми видами «копий отражений» и т. д., отражений различных степеней различной глубины и широты.
6) Таким образом, эта картина мира, адекватная, в меру познания, реальной действительности, реальному Всеобщему, в бесконечное количество раз богаче того, чем восхищаются гилозоисты и пантеисты при непосредственном художественном созерцании
7) Особо следует заметить, что в развиваемое понимание бесконечного мира (во времени, в пространстве, в отношении количеств и в отношении качества) входит и понимание возможности бесконечного движения, развития и природы, и человека, и его познания так что здесь, если можно так выразиться, налицо есть бесконечно огромный фонд нераскрытых богатств и многообразно-раскрываемый в процессе бесконечного познания.
Но здесь ещё другая сторона дела: это тема «живой природы», жизни Космоса.
Гегель в «Философии Природы» прямо воспевает Гёте за его пантеистическо-гилозоистическое отношение к жизни Космоса, за живое понимание природы. Но любопытно, что он делает в той же работе замечание, что природу не следует смешивать с Космосом, ибо природа есть Космос, мир, минус «духовные существа». Здесь двойная измена Гегеля диалектике: во-первых, «духовные существа» отрываются от их телесности и происходит гипостазирование одной стороны единого бытия, то есть метафизическое застывание духовности; во-вторых — что в данном случае ещё более важно — здесь налицо отрыв чувствующих и мыслящих существ от природы, т. е. вместо относительного, диалектического противопоставления, раздвоения единого. получается абсолютное противопоставление: в частности, человек берётся только, как «противочлен» природы, и исключается, как часть природы. Человек берётся, как сверхприродное начало. Если животных исключить из «духовных существ», то человек вырывается и из органически-эволюционного ряда.
Однако, переходим к нашей теме.
В каком смысле можно говорить о Космосе, как о живом единстве? Но в смысле шеллинговой мировой души; не в смысле монадологии Лейбница, не в смысле мистиков типа Якова Беме; не в смысле logos’а, религиозных космогонии и т. д. А в каком? В том смысле, что живая материя есть факт. Существует сложный, огромный органический мир, существует, как её назвал ак. В. И. Вернадский, биосфера, земная биосфера, наполненная бесконечно разнообразной жизнью, от мельчайших микроорганизмов в воде, на суше, в земле, в воздухе — до человека. Многие не представляют себе всего грандиознейшего богатства этих форм, их прямого участия в физических и химических процессах природы. Между тем оно настолько велико, что это обстоятельство давало когда-то повод Ламарку считать, что все сложные соединения, встречающиеся на земле, образовались при участии многофазных живых существ. Гегель почти поэтически описывает, например, органическую жизнь моря, отходя от той головоломной тарабарщины, которую Энгельс называл «abstrus»[136] и которую гегельский Пиндар, Michelet[137] определял, как «величавую речь Олимпа». Далее. Невероятно предположение, что жизнь есть только на земле. При бесконечности Космоса в миллионы раз вероятнее образное предположение, и ещё Кант в своих ранних, «до-критических» ( и замечательных!) естественно-научных работах прямо говорил о живых существах на других планетах. А так как мир бесконечен и во времени, то в Космосе жизнь вечна. Ибо она где-нибудь да рождается из неорганического мира. На земле она появилась тогда-то, исторически возникла из неживой материи. Но когда её не было на земле, она была где-нибудь в других точках Космоса и т. д. Словом, жизнь имманетна[138] Космосу.
Эта жизнь неразрывно связана с «целым», она есть часть этого целого, одна из его сторон, проявлений, граней, свойств; она не случайна, а необходима, она ему присуща, как ступень исторического развития его частей. Человек есть на земле наиболее сложный продукт природы, так сказать, её цветок.
По существу, от этого недалёк и Гегель, когда он, например, на своём языке пишет: «Если сначала геологический организм земли был продуктом в процессе построения её образа, то теперь она снимает, как творчески лежащая в основе индивидуальность, свою мёртвую застылость и раскрывается для субъективной жизни, которую она однако исключает из себя и передаёт другим индивидуумам. Так как геологический организм есть жизненность только в себе, то подлинно живое есть другое по отношению к нему… Т. е. земля плодоносит именно как основа и почва индивидуальной жизни, находящейся на ней»[139] (Философия Природы). Правда, затем Гегель говорит о жизни стихий и т. д., и это у него не только метафора, а мистика, и в вышеприведённом месте развит совершенно рациональный взгляд на дело.
Если человек есть продукт природы и её часть; если он имеет биологическую основу, снятую (но отнюдь не уничтоженную!) его общественным бытием; если он — сам природная величина и продукт природы, и живёт в природе (как бы его ни отгораживали определённые общественно-исторические условия жизни и т. н. «искусственная среда»), то что же удивительного в том, что он сопереживает ритмику природы и её циклы? Речь здесь идёт не об интеллектуальном познании, не о практическом или познавательном овладении природой, когда ей, природе, общественно-исторический человек противопоставлен, как субъект, как относительно антагоническое начало, как покоритель и укротитель, активно-творческая сила, противостоящая стихиям природы и органическому нечеловеческому миру. Речь идёт здесь о человеке в его слитности с природой, от связи, антропоморфический[140] выражаясь, в его солидарности с природой, в его симпатических с нею интимно-природных отношениях. Разве не переживает каждый человек цикл своего собственного развития, как органического, природного, биологического (младенчество, юность, древность, старость)? Разве не переживает человек цикл оборота земли вокруг своей оси, со сменами дня и ночи, бодрствования и сна? Разве не переживает человек, как природная величина, и круговорота земли вокруг солнца, со сменами времён года, когда весной токи крови его циркулируют по-весеннему? Разве все эти великие циклы, круги, ритмы, пульсация земли и Космоса не сопереживаются органически, так сказать, кровью? Здесь нет ровно никакой мистики, как нет мистики в весеннем спаривании животных или в удивительных перелётах птиц или в переселении мышей перед землетрясениями. Чем ближе стоит человек непосредственно к природе, тем «природнее» и непосредственнее он сопереживает её ход. По этому поводу и Гегель замечает:
«Первобытные племена ощущают ход природы, но дух превращает ночь в день».
Общественные закономерности развития трансформируют эти натуральные отношения, видоизменяя их, сообщают им новые формы, но не уничтожают их. Урбанистический человек отъединён от природы, но не до конца, и весна, и молодость сублимируются у него в лирической поэзии; эротика исторического человека принимает общественно-обусловленные формы, и любовь средневекового рыцаря, современного буржуа и социалистического тракториста весьма различна; но её биологическая основа остаётся, и весна есть весна. У человека налицо чувство связи с природой в разнообразнейших формах, и тоска горожанина по солнцу, зелени, цветам, звёздам — не случайна. Биологически человек «наслаждается» природой точно так же, как он ест растения и животных и наслаждается едой, питьём или удовлетворением инстинкта размножения. Ветер, солнце, лес, вода, горный воздух, море — в известной мере и предпосылки создания corpus sanum[141], в котором mens sana[142]. Это есть тоже своеобразное потребление природы, если будет разрешено употребить такой термин.
Во всех таких процессах и лежит основа эмоциональной связи между человеком и природой. Но человек не есть «человек вообще»: он общественный, общественно-исторический человек. Поэтому эта основа по-разному, в зависимости от общественной психологии и типа мышления (конкретно-исторического, с его идеологиями) в высокой мере «осложняет» эту первозданную основу (например, религиозная оболочка, поэтически-метафорическая оболочка, расширение знаний о мире и осознание вечности, бесконечности мира, его движения, его великой диалектики). Так природа может эмоционально-мистически переживаться, как божество; или как великое Всё; или как «Мать-Сыра-Земля»; более узко, геоморфически; более широко, гелиоцентрически; максимально-широко, как Универсум и т. д. Художественное восприятие и созерцание переходит в мышление и обратно, ибо эмоционально-аффективная жизнь не изолированна и не есть отдельная духовная субстанция. С этой точки зрения можно было бы анализировать и древнегреческий «Эрос».
Процесс биологического приспособления, со всеми разнообразнейшими взаимодействиями поистине огромен; не нужно забывать, что в этом историческом (в широком смысле слова) процессе сложились все так называемые основные инстинкты, в том числе инстинкт самосохранения и инстинкт воспроизводства рода,— могучие и могущественные силы. И поэтому не случайно, например, что в сублимированных и общественно-исторически обусловленных формах Любовь и Смерть играют такую исключительно выдающуюся роль.
Биологическое приспособление, в отличие от общественного, пассивно. Поэтому и соответствующая эмоциональная основа отношения к природе, т. е. основа художественно-эстетического отношения к природе, её «созерцания», восхищения перед нею, «растворения» в ней, «погружения» в неё и т. д. довольно резко отличается от активно-практического и активно-познавательно-интеллектуального отношения. Не здесь ли лежит корень того, что эстетика (например, эстетика Канта в особенности!) за конструктивный признак художественной эмоции берет её «бескорыстие»? Заранее оговариваемся: эта точка зрения односторонняя, далеко не исчерпывает всего предмета; но она схватывает одну его сторону, наиболее близко относящуюся именно к эстетике природы (далеко, далеко не вся эстетика! Но о другом у нас в настоящее время и не идёт речи!)
Возвращаемся к исходному пункту о живой природе. Требование «живого» рассмотрения, объект, как «живой» процесс и т. д.— терминология, часто встречающаяся у Ильича и по отношению к неживым strictu sensu предметам, есть, разумеется, метафорическое обозначение диалектического познания, как познания текучего, подвижного бытия, обозначение гибкости мыслительных форм, и только. Но здесь мы переходим уже к другому вопросу, о котором разговор будет в следующей главе.
Глава Ⅸ. О рассудочном мышлении, о мышлении диалектическом и непосредственном созерцании
В настоящее время в море философских и quasi-философских идей борются несколько потоков: рассудочное мышление, представленное большинством учёных-естественников: мышление диалектическое, представленное диалектическим материализмом и идеалистическим неогегельянством[143], по сути дела являющимся суррогатом диалектики, прогорклым маргарином на капиталистическом рынке идей, и интуитивное созерцание, от более чистых его форм до истерически-галлюцинаторной мистики, представленное философствующими сикофантами[144] фашизма в первую очередь, включая шарлатанов подозрительного типа. Они расплодились теперь под сенью свастики, как грибы после тёплого дождя. Картина, напоминающая идеологию времён упадка и разложения Римской Империи, с мистическими культами, гороскопами, мистериями, процессиями, оргиями, знахарями и кликушами. Но довольно об этом. Рассудочное мышление, опирающееся непосредственно на так называемый здравый смысл, в общем величина почтенная и в определённых пределах вполне правомерная. Здесь царит формальная логика, со всеми её как будто незыблемыми и абсолютными законами: тождества, противоречия, исключённого третьего. Оно образует понятия, копит факты, анализирует. Его излюбленным методом является индукция. Оно эмпирично, солидно, как будто бы прочно. На словах оно чуждо всякой метафизике и всегда кричит ей: Чур, не тронь меня! Оно рассекает вещество природы и органического мира. Мера и вес, количество, число — его стихия. Оно казалось долгое время — а многим кажется и сейчас — единственным воплощением рационального познания вообще. Его заслуги громадны. Это в значительной степени оно собрало грандиозное количество фактов, выделило классы, роды, виды, семейства, создало бесконечно многообразную классификацию, изолировало из общей связи мира бесчисленное множество вещей, взятых, как тождество с самим собой, фиксировало их в науке. Факты, вещи, изолирование, рассечение, анализ, индукция, мера, вес, число, эксперимент, инструмент,— это столь характерные признаки рассудочного познания, что простого перечисления их для понимающего достаточно.
Но довольно ли этого для процесса познания? И наоборот, является ли всё, что сверх этого — от лукавого? Не являются ли всякие разговоры о диалектике злостным вывертом, логическими фокусами, до которых были, например, такие большие охотники древние греки, ходившие по площадям и показывавшие всем, что они за ловкие акробаты ума, что за отважные гимнасты мысли? Иные из них, как тысячелетия спустя футуристы в жёлтых кофтах, эпатировали своих остолбенелых современников неожиданными парадоксами и невероятными умозаключениями, и мы ещё до сих пор смеёмся над ними вместе со злым насмешником, Аристофаном. Вероятно, известное сопротивление публики чувствовал и Гегель, когда писал, вдруг переходя от абстрактнейшего языка (к нему нужно привыкнуть, чтоб вообще его понимать), от тяжёлых мыслей, которые шествуют в своих свинцовых сапогах, к легкомысленному милому стилю:
«Философский способ изложения не есть дело произвола, капризное желание пройтись для перемены разочек на голове после того как долго ходили на ногах, или хоть разочек увидеть своё повседневное лицо раскрашенным»[145] (Философия Природы).
Но это не так. Рассудочное сознание не ухватывает ни движения, перехода одного в другое, противоречивости; ни тождества противоположности, единства их, целостности. Более того, оно превращает в непререкаемый догмат закон тождества, оно критерием любой «системы» считает исключение противоречий; оно изолированные части целого стремится рассматривать, как арифметические части: оно «в себе» механистично, и поэтому есть что-то мертвящее в его анализе Оно — великий вивисектор[146], вооружённый мощной измерительной аппаратурой, тонким инструментарием, чудом современной экспериментальной техники. Против такого ограниченного познания и восставали многие, в их числе и Гёте, на которого con amore[147] ссылается Гегель:
Анализом природы как на смех. Гордится химия, но полон ли успех? Разбит у ней на части весь предмет, К несчастью, в нём духовной связи нет.[148]Да, Гёте прекрасно видел всю ограниченность рассудочного познания. Но он в своей критике был часто гораздо дальше цели. Он протестовал против экспериментальной техники. Он бунтовал против разложения света, считая это посягательством на Его Величество. Он, превосходно видя ограниченность количественного, отрывал качество от количества. Видя рассудочность вивисекторов, отрывал часть от целого. Протестуя против механического материализма, нередко перескакивал в область пантеистического созерцания с тенденцией замены интеллектуального познания художественной эмоцией. В целом, несомненно, у него были уже значительные порции материалистической диалектики, но они прорастали побегами, тянувшими в сторону от рационального познания. Да не испортит эта ложка дёгтя той бочки прекрасного душистого мёда, которую оставил нам великий Поэт-Мыслитель!
Наш старый русский поэт, Е. Баратынский, в своём замечательном в художественном отношении стихотворении, написанном на смерть Гёте («и с ним говорила морская волна»[149]) уже прямо восставал против меры, веса, анализа, числа: то ли дело символические примеры, звери, птицы, трава, гадания, таинства и голоса природы-кудесницы! Белинский в своё время отметил реакционность такого мировоззрения, от которого Гёте был чрезвычайно далёк.
А теперь нам нужно прямо сказать: да, рассудочное познание, формальная логика, её законы, анализ необходимы, но недостаточны. Критика рассудочных определений, критика односторонности количественного, критика аналитически-вивисекционного метода, встречающаяся у таких философов, как А. Бергсон, бывает часто очень правильна и метка. Защищать односторонность и ограниченность рассудочного познания вообще, односторонность и ограниченность механического материализма в частности — не наше дело. Но все это было вскрыто блестяще ещё Марксом и Энгельсом, без того, чтоб апеллировать к энтелехии, интуиции, сверхразумному вздору. Итак, повторяем: рассудочное познание недостаточно. Оно высоко полезно, но его мало: им не исчерпывается процесс наиболее совершенного по своему методу познания: нужно выходить за его пределы. Куда?
В сторону разума, логики противоречий, движения, становления, целостности, всеобщей связи элементов мира, качественности, скачков, перехода противоположностей, одного в другое, раздвоения единого и снятия этого раздвоения и т. д. Разложение, анализ, фиксация тождественного, противопоставление, формальная логика, это — лишь первая ступень познания, которая может продолжаться исторически весьма долгое время (весь рационализм есть воплощение рассудочного познания). Но следующий момент, это — движение, переход к противоположному, к своему отрицанию. А дальше наступает третья ступень; когда противоположности объединяются и выступает целое, включающее всё, добытое анализом, расчленённое целое, многообразное и конкретное, со своими законами, с совокупностью своих связей. Здесь единство противоположностей. Здесь восхождение к конкретному. Здесь рост содержания. Здесь синтез. Здесь снятие противоречий (и их преодоление, и их сохранение). Здесь — «отрицание отрицания». Здесь Разум. Здесь высшая стадия познания. Если диалектика взята в своей рациональной форме, т. е. материалистически, то в ней нет ни мистики, ни чуда, ни фокуса, ни выверта. Это — более глубокий и всеохватывающий метод познания, который иногда кажется фокусом ограниченному т. н. «здравому смыслу», как кажутся ему вздорными положения о бесконечности, формулы дифференциального и интегрального счисления, неевклидова геометрия, теория относительности и многое другое. Однако, уже Зенон в своих афоризмах о движении показал по сути дела недостаточность и ограниченность рассудочного мышления. С его точки зрения стрела не может полететь, Ахиллес не догонит черепахи. А скептики? А «антиномии»[150] Канта? А современные проблемы физики с противоречиями частицы-волны, прерывного и непрерывного? Если а limine[151] отвергать противоречия или их не видеть вообще, нельзя до конца понять ничего текучего, ничего качественно нового; антиномии будут казаться вечной загадкой, пределом, его же не прейдёши, и никогда нельзя будет дойти до понимания целого в его «живой» подвижности и расчленённом многообразии взаимно связанных частей.
Односторонность рассудочного познания части имеет своей полной противоположностью «непосредственное созерцание целого», с выходом за рациональное познание вообще.
О нём Гегель в «Философии Природы» писал:
«Ещё менее допустима ссылка на то, что получило название созерцание и что в самом деле обыкновенно являлось у прежних философов не чем иным, как способом действия представления и фантазии (а также сумасбродства) по аналогиям»[152].
И в другом месте:
«Природное единство мышления и созерцания мы находим у ребёнка, у животного, это единство, которое в лучшем случае можно назвать чувством (наш курсив. Авт.), но не духовностью… Нам следует не уходить в пустую абстракцию, не искать спасения в отсутствии знаний»[153]…
Это вежливо, но крайне зло. Здесь скрыта издевка над Шеллингом, который считал познанием высшего рода интуицию, все вещи — ощущениями, всю природу — «оцепеневшим» или «оканемевшим» мышлением. Ради справедливости, однако, нужно добавить, что, с одной стороны, у Шеллинга было много элементов, которые перешли в Гегелеву систему, а, с другой, что у самого Гегеля, у исторического Гегеля, не только — объективный идеализм: он не «сухой» панлогист, но и мистик в самом настоящем смысле слова, и природа у него без идей — лишь гигантский труп. Но это — en passant, мимоходом.
Старая «натурфилософия» имела изрядное количество созерцательно-мистическо-интуитивных моментов. А в настоящее время философствующие кудесники и прорицатели возвели целую вавилонскую башню «теоретического» вздора, поистине достойного животных. «Непосредственное созерцание» выражает собою: либо художественно-эстетическое «погружение в природу», как ощущение связи с ней и переживание этого ощущения — как таковое, оно и естественно и правомерно, если оно не выражает претензии на замену мышления, интеллектуального познания, разума; либо религиозно-мистическое, т. е. сформированное в отношениях господства-подчинения воззрение, с признанием интуитивного высшим принципом познания. Именно в последнем качестве оно выступает теперь с нагло-назойливой претензией заменить собою всё рациональное, рассудок и разум одновременно. Центральной идеей является при этом идея иерархической целокупности, целого, Totalität. Но это «целое» противопоставляется не только односторонне рассудочному умерщвлённому целому из механически сложенных частей, но и диалектическому целому, являющемуся в мышлении, как «второе конкретное», которое отражает единую, и в то же время качественно многообразную действительность, целое, о котором как раз по отношению к природе Гегель писал:
«Разум стремился к познанию всеобщего в природе — сил, законов, родов… Это всеобщее… не должно представлять собою только агрегат, а приведённое к порядкам, классам, организованное целое».
Это значит, что разумное мышление, в противоположность рассудочному, далеко от того, чтобы мыслить себе целое, как сборку частей, оно мыслит его, как реальное неразрывное единое с внутренними соотношениями противоположностей, где каждая выделенная часть немедленно разрушает целое и перестаёт быть тем, чем она является в связи этого целого. Рассудочное познание «в снятом виде» существует в разумном познании, как формальная логика в логике диалектической. Разумное познание ни на минуту не зачёркивает количественного, но оно видит его переход в качественное; не зачёркивает отдельное, но видит его в связи, не убивает противоположностей, но схватывает их во взаимных переходах и в единстве. Волхвы же кудесники современного мистицизма начисто отрицают рациональное познание, меру, вес, число, анализ, синтез, диалектику, рассудок, разум. Даже так называемому духу («Geist») они противопоставляют душу («Seele»), мышление отрывают от чувства и в интуиции, бессознательном, в чувственном погружении в объект, с его мистическими озарениями, ищут себе идейного подспорья в борьбе и с наследием эпохи Просвещения, и — в первую очередь — в борьбе с марксизмом, ставшим во всем мире ярчайшим знаменем интеллекта и рационального познания вообще. Кого Зевс хочет погубить, у того он отнимает разум. Разум заменён здесь частью мистикой, частью — лисьей хитростью. Мистическое «целое» оказывается космической иерархией фашистских социальных ценностей, универсализацией класса сословной фашистской лестницы. Гносеологическим[154] критерием истины — тезисы Гитлера как воплощения сверхразумной благодати. Тут уже исчезает почва для спора, ибо нельзя с разумной точки зрения оперировать категориями мистики: здесь царство веры и шарлатанского знахарства, солдатско-германской хлыстовщины, крупных буржуа, проспиртованных и кокаинизированных военных и грубо-скотских ландскнехтов[155]. Даже скептицизм Освальда Шпенглера был в тысячу раз умнее той мистической отрыжки, которой провоняла вся фашистская Германия. Это — не преодоление рассудочной односторонности т. н. положительной науки, солидного английского эмпиризма, идеологии считающего и измеряющего пытливого изобретательного весовщика природы, который со времён Бэкона Веруламского прекрасно понимал, что scientia[156] и potentia humana[157] совпадают, но у которого ещё не было крыльев для полётов более высоких, для перехода от рассудочного мышления к осознанному диалектическому. Наоборот, у фашистских кликуш их «теория» эквивалентна проповеди кирки и лопаты, власти земли и голоса крови, средневековой цеховщины, деревянных классов-сословий, окаменевшей иерархии, идолов абсолютного. Это — не мещанская сентиментальность пресловутой Glaubens- und Gefühlsphilosophie[158], творения Гамана, Якоби, Лафатера, с их «Schöne Seele», «прекрасной душой». В ней, в этой романтически-мистической идеологии «бурных гениев», выражался протест против феодальной ограниченности Германии. Там были и понятия Kraft-Mensch[159] , Kraft-Weil[160]. Там были тоже протесты против разума во имя «сердца», «души», интуиции, чистосердечной веры. Но что общего имеет с этим бронированное «созерцание» иерархии истуканов, кровожадных, как карфагенский Молох[161]? Чем напоминает «Schöne Seele», чувствительное прекраснодушие холодную «белокурую бестию», кровь которой поёт о пожарищах? Её надменное созерцание видит на дне того сосуда, в который когда-то смотрел Генрих Гейне в гостях у богини Гаммонии, ассирийскую иерархию, увенчанную свастикой, холодное чудовище, когти которого терзают тело всего живого. Это не тёплый пантеизм, не наивное погружение в природу индусов с проповедью любви к зверям, птицам, солнцу, цветам; не художественный восторг и не эстетическое любование; это религиозно-окрашенное (с расчётцем!) созерцание мира по модели той табели о рангах, которую установил г‑н Адольф Гитлер в своей цезаристской империи. Мы хотим видеть «во всей цельности» Космос, но — ах! мы видим одни мундиры, чины, ордена, эполеты, пушки, клыки, «сословия». Иллюзорное царство фашизированного Универсума есть тот океан, в волны которого погружаются современные мистики крови и отравляющих газов. Они, так сказать, наслаждаются собой, глядясь в зеркало созданного ими мистического мира, где все распределяется по тем же сословно-классово-кнутобойским степеням; как в конституции фашистского государства. Эта мрачная окаменелость и окаменелая мрачность выражают длительное бесславное гниение современного капитализма, когда кончилась его беспокойная и неуёмная прогрессивная работа, его движение, взлёты его мысли, смелость его рассудка, когда наступили сумерки богов, и сова Минервы из нового мира совершает свой таинственный полет в грядущее… Фауст буржуазии умер. Прежняя подвижность капиталистического мира, его величайший динамизм, который в мышлении дал такие вещи, как дифференциальное и интегральное счисление, теорию эволюции Дарвина, логику противоречий Гегеля, сменились гнилым «связанным Капитализмом» Шмаленбаха, связанным гнилым «мышлением», поисками элементарного неподвижного абсолюта, возвращением к вековечной иерархии «форм», как у блаженной памяти святого отца Фомы Аквинского.
В «Богословско-политическом трактате»[162] Б. Спинозы есть замечательное место, описывающее, как колеблется человек в критические для него времена между страхом и надеждой и как он впадает тогда в мистику, суеверие, в омут примет и гаданий. Таково теперь положение буржуа, который чувствует, что действительное движение капитализма есть движение к небытию. Отсюда новейшая теодицея[163]. Но эта теодицея (полная противоположность лейбницианской по своим «тонам»! И её мистерии разыгрываются не в светлых эллинских храмах и даже не в готических соборах, а на задворках фашистской казармы, на конюшнях Авгия, которые ждут своего пролетарского Геркулеса: но он должен на этот раз не очистить их, а очистить от них заражённый их вонью мир. И тогда исчезнут навсегда эти пьяные, едва держащиеся на ногах, наглые фантазмы нового «созерцания», чтоб уступить место победному шествию человеческого разума…
«Нет ничего легче, как изобретать мистические причины, то есть фразы, лишённые здравого смысла» — писал К. Маркс в своём известном письме к П. Анненкову в связи с критикой Прудона. Но марксизм и марксистская материалистическая диалектика, сражаясь за разумное рациональное познание, отнюдь не рационалистичны. Разум не отрывается здесь ни от рассудка, ни от чувства, ни от воли; сознательное не отрывается от бессознательного, логическое мышление не исключает ни фантазии, ни интуиции. Но самая интуиция понимается не как мистический процесс, а — если мы говорим о науке и философии — скорее как отложившийся и выработанный культурой мышления научный инстинкт, отнюдь не отрицающий ни интеллекта, ни рационального познания. Поэтому например, Маркс писал о Рикардо:
«Рикардо обладает… сильным логическим инстинктом»[164] («Капитал»).
Ленин превосходно говорил и о «мечте», и о «фантазии» (в науке и в философии). Он отдавал им, как известно, должное. Но он находил поистине большие слова, в которых пелась настоящая торжественная ода человеческому разуму и разумному познанию. Мы уже не говорим здесь о грандиозном, первостепенном превалирующем значении практики в теории познания, что вообще было недоступно сухому и одностороннему рационализму. Вот почему диалектическое познание гораздо выше рассудочного и просто несравнимо с животнообразным мистическим созерцанием. Ещё у Шекспира в «Генрихе Ⅴ» архиепископ говорит:
Пора чудес прошла, и нам Подыскивать приходится причины Всему, что совершается на свете.[165]Каталепсические[166] состояния, галлюцинаторный бред, летаргия, внушения и прочие явления гипноза, моменты действительно воздействия колдунов, и знахарей, факиров, индусских чародеев,— всё сделалось объектом действительного познания. А это познание изгоняет, как старые варварские формы сознания, мистику всех и всяческих видов и оттенков, возводимую в онтологический[167] принцип, в принцип бытия.
Диалектика уничтожает аналитическую разорванность и природы, и человека, закостенелую изоляцию и абсолютизирование отдельных сторон материи и духа, метафизическую замкнутость изолированных «вещей».
Диалектика подымает на щит целостность и единство, но не сплочённое и безразличное единство, не элементарную целостность, а расчленённое, движущееся, противоречивое, многообразное бытие, с бесконечным количеством свойств сторон, связей, переходов, взаимозависимостей, с тождеством противоположного.
Нос signo vincis![168]
Глава Ⅹ. О практике вообще и о практике теории познания
Выше мы покончили с наивной претензией агностиков рассуждать от «моих ощущений» и этим доказывать нереальность или непознаваемость внешнего мира.
Эта претензия оказалась ровно ни на чем не основанной смешной претензией. Вывод отсюда тот, что всякое философское рассуждение, оперируя с понятиями, которые суть продукт социальный, продукт тысячелетней работы мысли, должно оперировать тем самым на широком базисе всех достижений науки, оставив мышиную возню вздорных субъективистов.
Наука же говорит нам о том, что исторически первоначальным, исторически исходным пунктом было практически-активное отношение между человеком и природой. Не созерцание и не теория, а практика; не пассивное восприятие, а активное начало. В этом смысле гётеанское «В начале было Дело», «am Anfang war die Tat», противопоставленное евангельски-платоновско-гностическому: «В начале бе Слово», т. е. Разум, т. е. Логос, вполне точно выражает историческую действительность. Маркс неоднократно отмечал это: в замечаниях на книгу А. Вагнера, где он издевается над профессорски-кабинетным взглядом, по которому предметы пассивно «даны» человеку, в «Святом Семействе», в тезисах о Фейербахе, повсеместно в «Капитале» и — вместе с Энгельсом — в гениальных строках «Немецкой идеологии». Вопреки бредням идеалистической философии о том, что мысль делает миры, и что даже материя есть творение духа (например, творящее «Я» Фихте), именно человеческая практика творит новый мир, в действительности трансформируя «вещество природы» по-своему. Исторически, общественный человек, общественно-исторический человек, а не абстракция интеллектуальной своей стороны, персонифицированная в субъекте философами, прежде всего производил, пил и ел; теоретическая деятельность лишь потом выделилась, а затем обособилась, при разделении труда, в качестве самостоятельной (относительно самостоятельной) функции и застыла в определённых категориях людей, «людей умственного труда», в различных социально-классовых модификациях этой категории. Из практики возникло и теоретическое познание. Активно-практическое отношение к внешнему миру, процесс материального производства, обуславливающий, по Марксову выражению, «обмен веществ» между человеком и природой, есть основа воспроизводства всей жизни общественного человека. Болтовня всяких и всяческих «философов жизни», жрецов т. н. «философии жизни» («Lebensphilosopie»), в том числе и Ницше, в том числе и ряда биологическо-мистических кликуш современности, проходит мимо этого основного факта, как проходили мимо него очень многие представители идеалистической классической философии. Ещё бы! Ведь, простой акт пилки дров или сварки чугуна или выделки жидкого кислорода с точки зрения Канта есть тот самый прорыв в «трансцендентное», тот ужасный трансцензус, который «невозможен»! Что-то понаделает «практический» слон в фарфоровом магазине непознаваемых субтильных статуэток!..
К чести великого идеалиста Гегеля надо, однако, признать, что у него, у этого «Колоссального старого парня» (der Kollossale alte Kerl), как его любовно называл Энгельс, несмотря на то, что и ему вместе с Марксом приходилось вести отчаянную, страстную и победоносную борьбу с «пьяной спекуляцией» гегелевского идеализма — у него есть понимание практики, труда, орудия. Более того, у него действительно даны гениальные зародыши исторического материализма. В этом у нас будет ещё случай убедиться…
Область практики или практического отношения к миру можно понимать в широком смысле, куда входят и такие процессы, как, например, дыхание, широкое предметное взаимодействие между обществом и природой; в более узком смысле слова сюда относится производство и потребление; наконец, сюда же относится воспроизводство людей (см. Энгельс: «Происхождение семьи» и т. д.), т. е. область сексуальных отношений, и внутриобщественная практика, т. е. практика изменения общественных отношений, реальных, материальных общественных отношений. Здесь мы будем касаться, прежде всего, практики, как области соотношений между человеком и природой, практики, как она проявляется в действительной трансформации материального мира, т. е. тех самых «вещей в себе», о которые ломали себе зубы и перед которыми отступали столь многие философы.
Знать предмет, это означает овладеть им, как таковым -замечает где-то Гегель. Эта точка зрения весьма плодотворна и должна быть развита. И в особенности она должна быть развита при обсуждении вопроса о практике. Именно здесь особенно ясно, что материя внешнего мира превращается для человека в материал, в объект целесообразного воздействия, в объект переработки, согласно поставленной цели. Здесь — как определяет Гегель — «самочувствие единичности» стоит «против неорганической природы, как против своего внешнего условия и материала» («Философия Природы»). Являясь материалом, т. е. объектом воздействия, вещество природы превращается «искусственно» в другое, в другое качество, предмет непосредственной ассимиляции. В этом процессе обнаруживается реальная власть человека над природой.
«Какие бы силы — пишет Гегель — ни развивала и ни пускала в ход природа против человека… он всегда находит средства против них и при этом он черпает эти средства из самой же природы, пользуется ею против неё же самой, хитрость его разума даёт ему возможность направлять против одних естественных сил другие, заставлять их уничтожать последние и, стоя за этими силами, сохранять себя»[169] (Философия Природы).
Не сохранять себя, а развивать себя — нужно было бы сказать. Но это в данном случае имеет второстепенное значение. Гегель видел и роль орудий: у животных — орудийных органов (см. морфологическую теорию ак. Северцева), у человека, прежде всего, орудий труда. О последних он в «Науке логики» прямо писал: «…плуг почтеннее, чем те непосредственные наслаждения, которые подготовляются им и служат целями. Орудие сохраняется, между тем как непосредственные наслаждения проходят и забываются. В своих орудиях человек обладает властью над внешней природой, хотя по своим целям он скорее подчинён ей»[170]. Категории власти, овладения, силы, господства над природой для жизни, для «непосредственной экспансии» жизни, являются у Гегеля привычными категориями, и здесь, во всех аналогичных построениях, великий идеалист поистине стоит на грани исторического материализма, живое воплощение «меры» и перехода (в лице Маркса) в свою собственную диалектическую противоположность.
Итак, процесс производства есть процесс овладения внешним миром и его переделки, согласно определённым целям, в свою очередь, определяемым целым рядом обстоятельств. Но что означает этот процесс? Он означает изменение свойств, качеств предметного мира и создание таких новых свойств и качеств, которые нужны, которые до производственного процесса предстоят, как цели, которые, следовательно, заранее положены. Эта целеполагающая деятельность реализуется в конце производственного процесса. Что же выходит здесь с точки зрения агностицизма вообще и кантовского агностицизма в частности и в особенности? Да ровно то же, что у Зенона с доказательством невозможности движения, когда Диоген доказывал его возможность ходьбой. В самом деле, как можно утверждать, что внешний мир непознаваем (и в целом, и в частях), что непознаваем предмет труда, когда этот предмет превращается в другой именно так, как этого хочет якобы ничего о нем незнающий «субъект»? При помощи каменного угля и из него делают чугун, жидкое топливо, бензин, масла, легчайшие летучие жидкости, краски, духи, великое множество предметов, но мы — помилуй нас бог! — совсем не знаем, что за вещь в себе этот каменный уголь! А между тем вопрос разрешается довольно просто: мы знаем свойства и качества этой «вещи в себе» в зависимости и в связи с другими, с температурой, давлением, связью с рядом веществ и, меняя эти связи, зная законы соотношений, получаем «другое» угля, выражаясь гегельянски, т. е. превращённые формы, т. е. новые качества, т. е. новые «вещи в себе», как вещи предметного мира. Мы знаем свойства угля! И практика есть «живое», активное доказательство этого, доказательство в самом предметном процессе, in actu[171], в показе процесса материального превращения, который течёт согласно «разумной воле» субъекта практики; практика убедительно говорит о том, что мы знаем свойства вещей и их законы. То обстоятельство, что субъект практики сам подчинён этим законам (и когда ставит цели, и когда использует законы природы для реализации этих целей) не только не служит опровержением этого знания, но, наоборот, подтверждает его. Свобода — познанная необходимость. Закономерность технологического процесса позволяет побеждать природу, подчиняясь ей: это, ведь, было прекрасно известно ещё Ф. Бэкону и изложено им довольно популярно в «Новом Органоне»[172]. Именно потому, что субъект «связан» законами природы, он, зная их, свободен. Именно то, что он «свободно» творит, доказывает, что он знает. Действительный субъект истории, т. е. общественно-исторический человек, в процессе воспроизводства своей жизни, т. е. общественно-исторической жизни, миллиарды раз на практике убеждался в действительности своих знаний и в посюсторонности своего мышления. Здесь уместно, пожалуй, вспомнить полуанекдотический случай с Г. В. Плехановым, который перевёл один из тезисов Маркса о Фейербахе прямо противоположно тому, что было в оригинале. У Маркса было сказано: практикой должен доказать человек «посюсторонность» своего мышления (Diesseitkeit), а Плеханов превратил «посюсторонность» в «потусторонность», думая, очевидно, что здесь опечатка, и что Маркс хотел именно сказать, что в практике и совершается прыжок в «трансцендентное». Метафорически так можно выразиться, и вообще греха здесь большого не было бы. Но мысль Маркса была не та: он хотел сказать, что и прыжка-то не нужно, никакой процесс transcensus’а не надобен, ибо никакого трансцендентного нет, нет другого, заумного, нуменального, второго мира, а есть один предметный мир, одна природа, в которой и действует человек, доказывая, что так называемое посюсторонность и есть действительность, не нуждающаяся ни в каком заумном «удвоении». Характерно, что агностики позитивистского типа в большинстве случаев обходили вопрос о практике. Субъективные идеалисты чистых кровей просто «творили» мир из себя. Объективный идеализм полагал «истинный мир», как «идею» при чем в своей наиболее аристократической форме, у Платона, рассматривая обыкновенных смертных как каторжников, которым недоступно лицезрение «идеи»: они навек прикованы к пещере. У агностиков типа Пирсона — у человека только значки, символы, «эмпириосимволы». Всё это — чисто пассивные категории. Это не фихтеанское творчество из себя (Гегель смеётся: когда Фихте надевает сюртук, он думает, что творит его…), где мир подобен паутине, пузыристо выпускаемой пауком. Это не волюнтаристический и актуалистский[173] прагматизм. Нет. Здесь «значки», «сигналы», условные обозначения, «иероглифы». Но практика разрушает все такие концепции, ибо она меняет уже самый исходный пункт, представляя субъекта в его активно-творческой, а не пассивно-созерцательной функции. Субъект во внешней природе менее всего каторжник на цепях, в пещере, куда его загнал «благородный» рабовладельческий философ. Он — не раб, а в возрастающей мере — властелин окружающей его природы, земной природы, хотя он целиком и зависит от неё (тоже диалектическое противоречие!). Научные категории отнюдь не условные «значки», произвольно выбираемые метки для различения вещей, вроде упоминавшейся нами человеческой мочки Гегеля: научные категории суть отображения объективных свойств, качеств, связей, законов вещей и реальных процессов, объективных процессов, материальных процессов. И практика доказывает это достаточно убедительным образом. Лапидарно у Ильича: «Результат действия есть проверка субъективного познания и критерий истинно-сущей объективности»[174] («Философские тетрадки»).
С известной точки зрения можно сказать, что практика выше теории (условно, относительно!), ибо через практику мышление (теория) выводит себя в объективное, материализуется, объективируется в действительном мире. Простые силлогизмы суть силлогизмы, вращение и кругооборот идей, т. е. движение в сфере мысли. Метафорически говоря: понятые законы, отражения законов, координированные с субъективными целями, через практику погружаются в объективное, материализуются в технологическом процессе и адекватном его результате, т. е. обнаруживают свою истинность, своё соответствие с действительностью. Правильность мышления воплощается в «правильном» течении материального процесса и в «правильном», т. е. соответствующем цели, материальном результате. Процесс «течёт» согласно представлению о материальном законе, на основе чего он, этот процесс, и был заранее координирован с определённой целью, к которой он и привёл: его ход и его конечный результат были заранее предположены, мыслительно антиципированы. Мысль, фигурально, была проецирована в материю и в материальном получила свою проверку, через мощь практики доказав свою собственную мощь. В этом — величайшее теоретико-познавательное, гносеологическое значение практики.
Вспомним в данной связи об априорных категориях Канта. Они не трактуются кантианцами, как «врождённые идеи»; они у них также отнюдь и не исторический prius; они — логический prius, необходимые формы чувственного опыта, его упорядочивающие; в которых хаос феноменов превращается в упорядоченный космос. Они, как говорит сам Кант в «Prolegomena», служат как бы для складывания явлений, чтобы их можно было читать, как опыт. Опыт вне их невозможен, он — нечто бесформенное, в них он получает форму, тогда как они, в свою очередь, наполняются содержанием. Эти категории, по Канту, внеопытны: они сами суть условия, необходимые и априорные условия всякого опыта. Таковы категории количества, качества, отношения (здесь категории: субстанции, причинности, взаимодействия), модальности. Или формы воззрения: время, пространство. Казалось бы, какое до них дело практике?
Но все эти категории и формы воззрения потому и представляются априорными, что они сформировались в опыте и подтверждались практикой миллиарды миллиардов раз в течение многих десятков тысяч лет. Наиболее устойчивое, всеобщее, постоянно встречающееся, всегда проверяемое практикой, всей бесконечно разнообразной, гигантски длительной трудовой практикой человечества, и отложилось как всеобщее, как аксиомы опыта. Мы здесь не намерены входить в обсуждение четырёх троек категорий и делать из их рассмотрения особую тему. Здесь интересует нас другое. Возьмём, например, время. Разве не ясно, что любой трудовой акт предполагает «ориентацию во времени»? Охота, земледелие, ирригация, мореходство, путешествия по пустыням,— каждый раз в молекулах трудового опыта и в его массивах антиципация[175] временных соотношений проверялась практикой труда. Измерение времени, время, как объективная форма существования объективного мира получила в человеческом мозгу соответствующее, опытом добытое, бесконечное число раз практикой проверяемое, отражение. Канту пришлось субъективизировать объективное, но уже в самой априорности заключается тень объективности. И не случайно, что с другим «априорным» понятием, с категорией причинности, у великого кенигсбергского отшельника получился тот конфуз, что он её, эту субъективную, по его учению категорию, volens-nolens вынужден был вновь объектировать, когда создал объективный мост причинности между «вещами в себе» и субъектом, на чувства которого они «воздействуют». Когда жрецы Египта «предсказывали» разливы Нила и по этому ориентировались земледельческие работы; когда в Вавилоне на основе календарей рыли каналы и строили храмы и дворцы; когда в Китае шли по хронологическим указаниям оросительные работы или строилась великая китайская стена; когда Тейлор ввёл хронометраж; когда в Советском Союзе по календарным срокам выполнялись исполинские пятилетние планы,— что ж вы думаете, не проверялась практически в каждой волне потока времени пресловутая «априорная форма воззрения»? Конечно, да. Но не как априорная форма воззрения трансцендентального субъекта Канта, а как объективная форма мира, отражающаяся в понятии времени. То же и с пространством. То же и с причинностью. И т. д. Словом, и здесь практика играла, играет и будет играть исключительно-огромную роль. Как же не понять гносеологического, теоретико-познавательного значения практики?
Но и эта «категория» могла быть извращена, как и всё на свете.
Уж и быть ли, не быть ли беде? Уж расти ль в огороде лебеде?К сожалению, лебеда выросла и в этом огороде. Её посеял в философии так называемый прагматизм, а современные фашистские «актуалисты» превратили в настоящий дурман, зацветший на мусорных ямах фашистской идеологии. Джемс расширил понятие «опыта», включив в него всё, что возможно и невозможно («чего хочешь, того просишь»), вплоть до мистического, религиозного опыта (см. его «Многообразие религиозного опыта»[176]); «практика» приобрела собственно точно так же характер универсальный, характер любого волевого момента, всякой активности, в чём бы она ни проявлялась: «практика» религиозных переживаний и мистического бреда — тоже «практика». «Business man» — эксплуатирующий, торгующий, кутящий и замаливающий грехи, человек, делающий деньги, money, для которого «time is money», а не априорная форма воззрения, этот американский филистер крупного масштаба нашёл в прагматизме свою «подходящую» идеологию. Соответственно выродился и практический критерий истины. Исходной точкой здесь стало не предметное изменение предметного мира (что и включает, с точки зрения теории, проверку познания практикой), а «полезность», весьма широко и субъективно понимаемая. Если мошеннику полезна ложь, она — истина. Если религия утешает старуху, она — истина. «Инструментальная», «прагматическая» точка зрения, «полезность»,— всё здесь выродилось: социально, это — идеология буржуазного дельца; логически, это — ничтожество, проституирование понятий опыта, практики, активности, истины.
Но крайних форм своего вырождения «практика вообще» и «практика в теории познания» достигла у современных фашистских — sit venia verbo[177] — «философов». На базе их кровавого боевизма и социальной демагогии, т. е. целой системы обманов, масок, мифов (мифотворчество возведено в принципиально обоснованный метод), возникает философия крайнего волюнтаризма; субъект объявляется «существом политическим» (не просто «общественным»); всё, что полезно политике фашизма, есть истина; истина есть, следовательно, эманация[178] фашистской «практики» (она — известна). Но, так как степень полезности определяет г‑н А. Гитлер, то критерий истины, гносеологический критерий, находится в руках этого господина, подобно жезлу Аарона в Библии. С этим не сравниться никакой философии Откровения! Здесь много проще: «откровение» прямо сбегает с красноречивого языка главного башибузука! Что подумал бы по этому поводу Шеллинг? Принцип, старый и тем не менее вечно новый, соответствия с действительностью (это абсолютный принцип, в масштабах всего познания относительно реализующийся) отпадает здесь целиком: «рейхстаг сожгли коммунисты», этот тезис на руку фашистским разбойникам, значит, он истинен. Миф подымается здесь на свою «принципиальную» высоту. Нетрудно видеть, что это — крайний предел вырождения философской мысли: ибо, поскольку в данном случае вообще может идти речь о познании, оно отрицает самого себя; исчезает предмет познания, на его место ставится иллюзия, как идеология обмана. Только такая социальная обстановка, которая в своей «сущности», т. е. в основных тенденциях своего развития, целиком направлена против данных конкретных «философов» (как представителей и «фабрикантов идеологии» упадочной и гнилой буржуазии), могла породить в их головах своё собственное отрицание. Отсюда же и «чистый волюнтаризм», соединённый с глубоким внутренним отчаянием и пессимизмом, заглушаемым всевозможными кровавыми песнями Хорста Весселя и другими элаборатами фашистского творчества. Так капитализм, в своём движении стремясь к небытию, от «бытия» к «ничто» и к «другому», сводит к «ничто» и процесс познания. Диалектика для него поистине «трагическая»! Практика, материальная практика, порождает теорию: она породила её, поскольку из материального труда возник, выделился и автономизировался умственный труд; она порождает её, поскольку она ставит перед познанием всё новые и новые задачи; теория, будучи удлинением практики и в то же время её противоположностью, обогащает практику, расширяет её. Таким образом, мы видим здесь истинно-диалектическое движение. Практика есть нечто противоположное теории; теория «отрицает» практику и обратно. Но практика переходит в теорию; теория переходит в практику. Единство теории и практики есть воспроизводство жизни в основных её определениях. В идеалистической форме это и выражено у Гегеля, как «единство теоретической и практической идеи» (в «Науке Логики», «Энциклопедии», «Введении», «Философии Природы» и др.). Таким образом, если мы обозначим через П — практику, Т — теорию, П’ — обогащённую практику, то процесс в целом изобразится формулой:
П — Т — П’; П’ — Т’ — П’’; П’’ — Т’’ — П’’’ и т. .
Из соотношений между теорией и практикой вытекает и соотношение критериев истины; практический, «инструментальный» критерий совпадает с критерием «соответствий действительности»: практический успех потому и достигается, что мышление было действительным мышлением, что понятия соответствовали действительности, были правильным её отображением. По существу дела с этим совпадает и принцип экономии, если только он взят в своей рациональной форме, а не в форме, оправдывающей поговорку «простота хуже воровства»: мышление «экономно» и именно тогда, когда оно соответствует действительности, когда в нем нет лишнего, то есть неверного, не соответствующего действительности; тогда же самый процесс мышления, взятый в целом, наиболее производителен, ибо он не отвлекается на кривые пути.
Конкретным опосредствованием, связью между теорией и практикой служит, между прочим, научный эксперимент: здесь есть практическое изменение, материальное изменение вещества природы (например, в лабораториях, в «искусственных условиях» так сказать, второго порядка) и в то же время соответствующая обработка мышлением; здесь есть материальные орудия процесса, сложнейшая аппаратура, измерительные приборы, чудесные технические приспособления, в необычайной степени расширяющие наш опыт (микроскоп, рентгеновские лучи, микровесы и т. д.). Фабричная лаборатория есть овеществлённый комплекс, где наука и практика, индустрия и теоретическое естествознание непосредственно смыкаются друг с другом и переходят друг в друга.
Мы касались практики, как практики изменения вещества природы. Но то же можно сказать и о практике изменения общественных отношений и теоретической стороны этого процесса (общественные науки). Не трудно понять, что здесь у представителей способа производства, обречённого на гибель, радиус познания неизбежно укорачивается, и наука стремится превратиться в апологию: консервативная, реакционная, контрреволюционная практика имеет соответствующий идеологический рефлекс. «Наука» здесь становится субъективной, и её классовый субъективизм является «оковами развития», а не его формами. Более того, она становится формами, активно-враждебными основным тенденциям развития, в гораздо большей степени, чем в области теоретического естествознания. Наоборот, в марксизме дано единство великой теории и преобразующей великой практики: практика Ленина и Сталина блестяще подтверждает их теорию. Отсюда же и гениальные предсказания Маркса и Энгельса, предвидевших исторические события за столетие вперёд. «Savoir c’est prévoir» «знать значит предвидеть» — гласила поговорка. Но не только предвидеть, но и успешно действовать. Знание, предвидение, блестящие практические успехи,— характерные черты марксизма, как общественной теории и практики; а течение всего всемирно-исторического процесса, в том числе и всей науки, подтверждает правильность грандиозных обобщений марксистской материалистической диалектики.
Глава ⅩⅠ. О практическом, теоретическом, эстетическом отношении к миру в их единстве
Исходный пункт — историческое рассмотрение предмета (историческое, диалектическое, im Werden[179] взятое бытие). Маркс в «Немецкой идеологии» не даром рассматривает историю, как единственную науку, распадающуюся, согласно объективному распадению, раздвоению единого, на историю природы и историю общества (пока мы здесь неизбежно геоцентричны, ибо о «людях» других планет мы ничего не знаем, они существуют для нас лишь potentia, δυναμει, а не ενεργεια, как любил выражаться Маркс[180]).
Если мы берём проблему взаимодействий между человеком и природой, то тут исторически (в широком смысле слова) мы имеем:
1. Процесс биологического приспособления. Человек ещё не человек в собственном смысле слова. Он лишь становится животным видом homo sapiens в его природной, натуральной форме.
Это — не «естественное состояние» Руссо и просветительной философии ⅩⅧ столетия,— такого состояния вообще никогда не бывало: такое состояние — фантастическая иллюзия идеологов. «Человек» здесь стадная полуобезьяна, начинающая ходить на ногах, с дифференцирующейся, как естественное орудие труда рукой. Важны следующие моменты: воспроизводство вида, сотрудничество и борьба за существование; инстинкты (инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода — половой инстинкт); формирование рас. Влияние природы, климата, всех т. н. «географических факторов». Процесс приспособления в основном пассивен и бессознателен. Природа формирует человека, человек не формирует ещё природы (если говорить с известным упрощением, т. е. относительно).
2. Процесс активного общественного приспособления. Человек рассматривается здесь, согласно объективному положению вещей, как общественное животное, делающее орудия (homo faber) Именно поэтому выступает момент субъективности и активности. Старый материализм рассматривал человека только как продукт. Между тем, исторический человек превратился уже в субъекта. Поэтому-то Маркс в своих знаменитых тезисах о Л. Фейербахе и настаивал на том, чтобы рассматривать соотношение между человеком и природой субъективно, практически, активно. Это выражение «субъективно» имеет смысл вовсе отказа от объективного познания, а тот смысл, что объективность познания требует учёта новой, небиологической, более высокой объективности, когда на сцену выступил субъект, когда человек своими орудиями активно воздействует на природу, преобразует её в своих целях, основой чего служит процесс труда, как процесс «непосредственного производства и воспроизводства жизни», и в нём, в этом процессе труда, происходит преобразование и самой человеческой природы. Биологическое — «в снятом виде». Поэтому здесь нужно кончать с игрой, развиваемой «органической школой»[181] в социологии, политической экономии и т. д. Здесь новое качество, исторически образовавшееся. Современное возрождение «органологии», маргаринового «социального дарвинизма», вся школа O. Spann’а[182] и бешенствующих расистов, есть отвратительный сор с научной точки зрения. Мимо!..
Само общество раздвоится на классы, и начинается специфическое движение, диалектика общественного развития, со всеми его противоречиями и переходами от одной общественно- экономической формации к другой.
Субъектом здесь является общественно-исторический человек, человек определённого «способа производства», определённого класса, определённого «способа представления». «Биологическое» не уничтожается: оно — «aufgehoben».
Отношения человека к природе в основном — троякого порядка: практические, теоретические, художественно-эстетические. Мы разбирали все эти три вида соотношений порознь и в их переходах. Теперь перед нами стоит задача понять их в их единстве, как функции единого процесса производства и воспроизводства жизни.
Практика есть здесь материальное, техническое овладение веществом природы, труд, преображение вещества, материальный обмен веществ между обществом и природой. Теория есть мыслительное овладение природой, познание её качеств, свойств, законов, «общего». Эстетика природы есть процесс переживания природной связи с природой, симпатическое сопереживание ритмики природы, коренящееся в последней инстанции в биологическо-животной основе человека. Практике соответствует воля. Теории соответствует интеллект. Эстетике соответствует чувство. Практика, это — царство материальных вещей и процессов. Теория — царство понятий и идей. Эстетика — царство эмоций и эмоциональных образов. Понимаемые, как процессы, они суть: процесс труда, процесс мышления, процесс художественно-эстетического созерцания. Теория и практика, как мы видели уже в предыдущем изложении, представляют собою противоположности, переходящие одна в другую, и в то же время единство. Это единство знаменует собой активное, двуедино активное, отношение к природе, процесс овладевания природой, подчинения природы. Здесь субъект противостоит ей, как активное начало: он не «воспринимает» её, и рассматривает её (и действует на неё), как материал; он её материально преобразует в процессе труда, а мышление опосредствует этот процесс. Природа — пассивна. Человек активен. Природа преобразуется. Человек преобразует. Совсем другое в художественно-эстетическом созерцании природы. Здесь субъект «погружается» в объект, «растворяется» в объекте. «Личность» «исчезает», теряет себя, как таковая, поглощается «Всем» и тонет во «Всём». Другими словами, природа здесь активна, человек пассивен. Субъективное отходит совершенно на задний план. Ритмы Космоса выступают, как грандиозное и величественное, бесконечно малой частью которого, маленькой чешуйкой гигантской и необъятной ткани является ритм, и соответствующие эмоции отражают этот величественный приоритет Космоса. Таким образом, художественно-эстетическое созерцание есть полярная противоположность практики и теории одновременно, как активному началу жизнедеятельности человека. Отсюда, между прочим, становится понятным и тот факт, что художественное созерцание не может быть поставщиком критерия истины, в то время практика и теория такие критерии выдвигают. В то же время художественное созерцание является противоречивым в самом себе: растворяя субъективное в объективном, оно является крайне субъективным; эмоции симпатического переживания природы не обладают такой общезначимостью, как, например, понятия: эта сфера есть океан чувств и крайне подвижных эмоций с гораздо большим коэффициентом субъективного.
Но точно так же, как разделение старой психологией всех т. н. «душевных способностей» на самостоятельные «сущности»: ум, волю и чувство должно быть преодолено в своей односторонности, так и три вида отношений между человеком и природой, о которых идёт речь, отнюдь не являются разобщёнными, а переходят один в другой и в целом составляют поток жизнедеятельности. В самом деле, возьмём область чувственного созерцания, художественно-эстетического наслаждения природой. Совершенно очевидно, что соответствующие переживания отнюдь не являются чистой эмоцией. Здесь соприсутствуют и понятия в самых разнообразных формах: когда, например, современный человек «любуется» звёздным небом, у него могут быть — и бывают — и элементы научной картины мира (мысли о звёздах, планетах, галактике, бесконечности миров, электронах, научных гипотезах и т. д.). Более того, в зависимости от общественной формы, от «способа представления» эпохи, определяемого «способом производства», формирование эмоций и мыслей соподчиняется некоторым идеям-доминантам, укладываясь в общие рамки «способа представления». Поэтому, например, в течение веков художественно-эстетические переживания сливались с религиозной формой, с мышлением о мире по типу господства-подчинения (Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnis[183] у Маркса). Этот социоморфизм мышления был и социоморфическим началом в сфере эстетической. И не только у дикарей, первобытных анимистов[184], «средних людей», так сказать филистеров своего времени, но и у самых «тонких» мыслителей. Поэтому, например, у Пифагора «музыка сфер», ритмика природы, выраженная в числах и художественно окрашенная, была божественным началом stricto sensu[185].
Но, с другой стороны, и эстетическо-художественный момент проникает в свою противоположность, в мышление. Стоит, например, прочитать, как описывает Гегель жизнь земли, особенно жизнь моря! Или взять научные творения Гёте, не говоря уже о немецких натурфилософах, кончая Шеллингом, которому, как мы упоминали уже, Гейне рекомендовал быть поэтом, а не философом.
Таким образом, здесь мы видим взаимное проникновение противоположностей, переход одного в другое и их единство. Но сама сфера художественно-эстетического созерцания, стремясь воспроизвести самое себя, порождает активную деятельность, художественное творчество, искусство, музыку, поэзию, живопись и т. д. Это уже крайне сложное образование, гораздо более широкое, охватывающее все сферы жизни и имеющее многоразличное значение, в том числе и познавательное. Однако, в основном оно оперирует образами, и не случайно, что поэтический язык есть язык метафор, олицетворений: ибо корнем, глубочайшей основой, является симпатическое сопереживание ритмики природы и связи с нею. В искусстве, как художественном творчестве, пассивное начало становится в высокой степени активным, и сама эстетическая эмоция осложняется и обогащается активно-творческим моментом (переживанием ценности мастерства). Сфера симпатического сопереживания есть истинная сфера искусства и эстетики: именно поэтому любовь и эротика играют столь исключительную роль,— начало «сопереживания» здесь выражено особенно ярко и имеет чрезвычайно глубокие корни в подспудных низинах биологической природы человека.
Практическому, теоретическому, эстетическому началу соответствует старинная троица «Добро», «Истина», «Красота», как фетишизированных абстракций, взятых из трёх основных сфер человеческой жизнедеятельности.
Под «Добром» («блаженством», «благом», «идеалом») во всех системах понимается сгусток жизненных целей, представленных, как единство, центр тяготения, «истина добродетели». Так как практика сама раздваивается на практику преобразования природного мира и на практику внутричеловеческих отношений, практику общественных преобразований, то и соответствующее понятие «Добра», «блаженства», «идеала» в разных пропорциях включали ориентацию на полезные вещи и на добродетели; не нужно, однако, думать, что это — разъединённые части: в конечном счёте, ведь, и производство материальных предметов есть производство потребительных ценностей, т. е. ценностей для человека; оценка «жизненных благ» входит поэтому в общую идеологию «ценностей», включаясь в различные системы морально-философской идеологии (гедонизм[186] — аскетизм[187] , как два полюса). «Добро» у древних греков носило довольно ярко выраженный интеллектуальный характер: и у Платона, и у Аристотеля, и у стоиков, и у Эпикура: «Добро» есть, следовательно, абстракция жизненной цели и координированных с ней норм поведения, их абстрактно выраженная доминанта, которая всегда определялась исторически, т. е. эпохой, формацией, классом.
Под Истиной обычно разумелось то или иное соответствие (вплоть до совпадения, т. е. тождества) с той или иной "данностью" (будь ли то сознание, материя или дух, бог и т. д.).
Под Красотой разумелся идеал внешнего, чувственного образа, причём в ряде философских систем он был чувственным выражением истины. В действительности истина, как это видно из всего предыдущего изложения есть правильное, т. е. соответствующее объекту, отображение этого последнего в понятиях; социальное, общественное значение «поисков истины» есть опосредствование материального процесса производства, расширение сферы познания и углубление его, рост человеческого сознания. Действительный смысл красоты заключается в повышении эмоционального жизненного тонуса. Но это — абстрактное положение, которое конкретно проявляется в самых разнообразных формах: идеал мужской и женской красоты есть наиболее яркое выражение внешних черт (черт чувственного образа), воплощающих идеальные характеры и качества (ум, мужество, благородство, нежность, сексуальные положительные черты и т. д.), частью биологически обусловленные, частью создаваемые и модифицируемые (а иногда и упраздняемые вовсе, например, в упадочные эпохи и упадочных классов) общественно-историческими условиями; природа воздействует своей пульсацией, которую, как мы видели, сопереживает человек, опять таки в определённой общественно-обусловленной форме; общественная жизнь вызывает образы искусства, которые тоже повышают тонус жизни, обобществляя развивающиеся эмоции через внешне-чувственное (в музыке ли, в поэзии). И т. д. Что для эстетики и эстетического отношения к миру характерна именно эта чувственная сторона, было хорошо известно ещё Платону. Он говорил об определённости прекрасного, которое, в противоположность понятию, выступает, как вещь или как чувственное представление, т. е. в своей конкретности.
Классовые общества характеризуются разрывом людей; в разных категориях людей застывают различные стороны человеческой жизнедеятельности: таково, например, самое глубокое основание разделения труда, его раздвоения на умственный и физический труд, причём умственный труд стал одной из функций командующих эксплуататорских классов. В упадочных классовых обществах функции жизнедеятельности могут превратиться не только в антиобщественные функции, но и в функции саморазложения этого класса. Такова, например, «эстетика» смерти и тления. Таковы отбросы современного мистицизма в «философии».
Социализм здесь совершает коренной переворот, поистине всемирно-исторический. Поэтому мы можем говорить о новой эпохе, когда началась действительная история человечества после его мучительной предыстории.
Здесь уничтожаются классы. Здесь вырастает целостный человек. Здесь, следовательно, отношения теории, практики, эстетики объединяются, и люди живут многосторонней жизнью. Здесь сбрасываются фетишистские смирительные рубашки: религиозные формы, формы «категорических императивов» внешнего характера, понимаемые, как божественный приказ; формы абсолютного «чистого» искусства, «чистой» науки и т. д. выражающие оторванность их и изоляцию из всего жизненного контекста и проч. Отдельные стороны жизни становятся сторонами жизни всё большего количества многосторонне живущих людей.
Таким образом именно здесь находит своё наиболее яркое выражение единство теории, практики и эстетики. Если в (прогрессивных) классовых обществах это единство, во всех своих сторонах выражало подъём жизни (мощь производительных сил, мощь познания, повышение жизненного тонуса) в борьбе с многочисленными препятствиями и в условиях распадения человека на односторонних субъектов, то в действительной истории отпадают все преграды, весь процесс получает небывалое ускорение, уничтожается разорванность и общества, и личности, и единство жизнедеятельных функций празднует свой исторический триумф.
Нетрудно видеть, как преувеличенное понимание одной из сторон жизнедеятельности влечёт за собой идеологическую фантазию:
• обособление и изоляция мышления, отрыв его от практики, автономизация и сепаратизм «царства мысли» имеет тенденцию превратить эту мысль, «общее», «понятие», «абстракцию», «идею» — в самостоятельную сущность и субстанцию мира;
• обособление практики от мышления приводит к грубому эмпиризму, а при отрыве практики от материальных объектов (практика торговая, общественная и т. д.) — к волюнтаризму, прагматизму и проч.;
• обособление эстетики имеет тенденцию, замещая рациональное познание, превратить художественно-эстетическое переживание в переживание мистическое, т. е. привести к мистическо-интуитивному мировоззрению.
Это не трудно было бы показать и на действительном историческом развитии философской мысли. Но мы, ведь, не пишем истории философии, и да простит нас читатель за то, что мы здесь поставим точку и перейдём к другой теме.
Глава ⅩⅡ. Об исходных позициях материализма и идеализма
После долгого промежутка вновь появляется демон иронии — «Вы покончили с „моими ощущениями“? Хорошо. Но разве это есть утверждение материализма? Или Вы так наивно интерпретируете положение Ленина, (что философское понятие материи, это понятие вне „меня“ лежащего, и ничего более), „будто бы Ленин отрицал сознание всякого другого“? Или не понимал, что у объективного идеализма тот же бог вовсе не совпадает о „моим“ сознанием? Или Вам неизвестно — если уж потакать Вашей любви к авторитетам Ваших святых отцов — что у того же Ленина в „Философских тетрадках“ прямо говорится, как из „общего“ идеализм образует особое „существо“, т. е. вне „меня“ находящееся?
Ну, а если Вы здесь не упрямитесь (упрямиться было бы не умно), то почему бы не взять за первооснову мира „духовное“ начало? В самом деле, давайте-ка говорить откровенно и без предрассудков и позвольте сделать маленькое отступление. Вот ваши духовные предшественники травили знахарей и колдунов, кричали: „одно шарлатанство!“, отрицали случаи успешного лечения. А теперь сами признаёте: только говорите „гипноз“. Так и тут. Ну, так я продолжаю. Разрешите?
Сознание есть факт. Не станете Вы это отрицать? Ведь, не будете Вы утверждать, что существует только то, обо что можно расколотить себе лоб? Ведь, не будете Вы думать, что только вы один мыслите? Это, прежде всего, противоречило бы Вашему коллективизму, социализму и прочему.
Значит, сознание есть факт. В нём — чтоб Вы успокоились — нет ничего чудесного, мистического, сверхъестественного. Оно существует, да и только. Вот и всё… Сознание, далее, есть непосредственный факт. Отсюда декартовское: „Cogito ergo sum“ („мыслю, значит существую“). Факт „cogitandi“, мышления, есть исходный факт.
Но если в самом моем бытии факт сознания есть исходный факт, то не есть ли внешняя „материя» (т. е. протяжённое, начиная с моего тела) инобытие, проявление, внешность, пассивная форма („форма“ — не в аристотелевском активно-творческом смысле) моего сознания? Ваша, например, духовная сущность отражается в моем сознании, как нечто телесное, точно так же и я отражаюсь в вашем сознании, как внешнее тело. Но „в себе“ мы „духовные существа“. То же и с остальным миром. И с камнем, и со звездой, и с солнцем, и с Космосом.
Почему вам не нравится такая „картина мира“? Её одобряли великие умы. Так ли?»
И искуситель уставился своими насмешливыми глазами. Что у него есть своя логика, это видно. Отсюда, скажем, монадология Лейбница. В сознании отражается другое сознание, отражается, как нечто материальное. По сути дела, богдановский «эмпириомонизм» был чрезвычайно близок именно к этого типа идеализму, если вдуматься во всю его концепцию. У него, ведь, мир «в себе» — есть «хаос элементов»; в индивидуальном сознании эти элементы взяты в типе ассоциационных связей; в «специально-организованном опыте» они отражаются в более высоком типе связи, как «физический мир». То есть «физический мир» есть отражение хаоса элементов, как своего рода рассеянных технических монад, хотя они и не обладают замкнутой целостностью и индивидуальностью, как у Лейбница, а суть только «элементы». Идя по путям такого идеализма, легко добраться и до бога. И он получатся, можно сказать, почти внечудесно, а именно: есть разные монады, разных ступеней, иерархия монад, с соответствующими степенями их материального инобытия: монада камня отражается как материальный камень; монада человека, как человеческий организм; но есть и звезда «в себе», т. е. «душа» звезды; есть и универсальная, всеохватывающая монада, всеобщая «душа» Космоса, бог, который materialiter[188] есть мир в его материальном истолковании и переводе.
Довольно! Это уж и так сверх меры добросовестно, столь подробно излагать противника!
Заметим, что здесь налицо все пограничные пункты между объективным идеализмом, спинозизмом, материализмом; что здесь разверзаются все пропасти «последних глубин» мышления о мире, и переход от одного мировоззрения к другому с известной точки зрения необычайно лёгок: небольшой поворот руля — и всё! Здесь мысль танцует на «узловых пунктах» гегелевской «меры», где совершаются скачки в новое качество: Бог, как существо; Мировой Дух Гегеля; монада Космоса Лейбница, «Душа Мира» Шеллинга (а раньше и Платон, и, в Средние Века, Фома Аквинский); безбожный «бог», Natura Naturans, Б. Спинозы; отрицание бога материализмом,— все позиции сгрудились на этом философском плацдарме!
Начнем с «первичности» факта сознания. Здесь позиция картезианства[189] слабее, чем позиция Беркли — Юма, ибо вместо «чистых ощущений» уже даны и понятия, то есть тем самым даны и другие люди, и внешний мир. Но если это всё уже есть, и при том во всей телесности, то почему же сознание «первично»? На это нет ровно никаких оснований. Вообще же, если мы исходим уже не из «я» (а здесь изолированное я сразу же исчезает, вместе с признанием понятий), то мы вступаем в область научного рассмотрения генезиса сознания; исторического рассмотрения, т. е. уже тем самым выходим целиком из сферы примитивных рассуждений о первоначальной девственной данности сознания, каковая «данность» в сущности тоже есть результат сложнейшего анализа, результат (ложного) опосредствованного знания. А в этом — громаднейшая разница: здесь угасает девственная чистота аргумента целиком.
Что же мы видим на самом деле?
1) Само «самосознание» у человеческого индивида приходит со временем. Сказать: «Cogito ergo sum» может только взрослый, только культурный, только философ. Недаром для этого потребовался Декарт.
2) Сознание «дано» вместе с его содержанием; нет бессодержательного сознания.
3) Содержание сознания на 999/1000 «дано» внешним миром.
4) Этот мир воздействует на человека, «аффицирует»[190] его чувствительные органы, т. е. является и историческим и логическим prius, первоначальным.
5) Сам человек активно воздействует на мир в своей телесности, в своей мыслящей телесности, но побеждая мир, подчиняется его законам.
6) Сам человек есть продукт развития 1) в обществе, 2) в виде homo sapiens, в человеческом стаде, 3) потенциально — в виде человекообразной обезьяны и т. д. назад в эволюционной цепи.
7) Органический мир проистекает из неорганического и т. д.
Здесь мы, таким образом, переходим в область различных наук, касающихся эволюции материи и качественных ступеней этой эволюции. Все данные говорят нам о нарастании новых качеств, и на трактовку сознания, как свойства только определённого вида материи. За панпсихистскую[191] концепцию говорит лишь одна антропоморфическая аналогия, но разве это доказательство? Это — возврат к первобытному анимизму во всей его примитивности. На этой анимистической метафоре покоится и вся философия Шеллинга, что понял так хорошо умница Гейне (в связи с этим интересно вспомнить замечание Л. Фейербаха, что поэзия не претендует на реальность своих метафор!) Таким образом, наука говорит об историческом происхождении органического из неорганического, живой материи из материи неживой, мыслящей материи из материи немыслящей. В этом смысл того замечания (лишь по видимости тривиального), которое делает Энгельс в «Анти-Дюринге», говоря, что действительное единство мира заключается в его материальности, и что это доказывается сложной работой науки, а не парой априорных тощих, высосанных из пальца тезисов. Именно поэтому идеалистический инстинкт Гегеля как бы ощущал, что идея развития в природе опрокинет идеализм. Поэтому в его системе и заключено чудовищное (и отнюдь не диалектическое!) противоречие: природа у Гегеля не знает развития, виды органического неизменны, сделан громадный шаг назад по сравнению с Кантом, естественно-научные взгляды которого были чрезвычайно прогрессивны для своего времени. А здесь великий диалектик, поднявший принцип движения и развития на такую высоту, для всей природы взял назад своё основное завоевание! Ему претила атомистическая гипотеза, получившая такое блестящее подтверждение в современной физике. Ему претила теория изменяемости видов. Ему претила сама эволюция в природе! И нужно видеть, как изворачивается здесь его хитроумная мысль… Тут диалектика гибнет во славу идеализма; буквально Ad majorem Dei gloriam[192] диалектика закалывается на алтаре идеалистической философии. И именно поэтому развитие самой диалектической мысли властно требовало соединения с материализмом, что и было реализовано в марксизме на основе, разумеется, не сепаратного «самодвижения понятий», а на широком фоне действительной жизни.
У Гегеля поэтому целые клубки мистических узлов: Дух — вне времени, но развивается (ибо он «развивается» логически, как понятие); природа во времени, но не развивается; земля — плодоносная основа жизни, и есть даже «generatio aequioca»[193], но виды не эволюционируют и т. д. Здесь — внутренняя боязнь того, что сам дух окажется порождением, историческим порождением материи, поскольку живая материя, т. е. ощущающая материя, возникает из материи неорганической, т. е. неживой (но не мёртвой, не умершей, а не начавшей жить), а материя мыслящая, в свою очередь, возникает из материи только ощущающей. Замечательное учение Гегеля о «мере», об «узловой линии мер», о прерывности непрерывного, о скачках, о переходе количества в качество, о новых качествах и т. д. вступает в конфликт с его идеализмом и, наоборот, получает блестящее подтверждение в данных науки, хотя эта наука большей частью и не имела никакого понятия о диалектике. Нужно было бы кинематографическую картину истории мира развёртывать задом наперёд, чтобы иметь аргументы за приоритет сознания. Но так как этой операции проделать нельзя, то вывод неизбежен. Мы твёрдо знаем, что до определённой полосы в развитии земли жизни на ней не было. Мы твёрдо знаем, что эта жизнь возникла. Мы так же твёрдо знаем, что наличие жизни стало фактом до появления человека. Мы твёрдо знаем, что человек произошёл из других видов животных. Первоначально само живое, это кусочки живого белка с зародышевыми формами т. н. «психического», как своего свойства. Так как же, прикажете это что ли считать великим мировым «Разумом», «Богом» и т. д. ? Явный вздор! Такой же вздор, как телеология[194], над которой Гёте остроумно издевался в «Ксениях», иронически утверждая, что пробковое дерево создано для того, чтобы делать пробки для бутылок. Ясно, что такие примитивные взгляды на мироздание грубо антропоморфичны.
Приписывать «душу» звёздам, «Разум» миру и т. д., это значит судить по аналогии с человеком, потенцируя его, человека, свойства (всеведение, всеблагость, вездесущее и т. д.). Правда, в аналогиях часто заключается нечто рациональное, и не раз история науки была свидетельницей необычайно плодотворных аналогий. Но есть факты и факты. Ровно ничто не говорит за такую аналогию. И вся наука; вся действительная наука, говорит против такой аналогии. Так где же основание для идеалистических утверждений? Для возвращения к анимизму дикарей?
Маркс писал в «Святом Семействе»:
«Человека Гегель делает человеком самосознания, вместо того, чтобы самосознание сделать самосознанием человека, действительного человека, т. е. живущего в действительном, предметном мире и им обусловленного»[195].
Абстракция человеческого сознания, отодранного от человеческой телесности, превращённого в «существо» и перенесённого на весь мир — в этом суть идеализма.
Но мы здесь должны снова сказать, что уже в самой этой абстракции заключается громадная измена диалектике. А именно: раз «мышление» абстрагируется от «мыслящего», то, ведь, и разрушается та целостность, о которой такими соловьями залётными и так красноречиво поют те же идеалисты, когда говорят о жизни! (И здесь, т. е. в тезисе о целостности) вполне правы. Так как же выходит дело? Неужели непонятно, что отодрав «дух» от «тела», вы «дух» превратили в ничто, а тело — в труп! Прямо смешно видеть, как солидные люди, после пламенных протестов против грубого эмпиризма, рационализма, вивисекторской науки, умерщвления живого; после торжественных од во славу «целостности», «целокупности», «единства», «индивидуального целого» и проч. И проч., вдруг берутся за человека, раздвояют его, отделяют мышление от тела и воображают при этом, что тело сталось телом, а мышление — мышлением! Нет, дорогие философы! Никакого «саморазвития понятий» и никакого «шествия духа» и никакой прочей метафизической чертовщины реально быть не может именно потому, что вы, вопреки учению о диалектической целокупности, разрушили эту целокупность, умертвили «тело» и уничтожили «дух». И здесь, в основном вопросе, Гегель свою блестящую диалектику принёс в жертву идеалистическому богу. Ещё Мольер в «Учёных женщинах» ехидствовал:
К несчастию, сударыня, я замечаю, Что всё же тело и душа меня слагают, И тело очень связано с душой. Быть может, их и делят с мудростью большой, Но небо философствовать мне не велело, И вместе у меня живут душа и тело.[196]Правда, с точки зрения «философии тождества» нам могут возразить словами Шеллинга из «Всеобщей дедукции динамического процесса»[197], доказывающими, что тут нет разрыва, ибо «все качества суть ощущения, все тела — воззрения природы, сама же природа вместе со своими ощущениями и воззрениями, является, так оказать, оцепеневшим мышлением». Но, позвольте, а как вы дошли до мысли такой? Ведь, в действительности, вы нигде не наблюдали мышление без человека. И до дедукции вы проделали очень несложную операцию: отодрали мышление от человека и спроецировали его на природу! А потом — образная «дедукция»! Нечего сказать, хороша последовательность: в ней только одни «маленький» недостаток: во-первых, отодрав, вы убили; во-вторых, вы как дикарь, удовлетворились пустой аналогией. «Только» всего.
Диалектически выражаясь, здесь налицо превращение относительной противоположности в абсолютную, разрушение связи и метафизическая изоляция духа, т. е. превращение его в вещь в себе, в пустое ничто, тогда как он может быть взят только в связи, и вне связи не существует.
И здесь, следовательно, мы видим, что диалектика, как объективная диалектика, властно требует материалистической точки зрения, иначе она поедает самое себя.
Всякое идеологическое извращение логически опирается на какую-нибудь грань действительности, односторонне её раздувая, преувеличивая и возводя в какую-либо сущность. Именно поэтому Ленин записывал в «Тетрадках»[198]:
«Философский-идеализм есть только чепуха с точки зрения… материализма грубого, простого, метафизического. Наоборот, с точки зрения диалектического материализма, философский идеализм есть одностороннее, преувеличенное Überschwengliches (Dietzgen)[199] развитие (раздувание, распухание) одной из чёрточек, сторон, граней познания в абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествлённый» (Конспект Аристотеля «Метафизики»).
Это блестяще подтверждается всей историей идеализма, который свойство живой материи отодрал от материи, отодрав человека от природы и «дух» от человека; возведя мышление в абсолют и раздув этот абсолют до универсально-космической идеальной категории.
Но всякое идеологическое извращение выражает, опираясь на предшествовавший запас идей, в то же время и определённый «способ представления», в свою очередь, опирающийся на определённый «способ производства», если говорить о больших идеях, о важнейших мыслительных доминантах эпох. А таким идеологическим образованием является, несомненно, идеализм, как мировоззрение. На что же он опирается в этом смысле? Т. е. где его бессознательные общественные корни? На это ответ дают Маркс и Энгельс и в «Святом семействе», и в «Немецкой идеологии». Когда они учиняют бешеный разнос «критической критики», они вскрывают полярность духа и материи, как отражение полярности «критической критики» и «инертной массы» (черни, толпы, работников физического труда; кстати, чрезвычайно интересно проследить историческое образование понятия физической «массы» и понятие «массы», как многоголовой части общества); общественный дуализм отражается в дуализме духа и тела: дух так же управляет телом и настолько его выше, насколько духовные вожди господ управляют массой и стоят над ней. В «Немецкой Идеологии» Маркс прямо ставит в связь весь идеализм и движение гипостазированных понятий с обособлением (классовым обособлением) умственного труда, как функции командующих классов. Разумеется, это лишь самые общие рамки, которые необходимы, но недостаточны. Однако, здесь поставлены вехи на путях дальнейшего исследования, уже в сфере социологии мышления.
Не ясно ли отсюда, что судорога идеализма в настоящее время есть его предсмертная судорога? Не ясно ли, что у него нет и не может быть будущего?…
Глава ⅩⅢ. О гилозоизме и панпсихизме
Пожалуй, в данной связи надо, однако, более подробно остановиться на гилозоизме и панпсихизме. И та, и другая система взглядов исходит из наличия психического у всякой материи. Но у гилозоистов обычно субстанцией является материя, которая в разных своих видах имеет свойства ощущать, тогда как панпсихизм идеалистичен: здесь скорее «идеальное» является субстанцией, проявляющейся материально, т. е. идеальное имеет своим свойством выступать, как материальное. Наконец, может быть и третья точка зрения, к которой тяготел Спиноза, а именно, что и «материальное», и «психическое», «идеальное», это — две стороны одной и той же субстанции. Здесь мы опять видим, как легко противоположно они переходят одна в другую: как, например, легко греческих ионийцев[200] — гилозоистов, одушевлявших всю материю, превратить в современных панпсихистов, и наоборот. Чтобы найти и на этот вопрос правильный ответ, необходимо подойти и к этой проблеме историко-диалектически.
Пойдём исторически назад, рассматривая различные виды и типы природы, начиная от человека и переходя ко всё менее сложным животным, в порядке ламарковской «деградации». Мы имеем человека, с развитым головным мозгом, спинным мозгом, развитой нервной системой, с мышлением, с «разумом», затем мы имеем целый ряд ступеней, где исчезают определённые органы чувств (глаза, уши и т. д.); потом исчезает головной мозг; затем исчезает вся нервная система; у лучистых нет головы, нет глаз; у полипов нет ни головного, ни продольно-узловатого мозга, нет нервов, нет органов дыхания, сосудистой системы, органов размножения; инфузории не имеют ни одного специального органа.
Поэтому даже Ламарк (на которого опираются «психоламаркисты» с их нескрываемым витализмом[201]) писал, говоря о полипах и т. д. (см. «Философию Зоологии»)[202]:
«Нет никакого основания говорить, что у рассматриваемых животных… все эти органы всё-таки существуют (правда, бесконечно редуцированные), что они распределены… в общей массе тела.., что, следовательно, все точки тела могут испытывать всякого рода ощущения, производить движения, проявлять волю, иметь представления и мысли»… «Разумеется, не к такой гипотезе ведёт нас изучение природы. Наоборот, оно показывает нам, что всюду, где перестаёт существовать какой-нибудь орган,— пропадают также и связанные с ним способности. Животное, лишённое глаза, ни в коем случае не может видеть.., ни одно животное, лишённое нервов, т. е. специального органа чувств, не испытывает никакого ощущения. У полипов части тела не более как раздражимы, но эти животные… не способны ощущать»[203].
Под «раздражимостью» Ламарк, следуя Галлеру понимал свойство животных тел сокращаться от действия внешних раздражителей. Вполне возможно, что этому свойству соответствует, как его «инобытие», какой-то вид, тип, род психического.
Но что здесь не может быть, например, мышления и «силлогизмов», это — кажется ясным, вопреки, например, Франсэ, который даже у растений обнаруживает «силу суждения». Одно время было в моде издеваться над положением, что мозг мыслит. И у Авенариуса в «Критике чистого опыта»[204] есть различные соображения на тему, что мозг не есть какое-либо «седалище» мысли. Рациональное зерно здесь в том, что мозг не существует «в себе», т. е. как нечто изолированное; он может функционировать только в связи со всем организмом, и в этом смысле мыслит не мозг, а весь человек. Но диалектическое понимание части и целого, их единства, отнюдь не исключает специфичности органа и специфичности его действия: человек мыслит, а не мозг в себе; но человек мыслит мозгом, а не лёгкими, хотя для функционирования мозга необходимо и функционирование лёгких.
Ленин записывает в «Философских тетрадках»:
«Сторонник диалектики, Гегель, не сумел понять диалектического перехода от материи к движению, от материи — к сознанию — второе особенно. Маркс поправил ошибку (или слабость?) мистика»[205].
А сбоку:
«Диалектичен не только переход от материи к сознанию, но и от ощущения к мысли и т. д.».
Это значит, что нельзя себе представлять дело таким образом: у человека — много сознания, у собаки — меньше, у полипа — ещё меньше, у растения — ещё меньше, у базальтовой скалы — ещё меньше. Это и было бы чисто количественным, механическим, антидиалектическим взглядом. Действительное развитие и непрерывно и прерывно, и постепенно, и скачкообразно, и количественно, и качественно. Поэтому имеются качественные ступени «психического», являющиеся инобытием качественно-различной структуры в пределах самого органического мира. Инстинктивное влечение не есть разумное целеполагание: разумное целеполагание есть качественно-специфическая способность. Ощущение ещё не есть мышление: мышление есть качественно-специфическая способность. И, с другой стороны, растение не есть животное, хотя и то, и другое — живое; человек не есть полип, хотя и то, и другое — животное. Переход от ощущения к мышлению диалектичен, т. е. мышление есть новое качество сознания, и нельзя всего топить во всем без всякого разбора. Считать историческую эволюцию одним количественным изменением, непрерывным увеличением того же, значит не только изменять диалектике, но, изменяя диалектике, поворачиваться спиной к действительности: ведь для материалистов дело не в том, чтобы что-либо соответствовало «понятию», а чтобы понятия соответствовали действительности.
Мы из опыта знаем, что мышление есть свойство организма особого типа, с головным мозгом, его полушариями, нервной системой. Абсурдно предполагать диалектическое мышление у солитера или полипа. Научно мы видим исторические фазисы развития живого, исторически сложившиеся различные структуры этого живого и качественные их особенности. Но в природе мы видим и скачок от неорганического мира к органическому. Что здесь есть скачок, видно уж хотя бы из того, что до сих пор нам не удаётся искусственно воспроизвести живое вещество. Живое представляет целый ряд качественных особенностей, и в числе этих особенностей, как инобытие особенных (органических, материально-живых) свойств есть свойство «психического». Нет ни единого намёка в природной действительности, чтобы дать нам основание вменять психическую жизнь камням, кислороду, раскалённой солнечной массе, застывшей луне, падающему метеориту, бревну или стальной болванке. От неорганической природы к природе органической развитие идёт через диалектический скачок. Это не значит, как думают виталисты (о них у нас будет речь идти позднее, мы возьмёмся и за них!), что тем самым все живое не подлежит основным закономерностям природы. Но это значит, что отсюда начинаются новые свойства и общие закономерности природы проявляются здесь в специфической форме.
Некоторые мудрецы из ультра-позитивистов заключают, что мы вообще не можем говорить даже о сознании другого человека, и что здесь налицо суждение по аналогии, перенесение своего сознания на другого человека, сознания которого мы никак не чувствуем. Но как мы недавно заметили уже, есть аналогия и аналогия. Каждый час в любом акте сотрудничества и борьбы, в теоретической или практической работе, правильность этой «аналогии» подтверждается: мы предвидим действия человека, мы понимаем его «речевые реакции», мы поступаем сообразно этому, мы получаем соответствующий результат. То, что сознание «другого» не есть непосредственно «моё» сознание, нас крайне мало беспокоит: мы его познаем через объективное, вплоть до двигательных реакций, мимики, т. наз. «выражения лица» и проч. Но это говорит лишний раз о нераздельности «духа и тела»: это аргумент не за агностицизм дешёвого пошиба, а аргумент за диалектический материализм.
Возьмем другой исторический процесс, процесс одомашнивания, «приручения», животных: лошади, коровы, овцы, собаки и т. д. Разве вся практика (многотысячелетняя!) этого процесса и процесса использования этих животных не говорит нам об их психической жизни? Ведь, материализм её нисколько не отрицает, как полагают некоторые, а считает, что она есть инобытие «объективно-физиологических» процессов. (Зато сколько людей, мнящих себя материалистами, говорят: «это — нервное», а вот это — «чисто психическое», точно может быть психическое наряду с физиологическим, нервным! Или противопоставляют — ещё чище! физиологическое, или «физическое», «нервному»!).
Но revenons à nos moutons[206], на этот раз в буквальном смысле слова. Так вот, любой охотник знает, какая собака у него умнее, и понимает, что собака понимает его, охотника. Здесь, скажут, тоже аналогия. Совершенно верно. Только не такая аналогия (глупая!), которая приписывала бы совершенно антропоморфно собаке всю силу суждения человека. Но всё же аналогия. Однако, эта аналогия подтверждается гигантской, бесконечно длительной и бесконечно разнообразной практикой.
Весь исторический опыт человечества говорит за то, что явления сознания (в широком смысле слова, как психического) связаны с органической жизнью. О растениях — мы только строим гипотезу, что здесь может быть что-то инстинктоподобное; что объективно наблюдается, например, в гелио[207] — и геотропизме[208]. Мы имеем основание продолжать, качественно понижая тип психического, то, что мы наблюдаем и в чём твёрдо уверены, когда говорим обо всем животном мире. Но когда мы делаем скачок к неорганической природе и не делаем скачка в вопросе о свойствах её, то это противоречит всему нашему опыту. А положительных данных за сознание в неорганическом мире нет ровно никаких. Следовательно, нет основания даже для гилозоизма, но говоря уж о панпсихистских концепциях, которые некоторых подкупают своей «стройной простотой». Простота здесь, однако, поистине «хуже воровства». Логически налицо тут явное упрощение действительности, а не выражение действительной простоты. Здесь односторонне раздувается, преувеличивается, неправомерно обобщается — неисторически и антидиалектически одно из свойств действительности, универсализируется то, что реально существует лишь при определённых условиях. Вместо многообразия природы, которое развёртывается в её единстве, предлагается её несуществующее единообразие. Вместо скачкообразного развития и появления нового выступает сплошность с отрицанием и нового, и скачка в самом решающем пункте: Вместо исторического возникновения сознания предполагается его постоянство во всем и везде. На самом деле диалектика природы своим важнейшим моментом имеет как раз раздвоение на обладающую психикой органическую природу и на природу неорганическую — в этом и состоит исторический, реальный, объективный процесс раздвоения на противоположности; эти противоположности переходят одна в другую: неорганическое переходит в свою противоположность, в органическое; органическое переходит, распадаясь со смертью, в свою противоположность, в неорганическое; единство обоих моментов — природа в целом, которая мыслит через человека, в человеке, являющемся составной частью природы, и только так. Никто ещё не открыл чуда мышления без мозга. А между прочим, для наиболее восторженных сторонников гилозоизма характерно то, что они ищут, так сказать, высших типов психической жизни, и ищут их в «величественных» крупных «индивидуальностях», типа Солнца, звёзд, Космоса и т. д. Здесь гилозоизм переходит в гилозоистический пантеизм. Когда мы разбирали вопрос о художественно-эстетическом отношении к природе мы видели, что человек сопереживает ритмику природы, «живой природы». Но там же мы выяснили и относительность этой жизни и недопустимость отождествления и перерастания этого чувства вне суждения об универсальной одушевлённости. Между тем, ведь, совершенно правомерен столь чудовищный на первый взгляд вопрос, обращённый по адресу гилозоистов, скажем, солнцепоклонников: скажите же, однако, что функционирует в этом гигантском океане раскалённых жидкостей, газов, паров,— как мозг, нервная система или высшие формы этих органов? Вопрос — нелепый, абсурдный. Но он абсурден потому, что абсурдна вся гилозоистская позиция, хотя в ней много подкупающих черт субстанциальность материи, понимание всеобщности связей, Универсума, понимание целокупности всего и т. д. Это и даёт ей своеобразный тон чего-то интеллектуально-высокого. Однако, строгое мышление не может жить без суровой самокритики, и точка зрения гилозоистов — а тем более панпсихистов — должна быть отвергнута. Особой аргументации против панпсихистов развивать не стоит, ибо всякому понятно, что, если рушится гилозоизм, то тем самым рушится и панпсихизм.
Итак, мы имеем исторический ряд:
1) неорганическая природа;
2) скачок к органическому через generatio aequivoca;
3) простейшие формы органического с зародышевыми формами психического;
4) скачок к более сложным формам с ощущениями;
5) скачок к ещё более сложным формам с представлениями и т. д.;
6) скачок к общественному человеку с его мышлением.
Разумеется, все эти скачки — не исторический галоп: мы здесь хотим лишь ещё раз сделать ударение на диалектическом характере исторического процесса: наивностью является валить в один горшок, как выражаются немцы, и камни, и горы, и планеты, и электроны, и собак, и инфузорий, и людей.
У одного позабытого старого романиста, И. А. Кущевского, в романе «Николай Негорев или благополучный россиянин»[209], есть персонаж, который говорит весьма забавно на эту тему:
«Я думаю, земля тоже человек. Мы, может быть, живём на его пальце, и наши тысячелетия кажутся ему мгновением, терцией. Он согнёт палец, и у нас будет светопреставление, и всё разрушится. Он — этот великан — Земля, и не думает, что мы живём на его пальце и строим города: он не может видеть в свои увеличительные стекла таких маленьких животных, как мы. Этот великан, для которого наше тысячелетие один миг, тоже живёт среди других людей — таких-же великанов,— может быть, он теперь тоже учится в гимназии. Может быть, он читает теперь Марго[210], одна запятая в котором равняется пространству в тысячу раз большему всей Европы: иначе ведь он не мог бы видеть запятой. Он положил палец на страницу и хочет перевернуть листок. Тогда наш мир начался!!…»
И так далее. Это гимназическая фантазия, не без живости изображённая на нескольких страницах романа, очень напоминает гилозоистические теории. Признаться, многие из нас в юности предавались аналогичным размышлениям, ибо все думают о бесконечности миров и мира, как целого. Тут есть проблема, это проблема «мироздания»; и с открытием структуры атома она становится необыкновенно увлекательной! Но зачем же решать её по-гимназистски? Не пора ли понять, что человечество вместе с социализмом поступило теперь уже в университет, и что пора ему в этой Universitas rerum et artium[211] сбросить старые догмы, которые в гимназические времена были ещё туда-сюда, а теперь явным образом устарели, обветшали, отслужили своё время? Не пора ли понять, что смешно возвращаться ко временам ассиро-вавилонской астрологии и к амулетам, к халдейской магии, к божественным звёздным существам Платона, Аристотеля, стоиков и т. д. Не пора ли иллюзорные связи заменить связями действительными?..
Глава ⅩⅣ. Об индусской мистике в западноевропейской философии
Бегство от шума и грохота распадающейся капиталистической цивилизации, мёртвой вещности её машинной сухой культуры, вызывает среди части буржуазных философов и всего философского «сословия» тягу в сторону мистического примитивизма, хотя здесь наличествует сугубая утончённость. Особенно ярко проявляется в данной связи влияние китайской и индусской философии, взятой, однако, в её спиритуалистических и мистических течениях. От Гегеля идёт предрассудок, что Восток не дал ничего положительного ни для науки, ни для философии. У Гегеля здесь та же «белая» националистическая линия, которая заставляла его видеть в Пруссии и прусском государстве седалище Мирового Духа, в Александре Македонском — полубога, мстящего за греков, в Азии — пьяную чувственную вакханку — и только и т. п. Но кроме этой совершенно вздорной мысли, которая лишь оправдывает немецкое изречение, что «der Wunsch ist Vater des Gedankens»[212], которая позднее вошла в качестве одного из компонентов фашистской «арийско-расовой» идеологии и которая прямо противоречит объективной действительности, обычным является искусственное выделение спиритуалистических и мистических течений, опускание всего того, что хоть пахнет материализмом и извращение всей картины философского развития Востока. Здесь, следовательно, употребляется обычный приём фальсификации в истории философии, над чем у нас, в русской литературе, издевался ещё безвременно погибший Д. И. Писарев. В своей статье: «Идеализм Платона» он весьма едко писал:
«Излагая историю греческой философии, принято как-то относиться покровительственно к элеатской школе, к Гераклиту и Демокриту, к Пифагору и Анаксагору, потом с негодованием упомянуть о софистах, потом умилиться перед личностью и судьбою Сократа, поклониться в пояс Платону, его Демиургу и Идеям, назвать Аристотеля великим учеником его, часто несправедливым к великому учителю, потом разругать Эпикура, посмеяться над скептиками и выразить добродетельное сочувствие возвышенным доблестям стоиков.
Это принято, этого требуют интересы нравственности, которую так ревниво берегут многие псевдохудожники и многие действительные труженики на обширном… поле науки»[213].
Так замалчивается и пускается ко дну материализм. Так раздуваются всеми силами пузыри идеализма.. Немудрено, что в обстановке величайшей идейной сумятицы и переоценки всех ценностей, когда нередко буржуазный индивидуум в замешательстве становится «jenseits von Gut und Bösen»[214], тяга к душевному покою, утешению, бегству от бурной действительности находит своё выражение в погружении в буддийскую нирвану, которая, в противоположность dolce far niente беспечных лаццарони[215], имеет свой сложный философский коррелат, целую громадину весьма сублимированных мыслительных категорий, объединённых в своеобразные мистико-философские системы.
Если у официальных философов фашизма мистика имеет характер голоса крови и актуализма империалистских янычар, то у убегающих с поля битвы или запутавшихся и ищущих спасения во что бы то ни стало, эта мистика носит характер восточного руссоизма и в великих веках индусского мистицизма, в священном Ганге мистического созерцания, люди ищут душевного утешения. Струя индусского мистицизма (с известной опорой на Артура Шопенгауэра в западно-европейской философии) очень сильна, гл. обр., среди немецких философов. П. Эрнст, граф Кейзерлинг, Теодор Лессинг (убитый фашистами) с достаточной яркостью отражают этот процесс преклонения перед спиритуализмом Востока.
В связи с этим здесь небезынтересно поставить ряд разбираемых нами основных проблем философии ещё раз, и мы для наглядности возьмём работы Лессинга и в их критической, и в их позитивной части.
В своей книге «Europa und Asien»[216] Лессинг даёт разносную критику рационального познания вообще, и здесь любопытно, прежде всего, остановиться на его подробной критике «научной картины мира». Он даёт её на примере света. Вкратце его тезисы сводятся к следующему:
1. Первая ступень — познание семи цветов и их переходов. Это есть наука в первой плоскости (Wissenschaft in der vordersten Ebene).
2. Затем следует наука второго плана, «вторая действительность» — волны различной длины. Здесь налицо процесс «desqualificatio»; явления первой плоскости бледнеют, вместо цветов-красок выступают движения мыслительного субстрата.
3. Далее следует «ещё более строгая наука», происходит дальнейший процесс облысения жизни, появляется «третья действительность»: Максвелл и Фарадей учат, что за волнами света стоят электрические силы.
4. Останавливается ли дело на этом? Нет. За ними следуют энергетические процессы с чисто количественными определениями.
5. Кончается ли на этом процесс облысения и desqualificatio?
Нет!
Мир, лишённый света и блеска, чисто цифровой мир математической физики, превращается в мир атомов, пространства, времени, движения, «процесса вообще» (Vorgang überhaupt).
Атом рассматривается, как только доступная счету планетная система, регулируемая квантами, т. е. чистыми отношениями.
6. «Свет» «объяснён». Но что от него осталось? Полезная (gültige) формула.
Это «западно-европейская» калькулирующая наука убивает жизнь. Ей противостоит символическое знание Востока. Так утверждает проф. Лессинг.
Остановимся пока на этом. Здесь, как мы видим, нет ничего принципиально для нас нового, за исключением, быть может, ясности и систематичности изложения. Но по существу мы уже ответили на возражения автора. Ибо, в самом деле:
Во-первых, его критика имеет смысл лишь, как критика как раз «физического идеализма», у которого субстанцией мира оказывается математическая формула, то есть символ. Но, ведь, вольно же автору так интерпретировать «научную картину мира»! На самом деле «формула» отражает объективную реальность.
Она не есть субстанция, она есть формула субстанции, её отражение, её картина. А это отнюдь не одно и то же.
Во-вторых, Вопреки Лессингу, здесь вовсе нет разных «действительностей»: первой, второй, третьей,.. шестой (и, прибавим от себя, n‑ной «плоскости»), ибо это одна и та же действительность: первая «плоскость», это действительность, взятая в её соотношении с субъектом; вторая и все последующие, это — та же действительность, взятая в соотношениях различных её моментов — более общих и менее общих. И электроны принципиально дробимы. Но эти ещё не открытые компоненты электронов отнюдь не уничтожают электронов, как электроны не уничтожают атомов, как атомы не уничтожают молекул, как молекулы не уничтожают земли, как планеты и солнце не уничтожают солнечной системы, как последняя не уничтожает более крупных звёздных систем и т. д. Одно существует в другом, переходит в другое: здесь многообразие связей единой действительности, а не многообразие действительностей.
В-третьих. Вопреки Лессингу, здесь нет и речи — при диалектическом понимании процесса познания — об уничтожении качественных моментов, ибо налицо и качественные особенности элементов и качественные характеристики многообразных связей и отношений. Это тем более, что если идти вверх, от электронов, атомов и т. д., то мы имеем и живую материю, органический мир, с выходом за пределы физики и химии. А объект в соотношении с субъектом даёт и блеск, и цвета и прочее, что входит в общую картину Космоса, включающего и субъекта, как мы это подробно выяснили в главе о познаваемости «вещей в себе», критику кантианскую концепцию этих «вещей в себе». Таким образом, идеалистическая критика Лессинга правомерна только против идеализма вообще, «физического идеализма» всех оттенков — в частности и в особенности. Но она ни на йоту не задевает позиций диалектического материализма, о коих почтенный философ, впрочем, не имеет ни малейшего представления.
Вместе с этим падают и все дальнейшие рассуждения автора, которые у него концентрируются в следующих двух принципиальных положениях:
1. Мы переживаем только образ (brahma-vidya Индии)…
Мы теряем жизнь в тот момент, когда мы, отчуждая и уходя, «объективно познаем»…
2. Вживание (непосредственное вживание) в растущий, производящий, грезящий образ необходимо резко отличать от суждений и оценок сознания. С этим последним мы уходим за природу (hinter die Natur), и в этом смысле физика и психология есть уход за природу (ein Hinter die Natur — Kommen). «По отношению — непосредственному чувственному миру физика является, следовательно, метафизикой».
И Лессинг безбоязненно формирует следующий парадокс:
«Это звучит дико (widersinnig), но это абсолютно справедливо, что в глубину природы проникает только тот, кто остаётся на поверхности её явлений. Никогда не естествоиспытатель! Никогда психолог! Никогда физик! Никогда математик! И т. д. Наоборот, тот, кто считает солнце за подвешенный на тверди блестящий круг размером в пятиалтынный, тот и переживает эту глубину».
Так прямо и говорится! (То же у Кейзерлинга в Reisetagebuch eines Philosophen[217]). Немузыкальные натуры, нетворческие, с их арифметизацией, опонятливанием мира, его logificatio (ологичиванием) убивают жизнь. Непосредственное становится под сомнение. Между человеком и природой образуется средоточение микроскопов и телескопов, камеры обскуры; человек становится протезным человеком. И т. д. и т. п.
Все эти — иногда остроумные — рассуждения, по существу убоги. Если своей научной аппаратурой человек удлиняет и расширяет органы своих чувств, то он, по Лессингу, уходит от природы, и здесь происходит де процесс Entnatürlichung. Но с этой точки зрения собака и инфузория лучше знает природу, чем человек.
В чём же дело? Как можно нести такой вздор? И какое рациональное зерно есть в этом вздоре (ибо никогда не бывает абсолютного вздора)?
Разберёмся.
Лессинг выставляет такой тезис:
«Человеческое чувство мощи (Machtgefühl) растёт. Но человеческое чувство бытия (Seinsgefühl) исчезает».
Однако, чувство мощи опирается на реально возрастающую мощь, а как же возможна эта мощь вне реального познания, т. е. проникновения в глубину природы? Можно сколько угодно издеваться над беконовским положением, что мощь связана с познанием, но эта связь есть реальная связь. И тут у мистиков явная двойственность: с одной стороны, они как будто признают, что какой-то действительностью по-своему человек действительно овладевает, но что это Федот да не тот; с другой — они утверждают, что научная картина мира есть только голая формула, уводящая за природу. Но если бы она уводила за природу, т. е. если бы она объявлялась субстанцией мира, то откуда бы появлялась эта мощь и соответствующее «чувство мощи»? Очевидно, что вся концепция трещит по всем швам.
Но что же скрывается за всем этим? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны обратить внимание на следующие рассуждения нашего философа.
«Солнце есть именно то, что оно есть. Переживай (lebe) его, и ты его знаешь. Природа не лжёт. Что ещё за дело, что действительность знания даёт мне совсем другое солнце, чем его может видеть глаз, чем его может чувствовать чувство. Это солнце науки, конечно, действительно. Но он может быть только мыслимо… Я же придерживаюсь пережитого (das gelebte)».
Здесь открывается явным образом двойная «действительность»… «действительность никогда не является без моего поведения (Verhalten). Она одна, когда я деятелен (tuend); другая, когда я пассивен (dildend mich verhalte). Логически-этическая ориентация опосредствует для меня другую действительность, чем эстетическо-религиозная.
Европа относится (к объекту. Автор.) волевым образом (wollend). Азия — созерцательно (schauend). Европа противостоит (природе Автор.) деятельно. Азия бездеятельно стоит в ней». Европейский человек активно преобразует её, преодолевая её сопротивление. Азиатский — ритмически дышит и созерцает пассивно, как растение, животное, дитя.
Так утверждает Лессинг. Мы оставляем без подробного опровержения эту абсолютизацию отличий между Европой и Азией: достаточно указать на то, что никакие анахореты, мистики, философы вообще и браманского и буддийского, и всякого другого толка не могли бы существовать и в Индии, если бы в той же Индии не было людей, которые бы работали на них, т. е. активно относились бы к природе и так или иначе её рационально познавали. Правда, Лессинг в восторге от положения китайского мудреца Конфуция, по которому в огне не сгоришь, если любишь огонь, в воде не потонешь, если любишь воду, не будешь растерзан львом, если любишь льва; по которому для предупреждения и ликвидации пожара лучше слушаться родителей, чем строить водокачку против этого пожара. Но, как ни возвышенна такая всеприродная любовь, действительные связи и соотношения идут мимо этих иллюзий, и в Азии люди работали, обливаясь потом и кровью: им некогда было впадать в нирвану и в чистое созерцание. Однако, у философов-мистиков (а не у азиатского человека «вообще») созерцание было фактом. Но что же отсюда следует? Была ли здесь, как утверждает Лессинг, другая действительность? Конечно, нет. Было другое восприятие, другое отражение действительности и, поскольку речь идёт о мистическом пассивном созерцании, это «отражение» — не интеллектуального типа. Здесь, следовательно, речь идёт вовсе не о познании, а о другом типе отношения, т. е. не о познавательном отражении, хотя познавательные моменты и не исключены целиком, ибо жизнедеятельность целостна, и даже в мистике есть фактически рациональные моменты, которые могут сидеть в её порах, в особенности когда этот мистический «опыт» (sit venia verbo[218]) подвергается логической обработке (а без этого не обходится ни одна «система»). В особенности нужно отметить тот момент, что в индусских спиритуалистических системах субъект активно относится к самому себе: это есть великий тренаж воли: упражнения с дыханием, пульсом, управление своими органами и т. д. Отсюда и ряд положительных результатов в области физиологии, психологии, гипноза. Но — это особый вопрос. По существу, здесь нет ровно ничего мистического.
Что же касается отношения к природе и её мистического созерцания, то, конечно, пассивное созерцание даёт другую «картину мира», вернее, другое ощущение мира. Это идет по линии, которую мы назвали сферой сопереживания природы. Никакого познавательного преимущества это сопереживание не имеет. Его мистико-религиозная форма не даёт никаких познавательных результатов: поэтому здесь нет и возрастания знания и мощи человека над природой. Если Лессинг восхищается анимизмом, натуральными богами, демонологией и прочим, то это социоморфные формы примитивного познания, корни которого ясны, как божий день. Чему же здесь завидовать?
Но рациональное зерно во всей этой мистике заключается в тоске обездушенного капиталистического человека по природе. Запертый в каменных гробах, урбанистический неврастеник, лишённый солнца, леса, воды, воздуха, раздавленный гулом машин, превращённый в винтик гигантского механизма, тоскует по солнечному лучу, по свету, зелени, журчанью ручья. Он ущербен. Он искалечен. Его биологическая природа протестует против отрыва от всеприродной связи. Это есть проблема, которую решает социализм. Но это не есть проблема познания. Это есть проблема жизненного устройства. Это не есть проблема более высокого типа проникновения в тайны природы. Это есть проблема большей полноты жизни. Требование сопереживания природы, то есть наслаждения природой, близости к ней, связи с ней, эстетического любования ею есть правомерное требование и правомерный протест против уродства односторонне-городской и калечащей человека капиталистической культуры. Но точно так же, как отсюда не следует отказа от машин и теоретического естествознания, точно так же отсюда не следует и отказа от рационального познания вообще. Социалистический человек будет наслаждаться природой и ощущать её теплое дыхание. Но он не превратится в дикаря-анимиста. И поэтические метафоры отнюдь не станут у него заменять рациональное познание, развивающееся вместе с практической мощью его технических орудий. Это рациональное познание отнюдь не уводит за природу: наоборот, оно позволяет всё глубже и глубже проникать в её тайны. Но, конечно, никакой микроскоп не может заменить биологического наслаждения горным воздухом или сиянием утренней зари. Наука имеет тоже свою эстетику. Но ни сама наука, ни научная эстетика не могут заменить биологической потребности в непосредственном общении с природой, как познание не может заменить собой еды, питья, эротической жизни. Лишение человека сексуальных наслаждений было бы калечением человека. Но из этого не вытекало бы, что сексуальный восторг заменяет интеллектуальное познание, и что эротическое самозабвение и экстаз есть высшая форма познания, более глубокая, чем рациональное познание вообще А между тем, аргументация Лессинга и других весьма похожа именно на это. Самооскопление было бы тоже убиением жизни, как и отъединение от природы есть убиение жизненной полноты, то есть частичное убиение жизни. Но это не имеет отношения к вопросу о типе познания. Можно даже сказать, что приближение к природе, повышение общего тонуса жизни, оздоровление человечества, приведёт к ещё большему расцвету рационального познания и к уничтожению мистики, более того, к уничтожению и преодолению всякого и всяческого идеализма, который падёт вместе с падением своей социальной основы, вместе с разделением труда на умственный и физический, городской и деревенский, командующий и исполнительский. А вместе с тем падёт и противоположность между «Европой» и «Азией».
Глава ⅩⅤ. О так называемой философии тождества
Фихте, Шеллинг и Гегель, которые в истории западноевропейской философии стоят рядом, пытались решить коренной вопрос философии об отношении мышления и бытия с точки зрения тождества (Identität). Однако, не говоря уже о своеобразном субъективном идеализме Фихте, и Шеллинг, и Гегель с полным правом зачисляются по ведомству идеализма. Следовательно, здесь тождество не есть тождество, ибо в формуле А = А второе А может быть переставлено на место первого и наоборот: они будут совпадать точно также, как и раньше, ибо это действительно тождественные элементы. Формула инобытия не есть формула тождества: ибо совсем не одно и то же сказать дух есть инобытие материи или материя есть инобытие духа. Инобытие есть особое свойство, есть особый тип действительной связи, где тождество есть не только тождество, а где примат сохраняется за определённым членом уравнения тождества; собственно здесь не идёт речь даже о А = А, а о формуле А = инобытию В, что далеко не одно и то же. У Фихте Я является принципом всей системы. Это — не эмпирическое, не индивидуальное, не конкретное и качественно определённое в своей индивидуальности, особенности и отдельности я, а Я с большой буквы, т. е. общее, или так называемое «чистое сознание», или иначе трансцендентальное единство самосознания с его необходимыми формами или актами. Его первоначальный акт есть воля. Это абстрактное Я полагает самого себя, различает противоположности и объединяет их. Другими словами: здесь основная философская проблема упрятана в Я, как в мешок. «Всё, что есть и происходит в Я и через него», чем подчёркивается деятельная, активная, сторона процесса. Но отсюда вытекает, как будто бы следующее: если Я = Всё, то Всё = Я. Однако, перевернув формулу, мы сразу же натыкаемся на затруднение, которое было отмечено Гегелем ещё в ту пору, когда он выступил в союзе с Шеллингом. А именно, Гегель отмечает (Hegels Weske, В.1: О различии между системами философии Фихте и Шеллинга), что фихтевское тождество — тождество особого рода, а именно: у Фихте Я есть одновременно и субъект, и объект, то есть «субъект-объект», но этот субъект-объект есть субъективный «субъект-объект». А это и значит, по существу, что здесь есть лишь видимость тождества, что проблема не решена, а воспроизводится в новой форме.
Гегель недурно описывает это фихтеанское Я:
«Это чудовищное высокомерие, это безумие самомнения Я, которое при мысли, что оно составляет одно целое со вселенной, что в нём действует вечная природа, ужасается, испытывает отвращение и впадает в тоску; эта склонность ужасаться, скорбеть и испытывать отвращение при мысли о вечных законах природы и их подчинении их священной строгой необходимости; это отчаяние при мысли, что нет свободы, свободы от вечных законов природы и их строгой необходимости; склонности считать себя неописуемо несчастными вследствие необходимости этого повиновения, — все эти чувства предполагают вообще лишённую всякого разума самую обыденную точку зрения»[219].
Я Фихте, по Гегелю, относится к вещам, как пустой кошёлек к деньгам.
Итак, у Фихте «субъект-объект» субъективен. Как же решает задачу Шеллинг?
У Шеллинга исходным пунктом является Абсолютное (недифференцированное тождество, абсолютное тождество), познаваемое лишь интуицией. Это есть первичная сущность, «полная индифференция субъективного и объективного». Дальше идут ступени развития. Действительный мир, как бесконечный мир единичных вещей, распадается на два ряда, реальный (природа), идеальный (дух): при этом природа приводит к разуму, разум к природе, а вселенная есть тождество того и другого:
«Нет двух различных миров; есть лишь один и тот же мир, в котором заключается всё, также и то, что в обыкновенном сознании противополагается, как природа и дух»[220] (Ueber den wahren Begriff der Naturfilosophie).
Но, во-первых, тут возникает дуализм Абсолютного и мира, не различённого тождества и тождества дифференцированного. Во-вторых, субъект-объект преподносится так, что сам субъект объективируется, но его соотношение с объектом и, следовательно, распадение остаётся. С другой стороны, словесно прокламируемое тождество на самом деле не есть тождество, ибо природа есть лишь инобытие Духа: во «Всеобщей дедукции динамического процесса» Шеллинг, как мы видели уже, писал:
«Все качества суть ощущения, все тела — воззрения природы, сама же природа вместе со своими ощущениями и воззрениями является, так сказать, оцепеневшим мышлением»[221].
Постоянный, неизменный дух породил природу, и развитие природы есть пробуждение от сна этого Духа. Природа есть, таким образом, инобытие Мирового Духа.
У Гегеля уничтожается шеллингианское противоречие между недифференцированым Абсолютным и миром, ибо, по Гегелю, История Абсолютного Духа и есть история мира. Однако, не дух есть инобытие мира на определённой стадии развития, а, наоборот, мир есть инобытие Духа, его определённая инобытийная ступень.
Таким образом, «философия тождества» на самом деле не есть философия тождества.
У Фихте всё переносится в «Я», и в этом абстрактном «Я», которое и есть идеалистический исходный пункт, разыгрывается и божественная, и человеческая комедия.
У Шеллинга Абсолютное движение, но Дух порождает природу.
У Гегеля поступь Мирового Духа природу имеет лишь своим инобытием. В «Феноменологии Духа» он пишет:
«Разум есть убеждение сознания в том, что оно составляет всю реальность; так высказывает идеализм своё понятие»[222].
Абсолютный Дух проходит по Гегелю, три стадии: логической идеи — первая стадия, природы — вторая стадия, и Абсолютного Духа — третья стадия. В логике «идея» движется в отвлечённой сфере мышления, в природе та же идея проявляется уже в другой, противоположной форме, не в форме чистых логических понятий, а в сфере чувственных предметов. Само развитие природы не есть развитие в обычно понимаемом смысле, а есть лишь инобытийное отражение логического развития понятий, развития, которое в своём диалектическом движении раскрывает заложенные в понятии возможности.
Таким образом, при ближайшем рассмотрении, тождество есть здесь вербалистическое[223], чисто словесное тождество.
Никто не оспаривал и не оспаривает того, что философия Шеллинга насквозь мистична. Но и так называемый гегелевский панлогизм не есть, в сущности, «сухой» панлогизм, ибо, как мы мимоходом отмечали выше, у него весьма много чисто-мистических моментов. Вообще нужно заметить, что Гегель унаследовал от Шеллинга гораздо больше, чем это обыкновенно думают: в том, что его философия содержит «в снятом виде» громадное количество «чужих» элементов (Платон, Аристотель, Спиноза, Шеллинг и т. д.) никак не приходится сомневаться: это видно всякому, кто изучал великого идеалиста. Что в начальных фазисах развития Гегеля, когда он выступал вместе с Шеллингом, для него шеллингианская мистика была вполне приемлема, общеизвестно. Известно его философское proffesion de foi[224], изложенное в стихотворении «Элевзис».
Der Sinn verliert sich in dem Anschaun, Was mein ich nannte schwindet, Ich gebe mich dem Unermeslichen dahin, Ich bin in ihm, bin alles, bin nur es. … Dem Sinne nähert Phantasie das Ewige Vermählt es mit Gestalt… Разум теряется в созерцании, То, что я называл моим, исчезает; Я отдаюсь Безмерному, В нём я, я Всё, только это. Уму приближает фантазия Вечное, Его сочетая с образом…[225]Здесь заключается целая программа. Созерцание стоит выше рационального познания: в самых высоких формах отношения к миру разум угасает и растворяется, как и «я». «Вечное» делается близким уму через интуицию, фантазию…
Розенкранц приводит одно интересное место из раннего Гегеля:
«Разумная жизнь выбирает из частных форм, из смертного, преходящего, бесконечно противоположного, борющегося, свободное от исчезания отношение, не заключающее в себе мёртвых (здесь, следовательно, мёртвое = подвижному!), убивающих друг друга элементов сложности (sic! Авт.), не единство, не мыслимое отношение, но всеживую, всесильную, бесконечную жизнь и называет это богом»[226].
«Если человек полагает бесконечную жизнь, как дух целого, также вне себя, ибо сам он ограниченное существо, если он полагает самого себя также вне себя, ограниченного существа, и возносится к живому, теснейшим образом соединяется с ним, то он поклоняется богу»[227].
Далее у него появляется, так сказать, логизированный бог, который потерял многие красивые побрякушки. Но, нам кажется, что здесь мистика не уничтожается, а становится своеобразной, опосредствованной логикой и мышлением, мистикой. Гегель был великим ненавистником всяких наивностей и необычайно ценил культуру мышления. Однако, вся его гигантская философская машина заведена, в конце концов, для того, чтобы успокоится у тихой гавани Абсолютного Духа; «идею» он для того и заставляет сбрасывать различные костюмы, чтобы post factum утвердить мистическое царство. Он хочет доказать и оправдать мистику, уничтожив её животно-дикарско-детскую форму и переведёт её в высший класс. Поэтому во всех его работах, в самом стиле, в самом изложении, мы находим массу оборотов, которые на первый взгляд кажутся только художественно-поэтическими метафорами, а на самом деле имеют не только этот, но и другой, более «глубокий» смысл. Когда мы говорим о мистике, мы, разумеется, говорим не только о боге: что Мировой Дух, Бог, Разум и т. д. играют огромнейшую роль в грандиозной Гегелевой системе, это настолько общеизвестно, что доказывать сие, значило бы ломиться в открытую дверь: речь идёт и о соотношении с этим богом, о характере соотношения. Сам Гегель в «Феноменологии», говоря о религии, таким образом определяет мистику.
«Мистический элемент состоит не в сокровенности тайны или в незнании, а в том, что самость знает своё единство с сущностью, и эта последняя таким образом обнаруживается. Только самость открывается себе, или то, что открывается себе, достигает этого только в непосредственной достоверности себя»[228].
Религия и философия имеют одно и то же содержание, но это содержание в религии выражено в форме представления, а в философии — в форме понятия, и здесь — наивысшая ступень формы сознания, о которой говорит «Феноменология».
Единство с «сущностью» есть единство с богом. Эта мистика «в понятиях» формулируется гегелевской философией, где мистика в узком смысле слова должна быть в «снятом виде»; но так как даётся изображение всего движения в целом, то она проступает в ходе изложения необычайно часто и откровенно.
В «Философии Природы», например, по отношению к неорганической природе, стихиям её, планетам и т. д. употребляются категории напряжения, мучения, отвращения, стремления и т. д. в духе Якова Беме («Мучение материи»)[229], о котором в соответствующем томе своей «Истории Философии» Гегель отзывается в общем весьма положительно, или в духе Парацельса, у которого природа имеет столько стихий, сколько насчитывается главных добродетелей. Мы видим, что «сохранение зерна в земле… есть мистическое, магическое действие»… Но в той же «Философии Природы» солнце является инобытием зрения, вода — инобытием вкуса, воздух инобытием обоняния. Здесь чувственное начало, идея и природа соединены на совершенно чудовищный манер. Объективизм философской идеалистической системы Гегеля переходит в явный субъективизм.
Таким образом, «философия тождества», которая на самом деле, как мы видели, отнюдь не есть «философия тождества» и совершенно напрасно носит это наименование, в своих противоположных вариантах (фихтеанском — с одной стороны и гегельянском — с другой) не так уж различна. Солипсисты типа Беркли — Юма отодрали сознание от живой целостности эмпирической личности. Это отодранное сознание Фихте обобщил, превратив его во всеобщее «Я». Гегель объективировал его, превратив в «Дух». Если Гегель весьма справедливо и в художественно яркой форме высмеивает «Я» Фихте, как проявление «чудовищного высокомерия» и «безумного самомнения», то, ведь, этот же самый упрёк по существу можно сделать и всей гегелевской системе. И здесь, в конце -то концов, речь идёт о том же. Бесконечное разнообразие бесконечного мира, в котором неорганическая природа «порождает» органическую природу, составляющую её малую часть, а органическая природа порождает мыслящего человека, являющегося частью этой органической природы, заменяется космическим Духом, в ранг коего возводится человеческое сознание под различными псевдонимами.
Гегель очень метко возражает против наивных форм мистики. Обсуждая, например, вопрос о расколотом «несчастном сознании», которое мечется между потусторонним и посюсторонним миром, и стремится соединиться с потусторонним миром, он замечает: это стремление есть его «чистое сознание, но не чистое мышление, так как оно, так сказать, лишь пытается мыслить и сводится к благоговейному настроению. Его мышление, как таковое, остаётся беспорядочным шумом колокольного звона или тёплым туманным явлением, музыкальным мышлением (очень хорошо! Автор.), не вырабатывающим понятия, которое было бы имманентным предметным образом». Это — «чистое волнение». И т. д.
А выход? Выход в «Разуме», в котором топится всё, и это всеобщий потоп есть якобы преодоление дуализма на основе тождества. На деле это значит, что человеческий разум имеет своим инобытием солнце, луну, звезды, млечный путь, всю Вселенную, весь Космос. В некоторых вопросах это облегчает задачу: если, например, вещи — те же идеи, то проблема познания в конце концов сугубо упрощается и трудности как будто исчезают. Но это исчезновение трудностей покупается ценою гигантского извращения действительных соотношений. Система гегелевской философии в своём основном ядре ближе к религии, чем к науке. И несмотря на это гегелевская диалектика является великой сокровищницей мысли. Не нужно только забывать, что она приемлема для нас в своей материалистической форме. Это, однако, значит, что невозможно просто ограничиться тем, чтобы приставить к ней, так сказать, другой математический знак. Форма — содержательна; это гегелевское положение вполне правильно. Отсюда вытекает сугубо критическое отношение к величайшему философу буржуазии. «Материалистически читать» Гегеля, как рекомендовал Ленин, значит переделывать его, систематически исправлять на основе всей совокупности знаний, которые даёт нам гигантски возросшая современная наука.
Сам Гегель с необыкновенной ясностью формулировал во множестве мест связь своего объективного идеализма с религией. Так, например, в «Науке Логики» (Wissenschaft der Logik, Werke В. V.) он пишет:
«Неправильно было бы думать, что сначала нам даны предметы, которые составляют содержание наших представлений, и что мы присоединяем к ним нашу субъективную деятельность, именно отвлекаем и схватываем их общие признаки и так образуем понятия. Понятия существуют прежде предметов, и предметы обязаны всеми своими качествами тому понятию, которое живёт и обнаруживается в них. Религия признает то же самое, когда она учит, что бог создал мир из ничего, или, другими словами, что мир и все вещи произошли из одного общего источника, из полноты божественных мыслей и предначертаний. Это значит, что мысль, или, точнее, понятие, есть бесконечная форма, или свободная творческая деятельность, которая осуществляет своё содержание, не нуждаясь во внешнем материале»[230].
Это место из «Большой Логики» великолепно поясняет положение «Феноменологии Духа», где Гегель говорит, что религия и философия имеют одно и то же содержание, но то, что религия схватывает в представлении, философия схватывает в понятии. И там, и здесь выражается одно и то же: это фазы движения того же идеального начала, которое есть идея, дух, бог. Здесь во всей полноте вскрываются, во-первых, что философия тождества не есть философия тождества и, во-вторых, что развитие идеализма неизбежно приводит его к религии. В этом смысле движение идеализма от субъективного к объективному внутренне противоречиво: ибо, чем объективнее становится идеализм, тем ближе он «кувырком» как говорил Ленин, подходит к материализму, и в то же время тем дальше отходит он от него, прямо смыкаясь с религией.
В высшей степени интересен исходный пункт гегелевской «Логики». Известно, что логика у Гегеля есть в то же время онтология. И вот Гегель ставит проблему: с чего начать; и отвечает на этот вопрос следующим образом:
«Налицо существует… решение, которое можно считать также произволом, решение, что мы желаем рассматривать мышление, как таковое. Таким образом начало должно быть абсолютным или… абстрактным началом; оно должно ничего не предполагать, должно быть ничем неопосредствованным и не иметь основания; скорее оно само должно быть основанием всей науки. Поэтому оно должно быть абсолютно непосредственным или скорее лишь самою непосредственностью вообще. Оно не может иметь никакого определения в отношении к другому, и в такой же мере не может заключать отношения определения и в себе, не может иметь никакого содержания, так как это содержание было бы различением и отношением различного друг к другу, следовательно, посредством. Итак начало есть „чистое бытие“»[231].
Из этой тирады вытекает: 1) что в наличности имеется «решение», при том произвольное решение; 2) содержанием науки является мышление; 3) рассмотрение этого мышления начинается с чистого бытия; 4) между мышлением, как таковым и бытием ставится знак равенства (точнее тождества); 5) мышлению принадлежит приоритет.
Все это вполне увязывается с «системой». Но где хоть тень обоснования исходной позиции, т. е. идеалистической позиции? Её нет и в помине: наоборот, Гегель настаивает, что начало должно быть непосредственным. Можно, конечно, как делает это Куно Фишер в своей «Истории Новой Философии»[232] (т. Ⅷ: Гегель, его жизнь, сочинения и учение), считать, что это непосредственное само возникло, и что оно опосредствовано всей «Феноменологией Духа». Но на это можно справедливо возразить, а почему же начинать надо было с феноменологии Духа? Ясно, что философия не может возникнуть до всякого знания вообще. Она, следовательно, обречена на то, чтобы опираться на «положительную науку». Но где же в этой науке основание для того, чтобы a limine отвергнуть материалистическую точку зрения?
Вот почему Марксу пришлось, взяв революционную сторону Гегелева метода, отвергнув и разгромив его идеалистическую систему, создавать свою материалистическую, диалектику, в которой Гегелева диалектика имеется лишь в «снятом виде». Марксова диалектика есть снятие гегелевской диалектики (её сохранение, отрицание, возведение на высшую ступень, Aufhebung[233], содержащее conservare, negare, elevare, ибо Марксова философия есть диалектический материализм: материализм — против идеализма всех видов, диалектический против «глупого» (Ленин), «вульгарного», механистического материализма, который должен быть точно так же преодолён как и «умный» гегелевский идеализм.
Глава ⅩⅥ. О грехах механического материализма
История материализма должна быть ещё написана. Большая заслуга Плеханова заключается, между прочим, в том, что он опрокинул многие искажения, которым подвергся материализм со стороны своих идеалистических противников (например, Ф. А. Ланге, кантианца), — таковы его «Beiträge zur Geschichte des Materialismus»[234]. Как злобствовал идеализм, даже в лице его самых высоких, авторитетных и гениальных представителей, видно на примере Гегеля. Он отделывается от Левкиппа, Демокрита; он вытравляет все материалистические элементы у гиганта древнегреческой мысли, Аристотеля. Он ругательски ругает Эпикура, мыслителя, который за 2 тысячи с лишком лет до нашего времени защищал атомистическую теорию, предугадал движение атомов по кривым, построил гипотезу об излучении мельчайших частиц, создал за три века до так называемой нашей эры локковское учение о первичных и вторичных качествах, изгнав из философии всякую телеологию и по словам самого Гегеля, «открыл эмпирическое естествознание, эмпирическую психологию». Тот же Гегель пренебрежительно похлопывает по плечу всех их материалистов ⅩⅧ века, похваливая их больше за французское остроумие и защищая их революционное просветительство от слишком вульгарных нападок (порядки-де мол были во Франции невыносимо-свинские!). Характерно то, что во всех этих нападках Гегель берет под обстрел не столько антидиалектичность старого материала, сколько именно его материализм: «плоско», «банально», «тривиально», «пусто», «скудно», «не-мысли», «отсутствие мыслей», «скука» и т. д.,— вот характерные отзывы Гегеля о материалистах: все они не доросли до «спекулятивной» мысли, до «высшей» мысли etc. Но зато какой почёт и сколько страниц отводится Якову Беме, совершенно дурацкому мистику и юродивому. Нечего и говорить, что для своего времени Демокрит, Эпикур, Лукреций Кар были крупнейшими философами; что настоящий, а не средневековый схоластизированный, Аристотель часто вплотную подходил к материализму; что в Англии Гоббс и Бэкон были крупнейшими мыслителями; что плеяда энциклопедистов в истории мысли останется навсегда, как сверкающее созвездие. Много ниже их стоит «вульгарный материализм» Бюхнера — Молешотта: не даром Энгельс обозначал их «болванами» по сравнению с идеалистом Гегелем, да и Ленин предпочитал (логически) умных идеалистов глупым материалистам (см. «Философские тетрадки»). Но, ради исторической справедливости, вспомним, какую роль сыграл даже этот вульгарный материализм в Германии, и у нас, в России: недаром в «Отцах и детях» фигурирует «Kraft und Stoff»[235], недаром такие люди, как Д. И. Писарев, были восторженными почитателями и пропагандистами бюхнеровского материализма, недаром под его влиянием находились такие огромные умы, как Сеченов, автор «Рефлексов головного мозга»[236], который проложил дорогу одному из корифеев русской науки, И. П. Павлову и положил начало т. н. «русской физиологической школе». Да и сам Ленин утверждает, что марксисты критиковали Маха — Авенариуса по-бюхнеровски…
Но, разумеется, было бы глупой ограниченностью не видеть ограниченность всего старого материализма; который в целом (несмотря на крупные различия его разнообразных течений), был все же механическим материализмом. Его ограниченность и его недостатки были вскрыты с исчерпывающей полнотой Марксом и Энгельсом именно потому, что они прочно объединили материализм с диалектикой, создав диалектический материализм.
Чрезвычайно полезно ещё раз остановиться на этом вопросе, хотя бы суммарно и коротко: это потому, что наиболее сложные проблемы современной науки и философии невозможно решить с точки зрения механического материализма, и он только питает идеалистические течения, вроде так называемой «идеалистической физики» и витализма в биологии, не говоря уже об их философской покрышке.
Старый материализм был антидиалектичен: этим, в сущности, сказано всё. Но сие подлежит развитию.
Здесь, прежде всего, выдвигается проблема количества-качества. Механический материализм носил ярко выраженный количественный характер. Бескачественный атом, тождество атомов. Их количество и количественные определённости (число, скорости и т. д.) лежат в основе всего. Закономерности движения их суть закономерности механического движения, то есть простого перемещения в пространстве. Сами неделимые, являющиеся кирпичами мироздания, неизменны. Их различные количества дают чувственное разнообразие вещей для субъекта. Качество есть, таким образом, вообще скорее субъективная категория. Задача познания — свести качественные разнообразия к истинным, т. е. количественным соотношениям. Единственным типом связи является механическая причинность, всё остальное должно быть отброшено. Качественная целостность это сумма своих частей (или нечто вроде этого), подлежит разложению и должна быть выражена в количественной формуле. И т. д.
Нетрудно видеть, что здесь был настоящий пафос механо-математической окраски. В благородном стремлении изгнать теологию и телеологию из царства науки и философии, этот материализм крайне упрощал действительность, вытягивая его по струнке голой механики. Исторически, в известное время, в этом напоре была глубоко прогрессивная черта; но она быстро превратилась в свою диалектическую противоположность, создав непреодолимые затруднения для движения познания вперёд.
Уже в самых «предельных» понятиях механического материализма видна его ограниченность. Его бескачественный и неизменный атом, «неделимое» в действительности оказывается качественной, делимой и подвижной величиной. Атомы различны по своим качественным свойствам: атом водорода — не то, что атом кислорода и обладает целым рядом специфических, особых свойств и «ведёт» себя в соотношении с другими совсем иначе, чем атом кислорода. Следовательно, уже в этом исходном пункте виден порок бескачественности. Гегель обнаружил своё отрицательное «качество», когда, как идеалист, протестовал в разных местах своих трудов, протестовал упорно, настойчиво и с руганью, против самого понятия атомов, считая их пустяковой иллюзией. Современные идеалисты и агностики, ещё недавно отрицавшие атом или считавшие его только «символом», «моделью» и т. д., посрамлены в этом пункте совместно с Гегелем. Но, как диалектик, Гегель оказался целиком прав, утверждая невозможность неделимости, неизменности, бескачественности. Механический материализм все качественное стремился перевести в субъективное (хотя и непоследовательно!) и, во всяком случае, растворить качественное в количественном. Между тем качественное многообразие есть объективная категория, качество есть качество бытия, оно ему имманентно так же, как и количество, с переходом одного в другое. Из этой ограниченности проистекала трактовка всего органического, живого, и мыслящего живого по типу механического, к которому оно «сводилось» (проблема так называемой «редукции»): «l’homme machine»[237] — есть символическое обозначение означенной тенденции. Переход от физики к химии, от химии к биологии, от биологии к социологии и т. д. с применением категории меры, т. е. скачка к новому качеству, к новой целокупности, к новому типу движения, к новой закономерности; всё это оказывалось недоступным механическому материализму.
Всякое целое, совокупность, «Totalität», он имел тенденцию рассматривать, как механический агрегат, который отличается от любого другого агрегата числом и пространственным положением составляющих его атомов. При этом упускалось из виду, что на самом деле целое не есть агрегат, и не равняется куче своих составных частей, его сумме. Даже солнечная система не есть сумма тел, а при наличии особого типа связи, специфическое единство. В живом, органическом, теле разъединение его на части превращает это целое в труп, и ещё Аристотель прекрасно выяснил этот вопрос, хотя и подвёл его под крышу идеалистической «энтелехии» (об этом позднее). В органическом мире, следовательно, налицо новое качество и новая целостность. Точно также и общество, есть нечто отличное от вида «человек», отличается от него специфическими свойствами, качествами, закономерностями. Это все совершенно объективные, независимо от субъекта существующие качества и особые качественно различные «целокупности».
Если материя качественно различна, то и ее движение, «законы движения», тоже различны и не разложимы просто на моменты механического движения. Здесь несколько нужно задержаться. Обычно при обсуждении вопроса о «редукции» обнаруживаются такого рода контроверзы: одна сторона говорит, что у другой, протестующей против сводимости, остаётся мистический осадок, неразложимый residuum[238], который, например, в биологии и есть «энтелехия», мистическая vis vitalis, «жизненная сила» и т. д.; другая — упрекнёт своих противников в отрицании качественной специфичности, т. е. в основном грехе механического материализма. В действительности вопрос разрешается довольно просто. Новое качество вовсе не есть прибавка к свойствам прежних элементов, взятых в новой связи; оно не рядоположно с ними; оно не может быть поставлено в одну шеренгу. Оно есть функция особым образом связанных моментов. Если эта связь разрушается, разрушается и эта функция, ни для какого residuuma места здесь нет. «Составные» моменты существуют в новой целокупности, но в снятом виде, выражаясь гегельским языком: они стали превращёнными моментами нового целого, а не просто втиснутыми в него, как картошка в мешок.
Даже в столь излюбленной механическим материализмом области, как математика, качество играет и в весьма высоких областях огромную роль: например, переход от конечных величин к бесконечным, к которым уже неприменим целый ряд понятий, превосходно приложимых к величинам конечным.
В связи с этим стоит и другой вопиющий недостаток механического материализма: он не видит развития, он антиисторичен. В самом деле, если любое единство есть механическое плоское единство, а не диалектическое, не противоречивое, не переходящее в новое качество (онтологически, в действительном бытии), то тем самым делается невозможным истинное понимание развития, которое и состоит в становлении «нового» и исчезновении «старого». Поэтому, например, в утончённом варианте или проявлении механического материализма, в пресловутой «теории равновесия» дана, например, грубо-механическая трактовка производственных отношений (координация материальных «живых машин» на трудовом поле — точно общественная материя, это то же самое, что материя в физике!), а с другой — исходным пунктом взято равновесие (хотя и подвижное!), тогда как равновесие вообще можно рассматривать лишь как частный случай движения. Французский материализм ⅩⅧ века был рационалистичен, связан с представлением об «естественном состоянии», об «общественном договоре», совершенно не понимал действительных движущих сил истории и трактовал грехи настоящего, как результат злоупотреблений или «непонимания» естественных и вечных законов (loi naturelle). Законы природы и законы общества у него были не историческими, меняющими, преходящими, выражающими (в разных масштабах времени и пространства) преходящие процессы, а вечными и неизменными соотношениями наподобие геометрических теорем в обычной их трактовке. Натуралистическая трактовка общественного закона, неизбежно связанная с рационалистически-статическим, т. е. метафизическим, т. е. антидиалектическим, его пониманием, вытекала, как это очевидно после вышеизложенного, из всей концепции механического материализма.
В обсуждении волнующей проблемы души и тела «вульгарный материализм» ⅩⅨ века оказался ниже материализма ⅩⅧ века. Ряд французских материалистов выдвигали правильное положение, что мышление есть свойство особым образом организованной материи, тогда как вульгарный механический материализм Бюхнера — Молешотта склонялся к тезису, что мозг выделяет мысль, как печень выделяет желчь, т. е. крайне упрощая всю проблему, грубо «сводя» её к процессам с другой спецификой.
Таким образом, механический материализм как бы спроецировал всё многообразие движущегося трехмерного мира на плоскость одного измерения механики,— упрощение и усерение, тривиализация мира, которая так отпугивала полнокровно-богатую и чувственно-артистическую натуру Гёте.
Но Маркс отмечал ещё одну черту, один «недостаток старого материализма», до Фейербаха включительно. Старый материализм был пассивен (теоретически); человека он рассматривал почти исключительно, как продукт, только объективно, в то время, как — это и отмечает Маркс в «Тезисах о Фейербахе» — деятельную сторону развивал больше идеализм. Мы уже мимоходом касались этого вопроса и повторяться здесь не будем. Марксу принадлежит и здесь честь крутого поворота руля, т. е. рассмотрения объекта, как объекта практики, субъекта — как субъекта практики, а не только теоретического мышления; введения категория практики в теорию познания, в самый её центр и, наконец, трактовки самого субъекта познания не как «я», «я вообще», «человека вообще», а как общественно-исторического человека, категория неизвестная ни старому материализму, ни Фейербаху, ни философии вообще… Старый материализм разделял здесь общий грех, и его «субъект» был той же самой односторонней внеисторической и внеобщественной абстракцией интеллекта, какой он был и у философов других направлений, да ещё с коэффициентом меньшей активности.
Все эти недостатки, односторонность, антидиалектичность старого материализма были преодолены диалектическим материализмом, этим гениальным созданием гениальных Маркса и Энгельса. В развитии философской мысли вообще отсюда начинается в буквальном смысле слова новая эпоха.
Механический материализм был материализмом, но он был в теоретическом рассмотрении субъекта пассивен. Активным был идеализм, отрицание материализма. Диалектический материализм есть материализм, но активный материализм.
Механический материализм был антиисторичен, но революционен. Последовавшая за ним эволюционная теория (в истории — историческая школа, учение о постепенной эволюции в геологии, биологии и т. д.) была исторична, но антиреволюционна. Диалектический материализм и историчен, и революционен одновременно.
Механический материализм — материализм, но антидиалектический. Гегелевская диалектика идеалистична. Диалектический материализм объединяет эти противоположности в замечательном единстве.
По поводу соотношений между Марксом и Гегелем написано много вздору, при чём на ряду с Пленге особо отличался на этом поприще не кто иной, как седовласый маэстро, господин Вернер Зомбарт, от симпатий к марксизму перешедший к приносящей прибыль (gewinnbringende Sympathie[239], как сказали бы немцы) симпатии по адресу башибузуков и янычар фашизма. Из всего сонма квалифицированной немецкой учёной братии один лишь Трельч признает, что Маркс сохранил и развил ценное диалектическое наследство Гегеля. Но зато тот же Трельч в своём «Historismus»[240] тут же сообщает, что у Маркса ничего не осталось от материализма. «Он (т. е. марксизм. Авт. ) есть крайний реализм и эмпиризм на диалектической основе, т. е. на основе логики, которая, по собственному признанию Маркса, объясняет жизненную действительность (Erlebniswirklichkeit) не так, как французский рационалистический (reflexionsmäßiger) непосредствованный и абстрактный материализм, не из материальных элементов и их сложных комплексов (Zusammensetzungen), а как конкретная, опосредствующая (vermittelnde) диалектическая философия, из закона всё постоянно расщепляющего и примиряющего, всё единичное растворяющего в целом движения». Это пишет один из самих умных, знающих и добросовестных. Что же сказать о других?..
Глава ⅩⅦ. Об общих законах и связях бытия
В «Философских тетрадках» Ленина есть одно замечательное место, которое мы приведем здесь целиком:
«Когда читаешь Гегеля о каузальности,— пишет Владимир Ильич[241] — то кажется на первый взгляд странным, почему он так сравнительно мало останавливается на этой излюбленной кантианцами теме. Почему? Да потому, что для него каузальность есть лишь одно из определений универсальной связи, которую он гораздо глубже и всесторонне охватил уже раньше, во всём своём изложении, всегда и о самого начала подчёркивая эту связь, взаимоперехода etc, etc»[242].
У Канта в «Критике чистого разума» налицо в категории отношения три понятия: субстанции, причины, взаимодействия. Гегель, конечно, несравненно богаче: его диалектика развитее диалектики Канта. Но как понять Ленина с точки зрения всего состояния современной науки? Даёт ли вся совокупность научных знаний право сделать ленинский вывод? Подтверждает ли она этот вывод?
Блестяще подтверждает. И вышесказанным положением Ленин действительно открывает новый этап, переворачивает совершенно новую страницу в истории философии вообще, в истории диалектического материализма — в частности и в особенности. Ибо не только одни кантианцы выдвигали причинность в качестве чуть ли не единого типа связи. Эта точка зрения безусловно доминировала и во всей марксистской литературе. Это — факт, который можно подтвердить бесчисленным множеством примеров. Да и что же тут удивительного? Ведь и сам Ленин пишет, что уже в ⅩⅩ веке марксисты критиковали махистов[243] по-бюхнеровски больше, чем по-марксистски в строгом смысле слова. И это верно, и Ленин не стыдится это признать.
Но что же все-таки означает положение Владимира Ильича с точки зрения того гигантского моря упорядоченных эмпирических данных, которые составляют «хозяйство» современной науки? Причину мы выделяем из всего комплекса связей и опосредствований, как нечто, что, воздействуя на другое, переходит в него. Причина — активное начало; «другое» — пассивное. Цепь причин бесконечна: всегда можно спрашивать «почему?». В этом смысле Гегель говорит:
«Причина сама есть нечто, для чего следует искать причину, переходя таким образом от одного к другому — в дурную бесконечность, которая означает неспособность мыслить и представлять всеобщее, основание, простое, состоящее из единства противоположностей и поэтому неподвижное, хотя и приводящее в движение» (Философия Природы)[244].
Критическая часть продиктована поисками Абсолюта, покоя. Но тип связи здесь все же дан: Взаимодействие есть другой тип связи, который состоит в том, что здесь налицо и активная, и пассивная роль на обеих сторонах отношения. В «Науке Логики» Гегель определяет взаимодействие как причинность обусловленных одна другою субстанций. Этот тип связи принципиально не отличается от причинности. Однако, он предполагает, что за спиной взаимодействующих факторов стоит третья величина, моментом которой они являются. Исчерпываются ли, однако, этими понятиями действительные связи и отношения? Ни в малой степени. Когда, например, я нажимаю курок и происходит ружейный выстрел, то причиной его является нажим курка. Но, если бы не было пороха, дроби, патрона, уж не говоря о более общих условиях, то не было бы и выстрела. Связь здесь многообразна, и целый ряд условий обязательно должен быть, чтобы мог произойти выстрел. Отсюда, между прочим, в своё время сформировался так называемый «конвенционализм»[245] (ср., например, работы Макса Ферворна, который предлагал заменить вообще понятие казуальности понятием условий. Нетрудно, однако, видеть, что в данном хотя бы примере, факт нажима курка имеет специфический смысл и значение: тут была произведена работа (в физическом смысле), которая непосредственно обусловила превращение энергии, модифицировавшись сама.
Итак, необходимы определённые условия, чтобы причина привела к определённому результату. Если этих условий нет, то и следствие окажется другим. Мы уже приводили пример казалось бы «вечного» закона, по которому нагревание тела расширяет его (причина — нагревание, следствие — расширение); однако в звёздной физике, астрофизике нагревание сжимает тело в силу совершенно других «окружающий условий», т. е. других связей и опосредствовании. Они, таким образом, не могут быть выброшены за борт. Здесь, следовательно, мы видим тип конвенциональной связи, которая отнюдь не исключает и не заменяет ни причинности, ни взаимодействия. Затем мы можем, например, упомянуть о математических связях, выражающих типичные действительные соотношения. Если, например, мы формулируем известную ещё древним египтянам так называемую «Пифагорову теорему» — сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, то это опять-таки особый тип связи, здесь одно не следует за другим, как в соотношении между причиной и следствием, но одно дано совместно с другим. Если мы берём теорию функций, то здесь нечто похожее, но динамическое. Значит, у нас ещё два типа связи и соотношения, не укладывающиеся в рамки вышеприведённых категорий.
Возьмём, далее, соотношение между «мышлением», «бытием», «психическим» и «физическим», мыслью (или ощущением) и мозгом (или телесным организмом). Обозначение «физическое» здесь не точно, ибо субъектом является лишь живая материя, а не просто «физическое» тело, что, как мы видели, не одно и то же. Можно ли сказать здесь, что мозг есть причина мысли, что тут отношение казуального типа? Мы думаем, что, строго говоря, нельзя. Ибо здесь смешиваются два совершенно разных вопроса: вопрос о генезисе «духа» с вопросом о специфическом соотношении. Мыслящая материя произошла из материи неорганической. В этом смысле материя есть первичное, дух — вторичное. В этом смысле материя есть причина духа. Но нельзя отдирать дух от материи, ибо материя породила не просто «дух» в его изолированности, невозможной изолированности, а мыслящую материю через звено материи ощущающей. Отношение же между «телом» и «духом» субъекта не есть отношение причинности по той простой причине, что это не два разных предмета, один протяжённый и другой — непротяжённый, а это одно и тоже: мыслящее тело имеет свойство сознавать себя и других; сознание есть не объект, а инобытие мыслящего тела, функция сознания есть инобытие нервно-физиологических функций полушарий головного мозга, как части целого, вне которого мозг не есть мозг. Если бы когда-либо было доказано, что мозг «излучает» какую-нибудь специфическую энергию, то этим вопрос нисколько не изменился бы по существу, ибо тогда соответствующая энергия имела бы адекватное своё инобытие.
Теория «психо-физического параллелизма» тем неприемлема, что она устанавливает соотношение между двумя «субстанциями», их — нет. В описательной части она права: нервно-физиологическому процессу «соответствует» то-то и то-то на языке психологии. Но это не два процесса, а одно и то же. Здесь специфичность связи и соотношения то, что диалектические противоположности совпадают в своём непосредственном тождестве, как одно, само себе равное.
Обычное ломанье голов в этом пункте происходит потому, что люди ищут либо наглядного представления (две стороны дуги например, чуть ли не со времён Спинозы), а наглядное представление, чувственный образ, здесь a limine исключён; либо люди хотят изложить этот особый и специфический тип связи, особую категорию отношений, категорию инобытия, в понятиях соответствующих других специфических категорий, что тоже невозможно. Между тем, здесь — ложная проблема: ибо это соотношение существует, как особое, оригинальное соотношение, как особый тип реальной связи, и его нужно мыслительно, т. е. «в понятии» и формулировать, как таковой, во всей его специфичности, оригинальности и относительной противоположности к другим формам и типам связи. Все это не исключает особого типа связей и в плоскости самого инобытия. таковы, например, закономерности ассоциаций и т. д.
Далее, возьмём тип связей, выражаемый так называемым метематическо-статистическим законом. Обычным примером здесь служит закон больших чисел, с иллюстрацией его на акте выбрасывания орла и решётки: чем больше число «опытов», т. е. выбрасываний, тем больше выпадение орла (или решётки) приближается к половине всех выбрасываемых случаев (элементарная иллюстрация для начинающих изучать «теорию вероятностей»). Трактовать математическо-статистический закон, как что-то внеопытное, не имеющее никакого отношения к реальной действительности; считать, что «чистая математика» есть нечто, никакого касательства к земной жизни не имеющее, это есть «чистый» вздор. Мы не говорим уже о понятии числа и т. д. Но здесь ясно видно, что за спиной «математического закона» стоит правильная чеканка монеты, её симметричная форма. Если бы у неё центр тяжести был смещён,— и результаты были бы иные. Следовательно, и здесь схвачен определённый тип реальной связи, особый тип; те споры, которые имеются в современной теоретической физике относительно статистической закономерности, относительно «природы» закона в макрокосме, говорят о действительной проблеме. Во всяком случае мы здесь имеем вопрос о новом типе связи. Вот ещё один пример, подтверждающий мысль Ленина.
Далее. Берём законы диалектики. Ещё в «Анти-Дюринге» Энгельс определял законы диалектики, как наиболее общие и наиболее всеохватывающие законы, обнимающие природу, общество и мышление. В «Диалектике Природы» он дал блестящие образцы диалектического материализма, как метода исследования в области теоретического естествознания в его «высших» областях. Маркс и в исторических, и в философских работах обнаружил себя непревзойдённым мастером этого метода. Но и весь «Капитал» от начала до конца пропитан духом диалектики. Недаром Ильич отмечает в одном из своих афоризмов, что марксисты не знали Гегеля и поэтому до конца не понимали «Капитала».
Но что такое диалектические законы? Например, закон раздвоения единого, взаимопроникновения противоположностей, отрицания отрицания, перехода количества в качество и т. д. и т. п. Есть ли это казуальные законы? Нет. Конвенциональные? Тоже не то. Статистические? Тем менее. Что же они такое? Они — законы диалектики, да, законы диалектики, особые, специфические законы, законы sui generis[246], притом наиболее общие.
Это один только вопрос насчёт общих типов закономерностей. Но мы в этой связи должны напомнить ещё то, что мы говорили относительно особых и специфических законов для каждого вида движения качественно отличных видов материи, в первую очередь физических, химических, биологических, а затем и общественных и т. д. На непонимании категории меры, скачков, специфических качеств была основана, как мы видели, деревянность, ограниченность и относительная тупость механического материализма. Следовательно здесь различие вышеуказанных типов ещё помножается на специфику закономерностей, вытекающих из природы самого объекта, имманентную специфику предмета.
Но тут нас перебивают возмущённые голоса: — Ну это уж слишком! Ну, автор уже договорился чёрт знает до чего! Ведь, это чистейшей воды плюрализм. Ведь здесь ничего не осталось от монизма, которым всегда гордились марксисты ещё со времён наделавшей славного шуму книги И. Бельтова[247] (Плеханова: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»[248].). Все закономерности разбиты по полочкам, для каждого — особая полочка, всё разгорожено, за «спецификой» всё разбито и разгромлено,— и мы перед старым корытом плюрализма! Вот уж поистине постыдная диалектика и постыдное превращение в собственную противоположность!
— Ух, как страшно, товарищи! Так страшно, что и сказать нельзя!..
В чём дело? Дело в том, что:
Во-первых, различные качественно объекты связаны между собой; они и особые, специфические, и в то же время связанные с «другим», переходящие один в другой. Здесь налицо и многообразие, и единство, единство в многообразии. Соответственно этому и закономерности объединяются здесь (как и реальные объекты) законами диалектики. И, наконец, все законы диалектики завязываются в один узел необходимости, противоположность которой, случайность, является сама формой необходимости. Необходимость есть та «верховная» категория, которая выражает единство, монизм.
Монизм есть отображение не плоского, тривиального, покойного и удобного единства, как оплошности, а единства многообразного, расчленённого, противоречивого, с различными, противоположными, переходящими один в другой моментами. Здесь и не пахнет плюрализмом. Но здесь нет и ароматов вульгарщины.
Но оппоненты думают взять реванш. Они бунтуют, и мы уже слышим голоса:
— Ну да! А вот вы сдали материалистическую позицию! Вы считаете, вопреки Энгельсу, Марксу, Ленину, что «дух» есть инобытие материи! А скажите на милость, разве это не позиция философии тождества, то есть идеалистической философии? Хорош материализм. И на это ответим:
Во-первых, вероятно, почтенные оппоненты знают, что ещё Плеханов определял марксизм (конечно, «cum grano salis»[249]), как род спинозизма («eine Art des Spinozismus»)? А что такое спинозизм, это — известно.
Во-вторых, совсем не «всё равно» сказать: дух есть инобытие материи или материя есть инобытие духа. Если б это было все равно, то, например, Гегель был бы не объективным идеалистом, а и материалистом; Шеллинг — не мистиком, а материалистом и т. д. Аргумент превращается в собственную противоположность.
В-третьих, для диалектического материализма характерно историческое рассмотрение предмета. Сказав, признав, подчеркнув, поставив во главу угла происхождение мыслящей материи из материи неорганической, мы тем самым поставили во главу угла эту неорганическую материю, как исторический и логический (противоположности абсолютной здесь нет и быть не может!) prius. Камень не мыслит, земля, как целое, не мыслит, нет никакого «духа» земного шара, «души земли», «Мирового Духа» и т. д., инобытием коего является материальный Космос, природа или земля, как планета. На земле философствуют люди, и никакой другой «дух» не ткёт паутины философских понятий. Поэтому идеализм упирается в конечное понятие телеологии и целеполагающей свободы, тогда как материализм упирается в понятие строгой необходимости. Это не значит, что он вообще не видит нигде целесообразного и закономерностей цели. Однако, эта закономерность соподчинена у него строгому понятию необходимости: она занимает совершенно особое место и является в то же время выражением необходимости. А в идеалистических системах, она — Демиург мира. Но мы нарочно выделили этот вопрос, чтобы разобрать его в особой главе тем более, что он стал в настоящее время весьма модным и в философии, и в науке, в особенности в виталистической биологии.
Глава ⅩⅧ. О телеологии
Об организации Универсума мы читаем в «Метафизике» Аристотеля:
«Мы должны исследовать, каким образом природа целого имеет внутри себя благое и лучшее, имеет ли она их в себе, как некто отдельное и само по себе существующее, или как порядок, или она имеет их в себе двояким образом, как это мы видим, например, в армии. Ибо в армии благое состоит столько же в порядке, господствующем в ней, сколько и в полководце, и последний является благом армии даже в большей степени, чем первый, ибо не полководец существует благодаря порядку, а порядок существует благодаря нему. Всё координировано известным образом, но не всё координировано одинаково. Возьмём, например, плавающих живых существ, летающих живых существ и растения; они не устроены так, что ни одно из них не имеет отношения к другому, а находятся во взаимном отношении. Ибо всё координировано в одну систему, точно так же, как в каком-нибудь доме отнюдь не дозволяется свободным делать всё, что угодно, а, наоборот, всё или большая часть того, что они делают, упорядочено: рабы же и животные (sic!), напротив, делают мало из того, что имеет своею целью всеобщее благо… Ибо принципом всякого существа является его природа»[250].
И в подкрепление своей мысли о «полководце» Универсума, т. е. боге, великий философ и мудрец, воспитатель Александра Македонского, цитирует Гомера:
«Многоначалие вредно всегда, пусть один господином пребудет».
Эта «установка» Аристотеля сразу же вскрывает социально-классовую подоплёку теоретических построений: «способ производства» отражается в этом «способе представления» в поистине неподражаемой, поистине «классической» форме. Здесь речь отнюдь не идёт обо всём богатейшем содержании философского творчества Аристотеля: было бы вообще страшной вульгарщиной и упрощением за спиной чуть ли не каждой философской мысли видеть какую-либо общественно-экономическую или политическую категорию. Он наблюдал предмет науки, он опирался на идейное наследство. Он сам собрал гигантский эмпирический материал. И он сам научно и философски творил. Но стилевые общие формы мышления отражали общий стиль эпохи, военно-рабовладельческого «духа» её, обусловленного «способом производства». Речь идёт именно о «способе представления», по выражению Маркса.
Почему мы схватились за Аристотеля? Потому, что до сей поры по сути дела все философы-телеологи и все телеологи-учёные пережёвывают то, что дал в своей концепции, о коей ниже, именно Аристотель. И почему мы начали с вышеприведённой цитаты? Потому, что она является ключом и для логического и для социально-исторического понимания телеологической концепции. Это подтвердится всем ходом последующего изложения в полной мере.
По учению Аристотеля, чтоб материя существовала, требуется деятельность «формы». Под формой разумеется здесь отнюдь не та или другая внешность или реальная-структура материи, а нечто совершенно другое, а именно, активное, деятельное начало. Сама по себе материя есть лишь возможность (δυναμις), она превращается в действительность, принимает форму действительности (ενεργεια) лишь при наличии активного начала. Это и есть энтелехия (εντελεχεια), свободная деятельность, имеющая в себе цель и являющаяся реализацией этой цели. Энтелехия есть чистая деятельность, деятельность из себя самой. Абсолютная субстанция есть единство «формы» (в специфическом вышеуказанном смысле) и материи, содержащее, т. о. благо, всеобщую цель, бога. Цель есть поэтому хорошее в каждой вещи и вообще наилучшее в природе. Душа — это энтелехия. «Не материя движет сама себя, а Мастер». Движет то, что составляет предмет желания и мыслителя, но само неподвижно. Это — цель, прекрасное, благо. В понимании природы следует, с этой точки зрения, различать две основные категории: 1) цель (causa finalis, конечные причины) и 2) необходимость (causa efficiens, внешняя необходимость). Под целью разумеется не внешняя цель, а имманентная, внутренне присущая предмету, как внутреннее стремление, которое может проявляться и как ум без мысли. Необходимость, есть лишь внешнее, материализованное, предметное проявление цели.
Таково в общем учение Аристотеля, которое разработано во всех подробностях, в особенности по отношению к живому, т. е. к органике (здесь оно стало базой витализма, как об этом мы уже упоминали). Но нужно заметить, что у Аристотеля вся природа понимается в этом смысле органически, то есть как жизнь.
Итак: Порядок Универсума — слепок с порядка рабовладельческого, микрокосмоса, перенесённого на макрокосмос, на «всё». Во главе — мастер, целеполагающий мастер, цели которого объективируются в «порядке», в каждой вещи, «хорошее» которой (или «прекрасное» или «благо») есть цель, в то же время, так сказать, молекула энтелехии, как всеобщей энтелехии, деятельной «формы» мира и его движущего начала; материя и предмет есть лишь зародыш, развёртывающийся по норме, заложенной в нем и ему имманентной цепи; эта последняя и есть сила развития, внешним проявлением которой является необходимость. Таким образом, во главу угла ставятся «causa finalis», которым целиком подчинена «causa efficiens».
Как ни разработана и как утончённо ни обделана мышлением эта «система», но её антропоморфизм, вернее её социоморфизм, с совершенно анимистическим корнем ясен, как на ладони.
Гегель в «Лекциях по истории философии» не находит достаточных слов для выражения восторга этой стороной Аристотелева учения (которая, кстати сказать, лежала в основе всей средневековой католической рецепции Аристотеля: именно за это его и прочили в христианские святые, и Фома Аквинский многажды пил из источника телеологически-теологических вод знаменитого грека).
В «Философии Природы» Гегель борется с понятием внешней цели, но горой стоит за имманентную телеологию, в которой и выражается «премудрость божия»:
«Понятие цели как имманентной предметам природы представляет собою простую их определённость, так, например, зародыш растения уже содержит в реальной возможности всё то, что потом обнаруживается на дереве, и этот зародыш, следовательно, как целесообразная деятельность стремится лишь к самосохранению. Это же понятие цели познал в природе уже Аристотель, и такую целевую деятельность он называет природой вещи. Истинное телеологическое понимание — такое понимание является наивысшим (sic!! курсив Бухарина) — состоит следовательно в том, что природа рассматривается как свободная в её своеобразной живой деятельности»[251].
Внешняя телеология (грубая, явно дискредитирующая собою и пресловутой «промысел божий», т. е. всё теологию: «овцы созданы, чтоб их стричь» — у Гегеля, пробковое дерево для пробок у Гёте, ягнята и прочие для супа — у Гейне и прочие издевательства явно показывают невозможность «внешней телеологии») считается здесь неистинной. Истинная, имманентная телеология, наоборот, признаётся Гегелем за наивысшее познание природы.
Социальный генезис идеи совершенно очевиден; и мы поэтому не будем тратить лишних слов. Но на что опирается концепция телеологов логически? Какая черта, грань, качество действительных отношений была здесь «раздута», преувеличена, превращена в сущность, взята в иллюзорной связи вместо связи действительной?
«Материалом» такой концепции послужили: общий строй, «порядок», закономерность мира, объективная закономерность вообще, явная целесообразность в органической природе, выражающая относительную приспособленность биологических видов (целесообразность морфологическая, как наиболее бросающаяся в глаза, целесообразность окраски и т. д.); инстинкты животных, иногда поразительные по своим целесообразным проявлениям: целеполагающая деятельность человека, его разумная деятельность, где цель предстоит действию, где она реализуется в целью направляемом действии.
Остановимся сперва на биологической приспособленности.
В «Физике» Аристотеля имеется одно замечательнейшее рассуждение, в котором Аристотель полемизирует с гениальным предвидением Эмпедокла, предугадавшем дарвиновскую теорию. Поразительно, но факт.
Аристотель рассуждает: дождь, который портит, не вовремя идя, хлеба, есть явление природы, случайное по отношению к хлебу; здесь связь внешняя, в этом состоит случайность причины, но здесь же есть необходимая связь вещей, внешняя необходимость.
«Но если это так,— продолжает Аристотель,— то что мешает нам принять, что то, что выступает перед нами в качестве части, например, части животного, может быть, ведёт себя по природе таким же случайным образом? Тот, например, факт, что передние зубы остры и хорошо приспособлены к перекусыванию, а задние зубы, напротив, широки и приспособлены к перемалыванью пищи, также произойти чисто случайно, а не необходимо, не специально для данной цепи. И точно так же это соображение применимо по отношению к другим частям тела, в которых, как нам кажется, имеется налицо целесообразность, так что при этом то живое существо, в котором случайным образом всё оказалось так устроено, что оно вышло целесообразным, сохранилось именно потому, что так вышло, хотя первоначально это целесообразное устройство возникло случайно по внешней необходимости»[252].
Далее Аристотель говорит, что это возражение принадлежит Эмпедоклу, который утверждал, что мир был первоначально населён чудовищами; эти чудовища, однако, не сохранились, а погибли, ибо не были приспособлены[253].
Что же возражает Эмпедоклу Аристотель?
И как приходит Аристотель буржуазии, Гегель, на помощь рабовладельческому Аристотелю?
Аргументы против Эмпедокпа и того, и другого высокопарны, общи и в то же время жалки. Ничего, кроме гордыни и высокомерия «чистого понятия» по адресу эмпирической науки!
Гегель издевается над термином «происхождение» (Hervorgehen), называя его бессмысленным развитием, причём слово бессмысленный употребляется в двойном значении, чтобы тем возвеличить «мысль» о «цели»! Ругательство явно наивное, потому что «бессмыслие» компрометирует тогда, когда должна быть мысль, которой нет, и нимало не компрометирует того, что лежит вне сферы самой категории мысли. Ругательство основано на petitio principii[254]. Так что же возражает Аристотель?
«Природа именно и означает, что каким нечто становится, таким оно существовало уже с самого начала, означает внутреннюю всеобщность и самореализующуюся целесообразность, так что причина и действие тождественны, ибо все отдельные члены соотнесены с этим единством цепи». «Напротив, тот, кто принимает вышеуказанное случайное образование, уничтожает природу и то, что существует от природы, ибо (sic!) от природы существует то, что имеет в себе некое начало, посредством которого оно в непрерывном движении достигает своей цели»[255].
Гегель в восторге. Здесь «всё истинное, глубокое понятие живого!» Прекрасно, возвышенно и т. д. Но где хоть тень доказательства? Одно декретирование, один логический манифест к «армии», одно сплошное повторение в виде доказательства того, что должно обнаружиться лишь, как вывод.
Сам Гегель, в комментариях к Аристотелю, выдвигает следующие соображения[256]:
«Аристотелево понимание имманентной целесообразности было утеряно под влиянием двух факторов: механической философии и теологической физики; теологическая физика выдвигала мысль о внемировом интеллекте, как всеобщей причине, т. е. тоже своеобразно апеллировала к внешнему: механистическая философия клала в основание давление, толчок, химические соотношения, силы и вообще всегда внешние отношения, которые, правда, имманентные природе, однако (слушайте!) не проистекают из природы тела, а представляют собою извне данный чужой привесок, подобно цвету в жидкости». Дальше — хвала Канту за живое, как самоцель.
Здесь внемировой бог поставлен на одну доску с внемировой материей (совсем «святая материя» наших эмпириокритиков, издевавшихся над материализмом и внешней реальностью. Как, всё же. Кое-что повторяется в истории!). Гегель по сути дела опять-таки не аргументирует, а просто вещает, углубляя своё представление о природе до того, что природные отношения объявляются у него чем-то чужим природе, подобие мельчайшим частицам красящего вещества, подвешенным в воде! Но если эти отношения чужие, то чьи же они? Из какого-такого мира взяты напрокат? Если они чужие и духу и природе, то что они такое даже с точки зрения самой гегелевской философии? На это нет ответа.
Так стремление сбросить во что бы то ни стало действительную природу приводит (правда, без «цели», положенной Гегелем!) к явно «бессмысленному развитию».
Но перейдём к существу вопроса. Целесообразность в смысле относительной приспособленности видов к внешней среде есть факт. Вопрос заключается не в том, чтобы отрицать этот факт, а в том, чтобы вскрыть его реальное содержание и взять в общей диалектической связи природы.
Эмпедокл совершенно правильно подошёл к проблеме. Случайная — как теперь сказали — мутация подхватывается отбором; те индивиды вида, у которых оказалась полезная мутация, имеют большие шансы на выживание, неприспособленные гибнут. Отбор просеивает, остаются наиболее приспособленные; вытянутые в одну цепь — они дают картину целесообразности.
Но что такое здесь целесообразность? Как ни трактовать мутацию (ламаркистски или ещё как-нибудь, например, как продукт скрещивания различных особей с различными «генами») здесь нет цели, заранее положенной, целесообразность же ряда, в результате отбора, есть необходимое следствие, оборотной стороной которого является дикая миллионоголовая «нецелесообразность», то есть гибель, громаднейшего, бесконечно большого количества неприспособленных. Сама целесообразность является здесь post factum, а не как движущая цель. Она есть, так сказать, побочный продукт необходимости, только в этом смысле и только в этом значении она может найти себе место. Другими словами: целесообразность есть момент необходимости. Этого не понимал ни Аристотель, ни Гегель, ни наши русские доморощенные анти-дарвинисты типа Данилевского, ни современные виталисты во главе с Дришем (Hans Driesch). Таким образом вся телеологическая концепция рушится. Но она может быть разрушена и с другого конца. В самом деле, целесообразный зуб тигра, в котором внешнее проявляется «благо» тигра и энтелехия, есть отрицательное для «другого», скажем, для лани. «Травоядные» зубы для лани есть «благо» лани по отношению к траве, отрицательное с точки зрения травы, отрицательное с точки зрения лани по отношению к тигру, положительное с точки зрения тигра по отношению к лани. Так в чем же «благо» всеобщей энтелехии? В том, что и траву, и лань, и тигра так или иначе потребляет человек? И что в этом и есть «высшая цель»? Ведь, ничего другого не остаётся, никакого другого выхода нет! Но если это так, то мы преблагополучно и возвращается к осмеянной всеми «Теории», по которой пробковое дерево существует чтоб закупоривать бутылки, ягнёнок — для мяса и супа, овца — чтоб её стричь, и салат, чтобы его есть с жарким. Мы, отъехав от этой наивно-филистерски-глуповатой концепции, преблагополучно возвращаемся к ней с другого конца, по кругу, а «имманентная» телеология раскрывает ей имманентное свойство и обнаруживает свою сущность, а именно то, что она есть лишь утончённый вариант телеологии грубой и грубо телеологической, где «Мастер», то есть, бог, устрояет всё для человека, хотя и действует часто совершенно непостижимо. Но на это уже есть тертуллианово «credo quia absurdum»… Сам «Привод» к грубой телеологии мы видим и у самого Гегеля, который позабыв свои собственные насмешки над ней, так например, определяет растение: «Растение есть подчинённый организм, назначение которого — служить вашему организму и быть предметом его потребления» (Философия Природы, 437)…[257]
Сложнее обстоит дело с инстинктами, т. е. со способностями животных производить целесообразные действия, обеспечивающие сохранение вида и индивида, (инстинкт самосохранения, половой инстинкт, инстинкт любви к потомству и т. д.); врождённые и безотчётные, однообразное и мощные факторы, которые объективно-физиологически предстоят, как безусловные рефлексы, а психологически, вероятно, представляются смутным влечением, бессознательной или смутно-сознательной тягой. Здесь есть уже переход к цели, цель δυναμει, чтоб сделать удовольствие Аристотелю. Но она точно так же есть момент необходимости, и все наши предыдущие рассуждения целиком правомерны и здесь.
Инстинктивное влечение переходит в цель у мыслящего человека, проходя ряд промежуточных станций, на которых нам можно не останавливаться. Здесь создаётся новое качество, цель в настоящем смысле слова, нечто заранее полагаемое и реализуемое. Появляется субъект, разумный субъект, целеполагающий субъект. Это — нечто принципиально новое, здесь скачок, хотя, вообще говоря, он подготовлен предыдущим развитием, и налицо единство прерывного и непрерывного. Но это — особая, боковая тема, хотя и важная в другом аспекте. Здесь есть действительно цели, цели stricto sensu, и целесообразная деятельность. Известен пример, приводимый Марксом в 1‑м томе «Капитала», где он сравнивает архитектора с пчелой, причём архитектор заранее имеет образ, план постройки, как цель, определяющую его целесообразную деятельность, тогда как пчела этого не имеет и строит бессознательно.
В человеке природа раздвояется: субъект, исторически возникнув, противостоит объекту. Объект превращается в материю, в предмет знания и практического овладения. Но человек является противоречием, диалектическим противоречием: он в одно и то же время — и «противочлен», как это называет Авенариус, т. е. субъект, противопоставленный природе, и часть этой природы, не могущая быть вырванной из этой диалектической всеприродной универсальной связи. Когда Гегель вводил своё трёхчленное деление — механизм, химизм, телеология — он на идеалистическом языке по сути дела (т. е. если его «читать» материалистически, как советовал Ленин) формулировал исторические ступени развития, действительного развития. Но идеалистическая философия проделывает здесь такую операцию: она категорию, явившуюся в результате исторического развития, как момент природной необходимости, превращает в нечто первоначально данное, универсализируя эту категорию; затем эта якобы первоначальная универсализированная данность описывает гигантский круг и возвращается к самой себе. Этот фокус, в сущности, вовсе не сложен, но его нужно понять в его «развитии» и согласно его природе, что мы здесь и делаем. Но отсюда вытекает с полной очевидностью, что только разрыв с диалектикой, вырывание, антидиалектическое вырывание «телеологии» (или, в других работах Гегеля, «органики») из контекста исторической природной необходимости, может привести к возведению цели в первоначальную «форму», т. е. деятельно-разумное начало всех начал. В действительности же человек, как биологический индивид и как общественно-исторический индивид есть одновременно и целеполагающий субъект, и звено в цепи природной необходимости. Цель здесь момент этой необходимости, хотя она уже не метафора, не зародыш цели, не δυναμει, а действительная цель, цель ενεργεια. Понимание этого прорывается и у Гегеля, например, когда он говорит, что в своих целях человек зависит от природы и подчинён ей.
Следовательно, здесь налицо самая настоящая цель, целеполагание, телеология. Это — нечто реально существующее. Но сама телеология — момент необходимости, исторически возникший. Цель — есть (на земле) человеческая цель. Совершенно невозможно проецировать её на землю и на универсум, как всеобщую энтелехию. Если, по связи всего земного, мы можем сказать, что земля имеет цели, то это человеческие цели, цели человека, как продукта земли, природы, а не как сверхчеловеческая планетарная цель, эманативная частичка которой якобы обретается в человеке. Диалектический материализм не трактует человека, как машину, не отрицает особых качеств, не отрицает цели, как он не отрицает разума. Но диалектический материализм рассматривает эти особые качества, как звено в цепи природной необходимости, человека, рассматривает в его противоречивой двуединости, как антагониста природы и часть природы, и как субъекта, и как объекта, а специфический телеологический принцип, как момент принципа необходимости. Это соответствует действительной связи вещей и процессов, а иллюзорная связь должна быть безжалостно разрушена до конца. Так обстоит вопрос с телеологией в его общей постановке.
Глава ⅩⅨ. О свободе и необходимости
Предыдущим по существу предрешён и пресловутый вопрос о «свободе воли» и необходимости.
В самом начале да разрешено будет заметить: свобода в смысле беспричинности, в смысле индетерминизма, «чистая свобода», есть не что иное как воля, взятая в себе, без всякого отношения к другому, вне всякой связи, то есть такая же нелепая пустая абстракция, как и кантовская «вещь в себе». Поэтому в «Критике практического разума» она и ходит в упряжке с богом и бессмертием души, как постулатами практического разума. В этом гипостазировании и изоляции чистой «свободной воли» — гвоздь всей морализирующей, этической и «культурно-этической» болтовни у эпигонов кантианства.
Нужно сделать ещё одно предварительное замечание, на этот рез о необходимости. Уже Аристотель отличал несколько понятий необходимости; а именно, он указывал, что слово «необходимо» имеет тройное значение:
1) оно означает насильственное, «то, что идёт против склонности»;
2) «то, без чего не существует благого»;
3) «то, что не может существовать иным образом, а существует абсолютно».
Это — в высшей степени важное различие. Ибо тот бунт во имя «свободы воли», который подымают идеалистические философы (в подавляющем случае идеологи земных целей!), обычно апеллирует к чувству свободы, к ощущению свободного волевого акта, точно это ощущение есть свидетельство его беспричинности и неопределяемости, его в-себе-чистоты и самодовления! Ленин поэтому писал в своих комментариях к «Большой Логике» Гегеля («Наука логики», Ⅱ отд.), анализируя вопрос о практике:
«Техника механическая и химическая потому и служит целям человека, что её характер (суть) состоит в определении её внешними условиями (законами природы)»[258].
И далее:
«На деле цели человека порождены объективным миром и предполагают его, как данное, наличное. Но кажется человеку, что его цели вне мира взяты, от мира независимы („свобода“)»[259].
Это — точь-в-точь то же, что формулировал «more geometrico» ещё Б. Спиноза в своей знаменитой «Этике»[260], всемерно протестуя против распространённого взгляда, будто «человек имеет неограниченную силу и ни от чего не зависит, кроме самого себя». Спиноза гениально схватил это основное, эту абстрактную пустоту «чистой воли», взятой «в себе», т. е. вне всяких отношений. На самом деле это — миф, хотя ощущение волевого акта может быть ощущением полной свободы:
«Так, ребёнок воображает, что он свободно желает молоко, которое его питает; если он сердится, он думает, что свободно хочет отомстить; если он пугается что от свободно хочет бежать»…
Но здесь — как мы видим — везде идёт речь о необходимости в третьем Аристотелевом смысле, и только об этой необходимости мы сейчас, в данном случае говорим: именно она составляет главный предмет, центр всей проблемы, а отнюдь не «насилие», о котором упоминает Аристотель. Поэтому отрицание «свободы воли» и признание необходимости совершенно не эквивалентно представлению о связанном по рукам и ногам человеке. Это совершенно другой вопрос, не совпадающий с нашим, не покрывающий его. Ибо суть философской проблемы заключается не в противоречии между волей и миром, когда последний обрушивает на вас горы пепла, как в Геркулануме[261], или когда он делает недостижимыми ваши желания, или когда он ограничивает их: центр философской проблемы в том, свободен ли свободный акт в смысле независимости и неопределяемости его другим, или же он звено в цепи природной необходимости, проявляющейся, как субъективная свобода. Это есть наиболее трудный вопрос.
Ответ на него тот, что в этой свободе заложена необходимость. В свободном хотении ребёнком молока, в его влечении, проявляется природная закономерность. В мощном половом инстинкте проявляется природная закономерность. В свободном стремлении удовлетворить голод и жажду проявляется природная закономерность. И т. д. Здесь природная закономерность есть природа самого субъекта, обнаруживаемая им в актах воли; это действительно его, субъекта воля, проявление его, субъекта, природы. Но так как сам он вне природы ничто, абстракция, иллюзия; так как сам он продукт и часть природы, то закономерность его природы есть природная закономерность. «Свобода воли» идеалистов есть свобода не только от внешнего мира, но и от природы, действительной природы, самого субъекта. Другими словами: здесь не только абстракция изолированного субъекта, и не только абстракция его сознания, но абстракция части сознания, возведённая в абсолют и вращающаяся в самой себе. Точно так же, как в анализе процесса познания идеалистическая философия оперирует с универсализированной абстракцией интеллектуальной стороны, беря её «в себе», точно такую же грубо-антидиалектическую операцию она производит с волей, т. е. с другой стороной сознания. Немудрено, что Шопенгауэры трактовали после этого «мир, как волю и представление»!
О, да простят нас глупые (умные поймут!). Но научный ключ, отличный ключ, к проблеме доставляют ими собаки покойного академика Павлова. Необычайно строго проведёнными опытами, которые в течение долгих десятилетий проделывались в лабораториях И. П. Павлова, показаны и объяснены процессы образования рефлексов и их цепей, характеризующих с объективно-физиологической стороны акты поведения, волевые акты, в их связи с внешними раздражителями. В своих последних работах Павлов перешёл к человеку, со всей строжайшей свойственной этому учёному, методической осторожностью, и из этих лапидарно-написанных работ, где за каждым словом скрываются громадные напластования фактического материала, с чрезвычайной яркостью смотрят на нас объективные закономерности человеческого поведения, и «нормального», и «патологического». Как Дарвин вскрыл природную закономерность, т. е. необходимость, в целесообразности жизни видов, так Павлов вскрыл природную закономерность, т. е. необходимость в жизни индивидов: биология получила здесь своё достойное дополнение в физиологии. Нервно-физиологический субстрат волевого акта здесь понят в его связях и опосредствованиях со средой, и раскрыто его диалектическое движение. Тем самым обнаружена и природа его инобытия, как момента общей закономерности природы.
Высокомерные глупцы могут сколько им угодно хихикать по поводу переходов от собак к «царю природы», точно так же, как в своё время филистеры и богобоязненное бабьё обоего пола хихикало над «обезьяной» по поводу дарвинизма. Но на то это и филистерский сброд, чтобы глумиться над гениальными открытиями человеческого разума, какового этот филистерский сброд и лишён, хотя он и воображает, что «заступается» за честь и достоинство разума. Такова, впрочем, обычная ирония истории!..
Таким образом, и телеология индивидуального поведения, т. е. разумного целеполагающего поведения, т. е. актов воли, включена в цепь необходимости, то есть научно понята и истолкована.
Вопрос об общественном поведении общественного человека имеет свои особые, специфические и при том исторически определённые стороны и с точки зрения рассматриваемой нами проблемы «свободы воли».
В «Людвиге Фейербахе» Ф. Энгельс писал:
(В истории) «ничего не случается без сознательного намерения (Absteht), без желаемой цели». Однако, только весьма редко осуществляется то, чего пожелали (das Gewollte); в большинстве случаев перекрещиваются и сталкиваются в борьбе (widerstreiten sich) многочисленные желанные цели (gewollte Zwecke)… Таким образом столкновения бесчисленных воль и отдельных действий приводят на исторической арене к такому состоянию, которое вполне аналогично явлениям, господствующим в бессознательной природе. Цели действий выступали, как желания, но результаты, которые действительно последовали за этими действиями, не были предметом желаний, или же, поскольку они всё же по видимости соответствуют желаемым целям, всё же они имеют в конце концов совершенно другие последствия, чем те, которых желали»… «Люди делают свою историю, как эта история ни протекает; при этом каждый преследует свои собственные, сознательно поставленные цели», результат этих действующих в различных направлениях воль и их разнообразного воздействия на внешний мир и есть история… Но… действующие в истории многочисленные отдельные воли большею частью вызывают совершенно другие, часто совершенно противоположные результаты, чем те, которые хотели иметь…»[262].
Здесь замечательно схвачено то, что В. Вундтом было названо законом гетерогонии целей. Но это уже другая проблема, хотя и смежная. Цели здесь определены, они рождаются из определённой обстановки; но Энгельс останавливается на другом, а именно на том, что они не реализуются, или ограничиваются, или в своём результате приводят к прямо противоположному. Примером могут служить хотя бы периодические капиталистические кризисы. Эти кризисы суть моменты экономического цикла, т. е. проявление определённой закономерности общественного характера, один из «законов движения» капиталистического общества, т. е. категория общественной необходимости. Но по отношению к индивидуальной воле здесь общественная необходимость выступает уже как Аристотелева «необходимость» в первом значении, т. е. как «то, что идёт против склонности». Другими словами, если с общественной точки зрения, т. е. с точки зрения движения общества, капиталистического общества, как целого, мы имеем Аристотелеву необходимость третьего порядка, то та же необходимость выступает (по отношению к индивидуальному субъекту, как Аристотелева необходимость первого порядка). Анархическое, раздробленное товарно-капиталистическое общество слепо, его законы стихийны, оно не есть целостный субъект с единой волей, оно не есть «телеологическое единство». Общество, как целое, не ставит, не «полагает», никаких целей: это бессубъективный субъект, как особый, исторически определённый, тип общества. Прежние типы обществ в действительности имели и элементы иногда довольно развитые, товарооборота, ростовщического «капитала» и т. д., с другой стороны были полны шумом классовой, племенной, национальной, междугородской и т. д. борьбы и войны. В этих обществах грозная стихия формулировалась как слепой Рок, Судьба, Мойра, Ананке (ειμαρμένης ανάγκη предопределённая, принудительная сила судьбы у Гераклита). Замечательные греческие «Трагедии Рока» являлись художественно-поэтическим отражением этой истребительной общественной стихии. Гибнущий капитализм в лице его идеологов прямо выдвигает Судьбу, как категорию «науки». С лёгкой руки Шпенглерова «Untergang des Abendlandes» («Гибели Запада»)[263] идея судьбы становится главным принципом фашистской историософии, сочетающей её парадоксальным образом с самым необузданным волюнтаризмом.
Но revenons à nos moutons. Энгельс, как известно, сформулировал переход к социализму, как «скачок из царства необходимости в царство свободы». Досужие критики марксизма указывали, что это — переход, хотя бы с запозданием, на точку зрения «свободы воли», как её понимают идеалисты. Но — это нелепое возражение. Энгельс говорит также, что с социализма начинается действительная история человечества, тогда как раньше была только предистория. Однако этим он отнюдь не отказывался от исторического взгляда на предыдущие общества и даже на самое природу. «Диалектика Природы» с её трактовкой «законов природы», как исторических, говорит достаточно ясно, о чём идёт речь. Точно так же и с пресловутым «прыжком». Это есть прыжок «из царства необходимости в царство свободы» в том смысле, что здесь общество и индивидуум освобождаются от Аристотелевой необходимости первого порядка, что уничтожается «закон гетерогении целей» Вундта. Но это вовсе не значит, что уничтожается необходимость третьего порядка и что Энгельс совершает прыжок из царства материализма в царство идеализма и чистого волюнтаризма. С переходом к социализму бессубъективное общество становится субъектом, слепая необходимость перестаёт быть слепой, непознанная становится познанной, отсутствие цели превращается в свою противоположность, неразумие общества сменяется его разумом. Отсюда, между прочим, известная формула Сталина: «План, это — мы». «Мы» — т. е. организованное общество, плановое общество, разумная координация отдельных воль в единое целое, появление коллективной воли общества, как выражение совокупности индивидуальных воль. Здесь общественная необходимость прямо проявляется в общественной телеологии. План выражает одновременно и познанную общественную необходимость и установку действия, немедленно реализующуюся. Это совершенно новое соотношение между необходимостью и целью.
Итак, в социализме исчезает стихийный характер развития, направленный против индивидуальных воль и в этом смысле совершается прыжок из царства необходимости в царство свободы.
Но мы имеем в Ⅲ томе «Капитала» Маркса интересное замечание, что царство истинной свободы начинается по ту сторону материального труда, в такую эпоху развития коммунизма, когда мощное движение производительных сил и гигантский рост общественного богатства не будут уже составлять предмета особой заботы. Это не значит, конечно, что люди перейдут на ангельское положение и перестанут пить и есть. Это означает лишь, что развитие производительных сил обеспечивает, так сказать, автоматически процесс общественного снабжения, и Центр деятельности и творчества перемещается. Остаток принудительности труда совершенно исчезает, хотя бы эта принудительность была и «внутренней», а не «внешней». Свободное творчество — изобретательство, наука, искусство, непосредственное общение с природой — резко повышают свой удельный вес. Это есть освобождение от грубой заботы о хлебе насущном, хотя опять-таки лишь в определённом смысле слова. В «необходимости» пить и есть сказывается природная необходимость, проявляющаяся в общественной необходимости через звено производства, прежде всего. Таким образом, общественные необходимости суть усложнённые проявления природной необходимости, новая форма необходимости, отрицающая природную необходимость и утверждающую её в одно и то же время (это и есть диалектика нового). В развитом коммунизме то, что было в сознании на первом плане, как непосредственная общественная цель, теперь автоматизировалось. Это не значит, что производство исчезло, стало ненужным, перестало служить основой жизни или быть объективно определяющим общественную жизнь фактором. Здесь диалектика движения такова, что наивысшее развитие производства означает перемещение ориентаций (целевых) на другое. Тут, следовательно, новая ступень свободы, но только в том условном смысле, о котором у нас шла речь. И здесь отнюдь нет «прыжка» в идеалистическую «свободу воли», как понимает её идеалистическая философия. Сам переход к иной системе целевых ориентаций исторически обусловлен, есть момент закономерного общественного развития, которое, в свою очередь, есть момент в историческом развитии природы.
Учение о «несвободе воли» нелепо смешивать с фатализмом[264]. Любая фаталистическая доктрина провозглашает, что будет предопределённое то-то, что бы ни делали люди. Таким образом здесь людское творчество и людская воля выключаются из цепи активных компонентов грядущего события, заранее им противопоставленного. Материальная основа этого, идеологически извращённая, коренилась в стихийности предыстории человечества. Согласно же диалектическому материализму и его общественно-научному производному, историческому материализму, воля есть активный фактор, и через волю (по-разному, совпадая или не совпадая с ней — это зависит от исторического типа общества) прокладывает свои пути историческая необходимость.
Многозначному понятию свободы соответствует и многозначное понятие необходимости. Но мы здесь не можем касаться всех этих вопросов. Нам важно было выяснить центральную проблему, которая стоит в ближайшей связи с контроверзой — «необходимость» — «телеология». Sapienti sat[265].
Глава ⅩⅩ. Об организме
Мы по некоторым линиям забежали насколько вперёд и нам нужно возвратиться ещё раз к вопросу о живой материи, об организме.
Из предыдущего видно, что старинная, тысячелетняя противоположность между материализмом и идеализмом выражается не только в противоположности примата материи и примата духа, но и (соответственно) в противоположности примата необходимости и примата цели. Второе целиком вытекает из первого. Ибо, как говорит Аристотель в «Физике»:
«Необходимое существует в материи, цель же содержится в основании» (у Аристотеля сказано λογω, т. е. в разуме, в разумном, в духе) «Ясно, следовательно, что необходимым в предметах природы является материя и её движения. Обоих следует признать началами, но цель есть начало, стоящее выше их».
Это есть идеализм (нужно сейчас же отметить, что у Аристотеля есть много материалистических мест — он колеблется между материализмом и идеализмом, но в данной работе мы выбираем места, на которые опираются современные идеалисты). По существу, на этой же точке зрения стоял и Кант: деятельность организма он объяснял внутренней целесообразностью.
Аристотель с большим напором выдвигал понятие целого, утверждая примат целого над частью и совершенно правильно протестуя против рассмотрения целого, как простой суммы частей. Гегель подхватывает эту аристотелианскую традицию, однако, особенно восторгаясь как раз её идеалистической, специфической стороной, а именно учением Аристотеля об энтелехии.
«Душа есть субстанция, как форма физического органического тела», активное начало, дающее жизнь, «энтелехия». Это учение целиком усвоено Дришем, который для неорганического мира считает принципом закономерности каузальность, а для органического — членение, порядок (Gliederung, Ordnung), энтелехию, как непременное, что делает живое живым, спиритуалистическое начало, жизненную силу, специфику органического вообще. Психоламарксист Франсэ заявляет прямо, что «мы по праву можем видеть причину приспособлений в душевной деятельности растений». В этом, в vis vitalis, в энтелехии, в «душе» организма, как особом целевом духовном начале, имманентно направляющем все развитие организма и вырывающем всё органическое из цепи природной необходимости, и заключается «гвоздь» концепции витализма: остальное, что не связано с этим необходимой логической связью, совсем не специфично для идеалистической точки зрения вообще и для витализма — в частности.
Ибо, например, идея целого. Разве её можно отдавать в монопольное владение идеализма? Да никак нельзя! Ни под каким видом! Именно Маркс подчёркивал, в противоположность рационализму и механическому материализму, идею «целокупности» (der Totalität). Но, в отличие от современных поклонников целокупности, которые все «Totalitäten» валят в одну кучу, Маркс прекрасно видел и понимал, что существуют различные типы «целокупностей», и что общество, например, не есть такое же «существо», как слон («органическая школа», теперь фашистские теоретики типа О. Spaann’а и Ко).
Идея целого выражает объективную действительность, и мы имеем уже случай говорить об этом при рассмотрении вопроса о рассудочном мышлении. Но целое, не будучи ни в коем случае арифметической суммой частей, их механическим объединением, их агрегатом, тем не менее состоит из частей; однако, каждая часть, отъединённая от целого, органического целого, перестаёт быть частью этого целого и обычно умирает. Мы говорим обычно, ибо новейшие завоевания экспериментальной науки показали и доказали, что выделенные из организма части «приживаются» в другом организме (все эксперименты по так называемой «пересадке» органов с поистине чудесными результатами), иногда даже не однородном, или же длительно живут в некоторой искусственной среде (опыты Карреля, Брюхоненко и др.); половой секрет может быть направлен внутрь организма и функционировать, как его часть, «момент»; выведенный из него, совместно с женским, он образует новую целокупность; червей можно разрезать на части, и эти части живут! И т. д. Но, конечно, рука вне связи с телом уже не рука. Итак, идею целого, но в диалектическом её соотношении с идеей части, мы никакому витализму уступать отнюдь не намерены.
Может быть, Gliederung представляет эпохальное открытие витализма? Отнюдь нет. Координация частей организма, морфологическая и функциональная — имеет почтеннейшую давность. Если не говорить о «жидкостях» древних, в новое время уже у Кювье и Жоффруа Сент-Илера мы находим закон корреляции. Кювье брался восстановить скелет ископаемого по кости; Дарвин развил этот закон, не говоря уже о дальнейшем. «Заслуга» витализма — весьма отрицательная «заслуга» — состоит лишь в том, что он координировал эту координацию с энтелехией. как сверхчувственной мистической силой, как имманентной «целью в себе», целевой жизнедеятельностью вне необходимости, что он абсолютно противопоставил координацию частей организма природной необходимости, взяв эту координацию в телеологической связи с «верховным принципом энтелехии».
Может быть, указание на специфичность органического есть заслуга витализма и его, витализма, специфическое отличие?
Опять-таки нет. Гегель чрезвычайно любит эту тему и доказывает на все лады, что в организме физические и химические процессы перестают быть таковыми.
В «Философии Природы» читаем:
«Мы можем проследить химически и даже химически выделить отдельные части живого, и тем не менее самые процессы здесь нельзя считать химическими (наш курсив), ибо химическое присуще только мёртвому, животные же процессы всегда упраздняют природу химического. Опосредствования, имеющие место в области жизни, как и в метеорологическом процессе, можно проследить и вскрыть очень глубоко; но воспроизвести такое опосредствование невозможно»[266].
И в другом месте того же труда:
«На этом непосредственном переходе, на этом превращении терпит крушение всякая химия и всякая механика, здесь они находят свою границу, ибо они постигают предмет только из таких наличных элементов, которые уже обладали внешней одинаковостью… Эмпирически проследить изменение средств питания вплоть до крови не может ни химия, ни механика, как бы они ни изворачивались»[267].
Однако, здесь следует, прежде всего, отметить, что нам достоверно известны, например, такие элементарные факты: растение поглощает на свету углекислоту и разлагает её на углерод и кислород, выделяя кислород, самый настоящий кислород, в воздух. Это есть, что бы там ни говорили, химический процесс в самом обычном смысле слова. В дыхании животного поглощается кислород воздуха и выделяется углекислота,— опять-таки химический процесс классического типа. Органическая химия изготовляет синтетическим путём органические вещества. Это есть великое завоевание науки.
Проходят ли химические процессы в организме так, как вне его? Это — вопрос факта. Вероятно, что все они проходят по другому, попадая в иной тип связи, соотносясь со специфическими условиями и переходя в них. Органическое специфично: Именно поэтому Энгельс в «Диалектике Природы» писал:
«Физиология есть, разумеется физика и в особенности химия живого тела, но вместе с тем она перестаёт быть специально химией: с одной стороны, сфера её действия здесь ограничивается, но, с другой стороны, она поднимается здесь на некоторую более высокую ступень»[268]. «Если химии удаётся изготовить этот белок, то химический процесс выйдет из своих собственных рамок»[269], т. е. совершится переход от химии к биологии.
Но что это доказывает? Энтелехию? Да почему? Тот факт, что мы до сего времени не построили синтетически живого организма, немудрено объяснить: живое вещество образовывалось в течение времён огромных масштабов и отнюдь не в лабораторных условиях. Сбалансировать эти моменты — гигантски трудно. Но и это не есть доказательство энтелехии. Ибо: почему неверно то выставляемое диалектическим материализмом положение, что жизнь есть свойство особым образом организованной материи, точно также, как и ощущение?
На этот вопрос отвечает Гегель. И как отвечает! Вы только послушайте! Он излагает своими словами Аристотеля и солидаризируется с ним (по сути дела, это его, Гегеля, положение):
«Если именно мы считаем тело и душу едиными подобно дому, состоящему из многих частей, или (что, кстати не одно и то же! Автор.) подобно вещи и её свойствам, субъекту и предикату и т. д., то это является материализмом (о, ужас! о, боги!! Автор.) ибо и душа, и тело здесь рассматриваются, как вещи (откуда это вы взяли?! Автор.) Такое тождество представляет собою поверхностное (конечно! Автор.) и пустое (ещё бы! Автор.) определение, которого мы не имеем права (о, господи, страсти какие! Автор.) высказывать так как (слушайте, слушайте! Автор.) форма и материя не обладают одинаковым достоинством в отношении бытия; истинно достойное тождество мы должны понимать, как энтелехию».
И баста! И «душа есть причина, как цель»! Нечего сказать, хорошенькое объяснение! Сперва построили, на базе грубой антропоморфической или, вернее, социоморфической, аналогии картину мироздания, возвели на мировой пьедестал абстракцию цели, потом крестят всех святой её благодатью, ибо только это «достойно», а «достойно» оно, потому что высоко-высоко обретается высочайшая цель, как энтелехия мира. Но разве все эти идеалистические фокус-покусы хоть на гран убедительны?
Можно повернуть вопрос и рассмотреть его, так сказать, другого конца. Что живому свойственно ощущать, а особому живому — мыслить, не подлежит сомнению (что за «низшая» форма ощущений есть у растений, какова она конкретно, мы не знаем, но что она есть, эта гипотеза за себя имеет многое). Но, скажите на милость, почему это свойство органического тела нужно трактовать, как особую силу, считать её активной энтелехией; полагать, что она есть prius, и утверждать, что этот prius существует вне природной необходимости, а движется в другом измерении, целевом измерении, причём ему подчинена природная необходимость, а не наоборот? Характерно для Гегеля: он всемерно восстаёт против метафизических «сил» и тавтологических объяснений типа мольеровского «сон есть усыпительная сила». И здесь Гегель прав, когда он возражал против «звукорода», «теплорода», «флогистона», «жидкостей» и прочего. Но совсем другое, когда вводится ни на чём не основанная мистическая, «высшая» сила, vis vitalis «жизненная сила», долженствующая всё объяснить и ничего ровно не объясняющая!
А теперь мы поставим вопрос ещё и таким образом. Правда, мы не можем ещё создавать организмов из неорганической материи, хотя ещё Велер, в начале ⅩⅨ в., получил мочевину синтетическим путём. Но мы можем видоизменять организмы, выводить новые виды, создавать у данных организмов новые условные рефлексы (например, дрессировка животных) и т. д. Когда мы трансформируем неорганические вещества природы, то мы используем здесь природную необходимость, опираемся на неё, используем законы природы, заставляя природу работать на себя. Этот вопрос нами уже разбирался. Но скажите на милость, разве не то же самое происходит, когда мы «воспитываем» обезьяну или кролика, собаку или свинью? Когда морских львов заставляем играть в мяч или обезьяну ездить на велосипеде? Не то же самое происходит, когда Мичурин выводит новые сорта яблок или груш? Или когда Лысенко меняет вегетационные процессы? Или, когда выводят новые породы скота? Разве мы не пускаем во всех этих случаях в ход познанные законы природы, которые потому и «действуют», что они суть законы развития организмов, законы соотношений их организмов с другими факторами?
На это нам могут тотчас же возразить: помилуйте, да, ведь, витализм, и Гегель, и Аристотель, и «душа» и «энтелехия», и «Цель» — ни капли не отрицали и не отрицают внешней необходимости. Они только утверждают, что внешняя необходимость есть форма проявления внутренней, имманентной целесообразности, которая есть верховное начало. Убили, господа хорошие! Так-таки и убили! Но страшна энтелехия, да милостива необходимость. В самом деле, разве вся эта аргументация выручает несчастных виталистов? Нимало. Ибо куда же девается в приводимых нами примерах этот пресловутый примат? Ведь что служит орудием в руках человека? Природные факторы, законы природы. И при их «помощи», т. е. при воздействии определённых природных факторов получается иное направление развития, каковое не было «имманентно» заложено в организме. Какое «благо», «цель», в жировом перерождении йоркширской свиньи, теряющей даже способность движения для этой самой свиньи? Куда девается примат энтелехии перед воздействием природных закономерностей? Сама «энтелехия» (т. е. в данном случае, психическая сторона филологического процесса, скажем, новых условных рефлексов) коренным образом меняется. Значит, «примат» приказал долго жить.
Но неуёмные критики поднимают здесь оглушительный вой. Вы же ввели — кричат они — другую энтелехию, энтелехию человека, его разум, его цели, и поэтому получили такой результат! Вы только подтвердили примат энтелехии, взяв принцип энтелехии в её более высокой форме, человеческой форме…
И это возражение неубедительно. Ибо: в данном случае никакой разницы нет для обсуждения нашей проблемы между случаем человеческого и не-человеческого вмешательства. «Между» «разумом» и объектом воздействия лежат природные факторы. Через них действует человек. Он их только комбинирует определённым образом, и они формируют новые качества и свойства организма в его телесности, ergo и его «энтелехию».
Таким образом, и это возражение падает. Природная необходимость и здесь одерживает свой блестящий триумф.
Вся виталистическая концепция, как концепция имманентной телеологии, в конечном счёте приводит к грубым формам телеологии, которая совпадает с теологией. Так было и с Аристотелем, у которого высшее благо и высшая цель переросла в Мастера Мира, то есть бога, космического Александра Македонского, наводящего «порядок» в Универсуме. Частички этой благодати, атомы и молекулы всеобщего блага, произрастают, как энтелехии организмов в иерархическом порядке, по армейской табели о рангах (ср. «формы» Фомы Аквинского). И поэтому: «всякое дыхание да хвалит господа!» Это и зовётся «возвышенным», «высоким», «достойным», «прекрасным» и т. д., по отношению к чему наша грешная материя есть категория второго сорта, низшая, недостойная, безобразная, грязная, греховная. Круг этих идей в их богословско-философской форме получал временами чрезвычайно широкое распространение, и теперь возродился в плоской форме у теоретиков фашизма.
Цель — примат цели — чистый волюнтаризм. Примат «духовного» и энтелехия. Мистическое созерцание мирового целого. Отодвигание назад интеллекта и рационального познания. Staatsbiologie, как главная наука. Мистический «голос крови» и мистика «органического» вообще. Gliederung идеалистического порядка, как структурный принцип Космоса.
Целевой критерий истины в тривиальной форме установок Гитлера, как организма, смыкающегося непосредственно с космической энтелехией (у египетских фараонов это было несколько тысячелетий тому назад!) «Духовное» овладение «народом» средствами производства (материальное пусть остаётся у капиталистов — это ничего, лишь бы «духовное» было!) и тому подобный вздор. Все эти картины деградации буржуазного общества, которое, умирая в действительном мире, с одной стороны, провоцирует отчаянное кровопускание и апеллирует к весьма материальным средствам истребления, а с другой — погружается в мистику ирреального, в глубине души, несмотря на официальный актуализм, тая старинные слова старинного отчаянья:
Воистину суета всяческая! Житие бо се — сон и сень и всуе мятётся всяк земнородный.
Или, как в «Эккезиасте»:
Vanitas vanitatum et omnia vanitas
Суета сует и всяческая суета.
Туда вам и дорога, милостивые государыни и милостивые государи.
Глава ⅩⅩⅠ. О современном естествознании и диалектическом материализме
Кризис физики и, вместе с ней, всего теоретического естествознания, обозначившийся на грани столетия, вызвал к жизни, при подспудных переменах в идеологических ориентациях господствующих классов, в свою очередь, бывших идеологическими рефлексами изменившихся общественно-материальных отношений, особые формы так называемого «физического идеализма»[270]. Это словосочетание нелепо. Но в нелепости этого словосочетания отражается лишь «высота» или «ступень» идеологического извращения, которое, как таковое, являлось и является фактором.
Работа Ленина: «Материализм и эмпириокритицизм»[271] своим центром имела проблему реальности внешнего мира именно потому, что в то время агностицизм и идеализм получили широчайшее распространение, и в недрах теоретического естествознания, начиная с физики, свирепствовали теории, по существу дела уничтожившие основу мира, материю. «Материя исчезла, остались уравнения». Такие представления физики, как атомы, были объявлены лишь «моделями», условными «значками», «символами», «орудиями» координации элементов идеалистически понимаемого опыта, которому реально ничего не соответствует. Признаком хорошего тона было издевательство над материей и реальностью атомов. В философии Файхингера («Die Philosophie des Als-ob», «философия фикции»[272]) все основные понятия теоретической физики, как материя, масса, атом и т. д. объявлялись фикцией, искусственным средством мысли — и только. Солипсическая тенденция пробивала себе пути.
Субъективный идеализм Беркли-Юма возрождался в новых формах, надевая на себя костюм «точной науки». Выдающаяся роль в этом процессе принадлежала Эрнсту Маху, наиболее талантливому и знающему физику, историку науки и экспериментатору. И вот Ленин выступил «против течения», которое захватило значительные слои марксистов, увлечённых «строго-опытной» стороной эмпириокритических построений (об этой «кажимости» по существу мы уже говорили в начале настоящей работы).
Любопытно теперь посмотреть, что же принесло развитие естествознания за период после появления книги Ленина? Что дало движение теоретической физики по вопросам, наиболее спорным в начале столетия? Кто оказался объективно прав в этом споре?
Что бы ни говорили, как бы ни болтали, какие бы оговорочки ни делали, остаётся один основной факт: атомистическая теория получила блистательное подтверждение; реальность атома была доказана, описаны различные атомы, познание проникло в их структуру, экспериментальная наука (Резерфорд) бомбардировкой электронных потоков расщепили атом, улавливаются движения его компонентов, возникает вопрос об использовании внутриатомной энергии и т. д. Атом установлен экспериментально. Но атомы воздействуют практически. Атомы практически-экспериментально изменяют. Индустриальная техника уже использует достижения микрофизики, и различные формы микроанализа служат в общественном масштабе делу материального производства.
Доказательство правильности атомистической теории, как таковой, оказались настолько убедительными, что даже отец «энергетики» В. Оствальд вынужден был отказаться от всей основы своих, по-своему цельных, взглядов и признать правильность положения атомистической физики.
Это означало великую победу материализма, как бы ни старались извратить идеалисты действительное положение вещей. Факт тот, что целые горы аргументов, аргументиков, «теорий» и «систем», которые покоились на трактовке атома, как познавательной фикции, рушились. Поэтому идеалисты должны были отступить на другие позиции: они их обрели, и идеализм теперь выступает в ещё более вредных и уже мистических формах. Но этот факт, коренящийся в общественной психологии глубокого упадка капитализма, в самом теоретическом естествознании уже не может опираться на ту широкую основу, когда спорным был вопрос об атоме.
Развитие физики и химии дало подтверждение не только материализму, ведущему тысячелетние бои с идеализмом: оно дало подтверждение диалектическому материализму, материалистической диалектике.
Оно доказало, прежде всего, качественность атомов. Качество утверждается здесь, как объективное свойство объективных вещей и процессов. Как мы уже об этом говорили ранее, тут налицо коренное отличие от представлений механического материализма и его односторонности. Одновременно получает своё блестящее подтверждение диалектический закон перехода количества в качество, ибо в зависимости от количества определённых электронов меняется качество атома. Категории меры, скачка, получают уже в микрофизике свою твёрдую основу. Доказанная дробимость атомов, атомы, как целые системы миров, кладут конец антидиалектическому воззрению на «последние» «кирпичи мироздания», какой-то абсолют, где ставится предел, его же не прейдеши. где бесконечность превращается в конечность, и мир в «глубину» вдруг оказывается заколоченным. Современная физика покончила с этим взглядом и тем самым опять-таки лила воду на мельницу материалистической диалектики, хотя и не имела о последней часто ровно никакого понятия.
Диалектический закон раздвоения единого[273] нашёл своё выражение в трактовке атома, как системы положительного и отрицательного электричества (протоны-электроны). Дальнейший анализ, всё время осложняющий картину атомной структуры, делающий её всё более многообразной, открывающий всё новые черты, стороны, процессы, связи, не уничтожает этой полярности, в которой раскрывается один из самых глубоких и основных законов диалектики. В связи с этим стоит и внутреннее движение атома.
Диалектический закон противоречия обнаружил себя в широчайшем масштабе на проблеме прерывности (дискретной) — непрерывности. Уже Ф. Энгельс в «Диалектике Природы» писал по этому поводу как раз в связи с проблемами атомистики тогдашнего времени:
«В химии новая эпоха начинается с атомистики (поэтому не Лавуазье, а Дальтон — отец современной химии) и соответственно с этим в физике — с молекулярной теории (представляющей в другой форме, но по существу лишь другую сторону этого процесса — с открытия превращения одной формы движения в другую). Новая атомистика отличается от прежних тем, что она (если не говорить об ослах) не утверждает, будто материя просто дискретна, а что дискретные части являются различными ступенями (эфирные атомы, химические атомы, массы, небесные тела) различными узловыми точками, обусловливают различные качественные формы бытия у всеобщей материи вплоть по нисходящей линии и до потери тяжести и отталкивания»[274].
Это единство прерывного и непрерывного при переходе противоположностей в современной физике приняло форму единства (и противоположности в единстве) «частицы» и «волны»: корпускулярная теория и кванты, пакеты частиц; волновая теория и волны стремятся объединиться в диалектическом единстве, в котором теория (единство корпускулярной и квантовой) правильно отражала бы действительность (единство частицы и волы, их противоречивое диалектическое единство).
Разумеется, было бы нелепо, если бы диалектический материализм связал себе руки провозглашением абсолютной истиной теперь достигнутой «картины мира». Познание идёт всё глубже и глубже. Однако, характерна здесь определённая тенденция развития, которая замечательно подтверждает законы диалектики. Электромагнитная теория материи доказана, но она ещё написана только в контурах общей композиции, да и то частично. Но все новые черты, открываемые дальнейшим процессом познания, идут по линии объективной диалектики, протоны и электроны связаны с волновым движением в эфире; открытие незаряженных частиц вскрывает единство и противоположность нового порядка (незаряженные частицы — нейтроны — против заряженных, позитроны, т. е. частицы с массой электрона, но положительно заряженные — против электронов, заряженных отрицательно; частицы с массой протона, но заряженные отрицательно, против протона, заряженного положительно) и т. д. (опыты Кюри, Жолио, Андерсена и др.)
Новейшее развитие естествознания разрушило метафизически-одностороннее представление о постоянстве химических элементов и здесь подтвердило диалектику в более «диалектической», если так можно выразиться, форме, чем она была у Гегеля. Гегель и здесь принёс её в жертву своему идеализму: из протеста против атомистики, химических элементов, и т. д. (у него самого под «элементами» разумеются «стихии» в духе древних греков, особенно Эмпедокла, т. е. земля, вода, воздух, огонь); из боязни материализма, он «перехлёстывал», перегибая палку в сторону абсолютизации, т. е. метафизического ограничения, целого, отрывая целое от частей. Атомистическая теория, её перерастание в электронную теорию, грандиозное развитие учения о периодической системе (в основе созданной Д. И. Менделеевым) — этого блестящего подтверждения закона перехода количества в качество — создало учение о превращении элементов на совершенно новой научной базе. Химия возвратилась до известной степени к алхимии, но без философского камня и без бога. Атомы были втянуты в этот процесс. Явления радиоактивного распада создали в этом отношении целую эпоху, подтвердив превращаемость вещества (радий-гелий и т. д.), исторический процесс изменения вещества (известно, что радий стал, так сказать, хронометром геологической истории, её масштабом, по которому определяют возраст почтенной матери-земли). Исторический, т. е. диалектический, взгляд на природу вонзился в самую её микроструктуру. «Первая брешь»— Кант и Лапласс (теория происхождения планет из туманностей. Автор.). Вторая — геология и палеонтология (Ляйелль, медленное развитие). Третья — органическая химия, изготовляющая органические тела и показывающая применение химических законов к живым телам (Ф. Энгельс, Диалектика Природы). Теперь «историческое начало» проникло ещё глубже и стало ещё универсальнее, создав базу для представления об исторической изменяемости всего. Это, конечно, великолепное подтверждение диалектического материализма: материализма, ибо налицо реальность качественной материи, диалектического, ибо налицо процесс диалектическо-исторического движения, с переходом одного в другое. Материализм Маркса оказывается диалектичнее идеализма Гегеля: Гегель отрицал «составленность» веществ из химических атомов, протестуя против разложения и фетишизируя, абсолютизируя целое: здесь его диалектика уже переходит в метафизику, а философия — в обывательское филистерство; а всё из-за боязни впасть в материализм! На Гегеле оправдалось справедливое положение Гёте (вторая половина!), приводимое Michelet, в приложении к его изданию гегелевской «Философии Природы» (из «Zur Morphologie» Гёте):
«Человека рассудочного, подмечающего частности, зорко наблюдающего и расчленяющего, в каком-то смысле тяготит все то, что проистекает из идеи и что возвращается к ней. Он чувствует себя в своём лабиринте как дома и не ищет путеводной нити, которая поскорее вывела бы его наружу. И, наоборот, человек, стоящий на более высокой точке зрения, слишком легко проникается презрением к единичному и втискивает в умерщвляющую всеобщность то, что может жить только в обособленном виде»[275].
Здесь, в основном, Гёте нащупал своеобразную диалектику противоположного: целое, как — условно говоря — более живое, переходит в свою противоположность, в мёртвое по отношению к живой единичности. «Истинная диалектика» должна брать эти моменты в их конкретной связи, и это можно сделать лишь на материалистической основе.
Таким образом, развитие теоретической физики и химии за последние два-три десятилетия, создание новой физики и микрофизики, подтвердило учение диалектического материализма. Диалектическому материализму ни капли не страшны ни споры о законах, ибо в них выражаются поиски специфических закономерностей, ни нелепые идеалистические элабораты, вроде «свободной воли» электрона, идеалистического истолкования принципа Гейзенберга или такого же истолкования теории относительности Эйнштейна. Это — уродливые идеологические наросты на теле науки; их надо вскрывать и разоблачать. Но жить им осталось уж не так долго.
Итак, Ленин оказался прав в споре с «идеалистической физикой», и сама физика дала ответ на этот исторический вопрос.
Сложнее дело обстоит с биологией (и с физиологией, как её составной частью), здесь в настоящее время разыгрываются настоящие мистерии, в значительной мере в связи с тем, что, как мы упоминали, биология в стране свастики превращена в Staatsbiologie[276], в основу государственной доктрины фашизма, и поэтому была наспех переделана и в основе и в деталях. Но было бы совершенно неправильным видеть только эту, клозетную, часть современной биологии. Ибо последняя характеризуется гигантскими успехами экспериментальной науки, возникновением и колоссальным развитием генетики, завоеваниями гармонной[277] теории, поистине удивительными экспериментами по трансформации пола, жизни выделенных из организма комплексов клеток и органов и т. д. «Самодвижение» живого и его развитие — в учении о генах, хромосомах и т. д. ; связь — диалектическая связь — через теорию мутаций и с внешней средой; дарвинововское обогащённое учение, как процесс в целом, как развитие вида; павловское учение, как мадриалистическое учение о поведении индивидуального организма в связи со средой (т. е. внешними «раздражителями») — разве это все не говорит и о материализме, и о диалектике, хотя бы о ней ничего не знали многие из творцов и работников в данных областях знания?
Практическое применение и, следовательно, проверка истинности науки, стало огромным. Физика и химия в своих технологических выводах стали научной инженерией. Биология — зооинженерией и фитоинженерией. Старое бэконовское правило, что «scientia et potentia humana in idem coincidunt» получает подтверждение в исполинских масштабах общественного производства и воспроизводства, блестяще доказывая всю значимость природной необходимости материализма в противовес идеалистической телеологии, и обнаруживая всё большую истинность, всё большую адекватность бытию могущественного человеческого познания, освобождаемого пролетариатом от буржуазных цепей метафизического идеализма и идеалистической метафизики.
Глава ⅩⅩⅡ. О социологии мышления: а) о труде и мышлении, как общественно-исторических категориях
Материалистическая диалектика требует рассмотрения мышления в историческом процессе его возникновения и развития, в его связи с жизнедеятельностью общественно-исторического человека, т. е. прежде всего в связи с практикой, с трудом. Само мышление, как и язык — мы касались этого вопроса отчасти и мимоходом в другой связи — есть социальный продукт. Ещё в трудах Макса Мюллера, Лаз. Гейра и Л. Нуаре имелся достаточный фонд аргументов, которыми доказывалось происхождение языка и мышления из трудовой практики людей, и процесс образования понятий брался именно в этой связи. Новейшие исследования по истории языка и мышления — в частности и в особенности труды покойного академика Н. Я. Марра — дают огромный материал, подтверждающий эти положения. Нужно до конца, до последних глубин понять тот основной факт, что понятия, это клеточка мыслительного процесса, суть социально-историческая категория, продукт общественной истории, грандиозного человеческого опыта; любое понятие есть конденсатор этого опыта, сотрудничества — вольного или невольного, прямого или косвенного, обычно проходящего в формах борьбы — целого ряда поколений, преемственно громоздившихся одно на плечах другого. Когда налицо есть понятие и сросшееся с ним слово, то за ним стоит вся история, и из любого понятия и слова можно разматывать назад всю кинематографическую ленту исторического многосложного процесса. Это понимал, например, и В. Вундт, когда писал («Проблемы психологии народов»):
«…языковед должен трактовать язык не как изолированное от человеческого общества проявление жизни; наоборот, предположения о развитии форм речи должны… согласоваться с нашими воззрениями о происхождении и развитии самого человека, о происхождении форм общественной жизни, о зачатках обычаев и права»[278].
Нуаре прямо писал («Urspung der Sprache»[279]):
«Язык и жизнь разума вытекли из совместной деятельности из первобытного труда».
Исторически первоначально данное, исходное отношение между человеком и миром, это есть практически — трудовое отношение общественного человека к природе. Это доказывается не абстрактными соображениями, а горами фактического материала. В общении, в обобществлении опыта, развивались мышление и язык. Мы уже видели, как сбрасывание субъективного шло через сравнение индивидуальных опытов. Повторение индивидуальных опытов и повторение этих бесчисленных сравнений, первобытный «обмен опытом», и приводили к обобщениям, т. е. к переходу от «единичного» ко «всеобщему», от единичного соотношения с единичным, конкретного чувственного соотношения между человеком и предметом труда и «среды» вообще,— к схватыванию в понятии многих «опытов» многих людей. Это обобществление опыта и отражалось в образовании понятий. То же и с речью, нераздельно слитой с мышлением. «Всякое слово уже обобщает»[280] — замечает Ленин в связи с ссылкой на Л. Фейербаха («Философские тетради»). Практический корень образования понятий, как мы уже видели, отложился исторически даже в самом названии, ибо «begreifen», «concipere» — значит «схватить» слово; «понятие» происходит от «яти», то есть «взять»; videre, видеть, ведать, wissen — значит видеть (глазом) и отсюда знать. И т. д. Не будем множить примеров, тем более, что раз мы об этом уже говорили. Теперь существует целая литература, разрабатывающая эти вопросы, причём особенно выясняется роль руки и глаза (у Гегеля тоже есть на этот предмет довольно тонкие замечания). Естественные орудия (рука, глаз; рука, как более «практический» орган, глаз, как более «теоретический»); искусственные орудия (техника); орудия мысли (и в то же время мыслительные отображения объективного мира) — понятия, выступают в их взаимной связи. Координация понятий точно так же есть социально-исторический процесс; когда исторически образовался известный запас понятий и слов, то дальнейшее расширение опыта уже влечёт за собою его мыслительную обработку в понятиях, в их связи, в их координации, опять-таки на основе непрерывного соотношения с внешним миром через процесс практического на него воздействия в первую очередь. Великая ошибка А. Богданова, создавшего своё учение о социально-организованном опыте, состояла не в описании обобществления опыта, а в идеалистическом его понимании, т. е. таком понимании, когда исчез объективный внешний мир, а «общезначимые» связи и отношения (например, научные законы) превратились в такой социальный продукт, которому ничто не соответствует в реальном объективном мире. Они сами были объявлены объективным миром: научная картина мира превратилась из отражения мира в самый мир. Если у Фихте творцом мира оказывалась «Я», то у Богданова творцом мира оказывались «Мы». Если у Канта законы мира (категории, упорядочивающие формы) творил трансцендентальный субъект, то у Богданова эти законы творило общество. Но и то, и другое, и третье — было чистейшим мифотворчеством, идеалистическим мифотворчеством. Кстати, тут нужно отметить терминологическую игру и спекуляцию на тройном значении слова «объективный»: 1) объективный, как общественный (в противоположность субъективно-индивидуальному); 2) объективный, как соответствующий действительности (в противоположность какому угодно субъективизму, как несоответствующему действительности); 3) объективный, как вне объекта находящийся, от субъекта независимый. Материалистическая диалектика считает, что процесс познания есть общественный процесс; что он означает познание действительного, вне субъекта и субъектов находящегося мира (что не исключает того, что и сам субъект может рассматриваться, как объект); что понятия, их системы, картина мира, научная картина мира суть продукты социальной деятельности людей, но отражающие действительный объективный (в третьем смысле) мир. Познание предполагает предмет познания, а не вертится на холостом ходу. Объективный мир есть объект овладевания в его двуединой форме: практического теоретического. И процесс образования понятий, и процесс их координации включает практику, как свою основу. Маркс в «Немецкой идеологии» замечает, что сознание не может быть ничем иным, как сознанным бытием. Следовательно теория не может, в конечном счёте, быть ничем иным, как теорией практики.
Историческое рассмотрение вопроса приводит и выводу, что теоретическое мышления, как более или менее самостоятельная функция, выделилась из практики лишь на определённой ступени развития. Ещё Аристотель замечал, что теоретическое мышление появилось тогда, когда были удовлетворены элементарные материальные нужды и освободилось время для «самостоятельного» мышления. Мышление сопутствовало и раньше трудовому акту (в своих зародышевых формах). Ибо сопутствовало и раньше трудовому акту (в своих зародышевых формах). Ибо субъект труда не есть механическая вещь. Правда, как замечает Гегель в «Философии Природы», «механическое овладевание внешним объектом есть начало»[281]; но и в процессе этого овладевания субъект овладевания есть живой и мыслящий (хотя бы и в зародышевой форме) субъект. Но лишь образование прибавочного продукта (и, соответственно, «досуга») выделяет мыслительные функции, как более или менее самостоятельное начало. Этот процесс (исторический процесс) блестяще выяснен в работах Маркса и Энгельса, лапидарно сформулирован в гениальных фрагментах «Немецкой Идеологии». Образование, на основе роста производительных сип, прибавочного труда; возникновение социально-классовой дифференциации на основе разделения труда с обособлением умственного труда; появление того, что Мерке называет 2ideologische Stande» («идеологические сословия»); направление мышления на определённые объекты под влиянием практических потребностей; возникновение на этой основе зародившихся форм науки — все эти процессы довольно ясны, и можно было бы привести бесчисленное множество фактов, доказывающих эти положения на истории любой науки; астрономии и ботаники, геометрии и механики, языкознания и теоретической физики и т. д. Это сознавалось и Гегелем, и постольку он иногда прямо подходил к историко-материалистическим постановкам вопроса. В «Лекциях по философии истории» он говорит: «Человек со своими потребностями относится к внешней природе практически»[282] и тут же даёт определение орудия труда, которое по существу перешло в Марксов «Капитал».
Гегель рассматривает практику как звено силлогизма, вещь, на первый взгляд чудовищная. Но Ленин отмечает: «Это не только игра», ибо здесь подход к истине через практику. И, в другом месте, по поводу «заключения действования»:
«И это — правда! Конечно, не в том смысле, что фигура логики инобытием своим имеет практику человека (=абсолютный идеализм), а vice versa[283] практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется сознании человека фигурами логики» («Философские тетрадки»).
У Гегеля мы находим весьма глубокие мысли в сфере трактуемой проблемы. Практика имеет дело с единичным, чувственно данным, непосредственно конкретным. Теория — с общим, всеобщим, не данным чувственно, мыслительным, абстрактным. Диалектическое познание (вспомним учение о втором конкретном) от абстрактного восходит к конкретному, объединяя анализ и синтез, теорию и практику, единичное и общее, и это общее схватывая в его связи с конкретными определениями.
Или — как замечательно сказано в «Философии Природы»:
«С постижением… наивнутреннейшей сущности природы, односторонности теоретического и практического отношения к ней снимается и вместе с тем удовлетворяются требования обоих отношений. Первое содержит всеобщность без определённости, второе — единичность без всеобщности. Постигающее в понятиях познания представляет собою средний член… Постигающее в понятиях познание есть таким образом единство теоретического и практического отношения к природе»[284].
Нетрудно видеть, насколько был прав Ленин, когда, «читая Гегеля», настаивал на моменте практики у него не как на искусственном, внешнем моменте, а как на моменте самого диалектического познания (единство теории и практики «именно в теории познания» — подчёркивал Ильич).
Разумеется, у Гегеля все это дано на идеалистической основе. Онтологически у него речь идёт об абсолютной идее. Именно «абсолютная идея есть… тождество теоретической и практической идей, из которых каждая для себя односторонняя» («Наука Логики» Ⅲ гл.)[285].
По этому поводу Маркс сжато отвечает Гегелю, вполне исчерпывая вопрос (Einleitung zu einer Kritik der politische ökonomie[286]):
«Гегель впал (geriet) в иллюзию, что реальное следует понимать, как результат восходящего к внутреннему единству, в себя углубляющегося и из себя развивающегося мышления, между тем как метод восхождения от абстрактного к конкретному есть лишь тот способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его духовно (geistig) как конкретное. Однако это ни в коем случае не есть процесс возникновения самого конкретного»[287].
Практический корень мышления, трудовой его корень, отложился и в обозначениях методов познания: «анализ», т. е. буквально «развязывание», отображение материального процесса дробления, расчленения предмета; «синтез» — буквально «совместное полагание», «сборка частей». По сути дела вся трудовая практика в её миллиардном повторении и в пространстве, во многих местах и многими людьми, и во времени — сводится к комбинированию материальных элементов природного мира, к их разложению на различные элементы и к составлению целого — физического или более сложного (не механического) химического порядка. Поэтому и движение логических категорий, и «фигуры логики» отражает и выражает этот процесс. Но и такие методологические понятия и мыслительные процессы, им соответствующие, как индукция и дедукция отражают движение от конкретно-практического к абстрактно теоретическому и от абстрактно-теоретического к конкретному практическому. Кругооборот Практика — Теория — Практика (П-Т-П’) получает точно так же своё отображение в мышлении и в мышлении о мышлении.
Миллиарды раз повторяющийся опыт, сравнение его многими людьми, непосредственное овладевание предметами внешнего мира многими и сличение этих частичных овладеваний, обобщение трудовой практики через её обобществление и приводит к мышлению обобществлённого человека, с соответствующими категориями.
Но при разделении труда и образовании классов, при превращении общественной собственности в частную, при распадении целостного отношения к миру на отношения практические и теоретические, эти распавшиеся и обособившиеся противоположности застывают в противоположности образовавшихся социальных групп (в развитой форме — классов). В этой социально-классовой иерархии нижние ступени представляют физический труд, верхние — умственный. Таким образом движение от практики к теории, от конкретного ко всеобщему, от труда к мышлению имеет ещё общественно-материальный коррелат в общественно-исторической форме, как форме организации разделённого общественного труда во всей его совокупности и во всех его многосторонних определениях (от материального производства до самых «высших» областей идеологической активности).
Таким образом целостность раздвояется на параллельные и симметричные противоположности:
Практика — работники физического труда (низшие классы) — конкретное, единичное.
Теория — умственный труд (высшие классы, «ideologische Stande»[288]) — абстрактное, всеобщее.
В обособлении теории от практики, в образовании особых классовых функций (монополизация знаний на основе монополизации средств производства, командующие и идеологические функции князей, жрецов и т. д. ), в выделении общественного мышления и сосредоточения его в наиболее «высоких», отдифференцировавшихся формах у определённых социальных групп, и заключается основа «ответа» абстрактного от конкретного, отрыва «всеобщего» от «единичного», гипостазирования понятий, превращения их в самодвижущиеся независимые сущности, т. е. основа важнейшего и коренного идеологического извращения, когда весь мир начинает плясать на голове.
Теперь мы видим, как в идеалистической форме, шиворот навыворот, Гегель в кажущихся чудовищно-дикими положению о практике, как члене силлогизма, выразил в перевёрнутом, идеалистическом, виде, действительные отношения. И Ленин, материалистически «читая» Гегеля, т. е. выискивая в его построениях рациональное зерно, освобождая его от идеалистической мистико-идеалистической шелухи, переводя его на язык материализма, сразу заметил, что здесь есть глубокая мысль.
Таким образом мы видим, что обычные категории обычных буржуазных философий оперируют по сути дела с фантазмами, пустыми абстракциями, социально-генетически объяснимыми, но тем не менее пустыми. Процесса мышления нельзя понять в отрыве его от общественной предметной практики. Процесса мышления нельзя понять вне рассмотрения общественного бытия и общественного сознания. Процесса мышления нельзя, следовательно, понять из худосочных абстракций односторонне-взятой интеллектуальной функции, превращённой в верховное, философское «Я», которое иногда даже воображает, подобно сошедшему с ума пианино Дидро, что в нем разыгрываются все мелодии мира. Робинзонады, т. е. изолированные «Я», так же мало допустимы в качестве субъектов философии, как они недопустимы в области теоретической экономии. Марксизм изгоняет их и оттуда, и отсюда. А, следовательно, социология мышления является prolegomena[289] ко всякой действительной философии.
Глава ⅩⅩⅢ. О социологии мышления: б) «о способе производства» и «способе представления»
Но здесь мы переходим в область рассмотрения другой проблемы, а именно известного социоморфизма общественного сознания, т. е. к проблеме «способа представления» (Vorstellungsweise), который, по Марксу, соответствует «способу производства» (Produktionsweise).
Зависимость мышления от социальных позиций мыслящего, существование общественно-исторического «стиля мышления», «духа эпохи», «доминанты» и т. д. ощущались, как проблема, ещё в тех же тропах Пиррона, но не были выражены ясно. У Фр. Бэкона в его учении об «idola»[290] (idola tribus, idola theatre[291]) эта проблема уже была поставлена в довольно яркой форме, как учение о предвзятом общественном мнении или заблуждении, сквозь которое проходит всякое дальнейшее суждение. В новейшее время софистицированный марксизмом известный полукатолический философ Макс Шелер занимался специально проблемами социологии знания и в своей капитальной работе о социологически-определяемых формах знания и в своей капитальной работе о социологически-определяемых формах знания («Wissensformen») выработал даже целую таблицу господствующих идейных ориентаций, специфических, с одной стороны, для — как он выражается — «Oberklasse»[292] с другой — для «Unterklasse»[293].
Маркс, как известно, выставил положение о том, что «способ производства» определяет собою «способ представления». Под способом производства Маркс (Капитал, т. Ⅱ) понимает «тот особый характер и способ», каким соединяются «личные и вещественные» факторы производства.
Этот способ производства «различает отдельные экономические эпохи социальной структуры», отдельные «общественно-экономические формации». Под «способом представления» — ту идеологическую форму, в какую укладывается познавательный материал[294].
Эта зависимость не высосана из пальца и не представляет собой продукта априорного соображения. Эта зависимость есть реальный факт, и какое бы общество мы ни брали, мы видим в нём некоторые генеральные формирующие идеи, которые являются идеологическим рефлексом совершенно определённого способа производства, идеями-доминантами господствующего класса, носителя данного способа производства, а нередко и класса-антагониста, мыслящего в тех же общих формах.
С выделением частной собственности, раздвоением обществ на классовые противоположности и поляризацией классов, с раздвоением труда на умственный и физический труд, командующий и подчиняющийся дуализм материи и духа стал всеобщей формой мышления, всеобщим «способом представления», с его более конкретными вариантами, соответствующими различным типам классовых обществ, различным «способам производства».
Человек раздвоен на две сущности: душу и тело, дух и плоть. «Наше всё существо заключается в духе и теле; дух у нас вроде господина, в теле же мы имеем скорее раба» — читаем мы Саллюстия (De Calilinae coniuratione, Ⅰ[295]).
Душа — активное, командующее, целевое начало; тело — пассивное, инертное, страдательное начало. В период раннего родового строя, в эпоху первобытного анимизма, самая душа представлялась маленькой копией всего человека, в него вложенной, которая определяет его поведение. Потом она все более спиритуализировалась, превратилась в энтелехию, в невидимую и чувственно не воспринимаемую духовную субстанцию, противопоставленную материальному телу.
Мир точно так же раздвоен на два начала: мирового духа, бога, творца и зиждителя, или «первый толчок», или промысел, провидение, или все наполняющий собою неопределённый безличный дух. всеобщий принцип энтелехии, цель в себе,— во всяком случае активное, определяющее, командное начало; ему противостоит материя, нечто инертное, внешнее, пассивное, страдательное, повинующееся, грубое.
В этих формах вращалось по сути дела всё мышление. Они могли быть — и были — более антропоморфными, личными, или менее антропоморфными, безличными, но они существовали, как тип социоморфизма, как отражение основной черты раздвоенного общества, вся реальная жизнь которого была пронизана этим глубочайшим раздвоением. После того, что мы уже говорили, этот факт не кажется странным; если практика целиком проходит в этих формах, если они являются формой общественной бытия, то естественно, что они являются и формой общественного сознания, как сознанного бытия. Общественная структура для мышления оказывается чем-то похожим (при всей условности аналогии!) на структуру органов чувств — для ощущения. Ощущение есть и в индивидуально-биологическом, в чисто биологическом индивиде. Мышление — только в обобществлённом индивиде, в общественном человеке. Оно — «Abbreviatur», сокращённый слепок, обобщение общественной практики, проходящей в полярностях (речь идёт о классовых обществах — подчёркиваем это обстоятельство). Поэтому — в особенности с точки зрения господствующего класса и его «ideologische Stände» — человек раздвоен, мир раздвоен и даже понятие, как всеобщее, оказывается командующим принципом по отношению к единичному, в этом гипостазировании общего и его обожествлении — идеализм всех видов, а в образовании понятия в зародышевой форме, как определял Ленин, уж дана возможность идеализма. Она становится действительностью потому, что «фабриканты идеологии» мыслят в адекватных своей социальной позиции формах.
Рабовладельческие великие деспотии древности — Египет, Вавилон, Ассирия — были громадинами, внутренняя структура которых характеризовалась неимоверным пафосом дистанции между командующей теократической верхушкой и рабским основанием социальной пирамиды. И в соответствующих космогониях, как идеологии, отражался в своих основных чертах этот общественный строй, порядок. Можно даже проследить по эволюции богов эволюцию социальной экономической структуры. Представление Аристотеля о Космосе, на которое мы ссылались выше, разве не были слепком с государства Александра Македонского, с соответствующей «идеализацией» и «сублимацией категорий»?
Феодальные религии, начиная с западно-европейского феодализма и кончая, например, так называемым «кочевым феодализмом» монголов, разве не соответствовали полностью феодальной общественной структуре? Стоит, например, взять «Summa theoligiae» Фомы Аквината[296], с её иерархией «форм», чтобы сразу увидеть, что это есть слепок с феодальной общественной организации. Почему в феодализме бог носил обычно черты личного бога? Потому что феодальные отношения были открытыми формами личных зависимостей. Почему с переходом к капитализму бог спиритуализировался? Потому, что выступила, как структурная особенность общества безличная власть денег, власть рынка, его «стихия». (Разумеется, нигде и никогда не было «чистых» общественных типов, и поэтому в способах представления не было тоже абсолютной чистоты). Почему в настоящее время в странах фашизма совершается переход от категорических императивов, ниспосылаемых богом, как неопределённым «принципом», «субстанцией» и т. д. к иерархически построенному Космосу со ступенчато расположенными ценностями и с личным богом в главе, вплоть до Вотана, подкреплённого склоняемой во всех падежах Судьбой? Потому что «феодализации» капиталистических производственных отношений соответствует «феодализация» «способа представления» на общем кризисном базисе. Почему философия буржуазии от метафизики неопределённых категорий переходит к теологической мистике? По той же причине. Нетрудно показать, что элементы каторжного «корпоративного» государственного капитализма и монополий, характерные для фашистского «общества», переориентировали всю идеологию господствующего класса: всю науку, философию, религию. Центральной идеей, идеей-доминантой стала идея иерархического целого, с иерархией ценностей, как чинов и «сословий» (т. е. классов), с порабощением низших, как неполноценных. Мы уже достаточно убедились в этом на предыдущих страницах. Почему в СССР религия, как форма сознания, отмерла? Потому что уничтожена её социальная база. Почему в СССР диалектический материализм становится мировоззрением всех, всеобщим мировоззрением? Потому что здесь угасает классовое общество. Потому что теория объединяется с практикой. Потому что заполняется пропасть между умственным и физическим трудом. Потому что уничтожается тысячелетний дуализм общественной жизни. Если бы не было этих основных факторов, то никакие декреты не достигли бы своей цели и никакие бы мероприятия не смогли истребить привычного «способа представления», и та же религия процветала бы ещё долгое время.
Подчёркиваем особо ещё раз: речь отнюдь не идёт о том, что мировоззрение в целом и наука набиты одними слепками с социальной жизни общества в узком смысле слова; речь не идёт о том, что, например, теоремы геометрии суть отражения общественных групп, или что ботаника отражает в учении о вегетационном периоде классовую борьбу, или что номенклатура лекарств есть зашифрованная запись общественных ячеек. Такой взгляд и глуп, и туп, и ограничен. Речь идёт о стилевых моментах мышления, о таких формах, в которых оно движется в своём общественном масштабе, о таком способе представлений, который отнюдь не уничтожает самих представлений, как способ производства отнюдь не ликвидирует производства. Многообразен и велик мир, как объект познания. Многообразны его отражения, отражения этих бесчисленных моментов мира в его многоразличных связях и опосредствованиях. Но весь этот гигантский материал стремится уложиться в некоторые общие мыслительные формы, в способы представления, «особые способы» координации этих различных моментов, при чем дуалистическая концепция (в её различных вариантах) и вносит момент идеологического извращения действительных вещей, процессов и связей.
Неизвестен ни один факт (кроме СССР), когда бы господствующий класс в целом мыслил материалистически, т. е. и атеистически. Известны периоды, когда классы, стремящиеся к власти, на определённых этапах были настроены материалистически в лице своих довольно крупных фракций (энциклопедисты, например) — и это легко объяснимо. Известны многочисленные случаи, когда угнетённые классы своё мировоззрение формулировали в общих с угнетательским классам формах (ср., например, религиозную оболочку крестьянских войн и соответствующую идеологию всех фракций крестьян, ремесленников и даже подмастерьев). Известен случай, когда стремящийся к власти класс, складывает свою идеологию в формах противоположных и принципиально враждебных господствующему «способу представления»: это пролетариат, пролетариат, как носитель нового способа производства, социалистического способа производства, принципиально враждебного отживающему свой век капитализму.
«Противоположность между властью поземельной собственности, покоящейся на личных отношениях господства и порабощения, безличной властью денег прекрасно выражена в двух французских пословицах: „Nulle terre sans seigneur. L’argern’tna pas de maître“», («Нет земли без сеньёра». «У денег нет хозяина».) (К. Маркс, Капитал, Ⅰ). Теперь, в современном капитализме, власть капитала вновь персонифицировалась в олигархических семействах и их политическом выражении. Отсюда — изменение мыслительных форм и переход от безличной (хотя и с «душком» скрытого антропоморфизма) причинности, которая гораздо вернее отражала один из типов действительной связи действительного мира к явной проповеди последовательной телеологии; которая эту связь объективного мира извращает коренным и принципиальным образом. Переход к диалектической необходимости, как доминанте общественного мышления предполагает диалектически необходимый скачок «в царство свободы», в котором живёт пока лишь один Советский Союз.
Нетрудно показать, что такие ходовые на капиталистической ярмарке идеологические фетиши, как фетиши «чистой» науки, «чистого» искусства, «чистой» морали, «чистого» познания суть рефлексы отъединённых внешне изолироваемых функций, общественные связи которых, в силу разделения труда, исчезли из поля сознания. Соответствующие виды интеллектуального труда мыслятся не как части совокупного общественного труда, а как чистая деятельность «в себе». Соответственно и её продукты становятся «вещью в себе». Чем длиннее объективная цепочка разделённых звеньев труда, чем дальше отбрасывает она данный вид его от непосредственной материальной практики; другими словами — что тоже — чем абстрактнее данная сфера деятельности, тем ярче выступает тенденция к её «чистоте», и тогда категории этой деятельности превращаются в головах её субъектов в замену реального мира: символ математики становится, как у Пифагора, сущностью мироздания; норма морали у кантианца превращается «категорический императив», приказ из потустороннего мира; «закон природы» из необходимой связи вещей и процессов в определённом их сочетании — в нечто скрытое в вещах или стоящее над ними и ими управляющее, как некая особая сила. Словом, фетишизация категорий здесь налицо.
Из всего вышесказанного вытекает, что диалектически, т. е. всесторонне, понять само понятие можно только в связи с его материальными и общественно-материальными истоками, т. е. только с точки зрения диалектического материализма. То же нужно сказать и о научных или философских концепциях. Они должны быть поняты и в соотношении с внешним миром, как объектом познания и «логически», и «социально-генетически»; и с точки зрения внешнего мира, и с точки зрения их истинности, и с точки зрения преемственности и места в царстве идей, и с точки зрения их общественно-материального происхождения, и с точки зрения их функции в общественной жизни. Иначе будет сухое, одностороннее, метафизическое «понимание», т. е. неполное понимание или непонимание.
Здесь возникает один коварный вопрос, а именно: если познанию, как общественно обусловленному процессу в каждую эпоху свойствен социоморфизм, т. е. своего рода общественный субъективизм, то как возможно познание действительных отношений?
Однако, на этот вопрос, после всего вышесказанного нетрудно дать ответ.
Прежде всего, нужно сказать, что наличие своеобразных, фигурально выражаясь, структурных очков, не уничтожает ни на минуту самого предмета познания. Только крайняя ступень вырождения определённого способа производства, когда процесс познания превращается в процесс голого мифотворчества (в абсолютной форме этого, конечно, быть не может) приводит к исчезновению в сознании предмета познания. Обычно же налицо идеологическое извращение, корни которого сидят в двуединой и расколотой общественной структуре и в отрыве теории от практики. Однако, действительное историческое развитие, описывая огромный круг, вновь соединяет в социализме разобщённые классовыми обществами функции. Диалектическая триада идёт параллельно триаде: общая собственность — частная собственность (разные виды) — общая собственность. Эта триада есть: единство теории и практики — разобщённость теории и практики — единство теории и практики. Но как в первой триаде возвращение к исходному пункту есть возвращение на новой, обогащённой гигантски и неимоверно, основе, так обстоит дело и во второй триаде. Единство теории и практики в исходном пункте было жалким, ибо теории почти не было, а практика была бедна, как сума нищего. Единство теории и практики социализма, где уничтожается водораздел между умственным и физическим трудом, вырастает на базе исполинского богатства производительных сил, техники, науки, личных квалификаций работников. Это — не возврат к не расчленённой стадной сплошности и варварству первобытного коммунизма. Это новый строй труда, отрицающий частную собственность исчезающих формаций, но опирающийся на все их завоевания и чрезвычайно быстро двигающий труд и познание вперёд. Из этого и вытекает, что ему соответствует диалектико-материалистический метод познания, как «единство практической и теоретической идеи», выражаясь гегелевским языком. Но этот «способ представления» (таково его объективное свойство) как раз и ликвидирует идеологическое извращение, имевшее своим основанием разделение труда и распадение его на умственный и физический труд. Вместе с уничтожением дуализма в жизни, в бытии, уничтожается и дуализм в познании, т. е. тысячелетиями длившееся основное и глубокое идеологическое извращение. Ликвидация религии в сознании миллионов, это уже шаги великана по пути к полному освобождению познания и сознания от дуалистических его пут и оков. Таким образом и с этой точки зрения оправдывается положение Энгельса о предыстории и истории человечества.
Уточняя и суммируя этот последний вопрос, как вопрос о теории познания, т. е. диалектики, мы получаем следующее диалектическое движение:
Первобытный коммунизм Классовое общество Коммунизм Ⅰ Единство необходимости и цели Стихийная необходимость, как отрицание цели (это — в товарном и товарно-капиталистическом хозяйстве) Единство необходимости и цели Ⅱ Единство практики и теории, при теории, близкой к О. разрыв теории и практики единство теории и практики на обогащённой основе Ⅲ Единство анализа и синтеза при их смутности расчленение анализа и синтеза диалектическое единство анализа и синтеза Ⅳ Царство нерасчленённого конкретного царство абстрактного царство диалектического конкретногоИ так далее. Новый целостный человек, сам представляющий живое единство многообразных функций, и новое целостное общество, имеют и новое, истинно диалектическое и материалистическое мышление. «Способ производства» имеет свой совершенный исторически прогрессивный «способ представления».
Здесь нужно остановиться на одном чрезвычайно важном вопросе, без выяснения которого вся проблема социоморфизма познания не получает своего действительного решения и может, при своём неверном понимании, привести к своеобразным идеалистическим представлениям типа богдановского эмпириомонизма, т. е. одного из видов идеализма.
А именно: являются ли «социоморфические очки», как мы их метафорически-условно назвали, только общественно-субъективными формами, или за ними скрывается и внеобщественное объективное содержание? На этот вопрос нужно ответить утверждением его второй половины. Закономерность есть нечто объективное и от человека независящее. Необходимость есть связь вещей, процессов, равнодушная к самому факту наличия или не-наличия субъекта, который, даже существуя, может её открывать или не открывать. Поскольку он её открывает, источником является внешний мир и его действительные связи. Таким образом «закон», «необходимость», как нечто объективно существующее, отражаются в обобщённо-мыслительных категориях «закона», «закономерности», «необходимости», «телеологии» и т. д. Но они сами могут отражаться правильно или извращённо.
Рассмотрим здесь с социологически-философской точки зрения эту проблему. Возьмём для этого контроверзу необходимости — телеологии. Есть ли в реальном мире нечто действительно-существующее, что способно навести на ложный путь? Есть. Это, во-первых, практика самого человека. То, что в объективной связи, вне-человеческой связи, предстоит, как субъектный закон, то в целевой практике превращается в правило. Поэтому ещё Фрэнсис Бэкон формулировал эту связь так: «quod in contemplatione instar causae est, id in operatione instar regulae est», т. е. то, что в наблюдении есть причина, то в действии есть правило. Если на земле «от действия теплоты тело расширяется, то, чтобы расширить тело, нужно его нагреть». Во-вторых, следовательно, целеполагающая деятельность человека есть факт. В-третьих, как мы видели, в природе существует целесообразность post factum, как приспособленность, за спиной которой скрыта необходимость. Но социоморфизм познания, в условиях раздвоенного общества и сублимированных идеальных форм этого раздвоения, приводит к тому, что объективные закономерности природы, природная необходимость, отражается в общественном сознании человека, как сверхчеловеческая телеология. Если мы имеем, например, форму «анимистической причинности», причинности как духовной внутренней «силы вещей», то здесь берётся объективная причинность, извращённая в сознании по типу человеческой телеологии, с раздвоением предмета на его «закон» и «факт», с трактовкой причины, как активно духовного начала по отношению к косной материи наподобие управляющих родовых старшин, приказывающих обыкновенным смертным и т. д. Поэтому впоследствии само понятие «закона» (природного закона) оказалось связанным генетически с понятием юридического закона, и на учении о т. н. «естественном законе» можно проследить всю диалектику развития в этой путанице и извращениях, имеющих прочность народного предрассудка.
У А. Богданова, у которого исчезает объективный предметный мир, а его научно-обработанное отражение («научная картина мира», «социально-организованный опыт») заменяет и подменяет собою реальность вне нас существующую, соответственно получается, что категории связи (такие, например, как анимистическая причинность) суть не социоморфически трансформированные (и извращённые в ряде случаев) отражения объективного, а только одна проекция общественных связей, вне источника в материальном природном мире. Эта односторонность (антидиалектическая) у него так раздулась и распухла, что привела к настоящему социо-морфотворчеству и в данном пункте. И здесь правильное решение задачи может дать только материалистическая диалектика.
Глава ⅩⅩⅣ. О так называемом расовом мышлении
С марксистской точки зрения пролегоменами философии являются предпосылки социологического характера.
С точки зрения «теории» современного фашизма такими пролегоменами являются предпосылки биологического, конкретнее, расового характера.
Как ни мизерабельна и как ни убога идеология националистических башибузуков фашизма, о ней нужно сказать несколько слов, ибо логическая несостоятельность и логическая низкопробность фашистской концепции не мешает ей быть известной общественной силой, идеологической силой контрреволюции.
Теоретики расовой биологии утверждают, что важнейшим, решающим, определяющим моментом типа мышления, более того, типа психической жизни вообще (инстинктивно-бессознательного, в психологии, идеологии — и нормативной, и теоретической) является раса, как первично данный формообразующий фактор. Раса, как «народность», «Volkstum», определяет собой добродетели, и пороки, и тип мышления, и науку: теория относительности Эйнштейна, например, относится к еврейской науке и подвергается тем самым остракизму; говорится без стеснения о семитической и арийской физике, математике и т. д. Правда, господа идеологи всей этой чепухи не спелись в основных вопросах: то они искали признаков расы во внешне-материальных вещах и процессах (составе крови, форме черепа, цвете волос и глаз, длине носов, величине лицевого угла, соотношении туловища и ног и т. д.); то хватались за соотношение с землёй и определёнными географическими факторами; то, убоявшись материализма, начинали апеллировать к «внутренним» свойствам, вроде «немецкой верности», «чести» и другим тевтонским добродетелям, включая добродетели пресловутой «белокурой бестии» Ницше, о которой столь много писалось и говорилось за последнее время. В итоге получилась дикая каша: ибо игра с черепами и волосами привела к невероятной путанице и часто к совершенно неожиданным результатам. Но она вступила и в принципиальный конфликт с идеалистической мистикой, потребовавшей отказа от материалистической интерпретации биологии, отказа от «внешнего». Однако, вводя всё более и более значительные дозы мистических врождённых и неизменных добродетелей, заменяя химический состав крови — «голосом крови», а длину черепа — «честью» и «верностью» в их рубацко-башибузукском понимании, идеологи фашизма окончательно запутались, и насквозь фальшивая теория стала быстро превращаться в нагло-крикливую и бессодержательную вербалистику.
Итак, всё же «учёные» фашизма исходят из наличия некое постоянной расовой апперцепции, т. е. «способа представления», определяемом не способом производства, а расой. Как, почему и что — остаётся туманным.
Но перейдём к разбору основных тезисов этой «теории».
Здесь нужно отметить нижеследующие основные пункты.
Во-первых: никаких чистых рас нет. Берём, например, японцев, ближайших друзей немецкого фашизма, «восточных пруссаков», произведённых некоторыми, особо старательными борзописцами фашизма в арийцы. Проф. Конрад (см. Очерк японской истории[297]) сообщает, что японцы этнически сложились из:
a) переселенцев с материка (главным образом через Корею), частично со стороны Тихого Океана (из монгольского, т. е. манчжуро-тунгусского мира);
b) из выходцев малазийско-полинезийского мира;
c) из переселенцев с южного побережья Китая (предки нынешних племён лоло и мяоузы);
d) из ещё более ранних переселенцев островов: Эбису (айну) в Средней и Северной Японии, кумасо (хаято) — на Кюсю.
В мифологии эти процессы отложились, как напластования племён: «божества земли» (тиги), «боги небес» (тэндзин), «потомки неба» (тэнсеон). Центром объединительного антрополого-этнографического процесса было племя тэнсон, наряду с племенем идзумо, как основной стержень племени ямато, как племя-завоевателя. Но не нужно думать, что перечисленные компоненты были «чистыми». На самом деле они, в свою очередь, являлись сложным продуктом этнического скрещивания. Так обстоит дело с «восточными пруссаками», т. е. японцами, необычайно гордящимися (в лице националистических идеологов) своей расовой чистотой, как чистотой избранного богом народа.
Возьмём теперь германцев, ныне руководимых господами расистами. Только абсолютно невежественный человек может соглашаться с тезисом о чистоте «германства» (или какого-либо варианта, вроде «нордической расы»). Германские, кельтские, славянские, литовские, романские элементы (вплоть до эмигрантов-гугенотов, потоком хлынущих когда-то из Франции),— всё это смешалось в одну национальную массу (мы не говорим уже о евреях и других этнических группах, вроде мадьяр). В свою очередь, каждый из этих составных элементов тоже продукт смешения. Характерно, что отцы германской расовой идеологии были все не-немцы по происхождению: X. Чемберлен — англичанин, де Лагард — француз, Евг. Дюринг (бывший яростным антисемитом) — выходец из Швеции по предкам. Что касается арийского происхождения германцев (наиболее чистыми арийцами обычно считаются персы — иранцы и индусы, хотя некоторые «наиболее чистых» персов — иранцев сближают как раз с «наиболее чистыми» семитами, евреями), то новейшие исследования лингвистического порядка показали близость германцев к сванетам и этрускам, т. е. к народам т. н. яфетической группы, которыми пристально занимался покойный ак. Н. Я. Марр[298] (см. Friedrich Braun: Die Urbevölkerung Europas und die Herkunft der Germanen). Мы оставляем в стороне работы, доказывающие еврейское происхождение германцев (Sebald Herman), упоминая об этом лишь для иллюстрации дикой путаницы. Но достаточно здесь указывать на расплывчатость самого понятия арийства: что общего по внешности между индусом и персом — с одной стороны и шведом и пруссаком с — другой? Что общего между браманизмом и буддизмом в Индии и религией Вотана Тора — в германо-скандинавских мифах? Как будто маловато.
Любой серьёзный человек, признавая, разумеется, существование исторически сложившихся рас и исторически сложившихся наций, будет с полным правом отрицать их определённость и их чистоту. Чистота рас, это — миф, творимая легенда. Но ещё глупее тезис о чистоте наций, которые уже в историческое время сложились, как нации, причём в этот процесс включался и процесс антрополого-этнографического порядка, как процесс скрещивания разнородных этнических моментов.
Во-вторых. Совершенно неверен тезис о постоянстве расовых (или национальных) «душевных свойств», ориентации, психологических доминант, идеологических установок. Конечно, есть известные относительно более устойчивые моменты, из которых складывается т. н. «национальный характер» и которые связаны с особенностями географическо-климатического порядка и т. н. «исторической судьбы», т. е. конкретными особенностями исторического процесса. Но эти моменты поистине quantité négligeable[299] по сравнению с громаднейшими историческими переменами в психологии народов. Германия тому лучший пример. Одно время (во Французской революции) немцы считались «варварами». Потом они превратились в мечтательный народ, населяющий «страну поэтов и философов» (Dichter und Denker). В начале строительства железных дорог про немцев писалось, что они неспособны к индустриально-торговой жизни, и что железные дороги противоречат спокойно-патриархально-меланхолическому складу, и характеру немецкого народа. Немцы де — не итальянцы, с их банкирскими конторами, торговлей, заморскими операциями, промышленностью и т. д. Затем немецкий национальный характер стал характером самого промышленного в Европе народа. А теперь фашисты воспитывают солдатчину, казарму, кровавую захватническую воинственность и т. д. Страна поэтов и мыслителей превратилась в страну ландскнехтов и преторианцев.[300] А во что превратилась т. н. «âme slave», «славянская душа» русских? В свою полную противоположность. Ибо коренным образом изменились условия социального бытия. А какие громадные перемены происходят, например, в Китае, который из страны косной, неподвижной, с прочнейшей рутиной и несравненным традиционализмом, превратилась в кипящий котёл войн и революций, напряжённейшей и трагической борьбы и крутых смен всех основных ориентации? И т. д. И т. п.
Отсюда ясно, что утверждать постоянство психологических и идейных доминант, якобы имманентных наций (и тем более рас) является сущим вздором, ровно ничем не оправдываемым. Относительно-устойчивые моменты — бесконечно-малая величина по сравнению с подвижностью, обусловливаемой не постоянной климата, а переменной — социального бытия.
В-третьих, совершенно диким является обоснование антисемитизма и объявление семитов культурно-отрицательной величиной, «азиатской чумой», как выражался ещё Дюринг.
К семитам, как известно принадлежат:
1. Арамейцы (сирийцы и халдеи);
2. Ассирийцы и вавилоняне;
3. Арабы;
4. Финикийцы;
5. Евреи.
Нужно быть круглым невеждой, чтоб не знать громаднейшей культурной роли этих народов. Известна халдейская астрономия. Известна великая культура Ассирии и Вавилона, и каналы, великолепные дороги, дворцы, храмы, крепости, гигантские мировые города (Вавилон, Ниневия), архитектура, скульптура, литература, письменность, законодательство, астрономия, медицина, математика, инженерное искусство и т. д. и т. п. До сих пор сохранились традиции вавилонского календаря, счёта, медицинских рецептов и прочее, не говоря уже о преданиях вавилонского происхождения (через Библию евреев). Арабам принадлежат замечательные открытия в области математики, географии, медицины, философии, литературы, архитектуры и т. д. Испания под арабским владычеством была культурнейшей страной со славными университетами. Через арабов Европа сохранила великих греков, в том числе и Аристотеля. Арабы в годы их процветания в Европе были поистине светочами культуры. А старинные и таинственные финикийцы? Кто не знает о финикийском алфавите? О замечательных финикийских городах и колониях? Об отважных путешествиях вплоть до Немецкого Моря и до Цейлона? О великом Карфагене, бывшей финикийской колонии, которая превратилась в могучую республику, оспаривавшую гегемонию у самого Рима в пунических войнах, где развёртывался военный гений Ганнибала Барки? А еврейская Библия не стала настольной книгой европейских народов? А полумифический еврейский Мессия не стал богом Европы? Круглоголовые Кромвели распевали псаломы, американские пионеры, основатели Соединённых Штатов, воевали с этими песнями на устах, а уж о Европе нечего говорить. Великий ум Спинозы, сверкающий талант Гейне, сверхгений Маркса, научный гений Эйнштейна — разве это свидетельство отсталости и неполноценности евреев? Антисемитизм, поистине, есть «социализм» дураков — как это заметил ещё старик Август Бебель.
В-четвёртых. История говорит нам о переменчивой исторической роли разных рас и наций, а вовсе не об однозначимом процессе. Расы и нации меняются местами в зависимости от очень сложных исторических причин, и в связи с этим меняется и их культурно-историческая роль. Не представляют исключения и чёрные расы, обладавшие когда-то стариннейшими цивилизациями. Государство черных, Мерое, владело одно время всем великим Египтом. Затхлый в ⅩⅩ веке Китай был когда-то очагом великой цивилизации. Отсталая Россия стала передовой страной социализма. Расы, народы, нации развиваются не равномерно. Здесь всё подвижно, а не заперто на замок каких-то априорных сущностей внеисторического характера. Что касается мессианской роли, которую приписывают фашисты «нордической расе», то — в разных исторических вариантах и на различной исторической почве эта идеология встречалась у очень многих народов, начиная с евреев, как «избранного народа». А «народ-богоносец» и миссия России у славянофилов[301], Хомякова, Киреевских, Аксаковых, К. Леонтьева и др.? А мессианство японских самураев и их идеологов и практиков типа Араки? A mania gloriosa Муссолини с проповедью всемирно-исторической роли нового Рима? Довольно перечислять, ибо этим можно заниматься долгое время.
В-пятых. Расистская позиция приводит к совершенно изумительным результатам в своём конкретном развитии. То А. Розенберг объявляет всю пролетарскую революцию в России восстанием монголоидов против арийской верхушки немецко-арийской императорской бюрократии. То явные монголоиды, японцы, превращаются в арийцев на потребу текущей фашистской политики. То яростно доказывается, что Иоанн, Иисус и апостол Павел были чистыми арийцами в иудейском окружении. То христианство объявляется чумой и заменяется чисто-арийско-нордической религией «бога виселиц» Вотана. То устами Дрисманса творчество Данте, Микель-Анджело, Леонардо да Винчи, Торквато Тассо объясняется проникновением в Италию германских долихоцефалов. То воспеваются романско-римские добродетели муссолиниевских когорт. То расточаются восторги по адресу немецкой науки во время войны. То из страны фактически изгоняется великий химик Габер, который прямо спасал Германию своими открытиями (азот из воздуха), ибо он оказался иудеем. То в сочинениях Вольтмана Лютер объявляется воплощением победы германства над «римско-латинским клерикальным принципом, являющимся носителем еврейской деловой и юридической морали (!)». То Лютер объявляется изменником немецкому народу, затем христианство вообще есть еврейская чума. То Гёте объявляется великим выражением арийско-германского гения. То в сочинениях жены фельдмаршала Людендорфа — он смешивается грязью, как космополит и масон, и провозглашается физическим убийцей белокурого и истинно-германского Шиллера. И т. д.
Ещё забавнее, когда противопоставляются националисты разных наций. Так, германские фашисты объявляют большевизм русско-азиатской чумой, заносимой в Европу. А известный русский, философ-эмигрант С. Франк объявляет тот же большевизм западно-европейской чумой, занесённой в Россию. Вся эта беспомощная болтовня, вздорная от А до Z, тем не менее превращена в официальную идеологию и воспроизводится машинным путём на основе мощной германской техники…
В-шестых. Развитие мирового хозяйства, созданного капитализмом, создало и мировую культуру, идеологические установки которой диалектически раздвояются по классам. Кантианство, махизм, прагматизм и т. д. ; Шекспир, Гёте, Гейне, Толстой, Достоевский; Дарвин, Гельмгольц, Геккель, Фарадей, Максвелл; Дизель, Эдисон; Павлов; Резерфорд, Нильс Бор, Кюри; Бетховен, Вагнер, Дебюсси, Чайковский и прочие,— всё это вошло в мировой кругооборот идей. Марксизм, ленинизм — стали интернациональными явлениями. А взрыв бешеного национализма есть не имманентное свойство расы, а идеологическое и политическое выражение империализма у последней его черты, империализма у порога его гибели, что связано с гигантским обострением капиталистических противоречий и всеобщим кризисом капитализма. Inde ira[302].
Таким образом, современный фашистский «способ представления», как последняя антитеза социалистическому «способу представления», выражает собою не расово-биологическую антитезу, а антитезу классовую, общественно-историческую. Не в составе крови, не в цвете волос, не в национальных особенностях «в себе», не в вечных и внеисторических ориентациях рас и наций коренятся идейные установки борющихся в последней битве лагерей, а в общественно-исторически обусловленных классовых позициях, где полярно-противоположные классы являются носителями, представителями и борцами полярно-противоположных способов производства, быта, культур, идеологий, всей жизненной ориентации в совокупности е2 многоразличных функций.
Для решения философских проблем этот фашистский «способ представления» означает гигантский регресс: ибо он тащит понимание субъекта от абстракции общественного человека (что был в старой буржуазной философии) либо к биологическо-расовой, т. е. зоологической абстракции, либо к средневеково-теологическом «способу» иерархически-неподвижного мышления, мышления в категориях средневековой схоластики и мистики. Как он ни кичится своим антихристианством и антиазиатством, но в своём антиинтеллектуализме он повторяет и восточных мистиков, и отцов церкви и мистиков христианства. Ведь, это как раз они считали мышление чумой, язвой, адом; ведь это они объявляли разум порождением Сатаны, гулящей девкой. Ведь, это в «Упанишадах»[303] сказано, что, кто рационально познает, тот ничего не знает. Ведь это Лао-Тзе утверждал, что жизнь и рациональное познание несовместимы.
Ничто так не характеризует всей гнилости расово-мистической ориентации, как именно это отвержение разума. Биологические пролегомена мышления, как их понимают фашистские философы, на самом деле — идеологическая иллюзия. В действительности и здесь реально действуют пружины общественно-исторического процесса. Логика «биологии» здесь есть рефлекс конкретной общественно-исторической полосы, и анализ этой логики ещё раз блестяще подтверждает основные истины исторического материализма Маркса. Общественное бытие класса обречённого, гибнущего, делающего отчаянные зверские прыжки,— определяет собой и его общественное сознание. Отказ от рационального познания и замена его мистикой есть такое testimonium pauperitas[304], которое, с точки зрения всемирной истории, лишает этот класс права на историческое существование. Да не придерутся к этой формуле: она, конечно, метафора. Но она выражает действительность. Она означает, что тенденции прогрессивного типа, то есть тенденции жизни, стали несовместимы с существованием класса, который не может идти вперёд и смотрит назад, и только назад. Именно поэтому он вынужден вести борьбу против разума и разумного познания, развитие которого в его всеобщем масштабе угрожает всё больше самому бытию уходящего и гниющего эксплуататорского строя. Не на этих путях происходит обновление философской мысли современности.
Глава ⅩⅩⅤ. О социальных позициях, мышлении и «переживании»
Итак, расово-биологические предпосылки должны быть отброшены, вернее, сведены к тому минимальному значению, какое он занимает в действительности. В полной силе остаётся Марксово учение о «способе производства», определяющем собою «способ представления». Национальные особенности суть лишь добавочный коэффициент, конкретная «форма проявления» основного и решающего. При этом следует заметить, что эти особенности лежат и в особенностях («национальных» и т. д.) материальных условий жизни, т. е. самого способа производства в его данной исторической конкретности. Феодализм есть везде феодализм. Но, например, так называемый «кочевой феодализм» монголов имел свои особенности, точно так же, как русский феодализм по сравнению с западноевропейским. Американский капитализм имеет свои особые черты, объясняемые конкретно-историческими условиями развития Соединённых Штатов (свободные земли, относительно высокая зарплата, минимум феодальных отношений, социальный подбор европейских англосаксонских поселенцев и т. д.), точно так же, как и всякий другой капитализм. Рабовладельческий строй Эллады — это не то, что рабовладельческая теократия Древнего Египта и Вавилона. Кастовый социальный порядок Индии, социальный строй древнего Китая, государство инков и т. д.,— всё это имело и общие черты, и черты оригинальные. Именно такова диалектика общего и единичного. Но и в пределах одного и того же социального комплекса, разделённого на классы, профессии и т. д.— неизбежно возникают различные ориентации, причём решающую роль, как мы видели уже, играют классовые позиции.
Таковы общие предпосылки социалистического характера. Здесь нам хочется поставить в этой связи вопрос, который мы уже отчасти разбирали в нашей работе, а именно вопрос о мышлении, т. е. о мышлении в понятиях, и о так называемом «переживании» мира, что служит основой «непосредственного созерцания», противопоставлямого современным мистицизмом рациональному познанию вообще. С логической стороны этот вопрос уже разбирался нами; здесь мы его ставим снова под новым углом зрения, с ударением на генезисе и социальном значении этой «ориентации в мире», особенно в связи с модными увлечениями индийским (и восточном вообще) мистицизмом.
У Георга Зиммеля (см. его «Социологию», «Философию денег», «Социальную дифференциацию», а также работу о культурном кризисе[305]) большую роль играют два понятия: понятие социальной дифференциации (причём автор всё время сглаживает основное решающее деление на классы, в котором и выражается диалектическое раздвоение единого и биполярность классового общества, топя классы в понятии всевозможных «социальных групп») и понятие позиции, «Attitude», определяющее отношения данных индивидуумов к миру. С этой точки зрения отношения человека, как субъекта, крайне многообразны, его ориентации и его оценки многоразличны и переменны: он может относиться к миру пассивно-созерцательно; он может относиться к нему активно-практически; он может относиться к нему эстетически; познавательно-критически; наивно; религиозно и т. д.
Если все эти определения брать в их рациональной форме, то мы можем сказать что: 1) общественное бытие определяет собой общественное сознание; 2) что способ производства определяет собой способ представления; 3) что способ представления имеет свои конкретные «национальные» особенности по связи с национальными особенностями самого способа производства; 4) что внутри общества каждый класс развивает свои ориентации, оценки и т. д.; 5) что внутри классов есть варианты ориентации, в связи с характером групп; разделённого общественного труда; 6) что с переменой общественного бытия меняются и эти ориентации общественного сознания; 7) что многообразие ориентации может быть более или менее широким у той же самой группы и может быть умерщвлено при таком устройстве общества, когда специализация суживает жизнь до её предельной односторонности.
Установив эти предпосылки, мы можем сравнительно легко разобраться и в том вопросе, который con amore практикуется современным руссоизмом индусско-китайского образца, о чём мы говорили уже, разбирая книгу Th. Lessing’a, которого и пресловутый граф Н. Keyserling считает за высокий авторитет в индусской философии вообще и в индусской мистике в частности и в особенности.
Представляется на первый взгляд в высокой степени странным, парадоксальным и прямо непонятным, каким образом браманизм, а затем буддизм, будучи идеологией господствующих классов (мы не говорим о первоначальном периоде буддизма, когда легендарный Сакиа-Муни[306], бросив дворец, ушёл к нищим и убогим, стал заступником за «судра» и «бразида», развил учение о непринятии чувственного мира, сложился, как аскетическая система, вырос как учение чистого созерцания и т. д. Коротко говоря, мы объясняем это так:
Ни в одной стране не было такого дробного, строгого и застывшего деления на касты, как в Индии, где верхушка — «святые», парии — «хуже глиста в кишке собаки». Чтобы держалась этакая социальная пирамида, должны были выработаться совершенно исключительные методы воздействия на массы, такие, которые делали бы господствующую теократическую олигархию высшими существами, несоизмеримыми с обыкновенными смертными. Здесь оказались бы недостаточными такие нормы, как в Египте, где пафос дистанции, воплощённой в идее ранга, приводил к постройке колоссальных «вечных» пирамид, грандиозных статуй фараонов, обрядовой мистике и т. д. Здесь теократическая верхушка должна была на деле творить вещи, представлявшиеся чудом для других, оказаться способной на деле к тому, к чему не могли быть способны обыкновенные смертные. То, что обычно у господствующих классов является монополией знания, здесь должно было приобрести потенцированную форму, небывалую интенсивность, которая бы превращала теократическую головку в существо иного порядка. При застойном характере экономического и технического развития, «прогресс» мог идти здесь по одному направлению: по преобразованию самой физиологической (и следовательно психологической) природы человека-властителя. Это и было достигнуто индийской теократией. В самом деле. Послушаем нашего авторитетного мистика:
«Греческое слово Myste, мистика (μυω) означает — конец. Заканчивается здесь дыхание (Odem) (санскритск âtman, древнееврейское ruah):
Raja-Yoga и Tarîva (способности светло-бодрствующего сверхсознания) служат мудрецам Индии для сокращения вдыхания и выдыхания. Его полное подавление и выключение означало бы прекращение крово- и жизнеобращения; с этим совпадает достижение нирваны.
Это происхождение понятия „мистики“ указывает на последние глубины. Так как каждому акту (Fat) духа, как внимание, желание, самособирание, мышление и т. д. свойственно самонапряжение (Sichanspannen), которое телесно проявляется в непроизвольной задержке дыхания, то все… тайные учения Азии являются сборниками директивных правил и упражнений по концентрации, овладеванию и подавлению жизненного ритма (Lebens Laucher)» (230).
Что же отсюда вытекает?
То, что основой мистики индусских жрецов-мудрецов является физиологический тренаж плюс гипноз, доведённые до такого замечательного совершенства, до которого в Европе, ориентировавшейся на вещи, не доходили даже приблизительно. Застойности вещной культуры заменялась здесь гигантской культурой воли, направленной на преодоление воли,— это и есть «чистое созерцание», «погружения в предмет», «слияние с миром», «непосредственное переживание», «мистика», овладение своим телом и царством аффектов. Столетиями, из поколения в поколение, передавая свой опыт по наследству, подбирая особо способных, культивируя «аскезис»[307] и аскетические упражнения, создав целую громаднейшую культуру этого неведомого Европе тренажа, индийские мудрецы достигли такого совершенства, что стали по отношению к париям, судра и другим кастам на недосягаемую, ангелоподобную высоту. Все остальное (нормы поведения замкнутых каст, когда целуют след брамина и почитают его экскременты, а парию рассматривают как прокажённого, до которого нельзя дотронуться, не осквернившись; религиозное учение о переселении душ, где нарушение кастовых правил кажется перевоплощением в какое-либо особо позорное животное и т. д.) — опосредствовало эту (социальную дифференциацию).
Отсюда вытекают следующие характерные черты: концентрация внимания на человеке, его желаниях, воле и т. д., а не на предметах внешнего мира; пассивная позиция по отношению к внешнему миру, а не активная позиция овладения; напряжение воли для преодоления воли, т. е. культура чистого созерцания; концентрированность на аффективной стороне, а не развитие понятий; алогичность «духовного опыта», а не культура мышления, как такового. И т. д.
Конечно, не нужно думать, что всё это было «дано» в своей «чистой» форме. Речь идёт лишь о тенденции. Не нужно также думать, что вся индийская философия сводилась к мистике — такие басни рассказывают только неумеренные прозелиты индусского мистицизма. И совершенно нелепо было бы полагать, что созерцание заменяло работу, и что йоги кормили огромную страну. Такое представление об Индии так же нелепо, как «классическое» представление об Элладе, по которому гармонические греки ходили голыми, высекали статуи и философствовали, а хлеб насущный готовым ниспадал им в их божественные рты. И тем не менее, так как идеи господствующего класса обычно бывают господствующими идеями, то немудрено, что созерцательная позиция была тормозом для активного отношения к природе и адекватного идейного отношения, т. е. активного мышления в понятиях. Но и сами понятия, выраставшие на основе таких жизненных ориентации и формируясь соответственно способу производства с его расчленённой и доведённой до огромной высоты иерархией, застывали в форму универсальных религиозно-мистических систем: более конкретно-натурально-анимистических и фетишистских — в народных низах, с моментами сотериологического порядка, и более абстрактных — в верхах. Чувственное представление, образ, фантазия, аффективная сторона жизни приобретали поэтому гораздо больший удельный вес, чем в развитии западноевропейского типа.
Но при всем том, отнюдь не следует упускать из виду и несоизмеримости разных способов производства, как таковых. Ибо нелепо противопоставлять индусскую теократию европейскому капитализму. А докапиталистические отношения и в Европе знали мистику и народную романтику, анимизм, всеобщую одушевлённость сил природы, бесконечное разнообразие богов, сопереживание природных явлений. Гейне прекрасно описал это для Германии в своих очерках по истории религии и философии. Но то же было и в России (возьмите хотя бы Мельникова-Печерского) и в Ирландии, и во Франции, и повсюду. Таким образом, абсолютизировать все эти категории различия никак нельзя: это означило бы поистине рационалистически, схематически, убого и односторонне подходить к соответствующим явлениям.
Жизнь чувства и чувственное отношение к природе, однако, отнюдь не обязательно предполагает мистические и мистико-религиозные формы. Между тем господа мистики, и в том числе поклонники индусского мистицизма, исходят именно из этой совершенно неверной предпосылки. Религиозная форма есть как раз зародышевое мышление и мышление социоморфного типа, что очень легко показать на истории всех без исключения религий, начиная с культа предков, старших в роде, героев и т. д., и кончая царями небес и безличными абстракциями с их принудительной силой. Конфуций, как мы упоминали, говорит: «Чтобы достигнуть хорошей жизни, не следует, как это происходит в западной половине земли, делать новый плуг, но нужно сделать какое-нибудь благодеяние для растений, животных или людей. Ибо, если бы мы любили море, как нашу собственную душу, то мы в нём не утонули бы, и если бы мы любили огонь, как самих себя, то он бы не обжигал нас». Здесь мы видим отнюдь не простое сопереживание природы, но и понятия, и цели, и расчёт (столь ненавистный Лессингу), но только всё это в анимистической примитивной форме. Однако, разумеется, есть разница между жизнью интеллекта и жизнью аффективной, между мышлением и чувством, между системой понятий, «холодным разумом» и аффективным переживанием, «горячим сердцем», или, как это теперь называют, между «духом» и «душой», хотя они и не отгорожены китайской стеной друг от друга. Верно то, что специфическая структура капитализма отделила город от деревни, культуру от природы, теорию от практики, мышление от чувства. Лучшим примером может служить Кант, который не выезжал за пределы Кенигсберга, в Кенигсберге почти не выходил (за исключением точно размеренных ежедневных прогулок) из своего кабинета. Сама по себе, в целом, иррациональная жизнь капитализма в единичном рационализирована до мелочей, и постоянная постановка целей и расчёт являются, действительно, её свойством: жизнь превращается в универсальную тактику, аффективная жизнь остаётся на долю почти одной эротики. Это обеднение жизни, и гипертрофия интеллектуального на базе сокращения эмоционального (а вовсе не от «чрезмерного ума» самого по себе!) есть действительная односторонность капиталистического человека.
Но вопрос о многосторонности и односторонности, об однобокости или универсальности жизненного содержания отнюдь не совпадает с вопросом о типе познания. Между тем, мистики контрабандой протаскивают именно этот вопрос, хотя в своей терминологии стараются замутить воду. Ибо, переживание (созерцание, нирвана и т. д.) есть у них погружение в глубины бытия, во вневременную и внепространственную сущность вещей, в «истинный мир». Если бы речь шла о том — и только о том — чтобы обогатить жизненное содержание человека сопереживанием природы многообразными, связанными с этим, эмоциями (и чувственными ощущениями, красками, запахами, формами, звуками; и ощущениями приятного, радости, подъёма, всего того, что на авенарианском языке обозначалось, как «положительный аффекционал»[308] и «положительная физиоразность»), то не было бы никакого спора: эту проблему жизненного устройства и душевного обогащения человек решает, как мы уже говорили, социализм, уничтожающий уродство капиталистической культуры. Но мистики утверждают, что рациональное познание убивает сущность мира, анализирует сухую мумию, превращает мир в математическую формулу, живое заменят машиной, мир — числом. Все эти возражения мы отбили в предыдущем изложении. Что же обещает нам мистика? Восхищение формулой Конфуция есть омистичивание Конфуция, у которого всё весьма трезво-утилитарно, но на анимистической основе. Если поступать, однако, по этой формуле, то ничего хорошего не вышло бы. В чём же может быть замена интеллектуального познания? Не в том ли, чтобы, как предлагает Лессинг, объявить действительную жизнь сном, а сон — действительною жизнью?
Но на это ещё Гегель в «Феноменологии» даёт блестящий ответ:
«Говорят, что абсолютное следует не понимать, а чувствовать, и созерцать, что исследованием должно руководить не понятие, а чувство и созерцание»… «Роль приманок, необходимых для того, чтобы пробудить желание клюнуть, играют прекрасное, святое, вечное, религия и любовь; не понятие, а экстаз, не бесстрастно развивающаяся необходимость вопроса, а бурное вдохновение должно, как говорят, служить сохранению и прогрессирующему развитию богатства субстанции».[309] «Предаваясь необузданному брожению субстанции, они надеются, сокращая самосознанием и отказываясь от рассудка, сделаться избранниками её, которым бог даёт мудрость во сне; но зато всё, что они в действительности получают и порождают во сне, и относится лишь к области снов».
Эта операция, следовательно, стара, как мир, и ничего плодотворного она не давала. Во имя жизни выбрасывать лозунг «спать», это поистине комично.
Предлагать отказ от понятия, значит предлагать отказ и от слова. И тут мистики вполне последовательно провозглашают последней мудростью… молчание. Самый большой мудрец, это великий молчальник, который ничего не говорит.
Это и есть достижение Th. Lessing’a.
«Санскритское имя — читаем мы у него — для мудреца гласит muni; это значит буквально: онемелый, более не говорящий. Древнейшее предание Египта рассказывает о четверичном боге Амуне, который почитался только молчанием. Об одном греческом философе Кратиле, учителе Платона и ученике Гераклита, осталось для нас в предании только то, что он на высоте своей мудрости сидел молча и лишь попеременно поворачивал указательный палец правой руки то налево, то направо, чем он хотел обозначить двоякую природу и раздвоение всякого знания; и действительно! если бы я мог объявить себя сторонником какого-либо философского направления или школы, я бы назвал себя почитателем Кратила» (230—31).
«Беркли и Кратил; отрицание внешнего мира ради субъективного „образа“ и возвращения к „ручной речи“»[310] пра-дикарей, т. е. отрицание мысли и человеческого общения через речь есть последний результат и «вывод». Нечего сказать, хорошая замена рационального познания и великолепное проникновение в «последние глубины» бытия! Что же ещё может предложить мистика? Каталептическое блаженство, безразличный экстаз, нирвану, атараксию? Но, ведь, эти вещи были ведомы всем народам: даже российские хлысты знали их, как знали их шаманы Сибири, иранские дервиши и т. д. «Дионисово» начало родственно тоже этим мистериям. Однако, какое это имеет отношение к познанию действительных связей мира и действительных отношений? Если сюда входят иногда моменты гипноза, гипнотического ясновидения, физиологического тренажа и соответствующих знаний, то они сами поддаются рациональному объяснению, и тут нет принципиально ничего ни мистического, ни чудесного; вообще «чудо» есть отрицательное: чудес не бывает; чудо, которое действительно произошло, не есть чудо уже тем самым, что оно есть.
Мистики ратуют во имя непосредственной жизни, справедливо жалуясь (и тут как мы видели, есть действительная проблема) на обездушение жизни. Но они предлагают вместо обездушения её обессмысление. Впустив океан аффектов, они хотят заковать и запрятать в погреб человеческий интеллект. Давая широкий простор чувственному образу, они хотят заколотить двери в царство понятий. Таким образом, они с другого конца хотят однобокости: вместо культурной однобокости интеллекта они хотят животно-детско-дикарской однобокости аффекта. Растительно-животное состояние есть для них идеал, как антитеза искусственной среды, машинизма, калькуляции, счёта, тактики, рациональной науки. Другими словами, здесь предлагается перейти от логического мышления к пра-логическому «соучастию"» о котором говорит Леви-Брюль в своей работе: «Les fonctions mentales dans les sociètés inferiures»[311].
Это значит не решать задачу, а отказаться от решения задачи. Нет! социализм будет поддерживать великую фаустическую традицию, традицию труда, знания, борьбы, интеллекта и чувства, любви, природы, искусства. Соединяя культуру и природу, он убьёт бездушие цивилизации, он создаст великий синтез рационального познания и богатейшей жизни чувства.
Глава ⅩⅩⅥ. Об объекте философии
Переходим теперь к положительному решению основных предпосылок философии. Из всего вышесказанного вытекает, прежде всего, исторический подход к предмету. И здесь сразу же нужно заметить, что бы в последующем не было никаких недоразумений: действительный мир исторически сам стал объектом, т. е. предметом человеческой практики и мышления; действительный мир безотносительно к субъекту, т. е. в этом смысле «в себе», существовал до появления человека, т. е. исторически возникшего субъекта. Положение: «без субъекта нет объекта» (и обратно) верно только тогда, когда «объект» и «субъект» берутся в строгом смысле, как коррелативные, соотносительные, понятия. Объект всегда связан с субъектом. (В скобках отметим, что сравнительно не так давно под объектом разумелся субъект, а под субъектом объект: субъект был страдательным началом, «предметом», а не наоборот. Но это нисколько не меняет дело по существу). Но из этого отнюдь не вытекает, что мир перестаёт существовать, когда он перестаёт быть (или ещё не становится) объектом мысли и действия, точно так же, как предмет труда не перестаёт быть вещью, переставая быть предметом труда, или средства производства не перестают быть средствами производства, сбрасывая с себя общественную и специфически-историческую форму капитала. На смешении действительного мира и действительного мира, как объекта, т. е. действительного мира вне связи с субъектом и действительного мира в связи с субъектом, основывается безудержная квази-философская спекуляция, в которой буквально можно задохнуться. Таким образом следует установить, что действительный мир отнюдь не привязан к субъекту никакой «принципиальной эмпириокритической координацией». Он привязан к нему только тогда, когда фигурирует в качестве объекта, и это положение не представляет никакой философской мудрости, ибо оно есть не что иное, как простая и элементарная ясная тавтология. Важно, однако, отметить, что действительный мир становится объектом исторически, потому, что его раздвоение, выделение из него мыслящего организма, само есть исторический процесс, определённая стадия в развитии действительного мира (мы здесь оговариваемся, что речь идёт о земле, но что этот «геоцентризм» совершенно условен: мы просто пока не знаем о мыслящих существах других миров). Значит, действительный мир существовал и без всякого субъекта: для своего бытия он в нем отнюдь не нуждался, ибо не субъект его творил, а он, природа, на определённой стадии, породили субъекта. Поскольку возник этот последний и стал в активные, действенные отношения к миру, этот последний стал превращаться в объект.
Сам действительный мир есть исторически меняющаяся величина, предвечно и вечно текущая: она менее всего неподвижный и неизменный абсолют; действительный мир есть всепроцесс, где все в историческом движении и изменении, ибо пространство и время суть не субъективные формы воззрения, а объективные формы существования движущейся материи. Природа имеет свою историю точно так же, как и человеческое общество, и никакой принципиальной разницы здесь нет. Если взять землю, то её геологическая история, её переход, как целого, от состояния расплавленной массы до теперешнего её состояния, включает и образование различных веществ и их изменение, и образование сложных пород, и появление органических тел, и появление мыслящей материи. Образование новых качеств — существеннейший момент исторического процесса, так же, как и исчезновение ряда других. Это великая объективная диалектика природы, предполагающая «исчезающие моменты» и бесконечное разнообразие качеств, свойств, форм и связей мирового целого и его частей. Органическая природа наделена рядом свойств, отличающих её от природы неорганической. Точно также мыслящая материя, выросшая в субъект, не перестаёт быть в то же время частью природы с особыми свойствами, и само сознание, как инобытие определённых материальных процессов, есть реальный факт, объективное свойство определённой качественной, квалифицированной материи. С этой точки зрения даже галлюцинация есть факт, и она может быть и бывает объектом мышления. Науки о «душевных болезнях» не ниспадают в ничто, а имеют своим предметом нечто существенное. Можно писать историю иллюзий и заблуждений, ибо они — тоже факт. Галлюцинация и бред противопоставляются (т. е. должны противопоставляться) нормальному сознанию, постольку-поскольку галлюцинации (её содержанию) ничего не соответствует во внешнем мире. Её можно (и должно) отрицать не как факт ненормального сознания, а именно с точки зрения соотношения с внешним: отрицать же её бытие, как процесса сознания, было бы крайне нелепо. Следовательно, и сознание имеет предикат бытия, и становится само, на определённой стадии развития, объектом мышления: «мышление о мышлении» весьма важная часть философии. Другими словами: соотношение между бытием и мышлением есть диалектическое соотношение, ибо эти противоположности переходят друг в друга, и мышление существует, т. е. имеет предикат бытия, а бытие мыслит, т. е. имеет предикат мышления, мыслящая материя есть их реальное единство. Но в этом реальном единстве субстанций и историческом prius, как мы видели, является материя, без которой не может существовать никакой «дух», тогда как без него может существовать — и существует — материя в самых разнообразных формах. Многочисленные иллюзии на этот счёт порождаются, между прочим, объективированными мыслительными формами. Существуют понятия, как продукт мыслительной работы человечества. Существуют «категории», которые иным кажутся даже априорными. Существуют религии. Существуют «научные системы». Существует философия. И т. д. Они — объективированные формы сознания. Они даже материализуются в книгах и. других символах, получают так сказать осязаемое бытие. Но что все это значит? Значит ли это, что «дух» имеет реальность не свойства, а субстанции, становится самостоятельной, говоря по старинному, causa sui[312]? Конечно, нет.
«Объективированность» мыслительных форм есть не что иное, как выражение их интенсивной обобществлённости, что часто (отнюдь не всегда! ср. религиозные формы) связано с большей или меньшей адекватностью их содержания реальной действительности. Эти формы суть отражения правильные или искажённые. Они нигде на существуют, кроме как грубо говоря — в головах обобществлённых людей. Они не плавают каким-то киселём между людьми, в качестве особой «тонкой» субстанции. Общественное сознание вообще есть сознание обобществлённых людей, а не сверхлюдская категория. Поэтому в известной мере оно независимо от каждого отдельного сознания. Точно так же и общество не перестаёт существовать, когда умирает тот или другой из его сочленов. Но если бы умерли разом всё, то не было бы ни общества, ни общественного сознания. Другое нужно сказать о гигантской системе символов. Их материальное бытие, т. е. как бытие типографской краски, например, и определённой пространственно формы, никакого отношения к вопросу о «сущности» сознания не имеет. «Смысл» книги — не в краске и в свиной коже. Вне своей расшифровки, т. е. вне соотнесения с субъектом, они — никакие символы, не имеют никакого «смысла» и существуют только в своё грубом и бессмысленном бытии, чисто внешнем, как любой булыжник. Только когда дано это соотнесение, вопрос переводится в плоскость объективированных мыслительных форм («Gedankendinge»), о чём мы уже говорил выше. Любопытно в данной связи отметить, что г‑н професор Вернер Зомбарт, увлёкшись «социологией смысла» («Verstehende Soziologie») Макса Вебера, с поистине обезьяньей быстротой без всякого смысла приложил соответствующие категории к внешнему миру: и вышло, что реальные процессы природной действительности, которыми мы владеем, суть лишь символы, «смысл» которых нам никогда не будет доступен, а общественными процессами, смысл которых мы понимаем, мы никогда не овладеем! Эта чёртова карусель и есть, по Зомбарту, пресловутая судьба человечества.
Итак, объектом становится действительный мир со всеми его свойствами и чертами, в том числе и с сознанием, как свойством определённой его части.
Действительный мир историчен, т. е. находится в процессе исторического изменения. Его свойства историчны, т. к они изменчивы. Как объект он историчен в том смысле, что он становится объектом, когда появляется исторический субъект. Мыслящая материя, т. е. этот исторический субъект, сам становится объектом. Сознание есть свойство определённого вида исторически возникшей и развивающейся материи. И, наконец, объект историчен и в том смысле, что он: 1) исторически становится объектом, в меру росте практики и теории субъекта, удлинения радиуса его практической и теоретической ориентировки; он все время становится объектом, раскрывается, как объект, а не влезает, как кочан капусты, целиком в мешок; 2) действительный мир частично и творится (хотя и не ex nihilo[313]) субъектом: весь так называемый «культурный ландшафт», вся искусственная среда, города и села, канавы и дороги, возделанные поля, убранные леса, подземные шахты и т. д. и т. п.,— всё это трансформированный человеком мир, так сказать «антропозойский» период планеты Земли, если говорить в геологических терминах; здесь исторический момент уже прямо и непосредственно связан с человеческой историей.
Односторонность почти всей домарксовой философии заключалась в том, что объект её был абстрактен, неисторичен и в то же время был объектом так называемого чистого сознания. Между тем, мы уже видели, к чему ведёт подобная односторонность и чем она (и логически, и социально-генетически) объясняется. Следовательно, уже в самом исходном пункте, в трактовке объекта,— налицо определённый порок. В действительности объект есть объект овладевания, причём сам процесс овладения, или овладевания, двуедин: это есть и практическое и теоретическое овладевание, с приматом практики.
Как объект практического овладевания, мир материально в той или иной степени и трансформируется, а теоретическое познание опосредствует этот процесс, расширяет и обогащает его, ориентирует его. Если принять за исходный пункт такую трактовку объекта философии, то тем самым все дальнейшие проблемы неизбежно должны будут взяты в совершенно ином аспекте, и не будет места той гипертрофии «духовного», под воздействием которой сам объект как бы испарялся, превращаясь — разумеется, не на деле, а в головах философов — в «идею», «понятие» или какую-либо другую тощую и на высоких котурнах мысли стоящую худосочную абстракцию. Правда, как мы знаем, ряд идеалистических систем трактовали мир, как объект творения,— это, казалось бы, ультра «практическая» действенная позиция. Но не нужно смешивать понятия. Здесь, шла речь о практике мышления, а не о материальной практике. Здесь объект сам был не исторически-преднаходимым материальным предметным миром, а продуктом творчества субъекта. Такое «овладевание» есть иллюзорное овладавание, и оно разрешается в ничто, в мираж, в мыслительную туманность.
Трактовка объекта, как объекта практического и теоретического овладевания отнюдь не есть искусственный мыслительный трюк наоборот, она есть единственно верная, то есть соответствующая исторической и текучей действительности трактовка. Она не представляет собой одну из «точек зрения» в зависимости от «удобства мышления» или других аналогичных соображений. Она имеет твёрдую опору в фактах исторической действительности, где объект выступает прежде и раньше всего, как объект практического овладевания («ассимиляция» Гегеля прямо и непосредственно сюда упирается). Объект, как объект практического овладевания, есть первая фаза существования его, как объекта, исторический исходный пункт. Объект, как объект теоретического познания, вообще мог появиться лишь в меру существования самого теоретического познания, (ещё раз повторяем и подчёркиваем: до этого реальный мир, скажем, земля с её «богатствами», весьма и весьма существовала, но её никто не познавал на земле; поэтому она, существуя, как земля, не была ещё предметом внимания субъекта, т. е. не стала ещё объектом stricto sensu[314]). А это теоретическое познание само появилось исторически гораздо позднее, выделившись из практики в особый и более или менее автономный процесс. Объект поэтому в сознании людей раздвоился сам: он стал, с одной стороны, объектом практического овладевания; с другой стороны — объектом теоретического овладевания. «Практики» всегда более или менее трактовали мир, как материю, что имеет тяжесть, занимает пространство, оказывает сопротивление, требует усилия и преодоления сопротивления. «Теоретики» в меру отрыва от практики, оперируя всеобщим, т. е. имея исходным пунктом уже не непосредственное соприкосновение с реальным миром, а отражения довольно высокого порядка, заменяли ими действительный мир. Забавно, например, видеть, как создавалось и росло у «чистых логиков» учение о «предмете познания». Этот предмет были «чистые типы», «идеальные типы» (как, например, в геометрии идеальные треугольники или «идеальные типы», типы Макса Вебера). Но беда заключается в том, что эти «идеальные типы», будучи абстракцией, превратились у философов в «истинный мир». Трудно также удержаться от улыбки, когда такой великан, как Гегель, с полной серьёзностью, убеждённостью и глубокомыслием, пишет, например: «Бесконечность животных форм нельзя… учитывать с такой точностью, как если бы необходимость системы соблюдалась абсолютно строго. Надо, наоборот, возвести в правило всеобщие определения. И если последние не соответствуют правилу вполне, но всё же приближаются к нему, … то не правило, не характеристика рода или класса и т. д. должны быть изменены, словно они обязаны соответствовать данным существующим формам, а, наоборот, последние должны соответствовать первым; поскольку это её недостаток»[315] («Философия Природы», курсив Гегеля). Логически здесь отрыв от конкретного бытия (ибо отрыв от материальной практики, от непосредственного соприкосновения с конкретным). «Глубина» — адекватна материальной бедности; это не восхождение ко всё более полнокровному второму конкретному, а систематическое лишенье бытия всех его перьев; общее отрывается от единичного, род от индивидуума, закон от факта, абстрактное от конкретного, и т. д. ; поэтому и происходит процесс эфиризации, спиритуализации бытия: на место реальности мира становится идеал, понятие, капральская палка без армии, превращённая в тень. Это есть выражение уродской и пустяковой гордыни понятия.
Однако, как мы уже говорили, и понятие становится, на известной ступени исторического развития, объектом познания. Так как оно не является материальной частью внешнего мира, а инобытием определённо-организованной материи, если мы его не берём как процесс мышления, то он не может быть непосредственным предметом материальной практики: мышление происходит в «голове», а не на фрезерном станке и не под валом блюминга. Но так как его логический состав есть конденсация общественного опыта, т. е. огромного исторического процесса, включающего и практику (о чём речь была выше), то мышление, как объект познания, связано с практикой, и не может быть диалектически понято вне этой связи — это во-первых; во-вторых, поскольку само мышление есть момент, опосредствущий практический процесс, постольку через теоретическое овладение мышлением, получается и практическое овладение им; наконец, направление мышления на определённые объекты есть своеобразный процесс практического овладения им. Мышление о мышлении и есть процесс, когда само мышление становится объектом. И здесь, как мы видим, момент практики играет существеннейшую роль.
Так объект философии выступает перед нами не как объект старой философии, а как многообразная и материально-единая в то же время, текучая, исторически меняющаяся величина, как объект теоретического и практического овладевания, овладевания в его двуединой форме.
Глава ⅩⅩⅦ. О субъекте философии
Параллельно трактовке объекта, в домарксовской философии была и соответствующая трактовка философского субъекта. Как мы знаем, это была абстракция одной интеллектуальной стороны жизнедеятельности человека, в свою очередь абстрагированного от всяких общественных и общественно-исторических своих определений. В разных направлениях философии эта всесторонняя ощипанность субъекта и превращение его в одностороннюю и бедную интеллектуальную абстракцию формулировалась по-разному, но почти у всех направлений вышеотмеченные черты были обычными чертами так называемого философского «Я». В идеалистических системах, это было обычно «всеобщее» «я», у субъективных идеалистов — индивидуальное «я», у агностиков и позитивистов — индивидуум, взятый то с психологической, то с физиологической стороны, у механических материалистов обычно — физиологический индивидуум, у Фейербаха — физиологическо-биологический, чувственно-родовой человек, «антропологический» принцип в философии. Ограниченность старого материализма, и фейербаховского «гуманизма» в том числе,— была беспощадно вскрыта в кратких и острых тезисах Маркса, этой гениальной формулировке основных принципов диалектического материализма. Если, с известным упрощением, брать философствующего субъекта, то он был мыслительной стороной, отвлечённой от всякой общественной и общественно-исторической определенности, т. е. чем-то немыслимым по существу, ибо — как мы уже видели — сама мысль предполагает общество «общественного человека» Аристотеля, «toolmaking animal»[316] Франклина, «обобществлённого человека» (vergesellschafteter Mensch) Маркса. Социологические prolegomena ко всякой будущей «философии» говорят нам, что субъект философии, мыслящий субъект, есть обобществлённый человек, т. е. общественно-исторический человек в его многосторонней жизнедеятельности. Разумеется, каждый человек есть индивид в виде. Разумеется, каждый человек есть физиологическое единство. Разумеется, каждый человек есть, следовательно, биологическая особь. Но общественно-исторический человек есть обобществлённый индивид, в котором есть новые качества, никаких не растворимые в биологическом и физиологическом. Капиталистический человек, типичный буржуа; человек-феодал; человек социализма и т. д.— всё это категории, специфические особенности которых никак нельзя вывести из физиологии или биологии. Homo sapiens и только — трансформировался исторически в общественного, делающего орудия, человека. Человек первобытного коммунизма, с определённым типом обобществления своей собственной природы, исторически сменился человеком родового строя, феодализма, капитализма, социализма (последнее только в СССР). Идеалистическая точка зрения на субъекта явно убога. И даже гуманизм Фейербаха совершенно недостаточен: не антропология является пролегоменами, а социология; не биологический человек, а обобществлённый и исторически определённый специфическими отношениями производства; не односторонне «мыслящий», но многосторонне жизнедеятельный. Из последнего, однако, вытекает, что, например, для капиталистического общества с его производственной анархией, дробным разделением труда, глубоким отрывом теории от практики и т. д. из одного Я вообще нельзя понять отношения между «человеком» и «миром»: эти отношения определяются здесь; в гораздо большей степени, чем в других классовых обществах, только связной совокупностью отношений обществе в его целом. Если, например, в социалистическом развитом обществе каждый индивидуум более или менее отражает в своей многообразной и многогранной жизнедеятельности жизнь всего общества, то специализированный человек капитализма воплощает лишь одну грань общественной жизнедеятельности. Он не есть пуп общественных отношений к природе, не их фокус, ибо люди разъяты и раздроблены так же, как разъято и раздроблено всё капиталистическое общество в его целом. Если идеалистическая философия в своём субъекте гипостазировала интеллектуальную функцию, вырывая её из всего контекста жизнедеятельности и творя своего философского субъекта преимущественно, как субъекта «чистого разума», т. е. изолированной и взятой «в себе» познавательной функции, то материалистические теории и Фейербах искали выхода в человеке, как чисто физиологическом и биологическом типе. Но выйдя таким образом за пределы общественно-исторического субъекта, ниспадая в биологическое или антропологическое, тем самым они неизбежно должны были трактовать субъект только как пассивный продукт природы, т. е. брать субъекта не как активное начало с его активной практикой прежде всего, а как начало страдательное, производное, т. е. по существу не как субъект по отношению к природному объекту, а скорее как объект, на который природа воздействует. Эта однородность была, как известно, отмечена Марксом. Она логически связана с трактовкой человека только как животного вида, связана потому, что процесс приспособления животного вида есть процесс пассивного приспособления, приспособления путём естественного отбора, тогда как общественный человек активно покоряет природу и в своей технике создаёт специфически-общественные орудия воздействия на природу, на материю, становящуюся, в историческом процессе развития, все более и более материалом, т. е. действительно объектом. Этот исторический «скачок» в развитии homo sapiens, скачок от животного стада в человеческое общество, от биологии к социологии, от биологического индивида к обобществлённому человеку, от человека, вооружённого зубами, к человеку, вооружённому техникой,— этот скачок оказался вне философии. Между тем, как мы видели, само мышление возникает в процессе активной общественной практики, т. е. в сотрудничестве общественных людей, от этой общественной практики исторически отдифференцировывается и т. д.
В философских доктринах идеализма «я» превращалось в целеполагающее духовно-творческое начало, вбирающее в себя мир, а иногда и пожирающее его. В философских доктринах материализма и его вариантах «я» превращалось в односторонний «продукт», простой пункт пересечения географических, климатических, орографических и прочих влияний так называемой «естественной среды». (У французских материалистов рационалистического толка с этим связаны, между прочим, и представления о «естественном состоянии», «естественном порядке», «естественном законе», а также те «робинзонады» в общественных науках, о которых с такой едкой иронией говорил К. Маркс). Именно поэтому Маркс писал о том, что субъективную и активную сторону развивал идеализм, тогда как материализм был более пассивен.
Итак, субъект есть на самом деле субъект овладевания, подобно тому, как объект есть объект овладевания.
Субъект овладевания историчен насквозь. Он появляется, как таковой, лишь на определённой стадии развития — следовательно, он историчен уже с самого начала своего бытия. Он историчен с точки зрения своей нарастающей исторической мощи, с точки зрения своего технически-практического и теоретического вооружения и соответствующих результатов. Он историчен с точки зрения типа общественной структуры и соответствующих способов представления.
Если смотреть на субъекта глазами домарксовой философии, то, например, какое дело этой философии до техники, будь это каменный топор, паровая машина или дизель-мотор? Старая философия отметала подобную прозу, как нечто к делу не относящееся, для философии слишком низменное, и философии недостойное. Наоборот, с точки зрения диалектического материализма, где субъект есть субъект овладевания миром (и предметной трансформации мира в материальной практике), где практика есть процесс непосредственного вторжения в мир, где она имеет громаднейшее теоретико-познавательное значение, техника играет роль чрезвычайно важного момента. Вооружённость техникой, степень этой технической вооружённости, имеет, таким образом, существенное значение. Дикарь с каменным топором и человек с социалистической техникой — совсем разные субъекты, и прямо смешно говорить о них, как об одном и том же. Так же примерно стоит вопрос и с техникой экспериментальной науки. Если современные тончайшие приборы повышают чувствительность естественных органов в огромное число раз; если они (рентген) невидимое делают видимым; если они улавливают то, что недоступно нашим естественным чувствам, создавая, так сказать, новые, искусственные, чувства (электроприборы, например), то совершенно недопустимо при трактовке субъекта отвлекаться от этих могучих и мощных орудий познания. Ссылки на то, что великие умы древности, например, Аристотель, без всякой техники — производственной и экспериментально-научной, додумывались до философских проблем, кои являются спорными и посейчас, или давали некоторые частные ответы, справедливые и по сей день; ссылки на то, что даже атомистика насчитывает тысячелетнюю давность и т. д. и т. п.,— всё это крайне неубедительно. Неубедительно это потому, что все же здесь налицо громаднейшая разница. Атомы Демокрита, Эпикура, Лукреция Кара и т. д. были наивными гипотезами, в своём роде гениальными догадками. Атомы современной науки суть прочное её приобретение, экспериментально завоёванное и обработанное научно-теоретическим мышлением. Рассуждения Эпикура и опыты Резерфорда, теории Нильса Бора и т. д.,— это два разных измерения, при всём том общем, что они имеют. Достаточно прочитать «Философию Природы» Гегеля, чтобы увидеть там громаднейшее количество мистического мусора и просто мусора, несмотря на истинные бриллианты, сверкающие среди этих гор. А ведь со смерти этого колосса прошло не так много времени. Но — скажут нам на это — здесь речь идёт больше о науке, чем о философии. А ушла ли далеко философия? Ушла. Но: во-первых, нельзя отделять китайской стеной одного от другого; во-вторых, если брать, например, спор материализма и идеализма раньше и теперь, то мы видим вовсе не топтанье на месте, а воспроизводство противоречия на гигантски расширенной основе. Гегель куда богаче Платона, Маркс — несравненно, неизмеримо выше Эпикура. То обстоятельство, что вопрос не решён для всех, коренится в общественной обусловленности мировоззрения, в «способе представления», как рефлексе «способа производства». Таким образом, трактовка субъекта должна быть трактовкой исторической и в смысле исторической вооружённости (практической и теоретической) субъекта овладевания.
Но здесь мы подошли вновь, в иной связи, к вопросу о «способе представление». Мы видели, какую огромную роль играет способ представления в деле мировоззрения и видели закон его возникновения. Повторяться здесь было бы неуместно. Мы спрашиваем только: если во всех философских системах отводится такое огромное место вопросу о физиологическом субъективизме (или просто субъективизме) ощущений и т. д., то где логический резон проходить мимо могущего быть повсеместно констатированным общественного субъективизма, т. е. социоморфического «способа представления»? Таких резонов нет и быть не может. Если мы до конца поняли то обстоятельство, что человек не суть просто биологическая особь, а имеет общественно-историческое бытие, то становится совершенно очевидным и общественно-исторический характер его сознания. «Способ представления» имманентен общественно-историческому объекту. Мы должны трактовать поэтому субъекта овладевания, субъекта философии, как исторического, общественного субъекта и с этой точки зрения, т. е. с точки зрения свойственного ему «способа представления», зная закон этого способа представления, т. е. его генезис, его функцию, его связь с объективным миром, его искажающую идеологическую роль и т. д.
Но не превратится ли при такой трактовке субъекта философия в историю философии и даже, больше того, вообще в историю? Нисколько. Речь вовсе не состоит в том, чтобы начинать весь процесс ab ovo, от Адама и до теперешнего времени. Совершенно нелепым было бы также повторение попыток решать проблемы, стоящие перед нами, попеременно с точки зрения различных общественно-исторических субъектов, то есть жить прошлым. Но конденсированно, историко-диалектически, включить это прошлое необходимо. Это и значит знать исторические законы соотношений, иметь возможность сравнивать, т. е. действовать, как субъект, обладающий всем могуществом современной техники и современной науки. Наивысший тип мышления, это мышление диалектико-материалистическое. Наивысший, исторически наиболее совершенный тип субъекта овладевания есть исторически возникающий тип социалистического человека. Гегелю прекрасно известно было то, что философия есть эпоха, схваченная в мыслях. Он иногда давал блестящие образцы этого понимания, где его объективный идеализм прямо переходит в материализм. Вот, например, характеристика позднего Рима:
«…Римский мир есть… мир абстракции, в котором единое холодное господство простиралось над всем образованным миром. Живые индивидуальности духов народов были подавлены и умерщвлены: чужая власть тяготела, как абстрактная всеобщность, над отдельным человеком. При таком состоянии разорванности чувствовалась потребность искать убежища в этой абстракции т. е. искать убежища в этой внутренней свободе субъекта, как такового» (История Философии, Ⅱ)[317].
И т. д. Отсюда Гегель выводил основные черты философского мышления этой эпохи.
Гегель на самом себе блестяще демонстрирует общественную характеристику субъекта философии. Вот образец подобной демонстрации, который мы берём из «Философии Природы»:
«Вообще новый мир представляет собою неразвившееся раздвоение: он делится на северную и южную часть подобие магниту. Старый же свет являет совершенное раздвоение на три части, из которых одна, Африка, есть самородный металл, лунная стихия, оцепеневшая от зноя, где человек замирает в самом себе; это — не вступающий в сознание немой дух. Другая часть, Азия, есть вакхически кометное исступление, буйно порождающая себя из среды, бесформенное произведение, без всякой надежды на овладение своей средой. И, наконец, третья часть, Европа, образует сознание, разумную часть земли, равновесие рек и долин и гор,— и центром её является Германия»[318].
Эта теологическо-поэтическая мистика в стиле Якова Беме, по существу выражавшая «способ представления» христианско-германских ослов, как их называл Гейне, никак не может быть понята вне историко-общественного контекста; и никакой «чистый Разум» не сможет вывести такого бреда из самого себя или из одного внешнего мира. Но Гегель, рассуждая, например, о Платоне, выставляет совершенно мудрое правило:
«Мы должны,— пишет он в „Лекциях по истории философии“[319] — стоять выше Платона, т. е. мы должны знать потребность мыслящего духа нашего времени!»
Вот именно! Мы должны стоять выше всех, ибо должны знать «потребность духа нашего времени». А «наше время», это не абстракция времени, а плоть и кровь истории, новый способ производства, новый человек и новый способ представления. Соответственно этому и субъект нашей философии есть исторически возникший, исторически общественно-определённый субъект овладевания миром, овладевания одновременно и связно практически-теоретического, субъект, вооружённый мощной производственной и экспериментальной техникой, совершенным способом представления, многообразный и многогранный в своей жизнедеятельности, целостный, а не раздробленный человек социализма. Понять это и значит понять «потребность мыслящего духа нашего времени».
Но в социализме, как мы видели, само общество превращается в целеполагающий субъект: оно само становится телеологическим единством, что сжато формулировано в сталинской формуле: «План, это — мы». Здесь налицо уничтожение стоящей над человеком общественной стихии, превращающейся во внешнюю по отношению к нему и над ним господствовавшую силу. Общество, как субъект, овладевает самим собою, овладевает и практически, и теоретически одновременно. План социалистического общества и выражает собою это овладение, двуединое и целостное: здесь одновременно наличествует и теоретическое познание, и практическое действие, и «познанная необходимость» и телеологическая «свобода», и воля, и ум, и мышление, и практическое действие, и научный синтез и установка. Единичный субъект здесь одновременно и максимально «тонет» в всеобщем (ибо налицо единство коллективно-организованной воли) и максимально обогащает свою индивидуальность (ибо имеет полную свободу развития вообще, развития своих особых индивидуальных свойств, склонностей, влечений, талантов — в частности). Здесь, следовательно, налицо диалектическое взаимодействие между реальным всеобщим и единичном, бытие всеобщего в единичном и единичного во всеобщем. Таков исторически наивысший субъект овладения миром, овладевающий и природой, и обществом.
Глава ⅩⅩⅧ. О взаимодействии между субъектом и объектом
Процесс взаимодействия между субъектом и объектом, который в общем виде является процессом овладевания природой со стороны субъекта, сам является меняющимся историческим процессом. Взаимодействие между объектом и субъектом постоянно налицо, но типы этого взаимодействия исторически различны. Точно также, как объект и субъект являются историческими переменными, так исторически переменной величиной является и взаимодействие между ними. Этот меняющийся процесс мы уже отчасти рассмотрели в главах об объекте и субъекте, ибо нельзя брать объект в себе (он тогда перестаёт быть объектом) и нельзя брать субъект в себе (он тогда перестаёт быть субъектом); таким образом в этих понятиях уже заранее заложено понятие соотношения, будучи раздвоением единого, полагая себя, как и противоположности, они переходят одна в другую, как и вообще неорганическая природа переходит в органическую, а органическая разлагаясь и умирая, переходит в неорганическую. Но здесь этот "обмен веществ" между природой и обществом имеет свои особые и специфические черты. Активный характер отношения со стороны субъекта; телеология, не устраняет, как мы знаем, природной необходимости, и сама свобода есть «познанная необходимость», по определению Ф. Энгельса. Но активность есть высвобождение от непосредственного давления природы, от необходимости в первом аристотелевом смысле (см. выше). Если на начальных ступенях человеческого развития субъект был подавлен «грозными» силами природы, немощен и беззащитен перед её стихиями, то теперь он в значительной мере владеет ими, но владеет ими, подчиняясь им, поскольку он может управлять процессами природы, лишь опираясь на законы природы: можно это выразить и таким образом, что он в одно и то же время и свободен, и несвободен; и царствует над природой, и подчиняется ей. Если мы будем рассматривать исторический процесс взаимодействия между обществом и природой в условиях общественного роста (т. е. минуя эпохи общественного упадка и гибели целых обществ и целых «цивилизаций», всемирно-историческое значение чего ни в коем случае нельзя приуменьшать), то мы без труда обнаружим процесс высвобождения от подавленности человека силами природы. Всё большее значения приобретает техника, производство, экономическая организация общества, наука и т. д. «Географические факторы» не перестают действовать, но они уже не определяют течения жизни, оставаясь в значительной мере постоянными и устойчивыми (относительно постоянными и относительно устойчивыми). И, наоборот, чем дальше идёт процесс активного приспособления к природе, тем быстрее развивается общество, меняет свои формы, обогащает свои функции, увеличивает свои потребности; разнообразит свою материальную и духовную культуру. Ошибка т. н. «географического материализма», а затем его мистифицированной и вульгаризованной карикатуры — «геополитики» — состоит в непонимании (или нарочитом отбрасывании) того факта, что при возросших производительных силах «географические факторы» действуют через технику и производство, в то же время превращаясь в объект воздействия. Таким образом исторически возникший субъект растёт, как субъект, он сам исторически вырастает, и постольку общественно-исторический процесс есть процесс овладевания природой, при полном приоритете объективных законов природы.
Этот процесс в его целом, как мы видели, можно выразить формулой П — Т — П’, т. е. в формуле кругооборота теории и практики на всё расширяющейся основе их взаимодействия. Расширение этой основы, в свою очередь, выражается в росте производительных сил, в том числе в росте техники, в повышении коэффициентов технических мощностей, в быстроте и разнообразии технологических процессов, в том числе и химических реакций всякого рода; во всё большем количестве и многообразии неорганических и органических веществ, втягиваемых в процесс производства, как его сырьё и материал всякого рода. Расширение этой основы выражается и в росте науки, т. е. во всё более широком и глубоком познавательном овладении миром. Одно здесь опосредует другое и в своём совокупном движении образует двуединый процесс овладевания миром. «Искусственная среда» и материальное изменение лика земли, т. е. превращение естественного ландшафта в культурный ландшафт, «пейзажа» в штандарты сельского хозяйства, индустрии, транспорта, туризма, культурных развлечений, туризма, культурных развлечений и т. д.— есть наглядно-чувственно-материальное выражение этого процесса. Так совершается процесс пожирания Космоса человеком, процесс потребления вещества мира, его трансформации в человеческих целях; процесс возрастания мощи человека над веществом и стихиями природы.
Убыстрение (или, наоборот, остановка и замедление) этого процесса связаны с условиями функционирования производительных сил, т. е. прежде всего, с исторической формой общества, причём каждая историческая форма его из «формы развития» диалектически превращается в «оковы этого развития» (К. Маркс). Натуральное в своих основах хозяйство феодализма (которое, однако, никогда не было целиком натуральным!) ограничилось медленным темпом роста, застойной техникой, а в области мысли сухим, деревянным и неподвижным теологическим догматизмом, который не давал никакой возможности критики и действительного научного исследования. Капитализм с его принципом прибыли, с его конкуренцией, с его машинами, сразу во много раз ускорил процесс овладевания природой, и в области материально-практической и в области теоретической. Это ускорение процесса овладевания предметным миром шло и в ширь, и в глубь, и было поистине беспримерно в истории человечества. Создание мощной техники, гигантский рост производительных сил, образование мирового рынка, невиданный расцвет науки и её превращение в мировую науку,— все эти вещи, неизвестные старым временам и великим старым цивилизациям. И тем не менее взаимодействие между природой и обществом, между объектом и субъектом (в данном случае мы выражаемся не совсем точно, ибо капиталистическое общество не есть основополагающий субъект; но здесь это неважно), в эпоху упадка капитализма явно изменилось: и в материальной сфере и в сфере мыслительной. В последней наблюдается, как мы знаем, резкий поворот от метафизических абстракций, от спиритуалистических фетишей, вновь к феодальной теологии, от «критицизма» к догматизму, от науки, частью стихийно-материалистической теории, кокетничающей с идеализмом, к мистике и богословию (на крайнем левом фланге — необычайный интерес к диалектическому материализму, знаменующему отрыв от буржуазии). И, наоборот, социалистическая общественная форма крайне убыстрила процесс овладевания предметным миром. Освоение новых территорий, геологическая, ботаническая, зоологическая и всякая иная обследованность Союза, громаднейший рост производственных сил и техники, никогда в мире ранее не наблюдавшийся взлет кривой производства, быстрейшие успехи науки и проникновение её в жизнь масс при объединении с практикой и т. д.— всё это проходит в совершенно новой ритмике.
Огюст Конт, как известно, делил, в значительной мере следуя Сен-Симону, умственную жизнь человечества (а вместе с нею и всю жизнь) на три периода: «теологический», «метафизический» и «научный». Его грубейшая ошибка состояла, прежде всего, в том, что умственную жизнь он брал за исходный факт, т. е. в своём историческом построении имел лошадиную дозу антиисторического рационализма. Конечно, не теология порождала феодализм, а феодализм порождал теологию. Не феодализм был продуктом теологической формы мышления, а теологическая форма мышления была продуктом феодализма. Старая рационалистическая формула «просветителей», что всегда и всюду «мнения правят миром», была взята и теоретической концепцией «положительной науки» Огюста Конта. Период науки вне теологии и метафизики во времена Конта вообще ещё не наступал. Правда, уже учитель его, Сен-Симон, в «L’Industrie» писал: «Au reste, on ne creé pas un principe; on l’apercoitet on le montre» («В конце концов, принцип не создают; его замечают и показывают»). Но Сен-Симон проповедовал «новое христианство» с духовной и светской иерархией, да и сам «положительный» Огюст Конт выдумал новую «положительную» религию и считал себя её всемирным первосвященником. Его стадии предполагали, далее, непрерывный прогресс общества, трактуемого на манер животного организма, и т. д. Однако, было и рациональное зерно в контовской триаде, ибо движение от феодальной теологии к метафизическим абстракциям эпохи капитализма и к назревающиму периоду «иррелигиозности будущего», когда в социализме наука окончательно вытеснит и теологию и все виды супранатуралистических мировоззрений вообще, есть действительное движение в его основной тенденции.
Осознание этих мыслительных форм, как идеологических извращений действительности, исторический процесс высвобождения от их мертвящих оков, логической предпосылкой чего является философская самокритика, а материально-общественной — классовая борьба пролетариата и переход к социализму ( как ранее переход от теологического мировоззрения к абстрактной метафизике был выражением перехода от «Средневековья» к «Новому времени», т. е. от феодализма к буржуазному миропорядку), этот исторический процесс есть процесс сбрасыванья форм общественного субъективизма, их смены и их преодоления: в конце концов «научная картина мира» и философское её обобщение перестают быть и антропоморфными и социоморфными.
Выше мы подробно разбирали вопрос о телеологии необходимости. Мы видели, что какое-угодно развитие человеческой активности и её побед над стихиями природы отнюдь не даёт основания впадать в чистый волюнтаризм и индетерминизм. Цели человеческие определяются необходимостью; в достижениях своих человек опирается на законы природы, и любой, самый сложный и замысловатый, технологический процесс выражает природную необходимость во всей определённости конкретных связей и взаимоотношений. Но и общие условия человеческой исторически-общественной деятельности определяются фазой развития земли: это есть рамки, в которых движется человеческая жизнедеятельность вообще. Энгельс, вместе с Фурье считал неизбежной и нисходящую кривую человечества, и его гибель, вместе с гибелью жизни на земле, как планете. Другими словами, человеческую историю нельзя оторвать напрочь от истории земли, как плацдарм locus standi и питательного источника общества. Мы не решаемся, однако, заходить так далеко в выводах, ибо нет достаточных данных ни для утверждения о неизбежном «старении» «человеческого рода» (это есть лишь суждение по аналогии), ни для утверждения о невозможности межпланетных сообщений, ни для исключения новых методов приспособления к необычайно-медленным изменениям в общепланетарных условиях существования. Здесь пока можно лишь сказать: qui vivra, verra[320].
В процессе овладевания объектом со стороны субъекта, объект всё более и более раскрывается в бесконечном разнообразии своём, количественном и качественном, экстенсивном и интенсивном. Практически исторический человек, современный человек, переделывает огромные массы вещества, а познавательно уносится в бесконечно-огромные звёздные пространства и в бесконечно-малые (и тоже огромные, тоже бесконечные) сферы микрокосмоса. Необычайное многообразие объективных свойств, качеств, отношений, взаимозависимостей, связей для человека всё время растёт, ибо практика и теоретическое познание вскрывают все новые и новые их богатства, которые неисчерпаемы: здесь продолжается историческое превращение действительного, независимого от человека мира, природы, как таковой, в объект овладевания, переход от «равнодушного» бытия мира к соподчинению его растущему могуществу субъекта, который координирует со своими целями и соподчиняет им великие теллурические процессы.
Этот процесс овладевания есть совершенно реальный исторический факт: мы переделываем вещество природы, мы все больше и больше познаем его свойства, мы во всё большем масштабе можем предсказывать течение объективных процессов. Это и значит овладевать в двуединой форме практики и теоретического познания. Никакого другого значения эти слова и понятия не имеют и иметь не могут. Идеалистические философемы и агностицизм покоятся на предположении идеальных сущностей, недоступных ни практике, ни теории. Но эти «сущности» — все эти «идеи», «Духи», «мировые души», «души монад», «Логосы» и т. д. суть не что иное, как созданные человеком иллюзорные величины, в качестве непознаваемых мыслительно вдвинутые в поры или за пределы реального мира. Но именно потому, что они суть идеологические фантазмы, они и не могут быть постигнуты, как элементы действительного мира. Они могут быть постигнуты наоборот, как фантазмы, как идеологические извращения, и только так. Но с них этого вполне достаточно. Постигнуть фантазму, как часть действительного мира, есть поэтому задача неразрешимая. Это — ложная проблема, над которой, вопреки идеалистической философии, не стоит возиться: эта возня есть схоластическая возня, возня в духе известных средневековых упражнений, которые кажутся нам теперь просто варварски-комичными. Конструировать бога, как невидимого, а потом стараться его увидеть — безнадёжное дело. Но видеть материальный базис возникновения этой идеи, понять генезис, за извращением увидеть другое,— это возможно и необходимо. Так мы, в противоположность ограниченности рационалистов-метафизиков, в религиозных формах видим не просто и не только голый обман и голую нарочитую выдумку жрецов, но глубоко укоренившуюся форму мышления, где действительные закономерности природы грубо извращаются по типу «способа производства», т. е. социоморфически. Понять это — значит научно овладеть идеологическими фантазмами. Практически уничтожить их материальный базис — значит подорвать и уничтожить их воспроизводство, превратить их в момент исторического прошлого, не имеющего ни настоящего, ни будущего.
Могущество человеческой практики и человеческого познания в его высшей форме, соответствующей социалистическому субъекту овладения, наполняя людей творческим пафосом, предохраняет их в то же время от необоснованной гордыни. Когда, например, Гегель говорит, что земля — «срединная», «наилучшая из планет» и т. д., то этот своеобразный геоцентризм есть, в конце концов, познавательная провинция, захолустье, ограниченность. Иногда под покровом критики «дурной бесконечности» у того же Гегеля сквозит жажда покоя, конечного, того «круглого как шар», неизменно статического, абсолютного, единого и постоянного бытия, о котором говорили старинные греческие мыслители, бессильное, окостеневшее, догматическое знание-незнание, покоившееся на «откровении», рассматривало землю, как центр мироздания. Наоборот, могучая практика и могучая теория знает и то, что земля — один из бесконечного числа миров, что также обстоит и со всей солнечной системой, что, с другой стороны, каждый атом состоит из бесконечного числа миров, т. е. каждое бесконечное — конечно, и каждое конечное — бесконечно, и что всё тонет в бесконечно-бесконечном Универсуме. У некоторых кружится голова от этих просторов, и им хочется почесать спину о маленький забор: они не могут вынести такой мировой диалектики конечного и бесконечного. Ну, и пускай их! Счастливо чесаться, господа!
А мы будем идти по пути бесконечного познания, по пути бесконечного овладевания бесконечным миром, не нуждаясь ни в каких заборах с надписью «Дальше дороги нет и вход воспрещается!».
Глава ⅩⅩⅨ. Об обществе, как объекте и субъекте овладевания
Вопрос об обществе приобретает особое значение, ибо тут есть некое специфическое взаимоотношение: общество может быть и объектом и субъектом одновременно; оно может быть объектом в целом и субъектом только в части, и при этом одновременно в нескольких частях с особыми мыслительными классовыми ориентациями исключительно прочного и глубокого порядка, гораздо более прочного, чем разные варианты в области теоретического естествознания; общество в целом ряде общественно-экономических формаций не может овладеть собой практически — и это, так сказать, его имманентное, принципиальное свойство и т. д.
Всего лучше это показать на различных исторических типах общества, тем более, что эту проблему мы по частям и в другой связи уже ставили. Здесь нужно поставить и разрешить её в целом.
Возьмём капиталистическое общество. Это конкретный, исторически возникший его тип. специфическая общественно-экономическая формация, особый «способ производства», с особым «способом представления». Оно стало объектом знания почти с начала своего возникновения (ср., например, политическую экономию, начиная с Петти). Но что за субъект ему противостоял? Это были идеологи господствующего класса. Всё общество здесь не субъект: оно анархично, раздроблено, стихийно, «слепо», «иррационально»; оно, как мы уже видели, не есть целеполагающее. телеологическое единство, ибо оно не есть организованное общество, в нем нет целокупной и всеобщей воли, есть лишь её фикция, создаваемая в интересах господствующей буржуазии. Рациональное начало — государство есть всеобщая организация господствующего класса с ограниченными функциями: она не определяет и не организует жизни «гражданского общества» в его основной, экономической функции, и течение хозяйственного процесса, где есть телеология в единичном предприятии, т. е. в отдельной клеточке в целом, стихийно и подчиняется стихийной закономерности. Общество поэтому не может быть объектом практического овладения. Становление общества объектом успешного овладения предполагает его организованность, делающую возможным план, а это означает преодоление анархии капитализма, т. е. и самого капитализма, как определённой общественной структуры. Следовательно, попытки овладеть обществом, как целым означают выход за пределы капитализма; а это означает социалистическую революцию пролетариата.
Познать капиталистическое общество мало-мальски адекватно, это значит познать его в его противоречиях и в его движении, следовательно, и в его переходе к небытию, к другой общественной форме, т. е. исторически, диалектически. Но так как здесь в обществе, в силу его структуры, налицо принципиальное раздвоение мощных интересов, то господствующий класс и его идеологи принципиально не в состоянии этого сделать. Лишь в начальный период развития А. Смит, в ещё большей степени Рикардо, если говорить о политической экономии, сформулировали реальные отношения в их противоречивости (например, соотношение зарплаты и прибыли у Рикардо), но с концом так называемой «классической политической экономии» эта последняя опустилась, превратившись в вульгарную апологию («историческая школа», «гармонисты», школа «предельной полезности», «математическая» школа, «социально-органическая» школа и теперешняя органическая дребедень фашистских идеологов, а также полное разложение науки, отрицание самой возможности теоретического познания и превращения его в статистику «Konjunkturforschung»[321]. Но тот же процесс мы видим и в социологии, и в истории: какой-нибудь Огюст Конт или Спенсер куда выше современных Шпаннов[322]! Историки времён реставрации, французы, или такие величины, как Моммзен, Нибур и другие куда крупнее современных надутых апологетов фашистского национализма или мелких ультра-специализированных кропателей без горизонта. Попытки обобщений и синтеза типа шпенглеровского «Заката Европы»[323] — близки к скептическому отрицанию науки, как это знает каждый, кто знакомился с филигранной софистикой шпенглеровских построений. Ещё хуже дело обстоит, когда речь идёт только о капитализме: достаточно указать на живой пример эволюции Вернера Зомбарта, докатившегося от сочувствия марксизма до мистической чепухи совершенно низкопробного свойства. Мы не можем здесь множить примеров. И этого достаточно. Буржуазия, как субъект познания капиталистического общества, оказалась бессильной. Её общественная наука выродилась в апологию её практики, а эта практика, которая выражала анархическое функционирование капитализма, никогда не могла овладеть общественной стихией и преодолеть свойственное капитализму «неразумие» общественного процесса; такой задачи эта практика, впрочем, себе даже и не ставила, и только теперь, на базе упадка, всеобщего кризиса капитализма, распада и развала, она делает отчаянные попытки прыгнуть выше своих ушей и на ретроградном пути понижения производительных сил решить проблему квадратуры круга: сюда относятся утопии феодализированного «планового капитализма» в их многочисленных и скучных вариантах. В капиталистическом обществе общественно-исторический процесс противостоит его агентам, как внешняя, слепая, принудительная сила, как «естественный закон», не поддающийся овладеванию.
Совсем иное мы видим в социалистическом обществе, исторически возникшем через социалистическую революцию и благодаря диктатуре пролетариата, из общества капиталистического. Здесь общество и субъект и объект одновременно. Оно — телеологическое единство. Его необходимость проявляется непосредственно в его телеологии, через организованную волю масс, материализуясь в плане и реализуясь в выполнении этого плана. Здесь оно познаёт самого себя. Здесь нет «самотёка», т. е. слепой и стихийной закономерности развития. Здесь общество практически владеет собою точно также, как оно владеет собою и теоретически. Здесь нет разорванности и сепаратного существования, как противоположностей практической и теоретической сторон овладевания. Здесь есть и реально овладение, и полное единство этих противоположностей, существующих лишь в «снятом виде».
Выросшая в пределах капитализма теория пролетариата, связанная с его преобразующей, направленной на «целое», практикой («revolutionäre Praxis»[324] Маркса, «umwalzende Praxis»[325] Ф. Энгельса), уже доказала свою силу, ибо осуществились все важнейшие прогнозы великой теории, а практика революционного преобразования, т. е. практика борющегося и победоносного коммунизма доказала ещё раз действительность этой теории, приведя к овладению обществом в его целом.
Мы не можем здесь ставить целый ряд интереснейших вопросов истории, например, о древних теократиях типа Египта; о государстве Перу, о котором Маркс (во Ⅱ томе «Капитала») писал, как о бестоварном организованном хозяйстве, о парагвайском государстве иезуитов, о проблемах военно-капиталистического хозяйства и т. д. Всё это выходит за пределы поставленной нами задачи, хотя и тесно с нею связано. Здесь достаточно доказательства того, что в товарном хозяйстве (и в наиболее развитой его форме, капиталистическом хозяйстве) общество не есть субъект, быть им не может, не может овладеть собою ни теоретически, ни практически. Поэтому оно становится действительным объектом познания (где познание адекватно реальности) у своих противников, а практически общество становится объектом овладевания только в своей организованной, т е. в данном случае социалистической, форме.
Таким образом, мы имеем следующее. Поскольку речь идёт об обществе, как об объекте:
a) общество вообще возникает до того, как оно в какой бы то ни было форме становится объектом познания и сознательного овладевания вообще;
b) как объект, оно возникает исторически;
c) оно меняет в историческом процессе развития свою конкретно-историческую форму, переходя из одной в другую, меняя «способы производства»;
d) каждое из этих конкретно-исторических обществ развивает богатство своих особенных, специфических, только ему свойственных, свойств, черт, качеств, «законов движения».
Поскольку речь идёт о субъекте, мы имеем следующее:
1. субъект является исторически;
2. он исторически различен и в том отношении, что в некоторых обществах он лишь частичен, а общество в целом не может быть субъектом;
3. в социалистическом обществе и все общество становится субъектом по отношению к самому себе;
4. капиталистический субъект (буржуазный идеолог) не может быть в строгом смысле субъектом овладения;
5. социалистическое общество есть исторически возникший субъект-объект в полном смысле этого слова.
Наконец, поскольку речь идёт о взаимоотношениях между объектом и субъектом, то мы видим, что:
a) эти отношения историчны;
b) что они в товарно-капиталистическом обществе крайне неразвиты, и что здесь по существу нет и не может быть процесса овладевания;
c) что в социалистическом обществе, наоборот, при полном совпадении и тождестве объекта, который в то же время есть и субъект, и субъекта, который в то же время есть ещё и объект, налицо и полное овладение, т. е. и целесообразная в общественном масштабе практика, организованная во всех своих частях, сознательное самодвижение общества, и его самосознание и самопознание, как момент его целостной жизнедеятельности;
d) что акт рождения общества, как субъекта, есть результат теоретически направляемой революционной практики пролетариата, победы социалистической революции пролетариата, который, будучи «особенным» (классом), состоящим из «единичного» (индивидуумов), овладевает «всеобщим» (обществом) и превращается во «всеобщее» (социалистический народ). Учение о субъекте революции разработано Лениным.
С точки зрения мыслительных форм, переход к социализму означает ликвидацию фетишистских форм общественного сознания. На этом пункте стоит остановится особо.
Маркс вскрыл впервые и специфические особенности капиталистического общества, и законы его движения, и специфические формы мышления его агентов, общественную историческую специфичность его мыслительных категорий. Мы говорим об учении Маркса о товарном фетишизме[326].
В капиталистическом обществе каждое предприятие, и труд на каждом предприятии, и товаропроизводители — формально независимы друг от друга; они «свободно» работают на рынок. Они связаны друг с другом через акты обмена, через метаморфозы товара и денег, через движение вещей. Труд здесь представляется не системой общественного труда, а сепаратными его комплексами. Факт общественного сотрудничества скрыт формальной независимостью предприятий. Общественные отношения людей кажутся общественными свойствами вещей — товаров. Этот товарный фетишизм проявляется во всём мышлении буржуазии и её идеологов. В области политической экономии, где общество рассматривается, как объект, все категории буржуазной науки насквозь фетишистичны. Капитал, например, здесь не общественно-историческое отношение между людьми, проявляющееся и фиксированное в вещи, а вещь в её натуральной форме; то же и деньги и т. д. Поэтому в буржуазной политической экономии капитал родит прибыль, земля ренту, деньги родят деньги; все они обладают чудесным, мистическим свойством. Отсюда теории «производительности капитала» в их многочисленных вариантах. Здесь нет ни капли исторического и общественного подхода к предмету: здесь все действительные отношения представляются в фетишистско-извращённом виде.
Но то же происходит и в других областях. Идеологические сферы (например, различные области науки, искусства, а также область права, морали и прочее) в силу разделения труда и анархии общества, точно также покрыты фетишистским туманом.
Энгельс писал Ф. Мерингу (письмо от 14 июля 1893 г.):
«Идеология есть процесс, который производится, правда, так называемым мыслителем сознательно, но с ложным сознанием. Настоящие движущие силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными… Таким образом, он воображает себе ложные или кажущиеся движущие силы. Так как это есть мыслительный процесс, то он выводит его содержание и его форму из чистого мышления, или из своего собственного, или же из мышления своих предшественников. Он работает исключительно с мыслительным материалом, который он некритически принимает как продукт мышления и не исследует далее, вплоть до более отдалённого, от мышления независимого, процесса…»[327].
И в другом месте, в «Людвиге Фейербахе», Энгельс говорил об «оперировании, работе над мыслями, как независимыми, самостоятельно развивающимися, подчинёнными только своим собственным законам сущностями»[328].
Другими словами, звенья цепи разделённого общественного труда представляются самостоятельными; их продукты, мысли, объективно связанные со всей системой практики и являющиеся моментом в жизни общества, в его воспроизводстве, в его жизнедеятельном круговороте, выскакивают (в сознании) из этой связи, превращаются в самостоятельные сущности; будучи отвлечениями от непосредственного соприкосновения с материей, будучи через столько-то и столько-то ступеней связанными с материальной практикой, они, в силу внешне сепаратного существования различных специализированных отраслей, выступают, как сепаратные сущности. Как деньги родят деньги, как капитал родит прибыль, земля родит ренту вне труда (в сознании фетишистов), так вне практики, вне материи появляются чистые категории, чистые формы, априорные формы, и само знание представляется «чистым знанием», т. е. знанием в себе, а не моментом овладевания миром. Рациональное обоснование этой фетишистской аберрации[329] заключается в своеобразной специфически-исторической структуре капиталистического общества. Ещё ярче этот фетишизм проявляется в категориях морали, где нормы общественного поведения приобретают характер метафизических сверхчувственных категорий, висящих дамокловым мечом над головой людей, хотя они и считаются чем-то «внутренним». Но этой темы мы коснёмся особо в другой связи.
Таким образом, и в данной области, т. е. в сфере общества, мы видим всю необходимость исторического подхода к проблеме объект-субъект. И в природе, и в обществе нет и не должно быть места пустым абстракциям, оперирование над которыми вырождается в бесплодную схоластику и «пьяную спекуляцию». Только полнокровная материалистическая диалектика может обеспечить действительно плодоносящую работу философской мысли нашего времени.
Глава ⅩⅩⅩ. Об истине: a) О понятии истины и о критерии истинного
Проблема истины является, конечно, одной из центральных проблем философии. Но что такое истина? «Что есть истина?» — как спрашивал Понтий Пилат, по евангельскому преданию.
Вопрос об истине чрезвычайно многосложен, хотя в предыдущем изложении даны почти все предпосылки для его решения. Мы здесь должны остановиться, в первую очередь, на том, чтобы заранее устранить чрезвычайно часто встречающуюся — даже в марксистской литературе — двусмысленность самого термина. Вопрос надо решать не со схоластически-вербалистически-терминологической точки зрения, а по существу, идя не от буквы, а от духа Маркса — Энгельса — Ленина.
Часто употребляются выражения «истинный мир», истина, как объективный факт, как закон, отношение, качество, состояние и т. д. действительного мира. Но разве какой угодно факт, если он факт, может быть «неистинным»? И вообще, как можно прилагать категорию истины к факту, к действительному миру, взятому самому по себе? Это словоупотребление, строго говоря, нелепо, ибо сущее в действительности есть сущее в действительности — и всё. Что это так, раскрывается сразу, если мы, забегая вперёд, поставили здесь вопрос о критерии истины, скажем о критерии соответствия с действительностью. Если под истиной разуметь саму действительность, то есть само объективное соотношение вещей и процессов, независимо от нашего познания и практического воздействия, то во что превращается вопрос? В явную нелепость: ибо выходит, что мы спрашиваем о соответствии действительности с этой же действительностью, говорим об одном и том же, как о двух вещах! Но такое положение может быть лишь в том случае, если внешний мир совпадает с мыслью, если вещи или «души вещей» суть понятия, то есть если речь идёт о явной «философии тождества» или её вариантах, во всяком случае, о том или другом виде идеализма.
Так, например, обстоит дело у Гегеля, у которого, как мы знаем, предметы действительны тогда, когда они совпадают со своим понятием. Анализируя учение Аристотеля, он пишет:
«Именно в том-то и состоит спекулятивный характер философии Аристотеля, что в ней все предметы рассматриваются мысляще и превращаются в мысли, так что, выступая в форме мыслей, они именно и выступают в своей истинности» (Лекции по истории философии, Т. Ⅱ[330]).
Вообще говоря, только тогда можно трактовать истину, как свойство действительного мира, когда этот мир не один, а предполагается удвоение или умножение миров, с разной степенью реальности, что тоже, конечно, на километры отравляет воздух мистическим зловонием. В чём же дело? Да дело не трудно понять, если иметь в виду, что речь идёт об истинном, т. е. правильном, познании, об истинном, т. е. правильном, отражении объекта в субъекте. Мы подробно, в главе об опосредованном знании, говорили о теории отражения, особенно подробно развитой Лениным в его борьбе против идеалистического антагностицизма. Отражение мира не есть мир. Отражение мира не есть удвоение мира. Отражение мира есть его «картина», но «картина» есть нечто совершенно отличное от того, что на ней изображено. Отражение может быть более или менее правильным, более или менее полным, более или менее всесторонним; отражение может быть безобразным искажением и т. д. Но никогда оно не есть сам предмет и никогда оно не может в действительности ни умножить, ни удвоить мира. Другое дело, что мышление может создать (и создаёт) многие отражения, разной степени адекватности: их можно сравнивать по их истинности, то есть по степени их соответствия с объективным миром. Поэтому истинность есть не что иное, как свойство отражения в человеческой голове, когда это отражение соответствует действительному миру, т. е. отражённому. Истинность или неистинность есть предикат мышления, соотнесённого с бытием, а не предикат самого бытия, вовсе не нуждающегося в апробации мышления. Мы уже имели случай говорить о том, что недопустимо смешивать, например, галлюцинацию как факт, с вопросом о том, что ей ничего не соответствует в предметном мире. Из того, что ей ничего не соответствует, не следует, что она сама не существует; но она существует именно как галлюцинация. Кривое зеркало кривит. Но оно существует, как кривое зеркало. Заблуждение неправильно отражает действительность. Но оно существует, как заблуждение «в головах людей». Истина правильно отражает действительность, но она не есть эта отражаемая действительность, она — другое, она перевод действительности в головах людей.
Речь идёт здесь именно об отражении и соответствии. Поэтому крайне двусмысленен и термин «совпадения», ибо совпадение есть совпадение тождественного, а отражаемое и отражение отнюдь не тождество: мышление о мире отнюдь не означает, что весь Космос помещается, грубо говоря, в головах людей в своём физическом существе, и отнюдь не означает, что он, Космос, есть то же, что понятие о нём.
У Гегеля мир не совпадает с представлением о мире, но совпадает с понятием.
«Обычная дефиниция истины — пишет он,— согласно которой она есть „совпадение представления с предметом“, ещё вовсе не содержится в представлении; ибо, когда я представляю себе дом, бревно и т. д., я сам вовсе не являюсь этим содержанием, а представляю собой нечто совершенно другое и, следовательно, ещё вовсе не совпадаю с предметом моего представления. Лишь в мышлении имеется налицо истинное совпадение объективного и субъективного»[331].
Однако, и понятие дома и бревна не есть ни дом, ни бревно, как бы ни исхищрялась идеалистическая философская спекуляция.
Но теперь появляется вопрос, что же означает соответствие «отражения» «отражаемому»? Мы уже видели, что наиболее совершенным отражением мира является «научная картина мира», его «второе конкретное» (Маркс в «Einleitung»[332], как мы помним, всемерно подчёркивал, что это «духовное воспроизводство» действительно, а отнюдь не создание самой действительности!). Так что же это за соответствие? Ясно, что речь вовсе не идёт об отражении, как зеркально-спокойном зрительном образе. Вообще, по существу говоря, является пустой тратой времени стараться понять это соответствие на манер простого и элементарного представления типа метафорического зеркала. Соответствие здесь гораздо более сложного типа.
Возьмём наш старый пример, формулу: «при нагревании тела расширяются». Эта формула истинна: она соответствует действительности. Абсолютно? Нет! Она одностороння, она неполна: в астрофизике, в звёздных условиях она неверна. На земле у неё есть исключения (вода, сталь и др.). Но в земных условиях, минус несколько веществ, она истинна, она соответствует действительности. Что же значит, что она в этих пределах «соответствует»? Это значит, что, если мы увидим на земле какое-либо тело в соотношении с другим фактором, при котором температура первого тела повышается, т. е. увеличивается энергия колебания его молекул, то объём этого тела расширяется. Или: если мы говорим, что материя имеет электромагнитную природу, и эта «картина мира» правильна, соответствует действительности, то это значит следующее: какое бы вещество мы ни взяли, сколько бы опытов ни проделали, каждый раз, вонзаясь экспериментально в микроструктуру вещества, мы находили бы там мельчайшие положительно и отрицательно заряженные частицы. Это значит, также, что любое непосредственно-практическое соприкосновение с материей с целью её изменить согласно данным теории, подтверждало бы эту теорию самым конкретным ходом технологического процесса. Об этом мы подробно говорили, когда занимались вопросом о познаваемости вещей в себе. Отражение есть сжатое, конденсированное, «духовное воспроизводство» («geistige Reproduktion») действительности. Правильное, истинное отражение, это такое отражение, которое конденсирует именно эти связи, качества, свойства, отношения, процессы, а не создаёт иллюзорные, т. е. не имеющие своего материального коррелата или своего действительного, вне субъекта находящегося, коррелата вообще. Отражение, как система понятий, отнюдь не есть система произвольно выбранных «символов» или «значков», или плехановских «иероглифов». Когда мы мыслим об электронах, то электрон — вовсе не значок и не нумерок реального, а «духовное воспроизводство» этого реального. Опосредованное значение, как мы видели, снимает субъективность и проникает в объективные связи вещей и процессов. Но одну и ту же систему понятий мы можем выразить на разных языках, записать в математических формулах, уравнениях, буквах и т. д. Это — уже область символики, условного обозначения. Никак нельзя ставить на одну доску и считать процесс образования понятий и мышления однородным с процессом выработки символов и символического писания.
Итак, критерием истины является соответствие с действительностью. Но теоретическое познание это есть одна сторона процесса овладевания, то есть теоретическое овладевание объектом. Следовательно, соответствие с действительностью есть критерий мощи теоретического овладевания. Истина есть соответствие с действительностью. Истина есть мощь теоретического познания, его действительность в смысле его действенности, его эффективности.
Рассмотрим теперь вопрос о действенности практики. Есть здесь какая-либо аналогия? Разумеется есть. Практика может быть «неудачна», маломощна, «ошибочна». Это значит, что, скажем, при выделке чугуна доменный процесс идёт не «по заданию». Следовательно, здесь была сделана какая-то ошибка. Или — другой пример: вся алхимическая практика производства золота: она была просто безрезультатна. Или постройки perpetuum mobile, «вечных двигателей». С другой стороны, мощная практика производства во всех его отраслях, и огромное повышение власти современного человека, в особенности социалистического человека, над природой. Что здесь является критерием? Вещественный результат производственного процесса, его соответствие заранее положенной цели. И здесь сразу же вскрывается связь теории с практикой и с точки зрения критериев их действенности, т. е. действительности овладевания объектом. Вещественно-материальный результат технологического. процесса есть критерий действенности этого процесса, т. е. практической мощи, т. е. действительного предметного овладевания объектом. В то же время он проверяет и теорию, ибо течение технологического процесса, его расчёт даны, заранее теоретически. Он опрокидывает ложную теорию, как, например, в случае с perpetuum mobile, причём и сама теория подтверждает здесь практику, разрушая теоретически возможность «вечного двигателя». Положительный практический эффект, то есть практическое овладение предметом, его материальная трансформация, подтверждает истинность теории, т. е. практическая мощь подтверждает мощь теоретическую. Но так как всякая практика есть разумная целеполагающая деятельность (мы говорим о человеческой практике), то теоретическое начало в ней, так сказать соприсутствует, какая бы система разделённого общественного труда ни была в данном обществе. И именно потому, что практика производит теорию, а теория практику; именно потому, что они переходят одна в другую и составляют единство в своём кругообороте, практический критерий истины совпадает с критерием соответствия с действительностью. Вскрытые теорией действительные «причины» (необходимые связи) становятся правилом в практике; истинность познания означает поэтому практическую мощь, а практическая мощь означает истинность познания, т. е. его соответствие с действительностью. Всё это — если под практикой мы разумеем предметное изменение мира, а не иллюзорную «практику» мистических озарений и душеспасительной «пользы» хлыстовщины всякого рода, как в «Многообразии религиозного опыта» В. Джемса. Но об этом мы уже говорили, и не будем снова сюда снова возвращаться.
Разберём теперь вопрос о критерии экономики, который с такой помпой был возвещён эмпириокритиками («мышление о мире с точки зрения наименьшей траты сил», Авенариус прежде всего). Взятый в себе, т. е. без соотнесения с вопросом о соответствии, этот принцип сумасброден и тривиален в одно и то же время: сумасброден, ибо он выбрасывает за борт всё более и более многообразные, открывающиеся в процессе познания, связи и соотношения; тривиален, ибо рубит топором, элементарно-плоско подходит к проблеме. Но о нём можно — как это и сделал Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» буквально в двух строках — рассуждать, если взять его в соответствии с критерием истины как правильного отражения действительности. Тогда он не выступает только впереди, a post factum, не как самостоятельный критерий, а как выражение производительности умственного труда, производительности мышления. В таком случае правильное, т. е. верно изображающее действительность мышление, неизбежно оказывается и самым экономным. Это значит, что в его продукции не будет ничего лишнего, т. е. неверного, не соответствующего действительности, запутывающего вопрос, мешающего проникнуть в действительные связи действительных процессов, увлекающего на ложные дороги и пути, создающего иллюзорные связи вместо открытия связей действительных. Но это никак не может означать выставляемого наперёд требования мыслить «просто» и «экономно»: в таком голом виде это требование абсурдно и познавательно вредно, оно неизбежно будет приводить к плоским и худосочным абстракциям, как бы ни были они приукрашены гарниром всевозможных эмпириокритических словечек и формул «чистого описания».
Следовательно, вопрос о критериях истины мы можем сформулировать следующим образом: критерием истины является соответствие с действительностью, что подтверждается практикой, как соответствием её материального результата с её целью; критерий соответствия с действительностью совпадает с практическим критерием, подобно тому, как теоретическая мощь совпадает с мощью практической, ибо это есть лишь две стороны процесса овладения предметным миром; истинное мышление post factum оказывается и самым экономным, т. е. самым производительным.
Глава ⅩⅩⅩⅠ. Об истине: b) Об абсолютной и относительной истине
Мир бесконечен и бесконечно многообразен, и в то же время един. Неизмеримое и неисчерпаемое море качеств, свойств, связей, соотношений при переходах из одного в другое, непрерывных превращениях, гибели одного, возникновении другого, нового, вечное становление и исчезновение, океан бесконечного движущегося вещества во всем великолепии его форм,— таков объективный мир. Совершенно очевидно, что он не может во всём бесконечном своём богатстве стать в конечном историческом времени объектом адекватного познания и адекватной практики. Он исторически раскрывается в мышлении субъекта. Познание есть процесс, и результаты этого процесса, постоянно преобразуемые в историческом движении труда и мышления, не являются какой-то застывшей величиной, а сами постоянно обновляют свой состав. Познание растёт и экстенсивно, вширь, и интенсивно, вглубь: оно охватывает всё новые и новые сферы бытия и в то же время открывает всё более и более общие, т. е. всё более и более глубокие, типы связей, отношений, законов. Расширяется непрерывно сфера единичного, конкретных вещей и процессов, становящихся объектами. И в то же время познание, растущее на своей практической основе, идёт ко всеобщему, вскрывая всё более глубокие типы связей, открывая всё более общие и универсальные законы, восходя от них к «духовному воспроизводству» многообразного понятного уже конкретного. Эти ступени познания соответствуют строению самого бытия, самой объективной действительности. Ибо объективно, совершенно независимо от человеческого, и всякого другого, сознания, существуют и общие, универсальные связи и бесконечное количество связей частичных, дробных, специфических; существуют и общие, универсальные формы бытия, и формы частичные. Необходимость — тип универсальнейшей, всеприродной объективной связи; законы диалектики — обнимают всё: природу, общество, мгновение. Энгельс писал в «Анти-Дюринге» о диалектике, что это «чрезвычайно (äusserst) всеобщий и поэтому чрезвычайно широко действующий и важный закон развития природы, истории и мышления, закон, который, как мы видели, имеет значение (zur Geltung kommt) в животном и растительном царстве, в геологии, в математике, в истории, в философии…». Но есть, как мы знаем, и специфические закономерности, свойственные только особым формам бытия, например, биологические законы, как законы органического мира, и только органическому миру свойственные. Таким образом, типология законов отражает объективные типы объективных связей по их убывающей или возрастающей общности, по их «глубине». И познание, как процесс, состоит в раскрытии всё более широкого поля конкретных вещей и процессов и всё более глубоких типов их связи. Поэтому Ленин, комментирую Гегеля в «Философских Тетрадках» записывал:
«Природа и конкретна, и абстрактна, и явление, и суть, и мгновение, и отношение. Человеческие понятия субъективны в своей абстрактности, оторванности, но объективны в целом, в процессе, в итоге, в тенденции, в источнике»[333].
Отсюда понятна и трактовка самой истины, как процесса: ибо познание не в состоянии охватить сразу всего бесконечного многообразия природы и в то же время его многообразного единства, универсальной связи мира с бесконечностью конкретных опосредствовании. Оно, так сказать, открывает мир кусками и лишь в тенденции познаёт многогранную целостность, вечно к этому стремясь. В действительности не существует разных миров, миров различной степени «истинности»: существует единый мир с различными типами связей, более глубоких или менее глубоких,— в этом рациональное ядро и основание всех рассуждений о «сущности» и т. д. В частности, мир (или его части, вернее) в соотнесении с чувственными органами субъекта даёт феноменологическую «картину», а познание идёт «глубже», и в понятиях отражает, снимая субъективное, объективные свойства мира, «в себе», «отмыслив» принципиальную координацию Авенариуса. Это, между прочим, выражает очень чётко и Гегель в «Науке Логики»:
«Каков он (предмет, Авт.)… в мышлении, таков он есть только в себе и для себя; каков он в воззрении и представлении, таков он — явление».
Различные гегелевские понятия, вроде бытия, сущности, действительности, абсолютной идеи и т. д. в перевёрнутой форме отражают всё более глубокий процесс познания, движения к универсальной, всеобъемлющей, «абсолютной идее», которая есть абсолютная истина[334]. С точки зрения диалектического материализма здесь мышление полностью соответствует бытию, как целому иному и многообразному бытию. Но к этому познание лишь стремится в своём историческом развитии, постоянно обогащаясь, проникая всё глубже и глубже и асимметрически двигаясь в этом направлении. Познание есть отражение человеческой природы. Оно не может отразить её во всей её цельности, а лишь идёт к этому в процессе своего исторического развития, исходя из чувственного опыта, снимая его субъективную сторону, в сотрудничестве людей образовывая понятия; абстракции, законы, системы их, научную картину мира и т. д. Этот процесс охватывает объект, но условно, не в целом, не сполна; ухватывает универсальную связь вещей, но частично, неполно, однобоко, приблизительно, вечно двигаясь, однако, ко всё более полному, многостороннему, глубокому, универсальному познанию.
С точки зрения релятивизма[335] наука и философия могут содержать лишь релятивное. Но это — грубая и антидиалектическая постановка вопроса, ибо она абсолютизирует само релятивное. С точки зрения диалектического материализма, с точки зрения объективной диалектики, в самом релятивном есть абсолютное, ибо, как писал Ленин,
«…Отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведёт к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное»[336].
Но здесь мы хотим остановиться на одном крайне существенном вопросе, а именно на самом понятии релятивного. Оно крайне многозначно. Прежде всего, следует провести границу между релятивным, так сказать, категориального порядка и просто релятивным, как неполным. Возьмём, например, философию Канта. Её исходный пункт — принципиальная разница между нуменальным миром и миром феноменов. Познание движется — и может двигаться — только в рамках феноменального мира: мир «вещей в себе», мир нуменов, трансцендентен, в него перескочить нельзя, он принципиально недоступен. Он есть, но мы, по Канту, ничего о нем не знаем и никогда не будем знать. Какие-то основания есть в мире нуменов, которые выражаются в многоразличии феноменального мира, но что это за основания, какова их природа — всё это принципиально от нас скрыто. Ни частички нуменального мира не может войти в наш опыт и в сферу нашего познания.
А практики? Этого вопроса Кант не решает. Так вот. Здесь мы имеем относительность нашего знания. Но это есть принципиально-категориальная (не в смысле «категорий» Канта) относительность, ибо сама категория «вещей в себе» нам принципиально недоступна, т. е. недоступна во веки веков. Нам доступен лишь мир феноменов, и здесь может быть «процесс знания», т. е. процесс всё более и более полного охвата мышлением, Разумом, мира «вещей для нас». Относительность, релятивность истины с точки зрения диалектического материализма нечто совершенно другое. Здесь, в полную противоположность Канту, речь идёт именно о познании действительного мира, который отнюдь не разгорожен от нас органами наших чувств, а соединён через них с нами. Субъективный коэффициент мы снимаем в процессе мышления. Мы овладеваем (практически-теоретически) реальным, внешним, независимо от нас существующим предметным миром. Но только часть мира и не до конца есть объект нашего овладения: мы практически трансформируем в производстве лишь бесконечно малую часть космоса, составляющую наше «хозяйство»; но и ту часть, которую мы трансформируем, мы используем лишь частично: мы, например, ещё не используем внутриатомной энергии вещества. То же и в области теоретической стороны процесса овладевания: мы многое знаем, но это многое ещё бесконечно мало. Однако, и практическая и теоретическая мощь возрастают и нет никаких пределов и границ этому возрастанию. Здесь, следовательно, относительность, релятивность, нашего познания есть его убывающая неполнота и односторонность — нечто совершенно другое, чем принципиальный релятивизм познания у Канта, его «дурной идеализм», «дурной субъективизм», «дурной релятивизм», если выражаться на гегелевском языке.
Возьмём релятивизм прагматизма. Для прагматизма «истина» есть не что иное, как «польза» в её каком угодно субъективном из субъективнейших пониманий: если «бог» утешает, значит он действует, значит, он существует, значит он — истина. Тут — «дурная» практика и «дурной» субъективизм празднуют свои оргии. Здесь «истина» настолько относительна, что она теряет уже всякую связь с реальностью, вне субъекта находящейся. Ясно, что и этот релятивизм есть нечто другое, чем релятивизм неполноты, чем релятивизм в концепции диалектического материализма, Отличен от него и релятивизм эмпириокритиков с их «принципиальной координацией», из которой нельзя выпрыгнуть, с их феноменологией помимо которой ничего не признаётся.
Он отличен от релятивизма софистов[337], например, Горгия. Здесь Ленин вполне справедливо соглашался с Гегелем, когда тот писал о Горгии:
«…Горгий a) правильно полемизирует против абсолютного реализма, который, имея представления, полагает, что обладает самой вещью, на самом же деле обладает некоим относительным; b) впадает в дурной идеализм нового времени: „мыслимое всегда субъективно, стало быть, оно не есть существующее, так как посредством мышления мы превращаем существующее в мыслимое“…»[338].
Таким образом, познание здесь трактовалось чисто субъективно, и объект испарялся, познание не охватывало его, как действительность, вне субъекта лежащую. И у софистов (Протагор и др.: «человек мера всех вещей»); и у Сократа (добавка: мыслящий человек мера всех вещей) по разному (ибо Сократ метил на «всеобщее») релятивизм абсолютизировался, как субъективная сторона содержания мыслительного процесса (здесь в скобках нужно подчеркнуть, что слово объективный в таких выражениях, как «объективная истина» и т. д. означает соответствие с действительностью, правильность отображения, в противоположность субъективному искажению, но отнюдь не означает самой объективной действительности).
В связи с тропами Пиррона мы уже разбирали вопрос об относительности знания в силу субъективности индивидуальной, видовой, а также социоморфизма познания. Мы видели, как решаются все эти вопросы с точки зрения диалектического материализма. Но на одном вопросе здесь следует ещё раз остановиться ввиду его особого значения, а именно на вопросе о связи всех вещей и процессов природы, т. е. об их объективной связи, связи вне субъекта. С этим вопросом мы встретились и при критике кантианской вещи в себе. Речь идёт здесь о том, что «вещь в себе», т. е. вне соотношения не только субъектом, но и с другими вещами, есть пустая абстракция. Этот пункт надо особо отметить и выделить, ибо тут дело идёт не о релятивном, которое так или иначе «вменяется» субъекту, а о соотношении в самом объекте. Но эта универсальная связь вещей и процессов, бытия одного в другом через другое, сама есть объект познания. Если познание схватывает эту «относительность», то на лицо не ущербная сторона познания, а, наоборот, его диалектическая высота: как раз ограниченное, рассудочное, метафизическое, статическое, деревянное познание не ухватывает этой связи, изолирует вещи и процессы, текучее превращает в застывшее. Уничтожение этой связи и этой «относительности» было бы регрессом познания. Рассудочное познание выражает ограниченность и относительность, вытекающую из слабости. Диалектическое познание выражает растущую мощь разума, опирающегося на мощную практику.
Отсюда вытекает, что вопрос об объективной связи вещей и о том, что объект всегда находится в связи с другим, и только в этой связи и может быть познан, есть совершенно особый вопрос, который не может быть взят за одну скобку с вопросами о релятивности познания в силу тех или иных свойств субъекта. Что касается вопросов этой последней рубрики, то мы видим, что они, в свою очередь, резко распадаются на два больших раздела: во-первых, проблемы релятивизма, связанные с субъективной трактовкой процесса познания, как процесса, где объективный мир или исчезает, или объявляется недоступным, или осуждён на вечное искажение в силу тех или иных свойств субъекта, из которых нельзя выпрыгнуть и которых нельзя отмыслить; во-вторых, элементы релятивизма в их диалектико-материалистической трактовке; когда относительность истины есть её убывающая в процессе познания неполнота, исторически преодолеваемая ущербность, вытекающая не из непознаваемости, а из неполной познанности действительного мира (что касается субъективного и идеологических извращений, что они преодолеваются при определённых условиях познания).
Абсолютное существует и в релятивном. Это лучше всего вскрывается на примере. Вспомним, как в своё время полемизировал А. Богданов, исходя из абсолютного понимания абсолютного и релятивного. Он, между прочим, разбирал положение: «Наполеон умер такого-то числа, такого-то года, на о‑ве Святой Елены» и разбирал его так: что такое смерть? Когда она наступает? Тогда ли, когда перестаёт биться сердце, или тогда, когда отмирают все клетки? Известно, что у так называемых «покойников» ещё растут волосы и ногти; как измерять время? И проч. (мы здесь приводили рассуждения на память и ручаемся только за добросовестную передачу смысла и духа возражения, а не за текст). Таким образом, здесь-де нет устойчивой, абсолютной, прочной истины, не говоря уже о том, что речь идёт лишь об «единичном соотношении». Однако, разберём вопрос. Его нельзя ставить так, как ставит А. Богданов. Его надо поставить так: мы знаем, что a) если считать за смерть прекращение деятельности сердца и такие-то симптомы; b) если счёт времени такой-то, то Наполеон умер тогда-то. И это есть и будет прочной истиной (абсолютной, но частичной) навсегда. Другое дело, что мы не знаем ещё в точности процесса смерти и не владеем ни теоретически, ни практически живым в смысле его создания и т. д. Следовательно, мы не знаем ещё здесь всех связей и отношений. Это — верно. Но это уже другой вопрос. Мы страшно многого не знаем, но мы многое узнаем, и многим овладеваем, и многое из завоёванного останется навсегда, не только «констатация единичного соотношения» типа: «Наполеон умер и т. д.». Правда, целый ряд прочных завоеваний науки будут взяты в другой связи, под другими углами зрения, которые будут вырабатываться в будущем: смешно думать, что и через миллионы лет мышление будет тем же, что и сейчас. Но многое будет жить в науке будущего, как прочное, вечное и абсолютное её приобретение.
Таким образом, само противопоставление абсолютного и относительного является относительным, и нельзя абсолютизировать это противопоставление. И именно потому, что целый ряд вещей мы знаем, знаем прочно, именно поэтому мы реально овладеваем миром, применяя теперь и науку, как рычаг, преобразующий мир практики. Двигаясь к абсолютному через релятивное, в котором есть абсолютное, завоёвывая всё новые и новые опорные пункты и в процессе экстенсивного, и в процессе интенсивного познания, мы овладеваем все большими сферами реального, действительного, вне нас лежащего мира, становясь все более и более действительными властелинами теллурических[339] сил.
Глава ⅩⅩⅩⅡ. О благе
В своих замечаниях на Гегелеву «Историю философии» Ленин делает такую запись о философе-киренаике[340] Гегезии:
Гегезий «Смешивает ощущение как принцип теории познания и как принцип этики. Это NB».
Смешение это характерно не для одного Гегезия. Оно было необычайно распространено в большинстве философских школ древней Греции, Рима, на Востоке, в Средние Века в Европе, да и среди т. н. новейших школ. Где лежит корень этого смешения? Он лежит в телеологическом взгляде на мир. В самом деле, если в основе мира — целеполагающий Разум, то он есть одновременно и истина (ибо это принцип мироздания, его наивысшая, всеобщая энтелехия), и цель, т. е. всеобщее благо, наивысшее благо, которому должны быть соподчинены все другие «блага», как частичные, производные, второстепенные. Греческий Νους у досократиков — цель, благо в его ближайшем определении. У Сократа, особенно у Платона и Аристотеля это возводится во «всеобщее», «род», «идею», «бога».
«Сократ первый — читаем мы у Гегеля,— положил начало воззрению, согласно которому красота, добро, истина и закон суть цель и назначение отдельной личности»[341].
У софистов индивидуум был мерой всех вещей. Здесь господствовал ярко выраженный индивидуализм. Платон и Аристотель, создавая свои казарменные общественные идеалы, должны были апеллировать к общественно-государственной узде, а, следовательно, ко «всеобщему», т. е. в конечной инстанции к богу, как истине — благу. То «смешение», о котором говорил Ильич, является таким имманентным законом телеологического и теологического идеализма, что подтверждает — через много, много веков — и кантианство со своими «постулатами практического разума», свободной воли, бессмертием души, богом и категорическим императивом.
«Бог,— читаем мы у Гегеля,— платоновское благо, есть, во-первых, положенный мышлением продукт, но оно, во-вторых, есть в такой же мере в себе и для себя. Если я признаю в качестве сущего незыблемое и вечное, нечто такое, что по своему содержанию есть всеобщее, то оно положено мною, но вместе с тем, как само в себе объективное, также и не положено мною»[342].
Здесь наличествует «субстанциальная разумность» в противоположность «партикулярной» цели. «Незыблемое», «Абсолют», вечное и верховное «благо», не нуждающееся ни в каком обосновании из другого, ибо оно само в себе конечный принцип,— такова здесь постановка вопроса. Человечность «блага», его эмпирические, житейские, общественные корни; генезис общественной нормы поведения, как нечто, воплощающее главный реальный интерес данного исторического общества, его «строя», «порядка», «разума», которому должны подчиняться частные, находящиеся иногда в конфликте с ним, второстепенные интересы,— этот генезис нарочито или ненарочито скрывается, утопая в море теологически-телеологических «аргументов». В этом отношении чрезвычайно интересно рассуждение Гегеля (История философии. Ⅱ[343]) в связи с анализом учения Платона, где Гегель, вместе с Платоном, возражает против обсуждения всяких эмпирически-рациональных доводов в пользу «добра», стремясь в то же время мелкотравчатостью доводов заранее скомпрометировать их вообще. Приведём это место:
«Так, например, говорят: „не обманывай, а то потеряешь кредит и потерпишь убытки“, или: „будь умеренным в пище, а не то расстроишь себе желудок и тебе придётся сидеть на голодной диете“; или в объяснение наказания принимают внешние основания, заимствованные из возможных результатов этого поступка и т. д. Напротив, если в основании лежат твёрдые основоположения, как это имеет место в христианской религии, то хотя бы мы теперь больше не знали их, мы всё же говорим: „Милость божия, имея ввиду спасение нашей души и т. д. устроит таким образом жизнь человека“,— тут вышеприведённые внешние основания отпадают».
Ещё бы им несчастным не отпасть! Эта теологическая мистика в своём роде великолепна: она бросает необычайно яркий свет на «генезис идей».
Но довольно пока примеров! Перейдём к существу вопроса. Прежде всего, во главу угла следует поставить проблему соотношения между «истиной» и «благом», развести незаконно сожительствующие «правду-истину» и «правду-справедливость», процветавшие даже у русских блаженной памяти «субъективных социологов». Как мы знаем, истина есть соответствие отражения объективному, вне нас находящемуся миру. Закономерность его — самая общая — есть необходимость. Вскрытие связей и отношений, качеств и свойств, общих и частных законов объективного мира есть задача теоретического познания, как момента овладевания. Это — с одной стороны. С другой, никакого «блага», всеобщей «цели», «энтелехии» как верховного и универсального принципа, в природе нет,— как нет ни грана морали, этики и т. д. в теореме Пифагора, в аналитической геометрии, астрофизике или палеонтологии. Нам здесь вовсе нет надобности повторять всю аргументацию и против грубой, «внешней», и против тонкой, «внутренней», «имманентной» телеологии: мы достаточно останавливались на этой проблеме в специальной главе нашей работы. Но если не выдерживает критики телеологическая точка зрения и телеологическая концепция мира, то тем самым рушится и падает «благо», как принцип мироздания. Когда мы говорим об истине, то мы говорим о соответствии отражения отражаемому, объективно существующему. Совсем другое с благом. Это — нечто субъективно-человеческое прежде всего и только: ему ничего не соответствует во внешнем, внечеловеческом, мире. «Всеобщее» здесь имеет своим рациональным основанием не природно-всеобщее, подобное универсальным законам природы, а некий общественно-исторический интерес, формулированный в противоположность частным интересам и спроецированный на космический экран. Цели людские суть только людские цели, они полагаются людьми, общественно-историческими людьми; нормы поведения; доминанты этих норм, могут на первых ступенях развития вырабатываться и бессознательно, стихийно, полуинстинктивно, но они не перестают от этого быть человеческими, общественно-историческими. Искать для них внечеловеческой идеальной санкции (вроде гегелевской «милости божией») можно лишь в том случае, если признавать теологически-телеологическую концепцию мира. С противоположной точки зрения людское имеет «оправдание» в людском и ни в каких сверхчеловеческих и супра-натуралистических санкциях отнюдь не нуждается.
Понятия такого общего характера, как понятие «блага», а также смежные с ним понятия «справедливости», «добра», «добродетели» имеют всегда специфически-историческое содержание, меняющееся в зависимости и от экономической формации, и от класса, и от конкретной фазы развития. Вне этих конкретно-исторических определений все эти категории — совершенно формальны, пусты, абстрактны, бессодержательны. Ну, скажите, пожалуйста, что общего между аскетическим «благом» браманизма[344] и утилитаризмом[345] Иеремии Бентама, этого, по выражению Маркса, «гения буржуазной глупости»? Что общего между добродетелью стоиков и virtù[346] Никколо Макиавелли, с его безудержным коварством ради «родины» ренессансной торгово-промышленной итальянской олигархии? Что общего между «благом» раннего христианства и «благом» чувственных наслаждений эпигонов[347] эпикуреизма[348]? Понятие о «благе» у Симеона Столпника или протопопа Аввакума — с одной стороны и у Генриха Гейне с другой вряд ли будут напоминать друг друга хотя бы в чём бы то ни было. А если привлечь к делу эмпирический историко-этнографический материал, пройтись по разным странам, народам, эпохам, то результаты будут поистине поразительными: нет и помину о незыблемом и вечном! Но каждый раз мы можем с полным успехом социологически вывести, т. е. социально генетически объяснить, то или другое «благо», ту или другую совокупность координированных моральных воззрений, из «общественного бытия», т. е. из материальных условий существования специфически-исторической общественной формации и её классового носителя, воплощающего его «строй» и «порядок».
Указание на историческую релятивность «блага» (которую чрезвычайно легко демонстрировать тысячью примеров) можно, однако, парировать следующими рассуждениями: эмпирически благо-де раскрывается в историческом процессе, точно так же, как в историческом процессе познания раскрывается и истина; то обстоятельство, что понятие о «благе» меняется, нимало не противоречит его бытию в себе, абсолюту блага, познаваемому в процессе совершенствования рода человеческого; это и есть движение ко всеобщему, покоящемуся, как незыблемый моральный закон. Такое рассуждение вполне правомерно и оно было бы правильным, если бы не одно «маленькое» обстоятельство, а именно, неправильность телеологической концепции мира. Когда в познании природы это познание происходит даже в социоморфических рамках, идеологически извращающих объективное содержание мышления, то всё же не исчезает предмет познания, ибо он существует вне познания, и он-то и познаётся, хотя и путём извращённых «отражений». Когда же речь идёт о «благе», переносимом на мир, то в этом последнем ровно ничего этому «благу» не соответствует. Ему, однако, нечто соответствует, но не вне человеческого общества, а в самом человеческом обществе. Тут лежит корень «всеобщего»: это всеобщий интерес данного общества, как такового, т. е. представленного его господствующим классом: смена этих классов и их борьбы есть смена воззрений о «благе» и борьба этих воззрений.
Но на это можно возразить, в свою очередь, таким образом: а разве, по вашему, познание природы не движется общественным интересом? Вы же сами настаиваете на том, что практика определяет теорию! Разве познание не есть овладение миром для человека? Разве тут не действует интерес? Разве тут нет, следовательно, того же самого?.. Нет, господа! Федот, да не тот!
Но этот вопрос требует более пристального внимания, хотя его решить не так уж трудно. В самом деле: направленность интереса в познании есть выбор объекта познания, точно так же, как этот интерес выбирает объект материальной трансформации вещества — это есть телеологическая сторона дела, за которой стоит, как мы видели, общественная необходимость. Но вот объект познания (объект овладения) выбран, вскрываются его объективные закономерности. И в этих объективных закономерностях (о них-то и идёт речь!) нет «ни грана этики», точно также как нет «ни грана этики» в технологическом процессе, скажем в доменном процессе, в мартеновском процессе, электролитическом изготовлении алюминия и т. д. Ориентация в мире — теоретическая и практическая — есть жизнедеятельная функция общества. Оно субъект овладевания миром, в социалистическом строе оно субъект в полном смысле слова, т. е. целеполагающий, сознающий себя, субъект. В социалистическом обществе (мы его берём здесь как особо яркий пример!) оно, это общество, как целое, как телеологическое единство, в плановом порядке выбирает объекты овладевания (теоретические и практические, взаимно связанные). Но сами эти объекты, течение их процессов, и вне «искусственных» условий, т. е. вне производства и вне научного эксперимента, и в этих «искусственных» условиях, т. е. в технологических производственных процессах и в обстановке экспериментальных лабораторий, никакой «морали», «блага», «интереса» и т. д. не имеют: здесь «действуют» холодные и равнодушные законы физики, химии, биологии,— и только. Законы природы используются человеком в его целях, но это вовсе не значит, что они содержат в себе человеческие (или сверхчеловеческие) цели: в них вообще нет ровно ничего человеческого, и эти категории к ним совершенно неприменимы: применять их к ним, это всё равно, что впрыскивать антидифтерийную сыворотку берёзовому полену или искать оправдания кантовского категорического императива в производстве серной кислоты.
Все в мире связано со всем диалектической связью. Поэтому, в конечном счёте, можно установить связь между самыми различными вещами, свойствами, категориями. Но не следует превращать диалектику в софистику, в логические фокусы, в игру понятий.
Необходимость проявляется в нашем примере социалистического общества непосредственно через телеологию — необходимость переходит в свою собственную противоположность; телеологически направляются процессы познания и овладения: выбираются объекты, расставляются определённым образом элементы природы; вскрываются необходимые связи и отношения природного мира; действует природная необходимость в технологическом процессе, где и сам человек выступает, как «сила природы» (Маркс), т. е. как известная энергетическая величина. Познание и производство, как разумные активные процессы, суть телеологические процессы, за спиной которых стоит необходимость. Но объектом познания и производства самим по себе не свойственна никакая телеология; им, этим объектам, телеология не имманентна, а трансцендентна, она лежит вне их, она — в субъекте, а не в объекте. Таковы действительные диалектические связи.
Этическое «благо» вырастает исторически на общественной почве и касается соотношений между людьми: отношения между людьми и предметным чувственным миром берутся лишь постольку, поскольку это вытекает из соотношений между самими людьми. Стадный инстинкт и чувство племенной общности на начальных ступенях развития не есть ещё ни «этика», ни осознанное этическое «благо». Элементы этики, категории «добродетели», «добра», «справедливости» и т. д., исторически возникают тогда, когда выступают наружу и исторически образовавшиеся общественные противоречия, противоречия между обществом и группой, между группами, между обществом и личностью, между группой и личностью, потом между классами и т. д. В обществах с ярко выраженной персональной связью моральный закон формулируется прямо как богом данная заповедь и обычно слит с примитивным законодательством. За всем этим стоит санкция божества. В обществах со стихийной связью — т. е. в обществе товарном и товарно-капиталистическом — «благо» есть фетишизированные нормы поведения, представляющиеся, как метафизические «внутренне-обязательные» императивы, за которыми стоит санкция безликой и неопределённой божественной субстанции. Эти телеологические представления и выраженный в них интерес, длительный и «всеобщий» (в смысле общего для данного классового общества и класса), как условия самосохранения определённого строя общества, как начало, почти автоматически, почти инстинктоподобно, «внутренне», действующее в индивидуумах и подавляющее «партикулярное» и «единичное»,— и является «сущностью» морального «блага». Его действительным источником является, таким образом, «всеобщий» (в вышеуказанном смысле) интерес, за которым стоит необходимость, как объективная категория общественного развития, как нечто, определяющее людские ориентации. Этот земной и общественный источник в большинстве случаев скрыт от сознания людей, преисполненных «долга» и стремящихся к «благу», и чем более скрыт этот источник на земле, в обществе, тем усерднее ищут его на небе, в божественном «благе», освящающем своими лучами людские судьбы. Так образуется оригинальное qui pro quo[349], когда «земное» порождает «земное», последнее проецируется на «небо» и оттуда «оправдывает» самое себя. Явления безразличия к земному или отрицания земного, формулированные как «благо», есть обычно средство самосохранения групп, поставленных под удар, не имеющих перспективы и подверженных постоянным и прихотливым случайностям так называемой «судьбы», при волевом напряжении, направленном на уничтожение активной и действующей вовне воли.
Это хорошо изображает тот же Гегель, volens-nolens вскрывая материальные подосновы этической философии стоиков, у которых, кстати сказать, было много моментов и действительного понимания общественной природы этических норм. Но анализ этого не входит в нашу задачу. Итак, слушаем диалектического маэстро: «Принцип стоиков является необходимым моментом в идее абсолютного сознания; он вместе с тем (слушайте!) представляет собою необходимое явление их эпохи. Ибо когда жизнь реального духа потерялась, как это произошло в римском мире, в абстрактном всеобщем, сознание, реальная всеобщность которого была разрушена, необходимо должно было вернуться образно в свою единичность и сохранять само себя в мыслях… Всё, что обращено вовне,— мир, обстоятельства и т. д.,— получает тем самым такой характер, который позволяет упразднить его, пренебрегать им»[350]. Другими словами, условия жизни, общественный распад, жизнь под постоянным дамокловым мечом при отсутствии всякой надежды на активный прорыв приводит к мысленному «этическому» упразднению мира, к тренажу против «страха и вожделения». Summum bonum[351] — в изречении: «Мудрец свободен даже в цепях, ибо он действует из самого себя, не подкупаемый страхом или вожделением». Но моменты общественного распада знают и философию «Carpe diem»[352] (тот же Гораций Флакк), отрицание всякого «всеобщего» и абсолютный индивидуалистический релятивизм (софисты в Греции, Горгий, Протагор и др.), упадочный и безыдейный гедонистически[353]-извращённый аморализм (литература конца ⅩⅨ столетия) и т. д. Объяснить все эти конкретные ориентации — дело соответствующего конкретного анализа, но это уже — особая и специальная задача, выходящая за рамки нашей работы.
Когда люди сознают земное происхождение этики и соответствующих норм, сознательно их принимают, как им самим нужные нормы целесообразного поведения, с предпочтением более важного и основного, то этика теряет свой фетишистский характер. Для людей новой, социалистической, эпохи это «разбожествление» ни капли не уменьшает силы действия: наоборот, борьба за действительное и реальное счастье на земле, за всеобщий людской интерес, победы в этой борьбе, действительное ощущение расцвета жизни придают нормам целесообразного поведения гораздо большую силу, чем ранее придавали другим соответствующим нормам различные небесные и метафизические авторитеты.
Из того, что этика выражает тот или другой интерес в междулюдских отношениях, а эти интересы противоречивы и, поскольку речь идёт о принципиально-враждебных классах, принципиально противоречивы, вытекает, что этические нормы недоказуемы для всех, ибо здесь налицо расхождение в самых предпосылках, в отправных позициях. Общие формулы — пусты и ничего не говорят. Мало-мальски конкретные формулы уже антагонистичны. Если, например, Ленин в своей известной речи о воспитании молодёжи[354] определил этические нормы коммунистов так: всё, что полезно коммунизму, хорошо; всё , что вредно, плохо, и так решал проблему «добра и зла», то это решение, совершенно правильное с точки зрения пролетариата, как носителя нового способа производства, неизбежно берётся буржуазией с обратным математическим знаком, и классу капиталистов нельзя доказать, что коммунизм есть «добро» или «благо», ибо это противоречит основным интересам класса капиталистов. Даже сознание неизбежности социализма не будет для него аргументом: он скорее встанет в позицию О. Шпенглера, позицию так называемого «мужественного пессимизма»; «Optimismus ist Feigheit», «оптимизм, это — трусость», провозгласил с точки зрения упадочного буржуа «храбрый» философ фашистского декаданса. Если у современной ультра-империалистической буржуазии «благо» сосредотачивается в «хищном», «красивом» животном, то никакие разговоры о братстве народов, интересах большинства, о массе, человечестве и т. д. этих буржуа не проймут, ибо они плюют на все эти предпосылки: что им за дело до всего такого) Их интерес — в прямом противоположном; их «благо» — в эксплуатации, разбое, стонах жертв, в сверхскотине, в процветании олигархической властной кучки, в чистоте её «крови», в её разбойничьих «подвигах» и т. д. Если вы скажете: «но интересы развития?» — ответ будет: «А почему я должен стоять на их страже?» Если вы скажете: «Но осуществление равенства в условиях развития для каждого, расцвет жизни?» — ответ будет: «А для чего мне всё это равенство? Я, наоборот, предпочитаю красоту хищников, пожирающих ближних своих!». Антитеза основных ориентаций вызывает и антитезу их сублимированных форм, а в критические эпохи истории, такие, как наша эпоха, эта враждебность достигает максимального напряжения, напряжения открытой войны, и вопрос решает здесь уже не логика, а практическая сила. Так, и только так, ставит вопрос история.
Можно ли, однако, взяв за исходный пункт определённые предпосылки, построить «научную» этику, так сказать этическую технологию жизни? Разумеется, речь здесь не может идти о науке, как совокупности формулированных (отражённых) законов бытия, хотя бы и общественного бытия: здесь речь может идти о систематизации норм, которые, однако, имели бы своё обоснование в необходимости. Итак возможна ли такая наукообразная этика?
На этот вопрос мы ответим сначала анекдотом, который был в действительности. Однажды Ф. Энгельс спрашивал Г. В. Плеханова о П. Л. Лаврове:
«Скажите, пожалуйста! Вот ваш Лавров, кажется порядочный человек, а как он любит говорить об этике!»
В этом анекдоте, как и в отношении марксистов вообще к проблемам этики, есть весьма и весьма рациональное зерно. Общие постановки вопроса ясны. О них болтать любят люди, у которых в данной сфере, выражаясь по Фрейду, есть «Minderwertigkeitsgefühl»[355]. Вырабатывать же номенклатуру добродетелей, поступков, типологию случаев — это значит превратиться в педантов и толкать людей на многочисленные ошибки. Составлять катехизис поведения, новое «Юности Честное Зерцало», «Домострой» наоборот и т. д.— вряд ли целесообразно: жизнь сейчас так сложна, что в такие прописи её не уложишь, а заморозишь. Проблему решают гораздо лучше на живых, многообразных и конкретных примерах писатели (воспитательное значение литературы огромно), и недаром Сталин назвал их «инженерами человеческих душ». Кроме того, в наше время, когда этика дефетишизируется, она в то же время политизируется: лучше всего это видно на политической окраске культа труда, как «дела чести, дела славы, дело доблести и геройства», на культе советской героики вообще. Здесь действуют живые силы, а не сухой учебник, не гувернантские элабораты, не Смайлс[356] или госпожа Жанлис в новом издании[357].
Так оно живее, вернее, лучше, успешнее, целесообразнее!
Глава ⅩⅩⅩⅢ. О диалектическом идеализме Гегеля, как системе
Выше, обсуждая вопрос о т. н. «философии тождества», мы касались гегелевской системы, да и во всей работе Гегель не сходит с этих страниц. Однако, здесь необходимо разобрать не исходные пункты и частности, но отдать себе отчёт во всей системе Гегеля в её целом.
«Как всякий человек есть сын своего времени — писал Гегель — так философия есть современная ей эпоха, выраженная в мыслях».
Эта материалистическая мысль, где сквозит даже понимание специальной обусловленности типа мышления, заставляет прежде всего сказать несколько слов о социальной подоплёке самой гегелевской философии. Коротко говоря, она есть великое идеологическое отражение перехода общества от феодализма к режиму буржуазии, причём все предыдущие этапы человеческого развития представляются, как ступени к конечному царству разума, познавшего самого себя и фиксированного в буржуазных общественных институтах и адекватной идеологии. Поэтому вся система в целом, во-первых, исторична; во-вторых, имеет революционное жало; в-третьих, завершается спокойным концом; т. е. в заключительном итоге консервативна, консервативна по отношению к будущему.
Здесь неуместно повторять ставшие уже избитыми истины о конкретном историческом положении Германии, о слабости её буржуазии, о том, что в противоположность Франции, где разыгрывалась действительная борьба, борьба в Германии разыгрывалась, главным образом, в идеологических областях. Об этом писалось бесчисленное количество раз. Нам хотелось бы в связи с этим остановится на двух фактах общественной биографии Гегеля.
В молодости он, как известно, приветствовал французскую революцию, как восход солнца, сажал «дерево свободы»; его альбом пестрел надписями: «In tyrannos!», «Vive la liberté!», «Vive Jean Jacques!» В расцвете своей деятельности он ожидал мирного «разумного» развития, после необходимых бурь и гроз революции и Наполеонова периода (в Наполеоне он видел чуть ли не Мирового Духа верхом на лошади). По этому поводу его биограф и интерпретатор, Куно Фишер пишет:
«Июльская революция и европейские волнения, победоносная бельгийская революция, несчастное польское восстание, а также всевозможные волнения в Германии, последовавшие за событиями в Париже, вовсе не соответствовали идеям и ожиданиям Гегеля. Он был уверен, в том, что эра революций и государственных переворотов закончилась падением Наполеона, что наступила пора разумного исследования и прогресса, как он возвестил это в своих вступительных лекциях в Гейдельберге и Берлине: эра спокойного, сознательного и обдуманного развития, признанная и в его системе заключительным актом мудрости, эволюция справедливости в мире, составляющая и по Канту задачу будущего. Однако, оказалось, что 1815 год был заключением не века, а только первого акта революции, пятнадцатилетняя реставрация была лишь антрактом. Взрывы революции вспыхивали вновь на мировой сцене и открывали неожиданные и неприятные (sic! Авт.) картины будущего как философу Гегелю, так и историку Нибуру. Даже английской конституции угрожали революционные опасности, вследствие поставленной на очередь реформы парламента.[358]
Немудрено поэтому, что вся философская система Гегеля в целом есть великая буржуазная теодицея, с огромным историческим разбегом, где мировой Разум, проходя различные стадии, ступени своего развития, успокаивается в частной собственности, прусском государстве, христианско-протестантской религии и в самой философской системе Гегеля, как конечном и абсолютном результате. Этот последний есть цель, обретённая, наконец, в мучительном и противоречивом историческом развитии. Все предыдущие ступени суть этапы на этом пути, в «снятом» виде соприсутствующие в этой последней исторической ступени, и в этом её историческое оправдание. Колоссальный размах, универсальность охвата, всемирно-исторический, и даже космический, масштаб служит здесь лишь делу возвеличения этого конечного результата. Не случайна оценка Гегелем частной собственности, вне которой он не мыслит истинной свободы, тогда как движение истории есть, по Гегелю, «прогресс в сознании свободы». Мы имеем поэтому в системе гегелевой философии истинно-классическую философию буржуазии. Идеология этой последней ещё не выродилась в такую пошлую апологетику[359], когда в ней исчезают все, или почти все, научные моменты: давая в извращённом, идеалистическом, виде картину действительного развития, она эти моменты всё же содержит в очень большой степени, что в особенности ярко проявляется в диалектическом методе и в диалектике прошлого развития; но она уже вступает в конфликт с этим методом, ибо прекращает течение истории на буржуазном обществе и его надстройках, как щедринский Угрюм-Бурчеев прекращает течение реки. Более того, поскольку она диалектику прошлого рассматривает только как опосредствующие моменты царства буржуазии, и заколачивает дорогой в будущее, она тем самым компрометирует и прошлое. И эта консервативная сторона системы, составляющая её существо, как системы, покрывает своею тенью все остальное.
Это в своё время превосходно было вскрыто Ф. Энгельсом ещё в «Людвиге Фейербахе»:
«Гегель — писал Энгельс,— строил систему, а философская система, по исторически установившемуся обычаю, должна была вести к абсолютной истине того или иного рода. И тот же Гегель, который в своей „Логике“ указывал, что вечная истина — есть не что иное, как именно логический (т. е. значит исторический) процесс, тот же Гегель увидел себя вынужденным положить конец этому процессу, так как надо же было ему закончить свою систему. В „Логике“ конец мог явиться у него началом нового развития, потому что там конечная точка, абсолютная идея, — абсолютная лишь постольку, поскольку он абсолютно ничего не мог бы сказать о ней,— „обнаруживает себя“, т. е. превращается в природу, а потом в духе, то есть в мышлении и в истории, снова возвращается к самой себе. Но в заключительной части всей философии для подобного возврата к началу оставался только один путь. Необходимо было так представить себе конец истории: человечество приходит к познанию именно этой абсолютной идеи и объявляет, что это познание достигнуто гегелевской философией. Но это значило провозгласить абсолютной истиной все догматическое содержание системы Гегеля и тем стать в противоречие с его диалектическим методом, разлагающим все догматическое. Это означало раздавить революционную сторону под тяжестью непомерно разросшейся консервативной стороны» (Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie[360]).
Движение Мирового Духа, Разума Бога, по Гегелю, проходит три главных этапа: a) Абсолютный Дух сам по себе; b) Абсолютный дух, как природа, являющаяся инобытием этого духа; c) Абсолютный Дух, познавший самого себя. Эта мистическая работа и творческая забава Мирового Духа овеяна в гегелевском изложении подлинным величавым пафосом, ибо под ней скрывается по сути дела история мира, история общества и история человеческой мысли, хотя великий всеобщий процесс и разыгрывается, как мистический маскарад. Каждый из трёх этапов, в свою очередь, распадается на ступени, что находит своё выражение и в членении самой философской системы и даже в разбивке её по отдельным основным работам Гегеля.
В «Феноменологии Духа» изображены ступени развития этого духа, под чем скрывается эволюция человеческой мысли от «предметного сознания» до «абсолютного знания». Здесь в идеалистически извращённой форме подробно рассматривается «предметное сознание», т. е. рост познавательного соотношения между субъектом и объектом, сознанием и предметом, начиная от ощущений («чувственная достоверность»); далее идёт переход к воспринимающему сознанию (теория восприятия) и к рассудочным определениям, с переходом от чувственной предметности к «покоящемуся царству законов», со всеми противоречиями, имманентными процессу. Затем следует переход к самосознанию, где своё собственное сознание делается предметом сознания, где наличествует «истина и достоверность самого себя», причём единство самосознания с самим собою рассматривается также и как стремление. Здесь в сугубо абстрактной форме разбираются и исторические типы «самосознания» (ср., например, разделы о господине и рабе, стоицизме и скепсисе, «несчастном сознании» и т. д.) и противоречия процесса. Выход — в переходе к разумному мышлению и к разумному сознанию, а также к его объективированным формам (царство права, нравственность, государство). И, наконец, следует религия и абсолютное знание.
Энгельс (в той же работе о «Людвиге Фейербахе») чрезвычайно метко называет «Феноменологию Духа» — «параллелью эмбриологии и палеонтологии духа, развитием индивидуального сознания на различных его ступенях, рассматриваемых, как сокращённое воспроизведение ступеней, исторически пройдённых человеческим сознанием»[361]. (Энгельс намекает на известный биогенетический закон Эрнста Геккеля, по которому индивидуальный человеческий зародыш сокращённо воспроизводит эволюцию вида).
Таким образом, в «Феноменологии» дано движение к «царству разума». Отсюда переход к «Логике». В «Логике» (Wissenschaft der Logik, т. н. «Большая Логика» в противоположность «малой», т. е. «Энциклопедии») речь идёт о движении понятий, т. е. только о категориях разумного мышления, об универсальной онтологии и метафизике, где под логикой разумеется вовсе не только логика субъективная, но и логика объективная, т. е. онтология. Не нужно при этом упускать из вида философской концепции, по которой все, это — Дух, Бог. Поэтому неудивительно, что Гегель заявляет, например:
«Логику нужно понимать, как систему чистого разума, как царство чистой мысли. Это царство есть истина, как она существует без оболочки в себе для себя. Поэтому можно выразиться, что это содержание есть изображение бога, как он существует в своей вечной сущности до сотворения природы и своего конечного духа» (W. d. L.[362]).
Предмет — чистые мысли, вне всякой чувственной конкретности, т. е. высшие мыслительные абстракции. И тем не менее в этой центральной части всей философской системы Гегеля мы находим громаднейшее количество драгоценных мыслей, ибо в этой работе и развита та диалектическая логика, «логика противоречий», которая «в своей рациональной» (Маркс), т. е. освобождённой от мистической оболочки, форме, вошла в качестве важнейшего оружия в арсенал диалектического материализма.
И здесь «Идея» развивается. Но развивается она «в отвлечённой стихии мышления». Про «Логику» Энгельс (в письме Ф. А. Ланге от 29 марта 1866 г.) писал, что «его (т. е. Гегеля. Авт.) настоящая натурфилософия заключается во второй части „Логики“ — в учении „о сущности “, в чём, собственно говоря, и есть ядро всей доктрины»[363].
Здесь движение понятий идёт от учения о бытии к учению о сущности и к учению о понятии, которое завершается «Абсолютной Идеей». В абстрактнейшей форме, идеалистически извращённой, изображён процесс выявления всё более и более глубоких и общих закономерностях бытия, представляющихся в системе Гегеля, как связи абстрактных идей. При этом на всём протяжении развития и на всех ступенях его движущим мотивом является раздвоение единого, единство противоположностей, переход одного в другое, противоположное. Из начального анализа «бытия» и «ничто» и их соотношений вытекает их единство, как становление, возникновение и уничтожение, переход в другое, изменение, развитие. Эта сторона «Логики» и является её революционной стороной, когда диалектика становится «алгеброй революции». «Логика» заканчивается «Абсолютной Идеей», которая есть единство, т. е. расчленённое тождество, теоретической и практической идеи. В абсолютной идее конденсированы все предыдущие моменты, находящиеся в ней в «снятом виде». Таким образом содержанием абсолютной идеи является всё содержание системы «Логика» и сущность диалектического метода, т. е. диалектическое развитие понятий. Здесь, следовательно, налицо единство знания и воли, идеи истины и идеи добра, теоретической и практической идеи, «полная истина», где знание стало объектом себя самого, где мы имеем «мышление о мышлении» (νόησις νοήσεως).
Далее идёт превращение абсолютной идеи в Абсолютный Дух, через промежуточные ступени природы и т. н. «конечного духа». При этом идея блага понимается у Гегеля и как воля к природе.
«Природа есть идея в её инобытии». «Формою её определённости служит внешность пространства и времени». Так «Логика» переходит в «Философию Природы».
В «Философии Природы» даётся изображение ступеней природы, от низших её форм до высших. Однако, по справедливому замечанию Энгельса, природа у Гегеля не знает развития, т. е. развития в естественно-историческом смысле слова.
«Вся природа является для него (т. е. для Гегеля, Авт.) только повторением в чувственной внешней форме логических абстракций» (Маркс).
В общей форме Гегель выражает это следующим образом:
«Природу следует рассматривать, как систему ступеней, из которых одна необходимо вытекает из другой и составляет ближайшую истину той, из которой следует: однако, это происходит во внутренней идее, составляющей основу природы, а не так, чтобы одна ступень естественно порождала другую. Метаморфоза совершается только в понятии, как таковом, так как только изменение его есть развитие». «Мыслящее исследование должно отказаться от таких туманных (!!), в основе чувственных представлений, каково в особенности учения о т. н. происхождении (Hervorgehen), например, растений и животных из воды или более развитых животных организмов из низших организмов».[364]
При этом во главу угла ставится телеологическое понимание. «Истинное» телеологическое понимание — такое понимание является наиважнейшим — состоит, следовательно, в том, что природа рассматривается как свободная в её своеобразной живой деятельности (Философия Природы[365]). Вся «Философия природы», как мы неоднократно имели случай убедиться, густо набита мистическими идеями.
Три главные ступени природы соответствуют движению понятия от всеобщего через особенное к единичному. Эти три ступени суть: всеобщая телесность, телесность особенная и телесность единичная, причём последняя образует, будучи единством всеобщего и особенного, живую индивидуальность, организм. Соответственно этому мы имеем дело с материей вообще, все неопределённости и бесформенности, затем физическую индивидуальность и, наконец, жизнь, т. е. механику, физику и органику (ср. «механизм», «химизм» и «телеология» в большой «Логике»).
Но «цель природы» состоит в том, чтобы умертвить себя, прорвать кору своей непосредственности, чувственности, сжечь себя, как феникс, и затем из этой внешности, помолодев, «явиться в виде духа».
Отсюда переход к философии духа. В «Философии Духа» речь идёт об идее, но уже об идее в её бытии для себя, т. е. идее, познающей самое себя, самосознающей идее. Гегель занимается в этой работе как проблемами психологии, так и объективированными формами сознания и их общественно-материальным субстратом. Это представляется у него в такой форме:
1. Наука о субъективном духе (антропология, феноменология духа, психология):
2. Наука об объективном духе (право, мораль, нравственность).
Нравственность кончается государством. Отдельные работы, стоящие в ближайшей связи с «Философией Духа», это — «Философия права» и «Философия истории».
Учение об Абсолютном Духе, являющееся последней частью философии духа, как таковой, составляет предмет философии искусства (здесь абсолютный дух созерцает себя), философии религии (здесь абсолютный дух представляет себя) и философской истории философии (здесь абсолютный дух знает себя). Эти темы, как известно, были предметом гегелевских «лекций».
В частности, интересно отметить, что развитие понятия соответствует у Гегеля развитию (историческому развитию) различных философских систем, а эти последние являются у него «моментами» его собственной философии, в коей они находятся в «снятом виде»: никакая философская система , т. о. не отбрасывается a limine, не уничтожается, а преодолевается, отрицается в гегелевском смысле, т. е. «снимается».
Из этого поневоле беглого обзора гегелевской системы видна грандиозность и энциклопедичность величественного философского здания, настоящей Хеопсовой пирамиды философского идеализма. Так как Гегель был энциклопедически образованным человеком, вобравшим всю сумму знаний своей эпохи, то, немудрено, что у него мы находим громаднейшее количество плодотворных мыслей. Но если взять его систему, как систему, то она рушится и рассыпается во прах.
Известно, что Гегель во многом похож на другого великана своей эпохи, на Гёте. Если, по замечанию Энгельса «Феноменология Духа» есть эмбриология и палеонтология его, то в Гётевом «Фаусте», этой величественной художественной эпопее, по существу, речь идёт о том же. Сам Гегель чрезвычайно любил подкреплять свои мысли мыслями Гёте и его художественными образами. Гёте был, несомненно, своеобразным диалектиком, и художественное созерцание целого, с протестами против рассудочного вивисекторства, как мы видели в предыдущем изложении, в высокой степени привилось Гегелю. Гёте импонировало то обстоятельство, что Гегель целиком стал на сторону его учения о цветах (Farbenlehre[366]), (где он был неправ по существу). Но нужно всемерно подчеркнуть, что Гёте решительно возражал против идеалистических абстракций Гегеля и против его теологических тенденций. Эккерман сообщает, например (разговор 23 марта 1827 г.) мнение Гёте о книге Гинрихса (гегельянец, работа об античной трагедии):
«Говоря по совести, мне жаль, что… Генрихс настолько испорчен гегельской философией, что потерял способность к непредвзятому естественному созерцанию и мышлению, место которых постепенно занял искусственный и тяжеловесный способ мышления и изложения … В его книге немало мест, где мысль не подвигается вперёд, а тёмное изложение вертится все время в том же самом круге точно так же, как это имеет место с таблицей умножения ведьмы в моем „Фаусте“»[367].
В письме к Фон-Мюлперу от 16 июля того же года он говорит:
«Я ничего не хочу знать о гегелевской философии, хотя сам Гегель мне очень нравится»[368].
Гёте был гилозоистическим пантеистом эстетического типа с большим уклоном в сторону сенсуалистического материализма, и причёсывать его одним гребешком с Гегелем, поскольку речь идёт о философии, никак и никоим образом недопустимо.
Для характеристики гегелевой системы крайне существенны её основные моменты: 1) идеализм; 2) теология; 3) телеология.
Идеализм не есть учение о тождестве материи и духа, и, как мы подробно говорили в главе о т. н. философии тождества, философская система Гегеля не есть, вопреки ходячему представлению, учение о тождестве телесного и духовного. Гегель сам прекрасно понимал это. В «Логике» мы находим у него следующее место:
«Хотя новейшую философию нередко в шутку (!) называли философией тождества, на самом деле именно эта философия, и притом прежде всего умозрительная логика, показала ничтожество чистого рассудочного тождества, отделённого от различия, но в то же время она также настойчиво требует, чтобы мы не оставались при одном лишь различии, а познавали также внутреннее единство всего, что существует»[369].
А это единство, по Гегелю, таково, что природа есть инобытие духа, а не дух — инобытие природы. Материя и дух не суть модусы единой субстанции, а природа есть лишь чувственно-предметное выражение универсальной духовной субстанции «Духа», который и есть истинная causa sui. Характерно для Гегеля, что он, при всей своей общей установке, которая рассматривает движение философской мысли в связи сменяющих друг друга систем, где каждая последующая фаза «снимает» (т. е. и сохраняет) предыдущую, в ряде мест, так сказать походя, отбрасывает материализм, не считая его за философию вообще.
«Для Гегеля,— писал Маркс,— процесс мысли, который он, под названием идеи, превращает даже в самостоятельный субъект, есть Демиург действительности»[370].
Греческий νοῦς, λόγος, христианско-платоническое «Слово» (т. е. «Разум»), как действительная творящая субстанция мира, продолжает гегелевской системе своё дальнейшее бытие. Задача философии — «понять явления духа в их необходимой последовательности». Из этого движения духа и состоит мировой процесс. Человеческая телесность есть воплощение духа, и примат в целостном организме принадлежит аристотелевой энтелехии. История есть объективированная форма движения того же духа. Природа есть его инобытие. И т. д. Здесь нечего вновь повторять критику идеализма, как такового: в предыдущем изложении мы давали эту критику и с социологической, и с логической стороны. Но у Гегеля объективный идеализм непосредственно выражен в теологической форме. В этом отношении характерно, что он, Гегель, пошёл назад от Канта. Кант в «Критике чистого разума»[371], как известно, вдребезг разбил все так называемые «доказательства» бытия божия. Правда, в «Критике практического разума» он с заднего крыльца ввёл бога, но бога этого он ввёл, как необходимый постулат, логически непредсказуемый. Он разгромил, в числе прочих, и так называемое онтологическое «доказательство» бытия божия, гласившее, что так как бог мыслится, как существо совершенное, и так как совершенное существо необходимо имеет предикат бытия, то, следовательно, бог существует. Кант убедительно показал, что выцарапать бытие из этой мысли также нельзя, как сделать воображаемые сто талеров талерами действительными. Гегель защищал онтологическое доказательство против Канта, несмотря на схоластическую вздорность аргумента. В этом отношении он пошёл решительно назад, как и в своей натурфилософии, где он, в противоположность Канту и вопреки духу диалектики, отрицал историческое развитие природы. В теологии Гегеля ясно виден антропо- и социоморфизм этой теологии. Абсолютный Дух «созерцает», «представляет», «познаёт» самого себя, т. е., будучи универсализированной и гипостазированной формой человеческого интеллекта, функционирует, как мыслящий человек.
Раздвоение «идеи на теоретическую и практическую идею, стремление» духа к миру («накануне» превращения духа в своё инобытие, в природу) и т. д., всё это идёт по той же линии. Великий «Мастер» мира, бог, отображение творящей и упорядочивающей функции человека в его внеисторически-абстрактной форме. Гегель продолжает идеалистическо-теологическое учение Аристотеля о «блаженном боге», занимающемся самопознанием. С современной точки зрения, т. е. с точки зрения социалистического человека, все эти основные моменты системы кажутся детски-варварским вздором: представлять сущность мира который одиноко ковыряется в самом себе и находит в этом удовлетворение, какая это в сущности наивно-дикарская «философия»! Кажется странным и непонятным, как это совмещается с образованностью вообще. Интересно, что Гегель, критикуя идеологию «Просвещения» (и иногда правильно возражая против моментов рационализма), открыто защищает религиозный антропоморфизм.
В «Феноменологии Духа» он, например, утверждает, что антропоморфирование бога в т. н. «народной религии» вытекает из глубокой и «истинной» потребности иметь живого бога, без которого невозможна имманентность бога миру. Представление же «Просвещения» о «Высшем Существе», робеспьерианское «être suprême», плоско и пусто: здесь бог напоминает испарения газа.
Так антагонистический способ производства вызывает соответствующий «способ представления», в котором мысль движется в социоморфных категориях господства-подчинения. Эти формы оказываются настолько прочными, что никакая «образованность» идеологов т. н. «высшие» функции (господства, управления, идеологического господства, умственного труда и т. д.) превращают в субстанцию исторического и космического процесса. В истории мышления известны примеры, как даже специализированные отрасли умственного труда находят своё выражение в том, что бог считается то Мастером, то «Перводвигателем» (primo motore), то архитектором, то полководцем, то геометром, то математиком вообще. У Гегеля этот бог есть прежде всего философ, ибо теоретическое мышление есть самое совершенное занятие. Божественная философия, которая есть самосознание и самопознание бога, рассматривает его, следовательно, как теоретика…
С теологией связана ближайшим образом телеология, где Разум, бог, полагает и реализует свои цели, где при этом обнаруживается «хитрость разума» (Феноменология Духа):
«Разум настолько же хитёр, как и могущественен. Хитрость вообще состоит в посредствующей деятельности, которая заставляет объекты действовать друг на друга сообразно их природе и уничтожать друг друга в этом процессе, не вмешиваясь в него, и в то же время осуществляет только свою цель. В этом смысле можно сказать, что божественное провидение относится к миру и его прогрессу, как абсолютная хитрость. Бог заставляет людей жить своими частными страстями и интересами, но из этой жизни возникает осуществление его намерений, совершенно иных, чем цели, интересовавшие лиц, которыми он пользовался при этом»[372].
Во всеобщем масштабе речь идёт о самопознании духа в философии.
В природе, как мы видели, тоже господствует цель.
В своё время, когда Гегель путешествовал по Альпам и очутился среди пустынного горного пейзажа, он записывал:
«Я сомневаюсь, отважится ли здесь самый верующий теолог приписать самой природе вообще в этих горах цель, направленную к пользе человека… Среди этих необитаемых пустынь, образованные люди придумали бы скорее все другие теории и науки, но едва ли ту часть физикотеологии, которая показывает высокомерию человека, как природа устроила всё для его наслаждения и довольства… Это высокомерие вместе с тем характеризует наш век, так как оно находит себе удовлетворение скорее в мысли, что всё сделано для человека посторонним существом, чем в сознании, что собственно сам человек и есть тот, кто поставил природе все эти цели» (цит. по Куно Фишеру[373]).
Но Гегель жил не «среди этих необитаемых пустынь». И в «Философии природы», вопреки отрицанию «внешней теологии», т. е. грубой её формы, вся органическая природа рассматривается, как предназначенная теологически для человека. Мы видели, что все насмешки над этой теологией не спасают от неё и самого Гегеля. Однако, и имманентная теология есть тоже теология, а цель, ведь, и здесь связана с особым субъектом («формы» Аристотеля, Энтелехия, душа, дух, Мировой Дух).
В истории точно также раскрываются божественные цели.
Таким образом, вся система насквозь теологична и телеологична. Идеализм, теология и телеология никак не совместимы с современной наукой, как мы это подробно доказывали в предшествующих главах.
Исторический процесс изображается в конце «Феноменологии Духа» с точки зрения раскрытия цели:
«Цель, абсолютное знание, или дух, знающий себя, как дух, идёт путь воспоминаний о духах, как они существуют в нём самом и производят организацию своего царства. Их сохранение со стороны их свободного, являющегося в форме случайности бытия есть история, а со стороны их выраженной в понятиях организации — наука о знании в его явлении; обе эти стороны, выраженные в понятиях истории, составляют воспоминания и Голгофу Абсолютного Духа, действительность, истину и достоверность его трона, без которого он был бы безжизненным и одиноким; только из чаши этого царства духов пенится ему бесконечность»[374].
Но, как мы видели, Абсолютный Дух познаёт себя и, следовательно, реализует свою цель, в системе гегелевской философии, которая и есть абсолютная истина. И здесь движение прекращается. Энгельс, в вышеприведённой цитате, прекрасно вскрыл это общее противоречие между застывшей системой, где развитие замкнулось, и диалектическим методом, который гонит всё дальше и дальше.
Если в области истории движение «застревает» на частной собственности, прусском государстве и христианской религии, то не лучше обстоит дело в природе: в природе вообще нет развития, а есть лишь отражение движения идеи в рядоположности видов; нет никакого происхождения одного из другого: виды постоянны; из боязни материализма уничтожается диалектика прерывного и непрерывного, причём с одной стороны, отрицается атомистическая теория, с другой — обожествляемый свет объявляется абсолютной непрерывностью и т. д.
Бесконечность называется «дурною бесконечностью» и ей предпочитается «истинная», замкнутая бесконечность окружности. Боязнь впадения в «бесконечный прогресс» и в «дурную бесконечность» есть лишь обратная сторона поисков Абсолюта, который по существу стоит в противоречии с принципом диалектического движения.
Мы уже говорили о том, что гегелевская система, будучи идеалистическим извращением действительных соотношений, в кривом своём зеркале отображает исторический процесс. Однако, это изображение извращено не только фронтально, то есть не только потому, что в нём перевёрнуто соотношение между мышлением и бытием, духом и материей. С идеалистической концепцией связано и «образумливание» действительного исторического прогресса. Вся «Феноменология», да и вся Гегелева система в целом, построена на последовательной смене ступеней единого целого. Между тем такого целостного всемирно-исторического процесса вовсе и не было, как не было и прямого восхождения с одной ступеньки на другую. Такое представление о «всемирной истории», свойственное оптимистическому периоду в развитии буржуазной идеологии, так же неверно, как и представление о постоянной деградации, где «золотой век» стоит позади, или теория вечного кругового движения. По сути дела все эти точки зрения односторонни, и Маркс вполне правильно указывал, что в действительности, то есть в исторической действительности, наблюдаются и движение вперёд, и эпохи упадка, и застойные периоды, и движение по кругу, и по спирали и т. д. Понятно, что «образумливание» и «логификация» всего исторического процесса, как и всего мирового процесса, неизбежно ведёт за собой соответствующую стилизацию действительности, и при том такую стилизацию, которая является производным новым извращением действительных соотношений.
Изображая действительные связи, движения и процессы шиворот навыворот, Гегель всё же изображает эти связи и эти процессы. «Пьяная спекуляция» представляет собою отрыв от действительности. Но это не значит, что Гегелева философия выдумана «только из головы». Последнее вообще невозможно Логические абстракции Гегеля, преемственно связанные со всем предыдущим развитием философии и опирающиеся на это развитие, суть абстракции от действительности, на такие абстракции, в которых известные сторонники действительности стали «чрезмерными» (Дицген) и превратились в паразитарные категории, в то же время тощие, как фараоновы коровы. Показав теоретически всю возможность конкретных абстракций, Гегель в то же время был чрезвычайно далёк от живой конкретности, хотя постоянно говорил о ней.
В «Записках одного молодого человека» А. И. Герцена мы находим такое замечание:
«…Не увлекаясь авторитетами, мы должны будем сознаться, что жизнь германских поэтов и мыслителей чрезвычайно одностороння; я не знаю ни одной германской биографии, которая не была бы пропитана филистерством. В них, при всей космополитической всеобщности, недостаёт целого элемента человечности, именно практической жизни; и хоть они много пишут, особенно теперь, о конкретной жизни, но уже само то, что они пишут о ней, а не живут ею, доказывает их абстрактность»[375].
Этот последний афоризм не лишён ни остроумия, ни меткости правильной характеристики.
Итак, взятая в целом система Гегеля:
• оптимистична, ибо она выражает собой настроения прогрессивной и уверенной ещё в себе буржуазии, которая видит громадные перспективы развития;
• идеалистична, ибо это есть идеология командующего класса, монополиста умственного труда, «просвещённого» класса, разуму которого противостоит инертная «масса»;
• универсальна во времени, ибо буржуазия чувствует себя наследницей всей культуры, а свой новый общественный миропорядок рассматривает, как воплощение разума, конечное звено развития, по отношению к которому вся всемирная история была лишь подготовительными ступенями;
• универсальна в пространстве, ибо её «всеобщность» есть отражение и выражение мирового роста капиталистических производственных отношений, образование «мирового рынка», действительного формирования капиталистического человечества;
• националистична, ибо она выражает не только факт образования мирового рынка и всемирного господства капитализма, но и момент сложения национального государства и антиципации экспансии под псевдонимом особой всемирной значительности Германии;
• революционна по методу, ибо воплощает борьбу против феодализма и восхождение буржуазии, причём весь прошлый исторический процесс берётся в его диалектической, противоречивой динамике, где одна за другой разрушаются старые формы бытия и возникают новые, чтобы, в свою очередь, исчезнуть;
• консервативна в системе, как таковой, ибо отображает победу буржуазного общества, которое представляется, как конечный этап исторического развития, где Абсолютный Дух познает самого себя, раскрывая своё содержание в гегелевской философии, как абсолютной истине.
Таким образом, здесь обнаруживается правильность одного из замечательных афоризмов Гегеля, по которому философия есть современная эпоха, схваченная в мыслях.
Совершенно естественно, однако, что, и эта эпоха оказалась такой же конечной, как и другие. Противоречия капитализма, антагонизм классов и интересов были действительной материальной пружиной исторического развития Германии, что нашло своё выражение в распадении гегелевской школы. Но так как в истории наблюдается и преемственность в области идеологического развития, то эти противоречия нашли своё выражение в росте противоречий самой системы. В то время, как «правая» гегельянцев стала развивать её консервативную сторону, и из гегелевского положения о разумности всего действительного сделала всестороннюю апологию[376] исторического свинства вполне в духе т. н. «истерической школы», «левая» подняла бунт, используя революционную сторону гегельянства, и, в первую голову, всю сокрушительность и всю ниспровергающую силу диалектического метода. Так, пройдя через стадию фейербаховского сенсуализма, антропологизма[377] и гуманизма, возник диалектический материализм Маркса-Энгельса; при этом в новую идеологию, выражавшую стремления и чаяния угнетённого класса, пролетариата, вошли многоразличные моменты предыдущего развития, помимо немецкой философии: Маркс был основательнейшим знатоком материалистической философии, от греков (его первая работа была, как известно, посвящена Эпикуру и Демокриту) и до современных материалистических доктрин; великие английские материалисты — Бэкон, Гоббс, Локк — были ему знакомы также близко, как и французские энциклопедисты, а равно и Спиноза. Историзм получил здесь совершенно новую форму, и гений Маркс создал новые отправные точки развития философии, создав учение об общественно-историческом человеке, активно преобразующем внешний мир. Небесные категории были спущены на Землю. Философия поставлена с головы на ноги. Плотины, созданные Гегелем историческому развитию, прорваны. Абстракции на деле, а не на словах, стали конкретными, и были до конца поняты, как абстракции от действительности, вне их лежащей, как отображения действительности, а не как немощные самодвижущиеся сущности. Маркс разогнал весь великий маскарад самых высокопоставленных фигур буржуазной идеологии, навсегда поселив страх и трепет во всех салонах Абсолютного Духа, где его многочисленные маски танцуют свои мертвящие менуэты. В дальнейшем эпоху вырождения буржуазной философии, марксизм продолжал развиваться на основе всей совокупности современного знания. Энгельс с его «диалектикой природы» и Ленин с его философскими работами внесли много нового, продолжая Марксову традицию и обогащая философию марксизма, в известном смысле слова являющегося великим наследником Гегелевой философии.
Глава ⅩⅩⅩⅣ. О диалектике Гегеля и диалектике Маркса
После краткого обзора Гегелевой системы в её целом, уместно остановиться специально на диалектике. Диалектика, это не только метод мышления, но, в первую очередь, совокупность общих законов бытия (природы, истории, мышления). Диалектика, таким образом, есть и онтология.
Что касается её специфического отличия, то оно заключается в противоречивости движения, в столкновении противоположных моментов и в их объединении. Раздвоение единого и единство противоположностей — coincidentia oppositorum — составляет суть диалектики, которая, поскольку мы говорим о диалектике, как науке, ведёт своё начало ещё от древнегреческой философии (особенно Гераклит, Аристотель и т. д.; на пороге нового времени Д. Бруно; в новое время Кант, Шеллинг). В наиболее развитой форме диалектика дана, однако, именно у Гегеля и систематически изложена, прежде всего, в большой «Логике» (Wissenshaft der Logik). Терминология, перед которой не нужно смущаться, связана у Гегеля, разумеется, с идеалистическим характером его философии.
Общие контуры «Логики»: обнаружение противоречия состоит в том, что отрицается то определение мысли, которое только что утверждалось, или, как говорит Гегель, «полагалось». Разрешение противоречия есть единство противоположностей, т. е. вторичное отрицание, которое есть утверждение (тезис — антитезис — синтезис, т. н. «триада»). К утверждению приходят, следовательно, через два отрицания. Конечный результат делается исходным пунктом нового движения. Таким образом, мышление переходит от элементарных понятий — к сложным, от непосредственного — к опосредованному, от абстрактного — к конкретному. Этот ряд и есть развитие. Ступени понятий стоят друг к другу в таком же отношении, как в «Феноменологии» ступени сознания: каждая в зародыше содержит последующую; в каждой последующей заключается предыдущая «в снятом виде»; таким образом, говоря языком Гегеля, высшая ступень есть «истина» низшей и составляет предмет её хотения, стремления (мистика идей!). Все так называемые «чистые понятия» суть понятия и мышления, и бытия, т. е. логика и онтология совпадают.
Смена ступеней есть развитие. Всякое развитие есть саморазвитие. «Логика» и даёт картину развития идеи развития. Её деление тоже трёхчленно: она отвечает на вопросы: 1) что, 2) вследствие чего, 3) для чего в самой общей, наиболее абстрактной «чистой» форме. Что в наиболее абстрактной форме есть чистое, т. е. совершенно неопределённое бытие (и этому соответствует учение о бытии); вследствие чего — это есть основание, субстанция, сущность (и этому соответствует учение о сущности; для чего — есть цель, самоосуществляющаяся идея, она же субъект, или самость (и этому соответствует учение о понятии).
Таковы самые общие контуры гегелевской диалектики. Нетрудно видеть уже здесь принципиальные её пороки.
1. Идеализм. Основу составляет движение понятий. Развитие от абстрактного к конкретному представляется не как «духовное воспроизводство конкретного» («geistige Reproduktion» Маркса), а как чудесное возникновение самого конкретного.
2. Мистика. Одна ступень переходит в другую, причём низшая фаза имеет «стремление», «хотение», превратиться в высшую. Эти и аналогичные категории действуют в «Логике» и тогда, когда дело идёт о развитии вообще, о процессе изменения мира во всех его формах, начиная с неорганической природы.
3. Телеология. Целью всего развития, его имманентной движущей пружиной, является сама идея, самость, субъект. Тут и идеализм, и мистика даны одновременно.
4. Истиной является не правильность отражения бытия в человеческом сознании, а высшая фаза по отношению к низшей.
5. Односторонность движения, связанная с идеалистической телеологией. Дано лишь прогрессивное движение, тогда как процесс изменения может быть и регрессивным (последнее, однако, исключается понятием божественной цели). Диалектическая противоположность движения от низших форм к высшим и от высших форм к низшим не схвачена, а, следовательно, не схвачено и их единство. Идеализм вступает здесь в прямой конфликт с диалектикой.
Гёте в своё время писал:
«Вот уже скоро двадцать лет, как все немцы пробавляются трансцендентными умозрениями. Когда они это однажды обнаружат, они покажутся себе большими чудаками» (Гёте, Соч., т. Ⅹ[378]).
Дело, однако, как мы знаем, вовсе не в чудачестве, а в мощных социальных детерминантах, обусловивших соответствующие философские построения. Понадобилось формирование идеологии нового класса, чтобы сорвать «чудаческую» маску и вышелушить «рациональное зерно» из «мистической оболочки» (Маркс).
Маркс уничтожил вышеотмеченные пороки Гегелевой диалектики и на свой, материалистический, лад развил эту диалектику. С этой точки зрения её основа, раздвоение единого и объединение противоположностей, есть один из самых общих законов всего бытия и мышления. Это есть реальность, объективный закон универсального движения в его качественно различных формах. При этом речь идёт не только — отнюдь не только — о механическом движении: сюда относятся и противоположно направленные механические силы, и положительное и отрицательное электричество, и магнитная полярность, и отражаемые математикой положительные и отрицательные величины вообще, и биологическое раздвоение на мужской и женский пол, и социальное раздвоение общества на классы, и двуединство материи и духа и т. д. и т. п.
Материальное раздвоение и соответствующее движение отражаются в теории. Реальные законы диалектического движения природы, общества, мышления отражаются в мышлении о природе, об обществе и о самом мышлении. Поэтому диалектика очищается от всякой теологии, телеологии, мистики и связанных с этим нелепых односторонностей и односторонних нелепостей.
Гегель начинает свою «Логику» с рассмотрения бытия и ничто. Бытие это «чистая неопределённость и пустота». Оно есть и ничто. В этом соотношении в зародыше дремлют все дальнейшие категории. Абстрактное бытие — пусто и поэтому ничто; однако оно и отлично от ничто, ибо указывает, что мышление есть, ничто же — голая отрицательность. Бытие — тезис. Его отрицание — ничто. Их единство — становление, в котором бытие и ничто обретаются «в снятом виде». Переход ничто в свою противоположность, бытие, есть возникновение. Переход бытия в ничто, как свою противоположность, есть исчезновение. Но возникновение само по себе есть также и исчезновение: исчезновение одного есть возникновение другого. Результат становления есть бытие определённое, т. е. не пустое и бессодержательное, а бытие с определёнными свойствами: это суть наличное бытие, Dasein (Ленин переводит «существование»). Определённость наличного бытия есть качество. Здесь вся картина осложняется, и движение снова переходит на высшую ступень. Наличие определённости предполагает другое, от которого данная определённость отличается и тем самым отграничивается. Она, следовательно, заключает в себе момент небытия, т. е. отрицания этого другого, т. е. имеется два момента, бытия и небытия (omnis determinatio est negatio, всякое определение есть отрицание — говорил Спиноза). Эта противоречивость есть предпосылка всякого развития. Но, с другой стороны, нечто и иное, другое, взаимосвязаны: наличное бытие предполагает своё другое; нечто не может быть для себя, и то же относится ко всякому нечто: каждое из них есть иное иного, другое другого; всякое нечто ограничено другим и наоборот. Быть ограниченным, значит быть конечным. Таким образом, качественно определённое бытие, наличное бытие, нечто, и отличается от другого, и соотносится с ним (бытие в себе, и бытие для другого), переходит в него. Оно есть иное и в то же время не иное. Единство инобытия и неинобытия, т. е. единство на более высокой ступени развития, когда речь идёт о бытии, включающем определённость, качество, есть становление иным, или изменение. Нечто всегда находится в процессе изменения, а не переходит к изменению.
«Нечто становится иным, но иное само есть нечто, следовательно, оно опять в свою очередь, становится иным и т. д. до бесконечности». «Эта бесконечность есть дурная, или отрицательная, бесконечность, так как она есть ни что иное, как отрицание конечного, которое, однако, таким образом возникает опять, и, следовательно, вовсе не снято…» («Наука логики»[379]).
Progressus in infinitum, бесконечный прогресс, здесь есть неразрешённое противоречие, тут налицо дуализм конечного и бесконечного, где две стороны распадаются, образуя непримиримые противоположности; бесконечное протиполагается конечному и в нём, в конечном, имеет свою границу, то есть само становится ограниченным. Истинно бесконечное имеет конечное не вне себя, а в себе. Здесь законченное, совершенное, наличное бытие, или для себя бытие. Понятие конечного, не имеющего конца, т. е. неразрешимого противоречия, иллюстрируется прямой линией, где конечный отрезок AX может продолжится в обе стороны; понятие «истинной бесконечности» — окружностью круга, где налицо завершённость и законченность. Истинная бесконечность есть снятие конечности, подобно тому, как истинная вечность есть снятие временности. Конечное или реальное, снимается в бесконечности и полагается идеально.
«Истина конечного есть скорее его идеальность». «Эта идеальность конечного есть основное положение философии, и поэтому всякая истинная философия есть идеализм. Всё дело в том, чтобы не принимать за бесконечное то, что в своём определении само тотчас же становится частным и конечным. Поэтому здесь нужно обратить более серьёзное внимание на это различие. От него зависит основное понятие философии, понятие истинной бесконечности».
Итак, понятие наличного бытия (Dasein) закончено. Иное включено в него и замкнуто. Здесь уже нет перехода в другое. Изменение снято. Качество снято. Законченное наличное бытие есть для себя бытие, неизменное, пребывающее, вечно остающееся одним и тем же бытие, единое и в то же время много единых. Так качество переходит в количество. Остановимся пока на вышеизложенном. Прежде всего, о чём идёт речь с самого начала? О т. н. определениях мысли, о «чистых понятиях», у Аристотеля они были предикатами всего мыслимого. У Канта они считались формами всякого суждения. Эти категории у Гегеля выступают в их самостоятельном самодвижении. Они у него — не предикаты бытия, т. е. реального и, прежде всего, материального, бытия, т. е. действительного мира, который рассматривается с разных сторон. Наоборот, они выступают у него с самого начала, как самостоятельные понятия, из которых развивается всё остальное. Абстрактнейшее понятие бытия берётся исходным пунктом. Бытие берётся не как основной предикат мира (мир существует), а, наоборот, богатство мира и весь мир выводится из пустого бытия, которое есть ничто. Но есть всегда что-то. Бытия нельзя отодрать от того, что бытийствует. «Мистика идеи» (Ленин) заключается здесь в том, что предикат превращается в субъекта и гипостазируется. Тоже нужно сказать и о ничто. Однако вопреки Гегелю, из ничто никогда не может получиться нечто, и старая пословица: ex nihilo nihil fit[380] остаётся совершенно правильной. С точки зрения «мистики идей» из голой отрицательности ничто и пустого бытия получается движение мира. Но этот логический трюк не может быть принят, как составной момент материалистической диалектики. Значит ли это, что в гегелевском анализе бытия ничто и становление все чепуха и только «мистика идей»? Отнюдь нет. Если брать процесс изменения так, что рассматривать его только с точки зрения «нового», безотносительно к «старому», то новое, как новое, возникло впервые: его раньше не было вовсе, как такового. Как таковое, оно не существовало, т. е. было ничто. Однако это совершенно пустая абстракция, хотя она и уясняет одну сторону дела, возведённую неправомерно в исходный пункт. Корень ошибки лежит в превращении предиката бытия в субъект и извращённом соотношении между ними. Таким образом, здесь можно усмотреть истину, если брать проблему, как абстрактную сторону изменения предметности, а не беспредметное движение понятия. Реально возникновение и есть изменение. Это не две ступени, а одно и то же. Их можно разделять лишь в мыслительной абстракции, но если продукт этого искусственного разделения возводить в самостоятельные сущности, отрывая их при этом от предметного мира, то неизбежно получается «мистика идей».
Превосходно разъяснена на категории наличного бытия — универсальная связь вещей, переходы одно в другое, раздвоение единого и единство противоположностей, развитие, изменение. Но движение от наличного бытия к бытию для себя включает момент конечной телеологической статики, под псевдонимом «истинной бесконечности». Возникновение однотипных качественно вещей приводит к их количественным соотношениям. Однако, разве тем самым процесс изменения вообще приостанавливается? Здесь, под видом критики «дурной бесконечности» даётся отрицание бесконечности процесса изменения. Символика прямой и круга чрезвычайно мало убедительна. Длина окружности конечная величина. Завершённая бесконечность есть плоское, противоречивое понятие, тогда как, наоборот, истинное понятие бесконечности и есть невозвращаемость, то есть постоянное воспроизводство противоречия, что в этом «дурного»? У Гегеля тут поиски Абсолюта, статики, древнегреческого «покоящегося» круглого как шар, «самого себе равного» и т. д. бытия во вкусе Парменида[381], что он, впрочем, открыто и говорит. Это, в свою очередь, связано с понятием цели. «Цель» должна быть достигнута. Беспокойству должен быть конец — в «истинно бесконечном», которое есть завершение. Поэтому «истинная бесконечность» выпрыгивает из «дурной бесконечности» изменения, пространства, времени и воплощается во вневременном и внепространственном «идеальном» бытии. Тут «идея» проделывает те же фокус-покусы, что и Абсолютный Дух, познавший самого себя, или он же в истории, остановившейся на прусской государственности. В этом — ограниченность гегелевской диалектики, ограниченность, тесно связанная с идеализмом и телеологией. «Завершённость» борьбы буржуазии против феодализма и конструирование буржуазного общества, как конечного пункта мировой истории, духовно репродуцируется, как для себя бытие универсального значения. Но пойдём далее.
Качество, как мы видели, перешло в количество. Количество есть неопределённость величины, определённость количества есть величина. Так как между единым и единым ничего третьего нет, то здесь налицо и непрерывность, но так как любую величину можно делить, то налицо и дискретность, прерывность. Таким образом, величина есть единство прерывного и непрерывного, как противоположных моментов, прерывное и непрерывное, следовательно, суть не различные виды величины, а именно «моменты», соприсутствующие в величине, как в их единстве. Непрерывность не есть сумма дискретных величин. Из непонимания этого последнего, т. е. из непонимания двуединой природы величины, как единства противопопожностей, проистекают доказательства невозможности движения и т. д. (Зеноновы афоризмы, Кантовы антиномии). Определённое количество, величина, отличается от других величин своей границей, как определённое соединение единых, т. е. большим или меньшим количеством единиц. Следовательно, она должна быть понимаема, как число.
Увеличение и уменьшение могут быть продолжаемы без конца, и здесь налицо дурная количественная бесконечность. В данной связи Гегель цитирует стихотворение Галлера о вечности, которым восхищался Кант, и которое вызывает-де у него, Гегеля только «скуку».
Ich häufe ungeheure Zahlen, Gebirge Millionen auf, Ich setze Zeit auf Zeit Und Welt auf Welt zu Hauf, Und wenn ich von der grausen Höh Mit Schwindel wieder nach Dir seh: Ist alle Macht der Zahl, Vermehrt zu tausendmal, Noch nicht ein Teil von Dir. Ich zieh sie ab, und du liegst ganz vor mir Я накопляю исполины-числа И горы миллионов, Нагромождаю времена на времена И на миры громадные миры. И вот, когда со страшной высоты Я снова на тебя смотрю, шатаясь Вся мощь числа, Умножена тысячекратно, Не есть твоя хоть малая частица. Я сбрасываю числа, и ты вся лежишь передо мной.[382]Количественная «дурная бесконечность» возмущает его так же, как возмущала качественная, и нам остаётся повторить то же выражение. Не входя в подробное обсуждение вопроса, заметим лишь, что в высшей математике сами бесконечности бывают разного порядка, а в современной теории многообразия расширяется и понятие величины. Уже здесь, следовательно, намечается обратный переход количества в качество.
Двойной переход, от качества к количеству и от количества к качеству, приводит к единству этих понятий. Каждое наличное бытие есть такое единство противоположностей. Это единство их есть мера (Но и бог есть мера и полагает всем вещам их меру и цепь). Мера есть, следовательно, качественное количество и количественное качество. С количеством на определённой ступени развития меняется и качество, с изменением величины — свойство. Это и есть переход количества в качество. Всякое наличное бытие, как единство количества и качества, т. е. как мера, относится к другому наличному бытию, как к мере. Отсюда отношение между ними, как отношение мер. Переход количества в качество совершается так, что сначала количественные изменения не сопровождаются изменением качества, но в определённой точке количественных изменений наступает перерыв постепенности, скачок. Пункты таких скачков, таких переворотов, где количество внезапно переходит в качество, называются у Гегеля узлами. Линия, соединяющая узлы,— узловою линией отношений меры. Количество, качество, мера есть суть состояния, за которыми скрывается определённый субстрат:
«…такие отношения определены только, как узлы одного и того же субстрата. Поэтому меры и возникающие вместе с ними самостоятельные явления низводятся до степени состояний. Изменение есть лишь перемена состояния, и изменяющееся полагается, как остающееся при этом тем же самым».
Таким образом, здесь «снятие» всех этих категорий есть и «снятие» категории бытия и переход от бытия к сущности.
Нетрудно видеть, что в учении Гегеля о переходе количества в качество, о перерыве постепенности и скачкообразном характере развития, в учении о мере, узловой линии отношений меры и т. д. содержатся моменты громадного революционного значения. Подтверждаемые всем развитием теоретического естествознания и общественных наук (ср. хотя бы «критические точки» в физике и химии, теорию мутаций, учения о революциях в обществе), эти моменты наносят сокрушающие удары филистерской интерпретации «эволюции», как её понимает огромнейшее большинство буржуазных учёных. Вопреки этому прерывность и непрерывность, постепенность и скачок, эволюция и революция берутся здесь (т. е. на основании гегелевской трактовки вопроса) в их единстве, как моменты действительного движения. Разумеется, и в данном случае нужно «ставить на ноги» диалектику Гегеля, т. к. у него повсюду приведена идеалистическая точка зрения: но это уже общий глубочайший порок, о котором, впрочем, никогда не следует забывать.
Переходим теперь к вопросу о сущности, вопросу, составляющему центральную часть гегелевской «Логики».
«Истина бытия есть сущность».
Мышление совершает переход к сущности путём размышления, или рефлексии.
«Стремясь познать истину, именно что такое бытие в себе и для себя, знание не остаётся в сфере непосредственного и его определений, а проникает сквозь них, предполагая, что позади этого бытия есть ни что другое, как настоящее бытие… Это знание опосредованное, так как оно не находится непосредственно в сфере сущности, а начинает с другого бытия и должно пройти подготовительным путём, путём выхождения за бытие или скорее вхождения в него»[383].
Отношение между сущностью и бытием, по Гегелю, таково, что первое есть существенное и истинное бытие, а второе — не существенное и не-истинное, кажимость (Schein). Наличное бытие обосновано сущностью. Поэтому оно отнюдь не простая кажимость, а обоснованная, то есть явление. В свою очередь явление и сущность не разорванные величины в дуалистической манере, ибо сущность выражает себя в явлении.
Таким образом «сущность сперва оказывается в себе самой, или есть рефлексия; во-вторых, она является; в-третьих, раскрывается. В своём движении она полагает себя в следующих определениях: 1) как простая, в себе сущая сущность в своих определениях внутри себя; 2) как выходящая в сферу наличного бытия, или в виде существования и явления; 3) как сущность, единая со своим явлением, т. е. как действительность» (W. d. L).
Так как в категории сущности «сняты» все категории бытия, то снято и инобытие, и сущность, будучи снятым инобытием, тождественна самой себе. Но тождество в данном случае не есть тождество формальной логики (т. е. абстрактное, рассудочное тождество), а конкретное тождество, включающее момент различия. Формальная логика выставляет закон тождества (A=A) и закон противоречия (A не может быть одновременно не-A). Это — пустые и формальные законы. Однако, они всё же противоречивы, ибо содержат различие между субъектом и предикатом, т. е. содержат больше, чем хотят.
Различие развивается в трёх формах: внешнее различие — разность; 2) внутреннее различие, когда нечто отличается от другого, как его другого, т. е. как противоположности; 3) различие от самого себя, т. е. противоречие, сущность которого состоит в противоположности самому себе.
В противоположности есть, вопреки формальной логике, и тождество, и различие: противоположности тождественны, ибо противоположными могут быть только однородные вещи (положит, и отриц. электричество, X миль пути на запад и X миль пути на восток и т. д.); они в то же время различны; они противоположны (т. е. относятся друг к другу, как положительное и отрицательное); но положительное и отрицательное взаимосвязаны и предполагают друг друга; можно положительное считать отрицательным и наоборот, — в этом отношении они одинаковы; но в то же время они и различны. Отсюда ясно, что каждая из двух сторон исследуемого отношения связана с другой, предполагает её бытие, т. е. утверждает её, «полагает» её; и в то же время отрицает её, требует её небытия; она, следовательно, сама и положительная, и отрицательная, т. е. противоположив себе самой, т. е. противоречива. Формальная логика есть логика статическая, логика неподвижного, изолированного. Здесь всё застыло, всё тождественно с самим собой, и ничто себе не противоречит. В диалектической логике, наоборот, всё — в движении, «всё течёт», всё противоречиво, всё движется, как единство, раскрывающееся в противоположностях. «Der Widerspruch ist das Fortleitende» («Противоречие есть движущий принцип»). Речь идёт не о невозможном противоречии (сухая вода, деревянное железо), а о необходимом, диалектическом противоречии, как единстве бытия и небытия, как принципе движения, становления, изменения, возникновения, гибели развития и т. д.
Противоречие (т. е. противоположность самому себе) должно разрешаться. Единство распадается здесь на два противоположных определения, из которых одно полагает другое (это полагающее есть основание), другое положено первым (это есть обусловленное, или следствие). Основание и следствие и тождественны (ибо имеют одно и то же содержание), и различны, развиваясь в противоположность. Гегель различает: 1) абсолютное основание (основание вообще); 2) определённое основание и 3) условие. Следствие есть нечто основанное, не опосредствованное. Это опосредствованное, определённое и различённое бытие есть существенная определённость, или форма.
«К форме относится всё определённое».
В основе лежит субстрат, сущность. Сущность есть нечто неопределённое, но способное к определённости. Но форма не есть колпак, надеваемый на материю. «Материя должна быть формируемой, а форма должна материализовываться»; другими словами, деятельность формы есть в то же время движение самой материи. Это единство материи и формы, как противоположностей, есть содержание.
Единство всех условий и основания, т. е. совокупность всех условий, вызывает явление. Это опосредствованное, обоснованное наличное бытие есть существование (existentia). Наличное бытие — непосредственное наличное бытие. Обоснованное наличное бытие есть существование. В существовании, т. е. в явлении выступает и обнаруживается то, что было заключено в недрах условий и основания.
Таким образом мы переходим к явлению. Но предварительно несколько критических замечаний об уже изложенном.
В только что рассмотренной части «Логики» «мистика идей», конечно, остаётся целиком и полностью. Так формула: «истина бытия есть сущность» знаменует собой извращение. Категория истины не может относится к объективному, т. е. независимому от человеческого сознания, бытию: она может, как мы видели, выражать лишь определённое соотношение между «копией» и «оригиналом». Совершенно нелепо считать, что одна сторона, часть, фаза развития и т. д. объективной действительности более «истинна», чем другая. Наоборот, с точки зрения процесса познания, можно говорить о большей или меньшей истинности этого познания. Но так как у Гегеля категории мышления стоят на первом плане, и в то же время совпадают с категориями бытия, то они и берутся, как определения этого последнего. Разные «миры», «истинные» и «не-истинные» суть лишь разные ступени познания, соответствующие познанию менее глубоких и более глубоких связей единого и одного мира, в его разных сторонах и многоразличных отношениях (между своими, независимо от познающего субъекта, сторонами, частями, моментами и в зависимости, т. е. в соотношении с субъектом). С другой стороны, поскольку Гегель, в противоположность Канту, преодолевает дуализм, например, поскольку у него «кажимость» или «явление» есть нечто обоснованное, где сущность проявляется, и где утверждается единство, там это единство даётся на чисто идеалистической основе духовного мира, который и есть истинный мир, царство мысли, являющийся в чувственно-предметном. Но если постоянно иметь в виду этот коренной порок, который выражается и во всей терминологии, то остаётся рациональное зерно: логически отображённая диалектика действительных вещей и процессов в их универсальной связи и в их противоречивом движении. Критика окостеневших законов формальной логики блестяща, и общие законы диалектики — единство противоположных моментов, раздвоение единого и переход противоположностей одна в другую, развиты в чрезвычайно убедительной и полновесной форме, с необычайной тонкостью и остротой.
Итак, переходим теперь к явлению, т. е. к обнаружению сущности.
Существование есть вещь.
«Существование есть непосредственное единство рефлексии в себе и рефлексии в ином. Поэтому оно есть неопределённое множество существований, отражённых в себе и в то же время также отражающихся в ином, относительных и составляющих мир взаимной зависимости и бесконечной связи оснований и обоснованного. Основания сами суть существования, и существования с различных сторон играют роль как оснований, так и обоснованного».
Вне этой связи вещь, т. е. «вещь в себе», есть пустая абстракция. В действительности «вещь вообще выходит за своё простое в-себе-бытие», как абстрактное отношение в себе, и проявляется так же, как отражение в ином, приобретая таким образом свойства».
Как существенное единство, вещь есть основание; как существенное множество, многообразие, совокупность свойств и изменений, она есть явление. Основание есть закон, как нечто постоянное, и существенное содержание явления.
«Царство законов есть покоящееся отражение существующего или являющегося мира».
Царство законов есть мир, существующий в себе и для себя, сверхчувственный мир, в противоположность царству явлений; но одно есть обратная сторона другого: они не разорваны, как у Канта, на мир феноменов и мир ноуменов, причём последний трансцендентен. Закон есть единство или тождество в многообразии явлений; он есть единство во множестве, не числовое, а существенное. Это отношение есть существенное отношение, форма единства сущности и явления, единства, которое есть ещё более высокая категория, чем предыдущие, а именно действительность.
Существенные отношения выступают, прежде всего, в форме отношения целого и частей, где целое немыслимо без частей, а части немыслимы без целого. Противоречие целого и части снимается в понимании единства, как отрицающего самостоятельность частей, «их отрицательного единства», как не механического агрегата, а энергетического единства. Отсюда понятие силы, как действительного начала, и её обнаружения. Истинное соотношение между этим внутренним и внешним есть, однако, их тождество: они — моменты той же сущности:
«внешность сущности есть обнаружения того, что она есть в себе… Сущность есть обнаружение себя, так что эта сущность именно только в том и состоит, чтобы раскрыться. В этом тождестве явления с внутренностью, или сущностью, существенное отношение становится действительностью».
Итак, у нас дано было такое развитие категорий: бытие, наличное бытие (определённое бытие), существование (обоснованное наличное бытие), явление (раскрывающее сущность), действительность (единство сущности и явления). Действительность есть в то же время действенность, деятельность разума, абсолютное. Отсюда — «все действительное разумно, и всё разумное — действительно».
Действительность распадается на внутреннюю, потенциальную действительность, или возможность, и внешнюю фактическую действительность. Формальная возможность (абстрактная возможность) это — возможность вне всяких условий, пустая возможность. От неё отлична реальная возможность, с различными случаями. Возможность состоит в возможности быть или не быть, быть так или иначе. Когда все противоположные возможности исключены, и совокупность условий осуществлена, появляется нечто, что, случившись, не может быть иным. В этом — понятие необходимости, как единства реальной возможности и обусловлено самим собою, и в этом характер необходимости; и в то же время все опосредствовано. То, что обосновано только другим, случайно.
Необходимая сущность абсолютна.
Она одна самостоятельна и лежит в основе всех остальных вещей; это не просто субстрат, а субстанция. Все остальные вещи не необходимы, а случайны или имеют характер акциденций[384]. Субстанция есть всё; единичные вещи (а не части!) — её обнаружение, проявление; она есть мощь. Понимаемая, как истинно-безусловная, она есть первопричина, а вещи уже не акциденции, а действия. Отношение причинности, есть, след., второе субстанциональное отношение. Поскольку носителями этого отношения являются конечные субстанции, цепь причин и действий впадает в бурную бесконечность. Разрешение противоречия — в категории взаимодействия, где причина и действие меняются местами:
«прямолинейное движение от причин к действиям и от действий к причинам перегнулось и вернулось к себе».
Причина здесь осуществляет себя; следовательно, речь идёт о самоосуществлении, и понятие необходимости переходит в понятие свободы, а понятие субстанции — в понятие субъекта (самости, понятия).
«Таким образом,— истина необходимости есть свобода, и истина субстанции есть понятие».
Под понятием тут разумеется самосознание, или субъективность, создающая истинное, объективное мышление.
По поводу вышеизложенного, кроме общего соображения об идеалистичности всей конструкции, каковое (соображение) остаётся действительным все время, следует заметить:
Во-первых. Неверна трактовка «закона» и «царства законов», как чего-то покоящегося. Эта концепция предполагает неизменный субстанциональный мир, в духе Парменида, где ничто не движется, и ничто не изменяется, всё неподвижно. Между тем, как мы знаем, нет вообще ничего неподвижного, и закон охватывает подвижное и изменчивое. Закон, как отражение в голове, есть формула подвижного. Т. н. «вечные законы» вовсе не вечны. Сущность мира не есть кладбище мира. Эта сущность не есть никакой особый мир, а есть тот же мир, но в его наиболее общих и глубоких связях и отношениях. А эти связи и отношения тоже подвижны и относительны. Поиски абсолюта, который сам по себе неподвижен и подвижен лишь в явлении, есть, несмотря ни на какие антикантианские заклинания, или дуализм, или совершенная непоследовательность. И в том, и в другом случае идеализм приходит в столкновение с диалектикой, которая насквозь динамична. Если брать «мир в себе» (а не кантианскую вещь в себе), то есть если брать единство вещей и процессов независимо от субъекта, но в связях и опосредствованиях объективного порядка (объективного в материалистическом смысле), то этот мир и сложен, и разнообразен, и подвижен, и изменчив. Если, далее, брать самые общие и глубокие связи, например, диалектические законы, то они «неподвижны» в том смысле, что выражают всеобщую подвижность. Но было бы софистикой, а не диалектикой, делать отсюда вывод о неподвижности и покое.
Во-вторых. В учении о силе явно продолжается традиция древнегреческого идеализма, по которому само-по-себе неподвижное начало приводит всё в движение («Энергетическое единство»). Это состоит в связи с тем, что сама сила здесь мистична, она есть духовное начало, Аристотелева энтелехия, движущий энергетический принцип духовного порядка.
В-третьих. Именно поэтому «в действительности» (т. е. в гегелевской категории действительности) этот принцип перерастает в разум, в абсолютное, он здесь раскрывается и обнаруживается в своём разумном естестве.
В-четвёртых. Переход от необходимости к свободе в трактовке Гегеля есть идеализм, теология, телеология и мистика. Все развитие рассматривается, как реализация цели, как самореализация, и на сцене появляется субъект, самость, самосознание. Сама субстанция превращается в разумный субъект, достигающий здесь гораздо более высокой формы своего саморазвития. Вместо универсальной и всесторонней необходимости, которая выражает всеобщую космическую связь вещей и процессов, выплывает творящий дух, свободный в своём целеполагающем творчестве. Как ни утешительна кое-кому эта мистическая фантастика, но и она устарела во всех отношениях и должна быть отброшена.
Итак, под понятием у Гегеля разумеется субъективность, которая «снимает» необходимость, раскрывая её, познавая её и тем самым превращая в свободу. Следовательно, завершение субстанции уже не есть субстанция, а есть понятие, субъект. Но субъективность есть основание объективности. Развитие происходит от субъективности к объективности и к единству этих противоположностей, которое (единство) есть идея (реализующаяся субъективность, самость; субъект-объект).
Понятие, как всеохватывающее единство, есть всеобщность, всеобщее понятие, производящее и конкретное (в противоположность формально-логической абстрактной всеобщности). Как определённость, оно есть особенное род или вид. Но так как особенное есть, в свою очередь, всеобщее, то возникновение видовых отличий приводит к пункту, когда дальше движение уже невозможно. Законченность видовых отличий (по отношению к родовым) или индивидуализация, приводит к индивидуализированному понятию, или единичному (das Allgemeine, das Besondere, das Einzelne). То, что в сущности было тождеством, различием, основанием, то в понятии выступает как всеобщее, особенное, единичное. Формами развития понятия является суждение, переходящее в своём движении в умозаключение. Суждение распадается на свои моменты, субъект и предикат; глагольная связка полагает их тождество. Суждение есть категория, т. е. необходимая форма не только мышления, но и бытия, и сущности вещей. Когда вещь раскрывает свои свойства, то она обнаруживает их, как субъект суждения, выделяющий свои предикаты; другими словами, вещь раскрывается в форме суждения. Всякая вещь есть понятие и, как таковое, развивающийся субъект. Гегель ставит далее вопрос о степенях суждений и различает суждения наличного бытия, рефлексии необходимости и понятия. Суждение переходит в умозаключение, которое есть единство понятия и суждения. Умозаключение есть разумно, а так как всё разумно, то «всё есть умозаключение». Так как умозаключение есть опосредствованное суждение, то различаются умозаключение наличного бытия, рефлексии и необходимости (умозаключение понятия уже находилось в наиболее развитом виде суждения, в т. н. аподиктическом[385] суждении).
Рассматривая суждение и умозаключение, Гегель развивает диалектику всеобщего, особенного и единичного, с которой мы встречались не раз в этой работе; и здесь налицо единство противоположностей, переходящих одна в другую, ибо единичное есть и всеобщее, а всеобщее и есть единичное.
Внутренне развитое, определённое, опосредствованное понятие перестаёт быть замкнутым в себе, оно выступает наружу и делается объективным. Объекты как являющиеся понятия, в своём всеобщем суть всеединство вселенной. Первая форма связи целокупностей — вещей есть внешняя связь агрегата, механизм, а соответствующая деятельность — механический процесс, или детерминизм. Когда единство перестаёт быть только внешним единством, а различия вещей действительно уничтожаются и «нейтрализуют» друг друга, налицо — химизм. Универсальное единство не может быть ни механическим, ни химическим (не может объединять все объекты). Это есть нечто, стоящее над механизмом и химизмом, всепроникающее начало, цель. Телеологическое отношение есть и внешняя, субъективная, конечная целесообразность, от которой необходимо отличать внутреннюю, имманентную, целесообразность.
Подчинение объекта субъективной цели есть суждение; реализация цели — умозаключение; цель здесь есть одновременно и причина и цель, т. е. конечная причина; средством являются объекты: средний термин служит им средством. Отношение цели к объекту, как средству — первая посылка, средства к объекту, как к материалу — вторая. Достигнутая цель становится, в свою очередь, средством и т. д., т. е. здесь снова «дурная бесконечность». Она снимается «истинно-бесконечной» целью, которая имеет средства в себе, а не внешне. Субъективность объективирует себя; единство субъективности и объективности есть идея. В механизме и химизме понятие — в себе, в субъективной цели — для себя, в идее — в себе и для себя одновременно. Абсолютные цели и достигнуты и требуют достижения. Идея есть абсолютное единство противоположностей (субъективности и объективности) и процесс. В сущности единство было стимулом условия и обусловленного, причины и действия, начала и конца и т. д., Тут же конец начало, есть следствие — причина и т. д., следовательно единство в идее есть абсолютное единство, выходящее уже за рамки единства. Самоцель есть душа, целеустремлённая энтелехия; она объективирует себя в средстве, которое есть тело; единство души и тела есть живой индивидуум. Объективность живого есть организм, который состоит не из частей, а из членов.
«Живое умирает, потому что оно заключает в себе противоречие, именно оно есть всеобщее в себе, род, и в то же время существует непосредственно лишь, как единичное». Но «смерть единичной лишь непосредственной жизни есть возникновение духа».
Итак, субъективность есть дух, разум, самоцель, сознающая себя идея. Объективность — мир, тоже самоцель, тоже конечная цель, тоже идея. Следовательно, речь идёт о субъективной и объективной идее. Единство этих противоположностей реализуется в познании, которое должно снять односторонность противоположностей. Односторонность субъективной идеи снимается путём теоретической деятельности, идеи, или через идею истины. Односторонность объективной идеи снимается введением в мир и реализацией разумных целей духа, или через практическую деятельность (через идею добра).
Процесс конечного познания (теоретический процесс) идёт аналитически и синтетически. Из процесса конечного знания рождается идея необходимости.
«В необходимости, как таковой, само конечное знание покидает своё предположение и исходный пункт, именно найденность и данность своего содержания. Необходимость в себе есть понятие, относящее себя к себе. Таким образом субъективная идея приходит к себе, к определённому в себе и для себя, к неданному и, следовательно, к имманентному для субъекта, так что переходит в идею воли».
Свобода является тут абсолютной целью, которая требует реализации в мире. Идея добра противостоит «ничтожеству объективности». Но задачи мира входят в его действительность, долженствование — в бытие. Поэтому — в противоположность Канту, идея добра тождественна с идеей истины.
Это тождество теоретической и практической идеи и есть абсолютная идея. Содержанием абсолютной идеи служит система Логики, понятие развития, а её формой — диалектический метод, как метод развития, противоречивого трёхчленного развития. Содержанием служит именно вся система, а не «конечная станция». «Интерес заключается в целом процессе движения». Теоретическая и практическая идеи, познание и воля, являются мировыми категориями, они входят в понятие действительности.
Таким образом, логическая идея завершилась абсолютной идеей, которая дальше, через природу, как своё инобытие, шествует к Абсолютному Духу…
Нетрудно, после всего вышесказанного, обнаружить «мистику идей» на каждом шагу в изложенной части «Логики» Гегеля. Трактовка действительных процессов, как суждения, умозаключения и фигур логики явно перевёртывает реальные отношения и идеалистически их извращает. Но Ленин совершенно правильно предостерегал против того, чтобы эту мысль Гегеля, которой у последнего отведено столь почтенное место, рассматривать, как вздор. Эта мысль, если продумать её глубже, во всём её значении, устанавливает объективную связь между отношениями действительности и отношениями мышления, между объективными законами и законами логики, между формами бытия и формами мышления, между опытом и практикой — с одной стороны и теоретическим познанием — с другой. Эта мысль уже сама по себе является опровержением всего и всяческого априоризма, в котором субъект навязывает миру феноменов неизвестно откуда появившиеся априорные формы и категории. В материалистической интерпретации дело обстоит так, что действительные связи вещей и процессов через опыт и практику общественного человека, отражаются в его теоретических формулах. При этом такие соотношения, которые опытом и практикой подтверждаются бесчисленное количество раз и не знают исключений, откладываются в сознании общественного человека, как аксиоматические категории, которые потом идеалистические философы объявляют априорными. Гегель, между прочим, хорошо понимал неравноценность разных типов умозаключения. В наше время, например, классический тип умозаключения, фигурировавший во всех старых и новых учебниках логики, выступает в особом свете. Мы говорим о силлогизме. Все люди смертны. Кай — человек. Следовательно, Кай смертен. Представьте себе, что появилось новое: «Каю» удалось добиться регенерации клеток, вопреки соображениям Гегеля о роде, жизни, индивидууме и т. д. Первое положение о смертности сохраняется: Кай ещё никому ничего не говорил. Что Кай — человек, это остаётся. Но вывод неверен, и в то же время неверным становится и первое положение: оно внутренне размывается. Опытное происхождение здесь наглядно дано в слове: «все».
Ничего мистического и таинственного нет, однако, в том, что целый ряд связей не знает исключений: они-то и отлагаются в категориях «логической необходимости». С другой стороны, мы имели случай убедиться, как методы практического и опытного воздействия на природу, согласно её действительной природе, находят своё выражение в методах назначения (анализ, синтез — дробление, разложение, трансформация вещества и т. д.). Но, разумеется, налицо у Гегеля мистическая вульгаризация этих соотношений (соотношений видов в «Философии Природы», как силлогизм, солнечная система и т. д. и т. п.), что прямо вытекает из своеобразной логификации мира.
Эта логификация наглядно выражена в соотношении между субъективностью и объективностью. Понятие, субъект, есть по Гегелю, основание объективности. Здесь ярко выражен приоритет духа. Этому соответствует и приоритет цели и свободы над необходимостью. В самом деле, ведь, понятие, или субъективность, которая есть развитие субстанции, её завершение и в то же время её основание, «снимает» необходимость и превращает её в творческую «свободу». Дальнейшее движение к объективности и единству в идее есть не что иное, как реализующаяся субъективность; идея есть субъект-объект, но определяющим началом является субъективность; поэтому этот субъект-объект и носит имя идеи. Универсальное единство мира коренится, согласно этому не в механическом единстве агрегата, не в химическом единстве, не в каком бы то ни было материальном единстве вообще с его необходимостью, а в единстве телеологическом, в единстве цели, которая есть всепроникающее и всеохватывающее начало.
Процесс познания является столь решающим, что лежит в основе объединения субъективной и объективной идеи: в сугубо извращённой форме глубоко скрыто рациональное зерно об односторонности теории и практики взятых, «в себе» — тут развиты иногда поистине гениальные мысли, зёрнышки диалектического материализма и исторического материализма. Но одновременно «практика», совершенно в духе Канта и последующей этической болтовни, волоча закоренелые традиции греческого идеализма, кульминирует в идее добра, которая мистически совпадает с идеей истины, тогда как практика, как реальная трансформация вещества, предметная практика, испаряется и исчезает подобно миражу в пустыне.
В диалектическом движении понятий, отображающих в идеалистической форме действительное движение, у Гегеля даны в высокой степени идеи универсальной связи, движения, изменения, и формы этого движения, где раздвоение единого, вскрытие противоположностей и их переход одна в другую являются движущим принципом. В этом — великая революционная сторона, которая ограничивается и душится моментами идеализма и идеалистической концепции мира. Всякая форма понимается здесь в её движении, т. е. возникновении, развитии, гибели, уничтожении, в её противоречиях, снятии противоречий, возникновении новых форм, раскрытии новых противоречий, в особенностях и качествах новых форм, которые вновь и вновь подвергаются процессу изменения. В этом бесстрашии мысли, охватывающей объективную диалектику бытия, природы и истории — огромная заслуга Гегеля. Основное диалектическое противоречие его собственной системы, отмеченное Энгельсом, и привело к распаду системы, породив новое историческое единство, на новой ступени исторического развития, в диалектическом материализме Марксе.
Новейшие критики марксизма выдвигают против материалистической диалектики целый ворох «доводов» и «аргументов», которых мы отчасти касались в других главах нашей работы. Самым общим «доводом» служит соображение, что перенос диалектики, взращённой Гегелем в логической атмосфере идеализма, в материалистическую «атмосферу» есть бессмыслица (Unding), как выражается Вернер Зомбарт. Трёльч, в связи с этим, объявляет Марксов материализм нематериализмом и т. д. Уже самая постановка вопроса о соотношении гегельянства и марксизма у буржуазных критиков марксизма приводит к забавнейшим противоречиям. Так, например, Пленге (Marx und Hegel[386]) утверждает, что «Маркс мог бы со всеми своими основными теоретическими положениями оставаться в гегелевской школе» — настолько они близки. Наоборот, другой Herr Professor, Карл Диль (Ueber Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus) говорит, что Маркс сохранил «только известный способ диалектического словоупотребления» (gewisse Art dialektischer Redeweise). Зомбарт (Der proletarische Sozialismus) высказывает мнение, что здесь «две по существу различные теоретические концепции (Lehraneinungen[387]), которые не имеют между собой ничего общего, кроме имени». Пленге утверждает, что Маркс «поставил свой материализм включить в ряд прежних материалистических теорий». Трёльч, наоборот, выдвигает положение, что марксизм есть лишь «крайний реализм и эмпиризм на диалектической основе». Зомбарт противопоставляет эманатистской закономерности Гегеля марксистскую как казуально- генетическую. Трёльч, наоборот, противопоставляет Марксову диалектику, как логику движения, казуально-генетической логике позитивизма. Йосток (Der Ausgang des Kapitalismus[388]) успокаивается на решении этих противоречий, улизывая от вопроса и, со ссылкой на недостаточность теоретико-познавательных высказываний Маркса, спускаясь в область истории и социологии.
Между тем, казалось бы, что все эти почтенные господа, претендующие на знакомство с предметом, должны были бы воздержаться хотя бы от плоской антидиалектической постановки самого вопроса по типу, где противоположности абсолютны и не переходят одна в другую. Между тем, истинно-диалектическое понимание преемственности идей говорит, на основе действительного изучения предмета, о том, что механический материализм был антидиалектичен, гегелевская диалектика идеалистична, а Марксов синтез снял эти противоположности в высшем единстве диалектического материализма. Это предполагало критическую переработку и механического материализма, и идеалистической диалектики, и Маркс таким образом явился критическим наследником обеих философских концепций. Ставить же вопрос так, как ставят его обе спорящие буржуазные стороны — верх наивной беспомощности и беспомощной наивности: это детская постановка вопроса (логически детская; другое дело её «практическая» ценность для буржуазии; здесь своя проблема, но её рассмотрение отвлекло бы нас в сторону).
Аргумент от «атмосферы» легко опровергается и фактически и логически. В самом деле, центр диалектики в понятии развития. Именно поэтому даже такие интерпретаторы Гегеля, как Куно Фишер в своей «Истории новой философии», помещают Гегеля с его идеей развития в «духовную атмосферу» Дарвина, Ляйеля, раннего Канта, Канта до-критического периода с его естественно-историческими работами и в первую очередь, с его «Историей и теорией неба»[389]. А скажите на милость, что в этих теоретических взглядах, составлявших эпоху, было идеалистического? Наконец, нельзя никак пройти мимо Гёте, который несомненно был диалектиком и в то же время питал прямое отвращение к телеогически-теологической, спекулятивной абстрактной философии Гегеля, о которой он ничего не хотел знать. А «status» и «contractus» у Спенсера? А элементы диалектики У Сен-Симона («органические» и «критическое» эпохи)? Мы не говорим уже о таких вещах, как материалистические элементы в философии Аристотеля, у которого Гегель черпал премудрость полными горстями.
Конкретное выражение Зомбарта, опирающееся на общее соображение об «атмосфере», заключается, как мы уже отмечали в другом месте, в том, что марксисты школьнически, ученически смешивают противоречие с противоположностью. (Widersprush и Gegesatz), эманатистскую логику противоречий Гегеля с эмпирическим сопоставлением реальных противоположностей у Маркса, причём перенесение одного на другое есть-де нелепость и глупость. У Гегеля, на основе его метафизики, диалектика есть закон мышления и бытия, существенный элемент мира и исторического процесса… И т. д.
В этом возражении «существенным» является только его распоясанная развязность. В самом деле,
Во-первых, Гегель в «Философии Природы» сам решительным образом противопоставляет эманативную точку зрения эволюционной и решительно бросает предпочтение второй, отвергая первую. Это нужно было бы, по крайней мере, знать малопочтенному критику.
Во-вторых, противопоставление Зомбартом «противоположности», «противоречию», так же обнаруживает ученическое незнание им основ диалектической логики Гегеля. Как мы видели уже из изложения «Wissenschaft der Logik»[390], Гегель само противоречие выводит из противоположностей, трактуя противоречие, как противоположность самому себе.
В-третьих, то соображение, что у Гегеля диалектика есть в то же время и онтология, целиком обращается против Зомбарта. Ибо это означает, что диалектика есть и закон бытия. Но она есть закон бытия и для марксизма. Материалистическая диалектика, однако, здесь более последовательна, так как она уничтожает ограниченность гегелевской диалектики.
В-четвёртых. Развитие естественных и общественных наук убедительно показывает на конкретном материале, что диалектика в высокой степени «применима» к истории и природы, и общества. В главах, посвящённых современной физике и биологии мы видели, что все основные философско-теоретические проблемы современного естествознания упираются в диалектику, и что Энгельс со своей «диалектикой природы» и Ленин дали большой толчок пониманию действительных связей и отношений природы и общества. Наоборот, там, где Гегель связывал диалектику по рукам и ногам своим идеализмом, он оказался целиком неправ (атомистическая теория, теория света, теория цвета; теория эволюции видов, теория общественно-исторического развития с успокоением на буржуазном режиме и т. д. и т. п.).
В-пятых. Работы Маркса, теория исторического материализма, как приложение материалистической диалектики к истории, и теория капитализма, как её приложение к политической экономии, оправдались целиком. «Капитал» весь построен на основах материалистической диалектики, как блестящие исторические работы Маркса. У него диалектические абстракции не на словах, а на деле конкретны. И поэтому Марксовы прогнозы целиком оправдались. История решила по своему спор между гегелевской идеалистической диалектикой и материалистической диалектикой Маркса. Гегелева диалектика, в её идеалистической ограниченности, образумывающей и логифицирующей всё иррациональное, успокоилась на буржуазном обществе и государстве. Она была опрокинута в этих своих последних выводах действительностью. Марксова диалектика, рационально познавшая иррациональную стихию капиталистического развития, была подтверждена действительным историческим процессом. И не кто иной, как г‑н Вернер Зомбарт не раз был, с печалью на челе, вынужден признать, что основные предсказания Маркса исполнились. Можно ли требовать большего триумфа для материалистической диалектики?
Если единичный эксперимент или единичный практический акт есть момент проверки того или иного положения, то здесь, в великом всемирно-историческом процессе, мы имеем великое, всемирно-историческое подтверждение Марксовой материалистической диалектики.
В заключение нужно сказать, что в развитом коммунизме, с его гармонической общественной структурой, чувство общности людей будет вне всяких фетишистских норм могучей силой. Этика перерастает в своеобразную эстетику, а «долг» превратится в простой инстинкт, в прекрасный рефлекс нормального человека: всякий будет спасать тонущего товарища, не колеблясь между «шкурничеством» (т. е. самосохранением) и «долгом»; никто не будет «приносить жертву» ради ближнего, а будет просто и прекрасно делать то, что говорит благородное и имманентное новому прекрасному человеку чувство великой общности коммунистических людей.
Глава ⅩⅩⅩⅤ. О диалектике, как науке, и о диалектике, как искусстве
«Многоопытным образованным государственным человеком… является тот, который… обладает практическим умом, то есть поступает согласно всему объёму предлежащего случая, а не согласно одной его стороне, находящейся своё выражение в одной максиме. Напротив, тот, кто во всех случаях действует согласно одной максиме, называется педантом и портит дело себе и другим»[391].
Так определяет Гегель в «Истории философии» «многоопытного образованного государственного человека». Здесь речь идёт, конечно, не о «сдаче позиций» (хотя в общем тексте Гегель и упоминает о «середине») и не о забвении основной «максимы» (хотя он и говорит против «одной максимы»), а об учёте «всего объёма предлежащего случая», то есть всей многосторонней конкретной ситуации, в которой действует «многоопытный и образованный государственный человек».
Нетрудно видеть в этом замечании Гегеля постановку вопроса о диалектике, как искусстве, практике, действии. Вопрос этот имеет первостепенное значение. Ведь, недаром Энгельс говорил о марксизме, что он не догма, а руководство к действию. Это выражение нельзя понимать дубово, т. е. так, будто бы Энгельс отрицает марксизм, как теорию. Это выражение означает, что марксизм не есть мёртвая, кабинетная, схоластическая, далеко от жизни стоящая, застывшая и окостеневшая система, а живое учение, живая теория-процесс, развивающаяся и функционирующая, как орудие борьбы, практики, той великой практики, которая преобразует мир. Никто не может оспорить великого богатства марксистской теории: её содержание огромно. Но именно потому, что она, эта теория, есть великая теория, она в состоянии оплодотворять и великую практику. Здесь мы ставим вопрос о материалистической диалектике и как о теории, и как об искусстве.
В общей постановке о диалектике мы уже говорили в специальной главе. Здесь о ней речь будет идти в данной особой связи, так как тут имеется несомненно некоторая проблема.
Как часто ни цитировалось известное определение Ленина, мы приводим его здесь ещё раз. Речь идёт об «элементах диалектики», перечисляемых Лениным. Они суть:
1) «объективность рассмотрения (не примеры, не отступления, а вещь сама в себе);
2) вся совокупность многоразличных отношений этой вещи к другим;
3) развитие этой вещи (rsp. явления), её собственное движение, её собственная жизнь;
4) внутренне-противоречивые тенденции (и стороны) в этой вещи;
5) вещь (явление etc.), как сумма и единство противоположностей;
6) борьба, respective развёртывание этих противоположностей, противоречивых стремлений etc.;
7) соединение анализа и синтеза,— разборка отдельных частей и совокупность, суммирование этих частей вместе;
8) отношения каждой вещи (явления, etc.) не только многоразличны, но всеобщи, универсальны. Каждая вещь (явление, процесс etc.) связана с каждой;
9) не только единство противоположностей, но переходы каждого определения, качества, черты, стороны, свойства в каждое другое (в свою противоположность?);
10) бесконечный процесс раскрытия новых сторон, отношений etc.;
11) бесконечный процесс углубления познания человеком вещи, явлений, процессов и т. д. от явлений к сущности и от менее глубокой к более глубокой сущности;
12) от существования к казуальности и от одной формы связи и взаимозависимости к другой, более глубокой, более общей;
13) повторение в высшей стадии известных черт, свойств etc.; и знаний и
14) возврат якобы к старому (отрицание отрицания);
15) борьба содержания с формой и обратно. Сбрасывание формы, переделка содержания;
16) переход количества в качество и vice versa»[392].
Владимир Ильич самую диалектику понял диалектически. После того, как он из данного целого выделил аналитически различные его стороны и условно разъединил это целое, взявши эти стороны, как изолированные величины, он затем синтезировал эту аналитическую работу и схватил эти определения в одном единстве:
«Вкратце диалектику можно определить, как учение о единстве противоположностей. Этим будет схвачено ядро диалектики» (Философские Тетради[393]).
Диалектическая гибкость мышления, или, лучше сказать, гибкость диалектического мышления, позволит адекватно отображать объективную действительность. Но марксистский объективизм, как это было прекрасно выяснено Лениным в полемике против Струве, шире и глубже буржуазного объективизма (поскольку последний существовал вообще, в качестве идеологической однодневки). Так как он диалектичен, понимает все историческое в движении, в становлении; схватывает «исчезающие моменты», переходы в свою противоположность, противоречивые тенденции и т. д., то он видит не только прошлое, но, вскрывая закономерности движения, заглядывает и в будущее; история показывает ему, выражаясь едкими словами Маркса, не только своё a posteriori, как она проделывала это с так называемой «исторической школой», с её апологетикой рутины, традиции, старины. Таким образом, марксистский объективизм ухватывает и «жало движения», поэтому он «действительнее», «объективнее» обычного рассудочного объективизма.
Диалектика, это — наука, объективно отражающая объективную диалектику бытия, онтологическую диалектику. Онтологическая диалектика охватывает все, в том числе и процессы мышления. И когда мы ставим вопрос о диалектике, как искусстве, не ставим ли мы нелепого вопроса: не предъявляем ли мы физиологии задачи «указывать», как нам нужно переваривать пищу?
Мышление можно рассматривать и как процесс (нервно-физиологический и, в его инобытии, как собственно мышления, психологический), и с точки зрения его логического состава, т. е. адекватности понятий, как отражений, своему отражаемому, т. е. объекту. Первое — проходит всегда диалектично, как и любой процесс Универсума. Но это не значит, что логический состав этого процесса схватывает диалектику действительности, и верно отображает. Иначе не было бы вообще неправильного познания, не было бы заблуждений, не было бы извращений, не было бы ограниченных форм рассудочного, однобокого и одностороннего мышления. Но таковое есть факт. Я могу заниматься метафизикой с серьёзной верой в черта и бога, но течение соответствующих ассоциаций и нервно-физиологический коррелятивный процесс этого будет развиваться диалектически. Связь объективных процессов бытия и их «инобытийной», психологической стороны отлична от связи логических понятий в их соотношении с отражаемым. Поэтому диалектика может указывать, как нужно мыслить (ибо мышление по своему логическому составу может быть и не диалектично), физиология же не учит, как физиологически нужно переваривать, ибо процесс переваривания всегда физиологичен, и тут нет никакой проблемы. Диалектика, следовательно, является и методом мышления, исследования. И здесь есть момент нормы, момент искусства.
Но как совершается переход к практике?
Когда речь идёт о технологических процессах, о практике производства или научного эксперимента, то здесь все упрощается, так как берутся изолированные так или иначе процессы. Теория даёт объективные связи. Технология переводит их с языка необходимости на телеологический язык правил, норм (переход к действию). Правила непосредственно руководят расстановкой веществ и сил, согласно цели, координируя все с этой целью, антиципируемой как результат процесса. Если все действия проделаны, а результата не появилось, прогноз не оправдался, цель не достигнута, это значит, что практика была «ошибочной», потому что теоретический расчёт был неверен: практика проверила теорию и её отвергла. И, наоборот, в случае соответствующего результата — «всё в порядке».
В общественно-политической практике дело обстоит много труднее. Здесь речь идёт не об искусственно-изолированном процессе (как в производстве, как в научном эксперименте), а о многообразном и крайне сложном целом, о чрезвычайно запутанных отношениях, совершенно не поддающемуся математически-числовому выражению, ибо на каждом шагу здесь встречаются новые и новые качества. Общество состоит из сложнейших отношений между овеществлёнными индивидуумами, которые сами представляют собою самый сложный продукт природы, и это всё необычайно быстро течёт и изменяется. Кроме того, субъект здесь — коллективный субъект (класс), который сам многосложен, сам имеет специфическую структуру (слои класса, класс, партия, вожди и т. д.). Далее, этот субъект сам слагающая каждого события: его действия всё время объективируются: мысль превращается в действие, действие застывает в факт, становящийся составным моментом новой констелляции, тотчас же переходящей в другое. Бесконечное множество противоречий, групп, оттенков, царство конкретного в гигантском многообразии и быстротекучести. Гегель замечает в одном месте: история настолько конкретна, что никогда правительства и народы ничему из истории не научились, ибо условия их действия были всегда своеобразны.
И Ильич соглашался с этим замечанием (трактовка «сюжета» — полная противоположность фразе об «уроках истории»; нужно, однако, брать и это положение, как относительное, cum grano salis, без увеличения!). Действовать правильно, т. е. успешно, можно лишь «согласно всему объёму предлежащего случая», т. е. согласно специфически конкретной конъюнктуре (полые[394] — что нормативно соответствует стратегии, конъюнктуре в узком смысле, что нормативно соответствует тактике).
Но как опосредствуется переход к этому действию «согласно всему объёму» и т. д.?
Прежде всего, нужно знать, понимать этот «весь объём». Для этого нужно уметь мыслить диалектически, т. е. не только понимать диалектическое учение, но и уметь его применять в процессе познания. Здесь само мышление рассматривается не только как объективный процесс, несводимо обусловленный, а и телеологический, с точки зрения его эффективности, как искусство мыслить диалектически. Теоретически понятая действительность может быть понята здесь правильно лишь на диалектической основе. Если в условиях производства и эксперимента сами эти условия дают больший простор рассудочному; ординарному мышлению, ибо в этих условиях уже содержится упрощение, то здесь нет ничего подобного, и диалектическое понимание, только оно может привести к правильному результату мышления. Но вот получено правильное отображение конъюнктуры, «всего объёма прележащего случая». Получить такое отображение — дело великого искусства диалектики, как искусства мыслить: мастерские, поистине гениальные анализы Ленина (и целой эпохи, например, в «Развитии капитализма», в «Империализме» и т. д. и отдельных, часто глубоко драматических конъюнктур, например, «Кризис назрел»[395]) это — шедевры научного творчества, непревзойдимые по своей диалектической глубине и по острой динамической структуре, которая выводит данную констелляцию в будущее. И здесь же диалектический переход к тактике, т. е. к системе норм, согласно полученному «анализу», т. е ., в конце концов, согласно действительной конъюнктуры; следовательно, переход к системе действий (разнообразных: агитационных, пропагандистских, организационных, непосредственно-боевых), и на основе этих установок, при выборе момента («согласно» и т. д.) переход к самим действиям в их целесообразной последовательности. При этом, однако, не нужно думать, что всё идёт лишь одно за другим, действие развивается, но мышление не перестаёт работать; вступают всё время новые факторы, конъюнктура всё время меняется, вторгаются осложнения, переломы, неожиданные моменты, т. н. «случайности»; все действия самого революционного субъекта объективируются — необходим мыслительный учёт «на ходу», холодный анализ новых и меняющихся объективных связей, переложение выводов на тактический язык и превращение всего этого в страстную активность борьбы.
Следовательно, тактика и тактическое действие и являются согласными со всем объёмом предлежащего случая.
Здесь есть искусство действия (вспомним «о восстании, как искусстве»[396] у Ленина, развившего гениальные положения Маркса на этот счёт). Здесь налицо разумное действие, а разумность его заключается в том, что оно связано, слито с разумным, т. е. диалектическим, пониманием всей обстановки: диалектическое бытие, диалектическое мышление, диалектическое действие связаны друг с другом и в этой связи представляют единство процесса общественного изменения, т. е. общественно-политического, в данном случае революционного, преобразования общества.
Здесь следует остановиться опять-таки на проблеме, аналогичной той, которую мы решили при рассмотрении мышления. Всякий исторический процесс и цепь действий диалектичен, как таковой, как часть бытия и становления общества, являющейся в свою очередь, частью природы, хотя и её диалектической противоположностью. Но это не означает, что всякое действие соответствует диалектическому мышлению, диалектическому по своему логическому составу. Можно, как мы видели, мыслить ограниченно и формально; на основе этих ограниченных отображений действительности, т. е. однобоких, т. е. ошибочных, строить тактику и соответственно действовать. Тогда ошибки, «политические ошибки», будут совершенно неизбежны: они со всей силой необходимости будут вытекать из ошибочных установок, даже при благоприятной политической конъюнктуре, а при неблагоприятной могут загубить всё. Таким образом, когда мы говорим здесь о диалектическом действии, о диалектике, как практическом искусстве, как материальной практике, мы говорим о такой политике («научной политике»), которая слита с диалектическим мышлением. Ведь, в действительности есть не абстракция действия: действие «в себе» вообще не существует: существуют действующие люди; но эти действующие люди в то же время суть мыслящие люди, это есть некая целокупность. Поэтому реально действие неотделимо от своих целей: оно есть целевое, разумное действие. Единство этого разумного начала, объединяющего все разрозненные моменты, есть единство руководства, поскольку речь идёт о коллективном действии больших масс. Диалектический материализм в применении к обществу есть исторический материализм Маркса. Он — не догма, а руководство к действию потому, что даёт основу для научной политики пролетарских партий, партий коммунистического переворота, большевиков.
Вышесказанным довольно легко, и притом по существу, решается и вопрос относительно «диалектики в металлургии», «диалектики в кузнечном деле» и в пришивании пуговиц. Здесь у адептов диалектики — антидиалектическое понимание самой диалектики. Ведь, диалектика не уничтожает и не зачёркивает так называемой формальной логики и рассудочного мышления. В «снятом виде» формальная логика соприсутствует в логике диалектической. Высшая математика отнюдь не отменяет алгебры, алгебра не отменяет арифметики. В обычно-житейском формальная логика применима весьма широко: на стол и табуретку, нож и вилку вполне можно смотреть, как на «застывшие» вещи, а не как на «процессы», и достаточно брать их «в связи» со своим телом и едой, не приплетая сюда «универсальных связей» и переходов одного в другое. В производстве, в технологических процессах, как мы недавно отмечали, уже дана известная изоляция, упрощение условий, сосредоточение на «единичном», вырывание одного или нескольких конечных процессов из всей связи бытия: поэтому смешно здесь зачёркивать формальную логику и диалектически философствовать над пуговицей или стальной болванкой. Другое дело, когда мы переходим ко «всеобщему», к абстрактно-конкретному: там это вполне уместно, и неуместной становится рассудочная, формальная логика. Наши суждения в таких вопросах и о таких проблемах должны быть сами диалектически-конкретны и соответствовать предмету, что предполагает истинное понимание диалектики, а не её огульное «применение» как «универсальной отмычки», против чего с полным правом протестовал Фридрих Энгельс.
Из этого, конечно, не вытекает, что мы выключаем производство из объектов диалектического рассмотрения: ведь, мы во всей работе систематически включаем производство, технику, технологические процессы в сферу философии, диалектики, теории познания. Но не трудно понять всю разницу: когда нам нужно пришить пуговицу, то проблема сводится к соотношению между курткой, иглой, пуговицей, а не к универсальной связи Космоса. Когда «Метафизик» в известной басне попал в яму, ему кинули верёвку, а он рассуждал: «верёвка — вервие простое», он мешал себе вылезать из ямы, ибо проблема заключалась вовсе не в том, чтоб, ухватившись за верёвку, вылезти из ямы. Но «Человек» — по выражению Гегеля в «Философии Природы» — как всеобщее, мыслящее животное живёт в гораздо более широком кругу и обращает все предметы в свою неорганическую природу (т. е. в объекты практического овладения. Авт.), а равно и в объекты своего знания. Потенциально он «вбирает» весь мир. Вот этот процесс расширения и углубления и практики, и познания на определённой ступени развития и в определённых, более общих, или т. н. «более высоких» проблемах вступает в конфликт с формальной логикой и рассудочным мышлением, и тут необходима диалектика. Когда мы судим о практике и о теории и их взаимоотношениях, о практике вообще, о производстве и смене его форм, об истории техники и технологии и т. д. и т. п. здесь нельзя обойтись без диалектики. Чем шире и чем глубже проблема, тем настоятельнее потребность всё диалектической обработке. Чем сложнее действие, тем настоятельнее потребность в диалектическом искусстве, т.е. в действии, направляемом диалектическим мышлением. В области политического действия это блестяще подтверждается на плодотворнейшей теории и практике великих основоположников коммунизма и продолжателей их дела. Так решается вопрос о теоретической диалектике и диалектике нормативной.
Глава ⅩⅩⅩⅥ. О науке и философии
Старый Аристотель говорил о науке и философии:
«Все другие науки, пожалуй, более необходимы, чем философия, но ни одна не является более превосходной, чем философия»[397].
Нам пора здесь уже поставить вопрос о соотношении между наукой и философией.
Маркс и Энгельс вели, как всем ведомо, бешеную борьбу против «пьяной спекуляции», против игры гегелевского саморазвивающегося понятия, против превращения реального мира в мир абстракций, против того культа мышления, когда это мышление (в системе, разумеется) пожрало мир, и также хорошо известно, что Маркс и Энгельс не только «сохранили» гегелевскую диалектику, превратив её в материалистическую диалектику, но и вели ожесточённую борьбу с «грубым эмпиризмом» английского типа, с беззаботностью огромного большинства учёных на предмет мышления, измывались над «ползучими эмпириками», «индуктивными ослами» и т. д. и т. п. В то же время они горой защищают опытную науку, и у них не было ни грана того высокомерия к «букашкам, мошкам, таракашкам», к собиранию материала, его классификации, расширению даже мелких и мельчайших знаний, высокомерия, какое мы очень часто видим у Гегеля, и при том иногда в весьма резкой форме.
Эта позиция наших учителей в высокой степени оправдана. Отрыв от опыта и опытных данных, от практики, эксперимента, реального соприкосновения с действительностью, всевозможных форм исторически накопленного и консервированного опыта, т. е. т. н. «чистое умозрение», неизбежно ведущее к идеализму (по Гегелю, «основательное умозрение» = «идеализм», в противоположность «плохонькому локкианству»), есть бледная идеологическая немочь человечества. С другой стороны, отказ от широкой и глубокой сводки, обобщения, мыслительной обработки опытных данных, от «всеобщего», есть ограниченность специализированного кустаря — крохоборческого ремесленника науки. И то, и другое есть антидиалектическая односторонность, которая должна быть преодолена и которая преодолевается Марксовым диалектическим материализмом.
Этот подход позволяет правильно поставить и правильно решить проблему соотношений между наукой и философией.
Даже Гегель, для которого «природа есть идея в форме инобытия», и «отчуждённая от идеи природа… лишь труп» (Философия Природы), не может отрицать, что «мы начинаем с чувственного восприятия, собираем сведения о разнообразных формах и законах природы» (Философия Природы[398]). Однако, здесь коренятся и все т. н. «априорные формы», категории и прочие жупелы идеалистической философии, как об этом мы уже говорили. Опосредствованное знание не есть холостой ход мышления, а обработка эмпирических данных, но исторический и общественный процесс познания, т. е. познания, субъектами которого являются обобществлённые и исторически определённые индивиды, где историчен и объект, и формы связи с субъектом,— этот процесс, как мы знаем, отрывается от практики — во-первых, разделяется на отдельные науки — во-вторых, причём эти науки дробятся всё более и более, а, в силу общественной структуры, отдельные их ветви обособляются настолько, что между ними теряется подчас всякая связь. Таким образом, рассудочное начало (в противоположность разумному) здесь воплощается уже в самих отношениях. Философия всегда стремилась преодолеть эту растущую ограниченность, свести воедино всю сумму знаний, ориентируясь на «всеобщее». Но здесь была та беда, что сами-то мыслители, как ideologische Stande представляли собою тоже лишь обособившуюся ветвь деятельности, приобрётшую характер «чистой» мыслительной функции: поэтому задача такого синтеза им и оказывалась не по плечу. Греки, за некоторыми исключениями, были большей частью оторваны от современной и экспериментальной науки (слабо развитой) и зачатков инженерии, а производительный труд ремесленников, крестьян и рабов ими презирался. С единственными науками, и науками своего времени вообще, лучше всех из греков был знаком Аристотель, энциклопедический гений — оттого он дал больше всех и философии. В новое время ему эквивалентен только Гегель, великий энциклопедический ум ⅩⅨ века, но он в естественных науках был всё же позади Канта, а от материального производства, техники и технологии был, разумеется, далёк на тысячи километров. Идеалистическая философия в лице различных кантианских её ветвей в последнее время была ориентирована по линии этической болтовни высокого стиля, а, с другой стороны, философствующие физики были ближе к математике с её символикой, чем к материальному труду с его преодолением реальных сопротивлений материи. Между тем, потребность в синтезе отнюдь не пропадает, а при плановом хозяйстве социализма, где сам план есть синтез, и всё общество есть организованное единство, единство наук есть нечто, прямо вытекающее из «духа времени».
Рассмотрим, однако, проблему несколько более подробно и внимательно. Когда речь идёт о диалектическом мышлении, то мы видим, как движется это мышление от первого конкретного через анализ отдельных сторон и выделение общего, а затем восходит через синтез ко второму конкретному. В развитии человеческого познания происходит в исторически-гигантским масштабе тот же процесс; мир в отдельных дисциплинах и в их подразделениях — больших, малых, совсем крохотных — познаётся с разных сторон, в своих различенных и до известной степени противопоставленных друг другу формах; эти формы имеют свои специфические качества, свойства, закономерности. Но кто или что возьмёт их в соотношении с другим? Кто будет анализировать их переходы из одного в другое? А эти «пограничные» вопросы прямо стучатся в двери (физика и химия, химия и биология, физическая химия и химическая физика, «химия живого вещества» и т. д.) Правда, есть дисциплины довольно общего характера (например, теоретическая физика вообще) и соответствующие учёные, но они почти никогда не знают биологии, не говоря уже об общественных науках, как социология, или таких, как языкознание, или таких, как история. Между тем, вопросы об общих закономерностях бытия, о типах связей, о единстве мира, о переходах одних форм в другие, о соотношении объекта и субъекта и т. д. становятся теперь особенно жгучими и прямо выпирают из любой специализированной отрасли. Теперь уже учёному никак нельзя удержаться на позиции, будто все это — «метафизика»: они стоят в упор. Раньше в значительной мере специалисты от «чистой философии» (большей частью действительно метафизики), оторванные и от материального труда, и от эмпирической науки, снисходили до лобызания с наукой, создавая иногда чудовищные вещи типа т. н. «натурфилософии» (что, разумеется, не исключает отдельных гениальных догадок, даже у Шеллинга). Теперь сама наука уже не может обойтись без решения ряда общих вопросов и проблем — таковы «высшие» проблемы современной физики, химии, биологии, математики и т. д. и т. п. Как можно решать контроверзу[399] между виталистами и дарвинистами[400], механо-ламаркистами[401] и психо-ламаркистами[402] в биологии; проблемы закономерностей макро- и микроструктуры, дискретного и непрерывного и т. д. в физике; проблему истории и теории, идеографии[403] и номографии[404] в общественных науках, проблему «физического» и «психического» — в физиологии и психологии и целый ряд других проблем, важнейших с точки зрения развития самой науки, без разработки более широких и общих вопросов, то есть вопросов философии? Здесь речь идёт вовсе не о том, что наряду с рядоположностью сосуществующих специальных наук, различающихся по своему объекту, должна в этот ряд уложиться ещё одна наука, взятая тоже изолированно, то есть в себе. Так в значительной мере обстояло дело с философией раньше, хотя и не в абсолютном смысле слова, ибо обособление различных функций никогда не было — и не могло быть — абсолютным: здесь никогда не нужно забывать об относительности соответствующих утверждений. Но теперь, когда вся историческая эпоха идёт к величайшим синтезам (идёт через борьбу, распада прежних обществ, катастрофы, идеологические кризисы, но всё же идёт) с особой настойчивостью необходимо выдвигать идею синтеза всего теоретического знания и ещё более грандиозного синтеза теории и практики.
Что это означает для философии?
У Гегеля в одном месте есть замечательная формулировка: «эмпирическое, взятое в его синтезе, есть спекулятивное понятие» (курсив Гегеля. История философии, Ⅱ). Не забудем, что «спекулятивное» здесь означает «диалектическое», не будем бояться слова, зная его значение в данном случае. Вот именно! Речь идёт о том, чтобы, синтезируя познание, эмпирическое познание отдельных сторон и форм бытия, синтезировать их в одно стройное целое, двинуться ко всеобщему, к Универсуму, с его универсальными связями, отношениями, законами. Но это и значит двинуться к философии, её современной и высшей форме, к философии диалектического материализма. Она не отдельная наука «в себе». Она вскрывает и формулирует самые общие, универсальные и глубокие законы и связи, и при том в них соотношении с особенным и единичным. Она «в снятом виде» включает все науки, как свои «моменты», а не стоит над ними, как прикрывающий их внешний колпак, внешняя форма. Более того, если материалистическая диалектика становится методом всех наук, т. е. если создаётся их методологическое единство, то внутри каждой науки, в любом её подразделении появляются аналогичные соотношения, идущие, так сказать, книзу. Между науками установится тоже своя связь и свои переходы, соответствующие тем связям и переходам, которые есть в реальном бытии. Диалектика проникнет тогда, фигурально выражаясь, в весь организм науки, что, несомненно, крайне поднимет её жизненный тонус. А объединение её с практикой раз навсегда излечит от идеалистического фантазирования, вырастающего на почве отрыва мыслительных функций и замыкания их «в себе», при вышелушивании из процесса мышления его конкретного жизненного содержания.
В одном месте у Гегеля признаётся (или проговаривается?):
«Мы именно стремимся познать природу, которая действительно существует, а не нечто несуществующее. Но вместо того чтобы оставлять её такой, какова она есть, и брать её такой, какова она поистине, вместо того чтобы воспринимать её, мы превращаем природу в нечто совершенно другое. Мысля предметы, мы тем самым превращаем их в нечто всеобщее; вещи же в действительности единичны, и львы вообще не существуют» (Философия Природы, Ⅱ[405]).
Браво! Но только здесь везде вместо «мы» нужно поставить «мы, идеалистические философы». Для материалистической диалектики, которая не думает заменять царя зверей его родовым понятием, «идеей», считать природу за труп, а за её «истину» — «идею», для материалистической диалектики такая ламентация[406] категорически излишня.
Естествоиспытатели часто боятся философии, как «метафизики». Но в «Диалектике Природы» Энгельс блестяще сформулировал мысль, что такие храбрецы оказываются обычно в плену отбросов философской мысли, ибо от проблем и вопросов, разрешаемых философией, отмахнуться нельзя: это — страусова политика, считать, что их не существует, это — testimonium pauperitas, свидетельство об интеллектуальной бедности, отнюдь не делающее чести его владельцам. В частности, многие пугаются мистики Гегеля, забывая, что не эта сторона у него важна. Конечно, когда какой-нибудь материалистически мыслящий ботаник или агрохимик прочтёт в «Философии Природы» такую, например, сентенцию[407]: «Это сохранение зерна в земле есть… мистическое, магическое действие, указывающее, что в нём есть тайные силы, которые ещё дремлют, поистине оно есть ещё нечто сверх того, чем оно является в своём наличном бытии…!!»[408], то у него зашевелятся волосы на голове. Весь этот мистический сор и мусор, конечно, нужно отметать. Но в законах диалектики, материалистически интерпретируемых, нет ни атома этой мистики. Здесь у Гегеля в перевёрнутой и извращённой форме дано реальное содержание, универсальные законы бытия. Недаром Гёте писал:
«…наблюдатели природы, как бы разно они вообще не мыслили, безусловно сойдутся в том, что всё, являющееся нам, представляющееся в виде феноменов, должно обнаружить либо первоначальное раздвоение, способное к раздвоению, либо первоначальное единство, которое может стать раздвоением»[409]…
А ведь это и есть то самое единство противоположностей, которое по справедливому определению Ленина, и есть суть диалектики!
Что же составляет собственный предмет диалектики? Всё. И в то же время: 1) общие законы бытия, 2) общие законы мышления, 3) общие законы соотношения между субъектом и объектом. Это и значит, что диалектика, логика и теория познания совпадают. Но, повторяем, диалектика материализма охватывает и всё. Ибо её всеобщее не есть формально-логическое всеобщее, не пустая абстракция, а клубок, из которого можно разматывать конкретное содержание. Здесь «в снятом виде» все науки. Общие закономерности переходят в особенные, специфические закономерности, множатся; особенные закономерности охватывают единичное. Всё связано воедино, но единое многообразно и многогранно. И в то же время это не иерархия неподвижных «ценностей», не лестница окостенелых высших и низших величин, а такое многообразие, где одно переходит в другое, вечно-движущееся и меняющееся многообразие, вечное превращение, исчезновение и рождение, появление нового, гибель старого, исторический процесс. И величайшей заслугой Гегеля было и остаётся то, что он сделал грандиозную попытку представить весь естественный, исторический и духовный мир в виде процесса. Эта заслуга, о которой с признательностью говорит Энгельс, останется за великим идеалистическим философом навсегда.
Глава ⅩⅩⅩⅦ. Об эволюции
Таким образом, положительным центром всей концепции Гегеля является трактовка всего, как процесса. Это воззрение проложило себе пути в многоразличнейших областях, как тенденция к всеобщему историзму. У Канта уже была налицо саморазвивающаяся исторически материя («Всеобщая естественная история и теория неба»). Ламарк и позже Дарвин — в биологии (термин «биология» введён впервые почти одновременно Ламарком и немцем Тревиранусом), а также (до Дарвина) Гёте; Ляйелль — в геологии, «историческая школа»[410] — в общественных науках и т. д.,— все эти течения выражали новый «дух времени» и логически были противоположны сухому рационализму «просветителей». Социальный генезис здесь был довольно многосложен, и самое значение «историзирования» выступало в различных, часто противоположных вариантах: от консервативной и гнусной апологетики «исторической школы» до освобождающего значения дарвинизма.
Здесь, однако, мы хотим, не вдаваясь ни в какие описания истории развития соответствующих идей, остановится на некоторых центральных проблемах, существенных для понимания Марксова историзма и Марксовой идеи «развития», «законов движения».
В «Философии Природы» мы читаем:
«Существуют два понимания хода превращения одних форм в другие: эволюционное и эманационное. Эволюционное понимание, согласно которому начальным звеном является несовершенное, бесформенное, представляет себе дело так, что сначала существовали влажные и водные существа, из водных произошли затем растения, полипы, моллюски, а затем — рыбы; после этого возникли земные животные, а затем из них произошёл человек… Представление об эманативном ходе изменения характеризует восточные воззрения. Это — ступени последовательного ухудшения. Начальной ступенью является совершенство, абсолютная целостность, бог».
Потом идут всё менее совершенные создания и, наконец, материя, как «вершина зла»[411]. Гегель считает оба понимания односторонними, но предпочитает эволюционный ход превращения одних форм в другие; хотя и не разделяет этого понимания, так как у него виды не переходят один в другой, вопреки «духу» диалектики.
Для нас, однако, неприемлемы обе эти диалектические противоположности, а равно и их единство. Неприемлемы они потому, что их движение разыгрывается в извращённой идеологической плоскости, в плоскости телеологии. В самом деле, эволюция здесь берётся как антитеза эманации. В эманации бог, доброе начало, разум диалектически переходит в зло, грех, материю. В эволюции (в данной трактовке!), наоборот, движение и «превращение форм» начинается с образного конца, как восхождение от злого, несовершенного, бесформенного — к доброму, всё более совершенному, к аристотелевым «формам», к духу, к разуму, к богу. Всякий синтез этих (иллюзорных, метафизических, фальшивых) противоположностей будет оставаться в той же плоскости телеологического идеализма, который является потенцированным извращением, ибо здесь идеализм «помножается» на телеологию. Такого рода мистика, какая была, например, ещё у Парацельса, у которого значилось столько элементов вещества, сколько насчитывалось главных добродетелей (!) проявлялась неоднократно и позднее. Так, например, у швейцарского натуралиста Шарля Бонне (Charles Bonnet, 1720-1723: «Traité d’insectologie» и «Contemplation de la nature»[412]) построена целая «лестница существ» (échelle des êtres), где всё расположено в восходящем порядке, и где за человеком следуют чины ангельские и архангельские и бог. И недаром язвительный Вольтер, издеваясь над этим и утверждая, что здесь налицо «идея более возвышенная, чем правильная» («idée plus sublime que vrai»), не без ехидства замечал, что она воспроизводит иерархию католической церкви, т. е. феодальную иерархию (хитрая умница видел кое-что!). Эволюции и эманации в применении к обществу (мы всё время говорим о гегелевской трактовке этих понятий) соответствовало представление о райском состоянии, безгреховном и блаженном, изначального человека, который впал в «грех» (здесь движение идёт от «рая», «золотого века», добра, святости и блаженства к греху, проклятому существованию, злу и страданиям, что соответствует эманационной концепции) — это с одной стороны; с другой — представление о движении к «царству божию на земле», к «civitas Dei», к золотому веку впереди, что нашло своё выражение в различных эсхатологических и хилиастических концепциях, а затем в идее «вечного совершенствования», разумного прогресса по плану божию — это соответствовало эволюционной концепции).
Разумеется, такая трактовка «эволюции», не говоря уже об эманации, должна быть нами отвергнута a lamine: мы уже разделались и с теологией, и с телеологией, и подробно говорить об этом не имеет ровно никакого смысла.
Остановимся теперь на антитезе, выдвинутой в известном фрагменте Ленина: «К вопросу о диалектике». Ленин говорит здесь о том, что существуют две концепции развития, первая кладёт во главу угла процесс уменьшения или увеличения, т. е. принцип голого количественного изменения; вторая — процесс раздвоения единого. При первой — остаётся в тени самодвижение, вся концепция бледна, суха, нежизненна. При второй — налицо самодвижение, скачки, перерывы постепенности, превращение в противоположное, уничтожение старого, возникновение нового. Здесь таким образом вопрос о телеологии вообще отмечается заранее (и с полным правом), и выставляется антитеза рассудочно-количественного взгляда и взгляда диалектического.
Ещё у Аристотеля мы находим основные моменты диалектического изменения — недаром Энгельс связывал диалектику с именем этого великого греческого мыслителя (идея превращения играла очень большую роль в философии Индии, но рассмотрение этого завело бы нас слишком далеко; вообще же мы должны заметить, что вся трактовка Гегелем философии Индии, Китая и т. д., как небо от земли, далека от истины и воплощает лишь гордыню европейского, бело-расового провинциализма и незнакомства с предметом, что, впрочем, не должно нас удивлять). У Аристотеля изменение предполагает переход противоположностей, одной в другую, и «снятие» их в единстве, у него есть, далее, четыре главных категории изменения: 1) со стороны «что» (возникновение и гибель определённой сущности; 2) со стороны качества (изменение свойств); 3) со стороны количества (увеличение и уменьшение); 4) со стороны «где», т. е. со стороны места (движение в пространстве). «Само изменение есть переход от того, что существует в возможности, к тому, что существует в действительности» (Аристотель «Метафизика»), т. е., другими словами, становление. Таким образом, концепция Аристотеля много богаче чисто количественных концепций, которым было суждено впоследствии сыграть столь большую роль и в науке и в философии: здесь-то и сказывается всё преимущество диалектики, хотя бы даже и в неразвитой её форме.
Вопрос о только количественно-рассудочном или о диалектическом понимании процесса изменения включает и вопрос об антитезе постепенности и скачка, прерывности и непрерывности, вопрос, который играл и играет такую большую роль, в особенности в общественных науках. Обычное понимание эволюции исключает скачки, и консервативный пафос «исторической школы» именно и выражался в постепенновщине, как законе природы, всего мира (ср. гораздо раньше Лейбниц). Нужно сказать, что и геология Ляйелля развивалась, как антитеза Кювье («Теория катастроф»), и в биологии постепенность и «медленные изменения» составляли основу основ. В общественных науках эволюция поэтому трактовалась, как противоположность революции, исключающая эту последнюю или объявляющая её «противоестественной» (точно категория «противоестественного» могла бы здесь помочь!). Но Гегелева диалектика потому и могла в своём рациональном виде стать алгеброй революции, что она показала диалектический переход количества в качество, непрерывного в прерывное, постепенного изменения в скачок, и дала их диалектическое единство. В «Науке Логики» Гегель писал:
«Говорят: что нет скачков в природе,— обычное представление воображает,.. что, когда речь идёт о возникновении или гибели, то дело понято, если представить себе это, как постепенное развитие (Hervorgehen) или исчезновение. Однако выяснилось, что изменение бытия заключается вообще не только в переходе одной величины в другую, но также и в переходе от качественного в количественное и наоборот, возникновении другого, иного; в перерыве постепенности, в качественно ином по сравнении с преходящим, предыдущим бытием»[413].
Таким образом, диалектическая трактовка развития включает и постепенность, и скачки в их переходе друг в друга и в их единстве. Реальный исторический процесс и в природе, и в обществе, предполагает и то и другое, и ещё Сен-Симон делил эпохи на «органические» и «критические». Разве история земли, геологическая история, не знает катастроф, оледенений, землетрясений, «потопов», провалов суши, исчезновения воды и т. д.? Разве звёздные миры не знают падений планет и звёзд друг на друга? Разве общество не знает гибели целых цивилизаций? Разве оно не знает войн и революций? Да, наконец, присмотримся к Дарвиновой теории естественного подбора: разве она, несмотря на постепенность эволюции, исключает скачки? Возьмём появление приспособительного признака, конкретной особенности, которую «подхватывает» подбор. Она появляется «случайно»: Дарвинова закономерность есть закономерность отбора, необходимость, включающая «случайность». Но как происходит это появление признака? Как мутация, т. е. скачок. Далее, сам процесс отбора включает борьбу. Но когда идёт, например, война между муравьями, и один муравейник истребляет другой, это не скачок? И т. д. до бесконечности.
Осознание и теоретическое обобщение этих факторов заставляет нас трактовать процесс изменения, как диалектический процесс, т. е. и как процесс, объединяющий в высшем единстве прерывное и непрерывное, количество и качество, постепенность и скачок. Развитие в марксистском понимании не есть буржуазная «чистая эволюция»: это понятие шире, полнокровнее, богаче, истиннее, ибо оно больше соответствует объективной действительности, неизмеримо вернее отражает эту действительность.
Процесс эволюции вовсе, как мы видели много раньше, не однозначен: он включает и движение «вперёд», и «регресс», и движение по кругу, и по спирали, и застойные периоды, и гибель. Движение мира в целом есть движение «равнодушное» к «благу», как это ни прискорбно господам идеалистам, верующим, жаждущим сверхъестественного утешения и ободрения. Единство мира состоит не в единстве его «цели», не в едином «мироправстве его премудрого творца» (Гегель), а во взаимосвязанности всех его моментов, в его материальности, развивающей бесконечное многообразие своих свойств, в том числе и мышления, которое ставит цели. Жизнеощущение, интерес и прочее положены в самой жизни и её необходимостях, а не за пределами природы и жизни. Punctum.
Отсюда вытекает и ограниченность позитивистской доктрины о непрерывном прогрессе. Когда, например, Огюст Конт в своей «Социологии» распинается о всеобщем прогрессе, который продолжается без перерыва через все царство живого, начиная от простых растений и самых низших животных «и до человека, социальная эволюция» которого образует в действительности только «его заключительное звено», то тут правда перемешана с грубейшим упрощением. Человек действительно звено в природной эволюционной цепи. Общественное развитие действительно есть момент общего развития, как и все органическое развитие есть момент исторического процесса природы. Но представление о непрерывности прогресса ложно. Представление о всеобщем прогрессе ложно. Конт не видит ни перерывов, ни гибели, ни нисходящей линии развития. Это односторонняя точка зрения. С другой стороны, из положения Маркса о том, что действительное движение знает и спираль, и круг, и регресс, и остановку — нельзя делать скептического вывода по отношению к настоящему: здесь вопрос именно в конкретно-исторических условиях общественного развития (мы говорим в данном случае об обществе): всё — за то, что теперь победит социализм, и снимет путы с прогресса, которые наложил на движение вперёд гниющий капитализм; вся специфичность обстановки исключает возврат к исходным позициям, и суждения по аналогии с Римом, Грецией и т. д. (ср. Шпенглер) бесплодны, поверхностны, убоги и неверны. Диалектика превращения неумеренных поклонников бога прогресса и мрачных пессимистов сама коренится в безнадёжном положении не человечества, а капитализма. That is the question[414].
Гипотезы о тенденции ко всеобщей мировой статике (см. например, Петцольда: «Картина мира о точки зрения позитивизма»[415] суть только гипотезы, против которых можно выставить тысячу и один аргумент, и всерьёз брать никоим образом не приходится. Это — не всеобщая правильная «картина мира», ибо она раскрывает контртенденции, она одностороння и потому неприемлема.
Таким образом, весь мир понимается, как исторический процесс изменения, превращения его многообразных форм. Неорганическая природа уже сама по себе многообразна и развивает многочисленные, переходящие друг в друга, качества и свойства. Она исторически «порождает» органическую природу, относительно которой Эрнст Геккель в «Natürliche Schöpfungsgeschite»[416] писал, так характеризуя основные свои взгляды:
«единство действующих причин в органической и неорганической природе; последнее основание этих причин в химических и физических свойствах материи; отсутствие особой жизненной силы или какой-нибудь органической конечной причины (т. е. энтелехии, Авт.); происхождение всех организмов от немногих, в высокой степени простых исходных форм или первичных существ, которые возникли из неорганических веществ путём первичного самозарождения; связное течение всей истории земли и отсутствие насильственных и новых переворотов и вообще немыслимость всякого чуда, всякого сверхъестественного вмешательства в естественный ход развития материи»[417].
Как понимать диалектически единство закономерностей, и как диалектически понимать «основания», мы знаем,— у Геккеля здесь нет всей полноты и точности диалектического мышления. Но основное здесь верно. Идём далее: органический мир превращается в своём «последнем» земном звене в мыслящего человека, стадо которого становится обществом. Общество и есть антагонист, и часть природы, отнюдь не вырванная из общей природной связи. Оно «соподчинено» единой природной необходимости, оно развивается, как и все в мире, диалектически, в нём законы физики, химии, биологии, физиологии суть законы связи, но в трансформированном, снятом, виде оно имеет и свои специфические законы, которые суть «момент» в универсальной связи природы и являются специфическим проявлением необходимости. Таковы законы общественного развития. (О диалектике необходимости и телеологии было выше). Весь мир — в историческом изменении, и прав был старый Гераклит со своим известным изречением: «Всё течёт».
В заключении нельзя не напомнить ещё раз о В. Зомбарте («Proletarische Sozialismus», Во — 1), который утверждает, будто бы понятие диалектики в Марксовой теории развития бессмысленно, ибо у Гегеля речь идёт о противоречии и эманации, а у Маркса — о реальной противоположности, у Гегеля — о контрадикторном, а у Маркса — о конкретном, что якобы марксисты «ученически» смешивают («schulerhalte Verwechslung»). Как мы уже говорили, единственно правильно здесь одно лишь утверждение, что у Гегеля — движение понятий, а у Маркса — реальное движение. Всё остальное — поистине ученическая чепуха. Во‑1) Гегель — против эманативной трактовки; во‑2) у Гегеля есть и противоречие, и противоположность; в‑3) в диалектике Гегеля противоречие есть не что иное, как противоположность предмета с самим собою т. е. отрицание абсолютного закона тождества формальной логики; в‑4 диалектическое единство как раз и есть единство противоположностей. И т. д. И этот господин, эта перемётная сума, ещё ругается! Но таковы уж представители современной буржуазной науки.
Глава ⅩⅩⅩⅧ. О теории и истории
Непонимание диалектики играло (и играет ещё) большую роль в теории науки при обсуждении вопроса о теории и об истории. Существует доктрина, которая в разных вариантах противопоставляет теорию и историю, как абсолютную противоположность, не видя перехода одного в другое и диалектического их единства. Эту проблему как раз интересно поставить теперь, когда мы разобрали вопрос об историзме, об эволюции и т. д.
Риккерту принадлежит особая «честь» воздвижения баррикад между теорией и историей. В особенности в своей работе «Естественно-научное образование понятий»[418] этот автор выдвинул примерно следующие основные идеи: в науках о природе, где всё повторяется, речь идёт о схватывании общего, типичного, свойственного многому; метод науки здесь обобщающий, типизирующий, «генерализирующий»; наоборот, в науках о духе, где ничего не повторяется, где всё индивидуально, своеобразно, конкретно, речь может идти лишь о методе индивидуализирующем. Между науками о природе и науками о духе есть принципиальная разница, и их структура, а равно и их методы совершенно гегерогенны[419]. Или, в терминологии Винбельбанда: есть науки (о природе) «номотетические» (они выводят законы) и науки «идиографические», описательные (они описывают конкретное течение событий).
А Чупров-сын в нашумевших в своё время «Очерках по теории статистики»[420] ещё более углубил эту противоположность, но взял её не в разрезе основного деления на науки о «природе» и «духе», а в другом аспекте. Он выставил (вместе с рядом математических статистиков, в том числе известным немецким учёным Борткевичем) положение, что «индивидуальное» отличается не особым свойством, как своим непременным признаком, а нахождением в определённом месте в определённое время. Если, например, перед нами два (воображаемых) совершенно тождественных яйца, но мы мысленно следим за ними, то мы их всегда будем различать, т. е. индивидуализировать, ибо они занимают всегда в данное время разные места и не могут быть в одно время в одном и том же месте. Отсюда получается вывод, что индивидуализация связана с конкретным временем и конкретным методом, с положением в системе временных и пространственных координат. А отсюда, в свою очередь, распадение знания на две большие ветви: знание номографическое, которое выводит законы, т. е. нечто, независимое, от времени и места («вечные законы»), и знание идиографическое, которое связано или и с временем, и с местом одновременно (история такой-то страны за такой-то период, статистика народонаселения такой-то страны в такое-то время и т. д.); идиография тоже нужна и полезна, как и номография, это только другой тип знания.
Наконец, нужно упомянуть, что с лёгкой руки Родбертуса в политической экономии (через Тугана-Барановского и др.) укоренилась терминология, называющая логическими категории такого порядка, как средства производства (капитал в «логическом» смысле) и категориями историческими такие категории, которые свойственны только одному типу хозяйства, во всяком случае не всем его типам.
Всему этому противостоит утверждение Маркса (в «Немецкой Идеологии»), по которому, в сущности, есть одна наука, а именно история, которая распадается не историю природы и историю общества. И, действительно, если все находится в историческом процессе изменения, если всеобщее, универсальное движение есть, следовательно, исторический процесс, то немудрено, что и его отражение именно этот процесс и должно отражать.
Здесь несомненна крупная проблема, знания. Как же её решить?
Мы начнём с рассмотрения некоторых предваряющих вопросов.
Во-первых, о «законах» и «фактах». Бывают ли «факты», т. е. «вещи», «процессы» — вне закона, т. е. связи, отношения? Нет. Мы хорошо знаем, что всякое конкретное связано с абстрактным, единичное с общим, одно с другим, иным; что «вещи в себе», без всякого отношения к другому, это — пустая абстракция, ничто; что отношение и связь, т. е. закон, имманентны вещам и процессам. И, наоборот, бывают ли законы, связи, общее вне «факта», т. е. вне единичного, вещей, процессов? Конечно нет. «Отношение» и «связь» вне того, что относится и связано — тоже совершенно пустая, бессодержательная абстракция, «ничто». Закон, связь, отношение не есть нечто, стоящее рядом с вещами или процессами или над ними, не есть особая «сила» или особый «фактор», ими «управляющий», а форма бытия этих самых вещей и процессов. Связи и отношения могут быть более широкие и глубокие, менее широкие и глубокие, но они никогда не существуют «в себе»: их нельзя превращать в какую-то особую, в себе существующую реальность, стоящую над вещами,— такое представление (часто встречающееся) есть лишь утончённый вариант анимистической трактовки мира.
Во-вторых, о движении и покое. Покой мы должны рассматривать лишь как частный случай движения, как его «момент». На самом деле «всё и вся» находится в вечном безостановочном движении. А отсюда следует, что не только общество, но и природа, и весь мир находятся в состоянии исторического преобразования, исторического движения. Совершенно неверен поэтому уже исходный пункт риккертианской философии: в природе-де всё повторяется, в обществе — ничего не повторяется. Здесь только разные масштабы. Разве, например, земля не имеет своей истории? Разве её геологические периоды не представляют собою исторических и своеобразных периодов? Разве здесь нет на каждом историческом шагу нового, конкретного, своеобразного, специфического? Конечно, есть: состояние земли, как расплавленной массы и теперешнее её состояние, исторически образовавшееся, не одно и то же (см. Канта: «Всеобщая история и теория неба» А.). Геология — насквозь исторична. А биология? Что такое вся эволюционно — биологическая теория? Разве речь не идёт здесь об образовании всё новых и новых видов и форм, т. е. о тех «неповторимых», «конкретных», «своеобразных» моментах, о которых говорит Риккерт? Если на это скажут, что здесь «особенное», а не «единичное», то следует возразить, что здесь можно дойти и до единичного; и что здесь дело обстоит точно так же, как и в обществе: «особенное» — «способы производства», «формации»; «единичное» — ещё более дробные связи и соотношения между людьми в потоке исторического процесса.
В-третьих: и в природе, и в обществе есть и единичное, и особенное, и общее; и в природе, и в обществе есть и неповторяемое, и повторяемое; если мы, например, имеем историческую смену периодов на земле, то это смена эпох, из которых каждая имеет свою индивидуальность; но процесс остывания земли «повторяет» процесс остывания луны; процесс остывания Марса «повторяет» процесс остывания земли и т. д.— тут проявляется «общее». Но то же самое и в истории: такие типы общественных структур, как феодализм или капитализм, встречаются в разных странах, и «фазы развития», при всех своих индивидуальных особенностях, имеют «общее». «Индивидуальных особенностях»? Да! Но они есть и в природе: луна не тождественна земле, земля не тождественна Марсу и т. д.
Значит, и с этой точки зрения теория Риккерта благополучно проваливается. Но идём дальше. В риккертианской концепции ясно звучит нота, будто «законы природы — вечны», а история, по самой «природе» — нечто бренное и преходящее. В связи с этим, науки о природе и являются воплощением теории, номографического знания. Другое дело — вечное творчество истории, здесь всё соотносится с «ценностями», «культурными ценностями» — так вползает телеология.
Разберём вопрос о законах и с этой стороны. Закон есть необходимое соотношение; если есть А, В, С, α, β, то есть (или наступает) X. Здесь мы не будем останавливаться на разных видах необходимости (функциональная зависимость, казуальность и т. д.), ибо в данном случае это безразлично, важна необходимая связь. Итак, если есть первая половина формулы, то необходимо есть и вторая. И это всюду и везде. Но тут и обнаруживается, что этакая «вечность» годится и для всякого общественного закона, например, закона централизации капитала. Сформулируем его так: если есть конкуренция капиталистов, т. е. момента А, В, С, α, β, то крупные будут побивать мелких и наступит X (факт централизации). Где бы ни обнаружились и когда бы ни обнаружились группы условий (и причин), соответствующие первой половине формулы, всюду наступит X. То есть, другими словами, исторический, общественно-исторический, общественно-исторический закон в этом смысле «вечен» и «независим» от времени и места. Однако, это есть абстрактная постановка вопроса. В действительности условия и причины (первая часть формулы) связаны с местом и временем, они историчны, хотя временные масштабы могут быть гигантски огромными, так что самая историчность может ускользать от нашего внимания. Закон расширения тел при нагревании, как мы видели, превращается в свою противоположность в астрофизике, в условиях громадных температур и давлений. Это значит, что «вечный» закон физики на самом деле историчен и связан с местом и временем, ибо связан с наличностью совершенно специфических условий. Исторически закон сжимания тел (исторический закон) сменяется законом расширения тел при повышении температуры (т. е. другим историческим законом). Но так как в привычных условиях, для человеческих обычных масштабов, такая «история» практически, можно казать, не существует (т. е. не входит в сознание, не отражается, хотя объективный процесс налицо), то и создаётся иллюзия вечности законов природы, в смысле их неисторичности, и историчности одних только бренных законов истории, человеческой истории.
На этой иллюзии и покоится в сущности абсолютное противопоставление теории и истории. Так как писать историю Космоса мы ещё не можем, а его исторические законы представляются «вечными», то это — область теории par excellence[421]. Между тем, из всего нами вышесказанного вытекает и вся относительность противопоставления. Всеобщ и абсолютен сам диалектический всеобщий процесс. Отсюда вечность закона движения, как такового и общих законов этого движения, в меру нашего познания охватываемых, как закон необходимости, как закон диалектики. Но уже в физике, как мы видели, вступает в дело историчность. Законы органического мира историчны. Однако, поскольку органический мир существует длительно, можно вывести его общие законы. Это теория. Но эта теория исторична: ибо где происходит дело? На земле. Когда? В те эпохи, когда вообще на земле возможна жизнь. Следовательно, здесь «номография» связана и с местом и временем, но и место, и время — в таких масштабах, что они не чувствуются, как исторические моменты, хотя здесь они осознаются больше, чем в случае с законом расширения тел, ибо земля «ближе», чем звезды, и история земли, так сказать, ощутительнее для человеческого сознания от его теперешней стадии развития. Поскольку общая биология переходит от общего через особенное к единичному, она развёртывается в историю (скажем историю видов). Но: теория исторична, а история теоретична. Теория исторична, ибо она охватывает историческую полосу бытия (такой исторический «момент», когда вообще на земле есть органическая жизнь); поэтому теория есть сама «момент» более универсальной истории. С другой стороны, история теоретична, ибо она не есть груда, агрегат «фактов в себе», а включает связи, сочинения, законы. Возьмём, далее, такую область знания, как политическая экономия. «Капитал» Маркса — образец теоретического исследования, в общественных науках он составил эпоху, и его теоретической мощи и теоретического существа не отрицают, не могут отрицать, даже заклятые враги. «Капитал», это — не история капиталистических отношений во всей её конкретности, И, однако, он историчен до мозга костей: все его категории — насквозь и сознательно исторические категории: таковы категории товара, денег, ценности, прибавочной ценности, капитала, прибыли, ренты, процента и т. д. Задачей своей Маркс ставил вскрытие «закона движения» капитализма, как особый, специфически исторической, фазы в развитии человеческого общества. Наконец, все движение категорий у него исторично, например, движение товара, денег, капитала и т. д. Значит, здесь теория исторична. Но, если мы прилагаем Марксову теорию к разработке истории капитализма, скажем, в Англии или Соединённых Штатах, то эта история будет теоретична. Законы капитализма связаны и с местом, и с временем (они — законы капитализма, т. е. временного явления). Но в истории капитализма и место и время берутся в других масштабах, по другому: ибо здесь переход от всеобщего через особенное к единичному, развёртывание всей (связной) картины становления в её конкретной полноте, которая в теории заключается лишь in nuce, в неразвёрнутом, страшно конденсированном виде, in potentia, δυναμει.
Попытки Макса Вебера, одного из самых выдающихся учёных, которого смогла выдвинуть за — не скажем «последнее», а лишь «предпоследнее» — время буржуазия, попытки построить для общественных наук «идеальные типы» — есть лишь идеалистически окрашенный и извращённый слепок с Марксовых общественных формаций. Маркс блестяще решил задачу, ибо он решал её диалектически, а живой дух диалектики уже давно отлетел от буржуазных идеологов.
Так решается вопрос о соотношении между теорией и историей.
Концепция Риккерта, о которой мы говорили выше, концепция, абсолютно противопоставляющая «науки о природе» «наукам о духе», имеет своей целью доказать, что закономерности истории — принципиально иные, чем закономерности природы: тут-де творчество неповторяемого, нового, индивидуального, чего нет в природе; тут-де творящий дух человека, а поэтому речь идёт о совсем другом; уже самый отбор фактов, о которых говорит история, есть-де отбор по известным критериям оценок: важным считается то, что имеет «культурную ценность» (Kulturwert), то есть то, что соотносится с ценностью, как с моментом телеологическим. В этой новой (теперь уже, впрочем, весьма старой — так быстро течёт время!) телеологической концепции, которая породила целую гору рассуждений о науках общественных, как «целевых науках» «Zweckwissenschaft» мы видим лишь вариант всё того же лейтмотива: общество вырывается из общей универсальной связи природы. Несмотря на все крики об истории, все общество не понимается, как исторический момент самой исторически меняющейся природы, а берётся вне этой связи. О диалектическом соотношении между обществом и природой нет и помину. На диалектическом соотношении между необходимостью и телеологией нет и намёка. О том, что «культурные ценности», как телеологический момент, суть сами проявления общественной необходимости, которая, в свою очередь, есть специфически-общественное выражение более общей, природной, необходимости, нет и речи. Всё движется в ограниченных, малых масштабах, измерениях, соотношениях. Вот эта ограниченность и тупость, односторонность рассудочного мышления и не могут быть положены в основу истинно-философских построений. И здесь вопрос решает только материалистическая диалектика, верно отражающая объективную диалектику исторического бытия.
Глава ⅩⅩⅩⅨ. Об общественном идеале
Маркс однажды заметил, что пролетариат не умеет осуществить никаких идеалов. Этим Маркс, конечно, отнюдь не думал отказываться ни от социализма, ни от положительной оценки этого последнего, оценки, со всех точек зрения: экономической, культурной, «духовной» и т. д., что доказывается целым рядом его работ. Но своей формулировкой он хотел самым резким и решительным образом отгородиться от той «моральной», «этической» и всякой иной внеисторической болтовни, которая, например, в так называемом «истинном социализме», проповедовавшем в условиях ожесточённой классовой борьбы всеобщую сентиментальную любовь («социализм старых баб»), могла привести лишь к развращению, расслаблению, дезорганизации действительной борьбы за действительное дело. Маркс подходит к вопросу объективно и исторически. Объективно не в смысле буржуазного объективизма, не видящего тенденций, ведущих в будущее, а в более широком смысле, т. е. в более объективном смысле, чем обычный объективизм. Объективно, далее, не в том понимании, что здесь ускользает сам субъект, а в том, чтобы и субъективно-телеологическом открыть необходимое в его исторической формулировке. Эту диалектику, как высшую точку зрения, никак не могли понять ни буржуазные учёные, ни идеологи мелкобуржуазного социализма: исписаны моря чернил, чтобы превратить Маркса то в фаталиста, то в человека, в котором заключено разом два человека, то в доктринёра-утописта и пророка, на манер иудейских пророков проповедующего новую «сотериологию», новое учение о «спасении» (Зомбарт и Ко).
Основой у Маркса является научно-исторический, материалистически-диалектический подход к предмету. В тенденциях развития капиталистического общества он видит его неизбежную гибель и переход в высшую фазу, с опосредствующим процессом революции, носителем которой является пролетариат, движимый своим интересом. Таково уж положение этого класса, и тут нет ровно ничего мистического и сверхъестественного. При переходе от феодализма к капитализму аналогичную роль играла буржуазия, с её интересами, которые она формулировала, как всеобщий интерес, в абстракциях «свободы, равенства, братства», в сочинениях Монтескьё и Руссо, Бенжамена Констана и Кондорсе, разрушая теологию феодализма в авангардных сражениях энциклопедистов. Маркс не только разрушил все иллюзии идеологического порядка, дефетишизировал все фетишистские категории, понятия, системы, вскрыл реальные движущие пружины развития, обнажил материальные интересы, но и навсегда разрушил рационалистический, т. е. ограниченно рассудочный, подход к историческому процессу, подход, который будучи исторически обусловленным, был логически враждебен всякому историзму.
Все рационалистические «идеалы» исходили из предпосылки о неподвижных, истинных «законах» (в теологически-телеологических системах это, как мы видели, совпадает с божественной целью, с высшим «благом»). Познав эти законы (божественную цель или — в совсем другом варианте — «естественный порядок», соответствующий «естественному праву») и построив на их основе идеальное общество, можно получить вековечную, устойчивую «гармонию», живя согласно «разуму» или согласно «природе».
Этот взгляд извращает и самоё понятие закона, и страдает полным отсутствием какого бы то ни было, хотя бы плохонького, историзма. Вырастающие на такой основе идеалы суть рационалистически-статические утопии, утопии неподвижного «идеала», как конца истории, как абсолютного состояния, совершенного и неизменного, в котором прекращается течение исторического процесса, так как найдено «соответствие природы», точно эта природа — внеисторична!
Но, как сказано, эти антиисторические идеалы-утопии сами были исторически обусловлены, и за ними стояли определённые материальные условия существования. Живые классы и живые интересы, к сожалению, не всегда верно понимаемые и оцениваемые со стороны историков.
Утопии античные, типа «Государства» Платона, были утопиями рабовладельческого класса, утопиями рабовладельцев. Они вырастали на базисе этого общества, разъедаемого денежным хозяйством, ростовщичеством, торговлей, купеческим и денежным «капиталом», обострением классовой борьбы между торговой демократией и землевладельческой аристократией, борьбой между городами-государствами, нарастанием мятежей рабов, большими войнами с внешними врагами. Уже софисты и Сократ выражали глубокий общественный, политический и моральный кризис и распад античной Греции. Платоновская утопия воплощала идеал не рабов (эксплуатируемых, которые у него отнюдь не освобождались, а, наоборот, брались в железо!), не свободных городских ремесленников, не торговой демократии, а именно «добродетельных», со старой традицией, аристократических, преисполненных «древнего благочестия» патриархальных землевладельцев-аристократов-рабовладельцев. Критика частной собственности, денег, семьи и т. д. велась с позиций критики торговой собственности, с позиций землевладения, поднимающегося idealiter[422] до государственного землевладения и государственного рабовладельческого хозяйства Древнего Египта (и в его философии есть египетские мотивы, например, в учении о воспоминании — мотив переселения душ), Основа — эксплуатация рабов — оставалась у Платона в полной неприкосновенности. «Божественный» Платон здесь не шутил! Мы знаем, что во времена Платона были, к сожалению, до нас не дошедшие, другие «утопии»; что бродили мысли о равенстве рабов: мы видим, как, например, Аристофан изображает эти идеи в карикатурном виде, всячески над ними издеваясь. И можно предполагать, что «божественный» своим «Государством» хотел также «перекрыть» подымавшиеся снизу «субъективные» освободительные тенденции. Недаром к Платону и Маркс и Энгельс относились совсем не так, как, например, к Аристотелю. Недаром Ленин упрекал Гегеля: «Подробно размазывает Гегель „натурфилософию“ Платона, архивздорную мистику идей, вроде того, что „сущность“ чувственных вещей суть треугольники»[423] и т. п. мистический вздор. Это прехарактерно! Мистик-идеалист-спиритуалист Гегель (как и вся казённая, поповски-идеалистическая философия нашего времени) превозносит и жуёт мистику-идеализм в истории философии, игнорируя и небрежно третируя материализм. Ср. Гегель о Демокрите — ничего!! О Платоне тьма размазни мистической.
Но философия Платона теснейшим образом связана с его политической утопией, и, наоборот, эта последняя теснейшим образом связана с его философией. На разъедающий скептицизм, релятивизм, вольнодумство, иногда безбожие софистов Платон надевал железную узду «всеобщего», «идеи», «бога». На индивидуализм, на распадающиеся социальные связи он надевал в «Государстве» колодки рабовладельческой и хорошо продуманной политической концепции.
«Главная мысль,— пишет Гегель.— лежащая в основе платоновского „Государства“, …это именно та мысль, что нравственное носит вообще характер субстанциональности и, следовательно, фиксируется, как божественное».
Отдельные лица должны здесь действовать «спонтанно из уважения, благоволения к государственным учреждениям»[424], т. е. государству рабовладельцев. Этому служит конституция Платона, с его тремя сословиями, с олигархией правителей и воинов, с порабощением ремесленников и др. с дикой эксплуатацией рабов, с сознательным увековечением классов (под видом «сословий»), с коллективной собственностью рабовладельцев (и не общественной собственностью! это не одно и то же! это не одно и то же!), с распределением «добродетелей» по сословиям (на третье, трудящееся, сословие падает добродетель… умеренности. Власти над вожделениями и страстями!), с воспитанием детей в классовых рамках, с уничтожением всякой индивидуальности и групповой свободы, от политики до совокупления (это на языке Гегеля называется «исключением принципа субъективности»). Силы развития (и разложения) античного общества ни с какой стороны не шли по этой линии: «идеалу» не удавалось осуществиться. Но такова ирония истории, что критика частной собственности сделала платоновское «Государство» источником идей, вернее, подкреплением идей совсем других времён и других исторических «смыслов» (например, для «Утопии» Т. Мора).
Средневековые крестьянские утопии, идеалы ремесленников и подмастерьев не имеют философского значения, ибо опираются, большей частью, прямо и непосредственно на «священное писание». Но их практически-политическое значение было огромно. Они воплощали чаяния и интересы огромных масс и были идеологическим знаменем грандиозной крестьянской войны, полыхавшей в ряде стран в течение многих лет. Различные «секты» и направления (табориты, моравские братья, гернгутеры, богумилы, катары и т. д. и т. п.) были, по существу, различными политическими фракциями трудящихся масс, и их вожди, вроде казнённых Томаса Мюнцера, Иоанна Лейденского и других заслуживают благодарной памяти освобождающегося человечества наших дней, вопреки лассальянской оценке крестьянской войны, оценке, шедшей из того же источника, откуда шло и кокетничанье Лассаля с Бисмарком.
Утопия великого мученика Кампанеллы имела черты антихроматистической и антикапиталистической идеализации монастыря, черты идеала теократического, сублимации католической иерархии (хотя этот момент был даже в утопии автора «Гаргантюа», Рабле[425], плотские вожделения которого известны). Но в то же время в ней уже била другая струя. Не забудем, что Кампанелла знал Томаса Мора, что автор «Утопии» чрезвычайно сильно на него влиял. Не забудем также, что Кампанелла — итальянец начала ⅩⅦ века, что Италия была первой страной капитализма, что сам автор «Города Солнца»[426] прямо бичует господствующих и возмущается эксплуатацией неаполитанских рабочих, (они «истощают себя непосильным трудом, праздные гибнут от лени, скупости, болезней, разврата» и т. д.). Здесь, как и у Мора, уже труд ставится во главу угла. И в то же время руководит всем «Папа-Метафизик», воплощение всех знаний (позднее Кант вообразил себя именно таким «Папой-Метафизиком», без этих слов, конечно!), с тремя помощниками: Мудростью, Любовью и Могуществом, причём всё решительно — пища, одежда, любовь и т. д.— регламентируется:
«Произведение детей есть дело республики» и «Любовь», как один из триумвиров, «специально занимается всем, касающимся произведения детей, т. е. имеет в виду, чтобы половой союз давал всегда самое лучшее потомство».
При всём том и у Кампанеллы есть много очень интересных моментов (в области премий за успехи в соревновании, в области педагогики и т. д.). Это одна из ранних ласточек утопического социализма; здесь причудливо переплетаются совершенно разнородные моменты.
Но в Италии до Кампанеллы жил творец «Discorsi» и «IL Principe» Никколо Макиавелли[427]. У него был тоже идеал, но этот идеал отнюдь не был утопией: наоборот, здесь всё построено на холодном и трезвом учёте сил и средств, на беспощадном выявлении и циническом использовании цинических отношений, на полном изничтожении всей и всяческой морали. Речь идёт об идеале торгово-промышленной буржуазии итальянских государств, в эпоху раздробленной Италии (ⅩⅥ в.) и т. н. «феодальной реакции». Трезвый классовый анализ, понимание того, что движущим мотивом является интерес («имущество» и «честь», особенно «имущество», «robba», и «честь», как «почести», «onori», связанные с государственной властью), что общество распадается на классы («dissunione») и что в нём «два различные устремления» (umori diversi): одно — народное, другое — «высших классов», совершенно исключительный анализ восстания «чомпи» (первого рабочего восстания) в «Истории Флоренции», сводка норм поведения в «Principe» и «Discorsi» — в своём роде неподражаемы. Морально-политическая сторона выражена со всей откровенностью в следующем отрывке «Discorsi»:
«Когда речь идёт о спасении родины, должны быть отброшены все соображения о том, что справедливо и что несправедливо, что милосердно и что жестоко, что похвально и что позорно. Нужно забыть обо всём и действовать лишь так, чтобы было спасено её существование и осталась неприкосновенной её свобода».
В «Principe» даются по этому поводу советы, оправдывающие всякое коварство и преступление ради этой цели, советы «князю» быть «лисицей» и «львом» (гл. ⅩⅧ), обманывать, лгать, притворяться, прибегать к кинжалу и т. д. Эта «нормативная» часть удивительно напоминает старинные эзотерические[428] индусские сборники, издававшиеся в поучение будущим властителям (ср., например, сборник «Артхашастра», а также — в облагороженной форме — литературу о «Staatsraison» позднейшего происхождения. Но у Макиавелли ценна аналитическая часть, и недаром Маркс высоко ставил этого политического мыслителя. Что касается нормы «цель оправдывает средства», то она для широких движений и прочных завоеваний нецелесообразна, ибо она дезорганизует прежде всего тех, кто её применяет. Это — обобщённая практика клик, котерий[429], в затхлой и замкнутой атмосфере; это — целесообразность для политических однодневок, в условиях политической чехарды. И если Гегель «одобрял» в «Философии Истории» «Principe», то он говорил там о специфических условиях эпохи и о позиции тех сил, которые выражал Макиавелли, требовавший «расправ» с «plebs», т. е. с простонародьем, во имя интересов т. н. «popolo», т. е. буржуазии. Его идеал — идеал диктатуры именно этого класса; его «родина», это — родина торгово-промышленной буржуазии, объединяющей Италию в борьбе с феодалами и держащей в железе плебс.
Общественный идеал времён французской революции был воплощением рационалистической утопии: «естественный порядок»; «общественный договор» Руссо; «свобода, равенство и братство»; тезис о том, что «свободная игра сил» даёт и наилучший результат и прочее, все это, если брать всерьёз слова, лозунги, концепции, то есть брать их в их буквальном значении, оказалось идеологическим мифом. Но за этим скрывалось серьёзное реальное содержание: свобода эксплуатации, свобода конкуренции, формально-демократическое равенство перед законом, свобода от всевозможных феодальных пут и оков, формальная независимость товаропроизводителя, нового, буржуазного «экономического человека» и т. д. и т. п. Это было реальным содержанием «общественного идеала» буржуазии, которая чистила авгиевы конюшни феодализма руками мелкобуржуазно-плебейской якобинской диктатуры. Буржуазия завоевала себе власть, капитализм расчистил себе пути и стал развёртывать свои собственные внутренние противоречия разверзлись его бездны, рост нищеты и богатства, кризисы, поляризации классов. И первым идеологическим вздохом ещё неоформившегося молодого пролетариата был утопический социализм. У Сен-Симона и Фурье имеется гениальная критика капитализма, особенно у Фурье, и поистине пророческие прозрения. Но утопический социализм не видел путей развития, реальных движущих сил. Его построение висело в воздухе: его тактика (если вообще можно говорить о ней) была беспомощной, а апелляция Фурье к сильным мира сего была фантастически-жалкой. Тем не менее, заслуги их бессмертны: они дали критику капитализма, они выставили — пусть в детской форме — социализм как цель.
Совсем иначе подходили к вопросу Маркс и Энгельс. Маркс, уже создал материалистическую диалектику и исторический материализм в его основных чертах, в «Капитале» с необыкновенной научной добросовестностью раскрыл своеобразные «законы движения» стихийно развивающегося капиталистического общества: эта работа подтвердила то, что было раскрыто ещё в «Коммунистическом манифесте», подтвердила всей полнотой богатейшей научной аргументации. Исторические тенденции капитализма были открыты, его необходимость была познана; условия, детерминирующие волю классов, были обнаружены, неизбежный крах и переход через революцию к диктатуре пролетариата был предсказан, как и дальнейшее движение к коммунизму. Ведь, это факт, что несколько десятков лет назад ещё смеялись над словами «капитализм» и «пролетариат». Ведь, это факт, что тысячи тысяч раз «опровергали» теорию концентрации и централизации капитала, теорию кризисов, обнищания масс, роста противоречий капитализма вообще. Ведь, это факт, что издевались над «пророчеством» о диктатуре пролетариата и т. д. И тем не менее всё это оправдалось. Жизнь и практика целиком подтвердили теорию: Маркс за сто лет вперёд видел события: читайте сейчас даже «Коммунистический Манифест»[430]. Это — научное ясновидение! «Идеал» у Маркса был выводом из научного анализа, и вся стратегия, тактика, организация сил у Маркса, а затем у Ленина и Сталина, всегда и всюду опирались и опираются на научную разборку эпохи, полосы, моменты. Подход к «идеалу» историчен, конкретен, диалектичен. И это, конечно, вздор, будто у Маркса социализм — неподвижный абсолют: он развивается к коммунизму, и коммунизм развивается, а не стоит на месте (мы уже говорили это при трактовке вопроса о свободе и необходимости). Движение всегда имеет далёкую цель: оно глубоко принципиально. Но цель эта в своих конкретных определениях раскрывается исторически, и точно также историческим критерием освещается «каждый шаг действительного движения».
Всё это далеко от немарксистских постановок вопроса. Между утопическим социализмом и научным коммунизмом Маркса в этом отношении — целая пропасть. Но вот, например, позитивистский социализм автора «субъективной социологии» П. Л. Лаврова («Из истории социальных учений»). Посмотрите, какие научные «законы социологии» он выводит:
№ 1. «…Здоровое общество есть то общество, в котором господствует кооперация, а не эксплуатация».
Очень почтенная истина! Но разве это закон развития? разве тут есть хоть гран науки? Разве тут хоть намёк на историчность? Пустая абстрактная фраза, которую попросту сказать надо так: эксплуатация — вещь плохая. И точка. А если здесь что-либо большее, то оно — просто нечто детское. В самом деле: все формы общества, за исключением первобытного коммунизма, объявляются больными, ненормальными, нездоровыми. Ну, а что же, движение от первобытного коммунизма было прогрессивным или не было? По-видимому, не было. Значит, нужно было бы оставаться на положении дикарского стада? И это «закон»!
№ 2. «При современном развитии личностей, здоровое общество есть общество, прогрессирующее в постройке своих форм, а не успокоившееся на определённой системе привычек» (это у Лаврова «третий реальный закон социологии»).
Ну, что сказать по этому поводу? Во-первых, о каких современных «личностях» идёт речь? Абстракция личностей здесь пуста и бессодержательна. А что касается всего закона, то он гласит, если вдуматься: здоровое, т. е. хорошее общество есть общество прогрессирующее, т. е. в котором всё идёт вперёд, т. е. хорошо. Удивительно богатый закон! Или: лучше идти вперёд, чем топтаться на месте. Тоже «закон»!
№ 3. «Лишь приближаясь к приёмам научной критики, можно открыть настоящее руководство для перестройки общественных форм путём реформ или (!) путём революции в виду здорового общественного развития» (это — «новый закон социализма»).
Чтобы действовать хорошо, нужно опираться на научную критику. Очень почтенно. Не на такую ли, исходом которой являются два первые «закона»?
№ 4. «Руководством для перестройки общественных форм и для общественной деятельности личности могут быть лишь реальные элементарные потребности человека в их гармоническом развитии, подчинении и соглашении»[431].
Это — верх премудрости! Нужно удовлетворять реальные потребности — поистине гениальное открытие. Но почему же только элементарные? И что это за протагоровский человек, который служит их научной мензуркой? И в чём состоит их «подчинение» и т. д., если они и без того элементарны? И что вообще это за «закон научной социологии», когда он выражает лишь пустое и формальное общее правило, что хорошо кушать, спать, и т. д., читать газеты (или это уже неэлементарно)?
А, ведь, Лавров — глава целой школы, направления, крупный учёный, большой эрудит! Мы остановились на нём, чтобы ярче оттенить всю разницу в подходах к проблеме у Маркса и других.
Но довольно уже возиться с этими другими, тем более, что все это tempi passati[432]. Современность даёт нам в вопросе об общественных идеалах забавную картину: если на заре капиталистического развития у буржуазии был строй, а пролетариат ещё только строил утопии, то теперь у пролетариата уже есть строй, а буржуазия, теряя свой гниющий строй, занимается производством утопий «планового капитализма», «без веры в себя», «окаянный старик», как честил её когда-то Маркс. Но увы — тут уже нет ни полёта мысли, ни оригинальности, ни перспектив. Фашизм усиленно выдаёт свою государственно-капиталистическую казарму за «социализм» во главе с капиталистами и ищет свой общественный идеал позади, а не впереди, в прошлом, а не в будущем, точно в прошлом эти «идеалы» уже не были вдребезги расколочены жизнью. Организуя все бестиальные силы и бестиальные идеи прошлого, он думает победить мир, раскрывающий энергии сотен миллионов! Так развивается историческая эпоха реального роста социализма и гибели ниспадающего в утопию обречённого капитализма.
Социализм же идёт вперёд: растут его производительные силы, растёт его плановая организованность, растёт материальная культура, заполняется пропасть между городом и деревней, заполняется и другая пропасть — между умственным и физическим трудом; миллионы повышают уровень своей жизни с величайшей быстротой; повышают свою техническую культуру, расширяют свои духовные горизонты, развивают заложенные в людях способности, приобщаются к науке и искусству и творят их, воспитывают волю, характер, творческую страсть; здоровеют и крепнут телом, создают новую семью, работают и мыслят; растёт в то же время и организованность целого, т. е. социалистического общества; и с каждым днём создаются все новые условия для всё более богатого дальнейшего развития. Свобода развития — самая драгоценная свобода — стала впервые в истории фактом для многих миллионов людей.
Глава ⅩⅬ. О Ленине, как философе
Ленин был гением классовой борьбы. Но классовая борьба, по определению Энгельса, есть борьба экономическая, политическая и теоретическая. Классовая борьба, как революционная практика, как научная революционная практика, предполагает и теоретическое познание. Ленин был вполне конгениален Марксу, и объединял теорию и практику, был величайшим мастером диалектики, как науки, и диалектики, как искусства: мысль и действие у него были одинаково совершенны. Оттого Ленин определил собою эпоху, точно также как эта эпоха определила его, воплотилась в нём, нашла себе в нём своего замечательного выразителя.
Что нового внёс Ленин в дело развития философской мысли вообще, марксистской философской мысли — в частности и в особенности? Ленин выступил на своём философском поприще впервые со своей книгой «Материализм и эмпириокритицизм». Известна обстановка того времени: период реакции после поражения декабрьского восстания. Массовый отход интеллигенции от революционного движения. Идейный разброд. «Духовная реакция». Религиозные искания, эротика. Увеличение части марксистов «современной философией», позитивистским агностицизмом, «реализмом», т. е. идеализмом Маха, Авенариусом, прагматизмом, даже «богостроительством». В этих условиях книга Ленина была набатным звоном, собиравшим армию вокруг знамени, знамени диалектического материализма. Логическим центром проблемы была проблема реальности внешнего мира. И новым, что внёс сюда Ленин, было то, что он эту проблему решал на основе данных современного естествознания, главным образом, физики, переживающей кризис и в то же время беременной величайшими открытиями. Со времён Канта, который много и упорно работал в области естествознания, и после ликвидации т. н. «натурфилософии», теоретическое естествознание разомкнулось с философией. Но эмпириокритическая струя, и в первую очередь, Эрнст Мах, вновь подняли среди философов интерес к естествознанию. Рос так называемый «физический идеализм» под видом преодоления «метафизики», в сферу которой отсылается и материализм. Ленин напал не столько на кантианцев, сколько именно на эмпириокритиков, и впервые в марксистской литературе серьёзно занялся философскими проблемами теоретического естествознания: впервые, ибо после «Анти-Дюринга» не было крупных марксистских работ на относящиеся сюда темы. «Диалектика Природы», замечательная работа Энгельса, не была опубликована филистерами германской социал-демократии и лежала в архивах. Крупнейший материалист — Плеханов, победоносно боровшийся с влиянием Канта в социал-демократических кругах, совершенно не занимался вопросами естествознания. А занимавшиеся ими перешли на позиции эмпириокритицизма. Таким образом, Ленин был единственным марксистом, выступившим против эмпириокритицизма (в его лице против всех видов идеализма и агностицизма) на основе обобщений теоретического естествознания. Мы видели уже в специальной главе, кто в этом споре оказался прав. Всё последующее развитие физики и химии блестяще показало правоту Ленина, правоту диалектического материализма, по основным вопросам спора. Экспериментальная практика и развитие физической теории доказали реальное существование атома, электронов и т. д. Величайшей заслугой, настоящим научно-философским подвигом Ленина является этот победоносный бой за утверждение материального мира, этот разгром основных позиций физического идеализма. Книга, которая при всём своём появлении на свет ходила, главным образом, по рукам подпольных работников тогдашней социал-демократии, много лет спустя приобрела мировую известность, и корифеи физической теории, вроде Макса Планка, и такие выдающиеся физики-эмпирики, как Филипп Франк, должны были определять свои позиции по отношению к Ленину: мы не говорим уже о русских физиках, которые все прошли через очищающий огонь ленинской критики. Книги Ленина стала теперь центром тяготения всех физиков-материалистов. Это есть факт, и факт огромного значения. Её мировое влияние неоспоримо. Здесь Ленин выступает как мыслитель, перевернувший новую страницу в истории философской мысли, а сам марксизм получает своё внутреннее обогащение, развивает свою познавательную мощь.
Диалектический материализм в этой книге выступает с ударением на материализме. Но было бы неверно думать, что диалектический момент здесь слабо представлен, хотя Ленин в «Философских тетрадях» и не выделяет себя из числа марксистов, критиковавших эмпириокритиков «больше по-бюнхеровски» В самом деле, разве не блестяще-диалектически разрешена в этой книге проблема относительной и абсолютной истины? Разве не показана диалектически относительность самого релятивизма? Разве не дан диалектический переход одной противоположности в другую? Познание, как бесконечный процесс, превосходно отображено здесь в его диалектическом движении. Вообще же, в пределах вопроса о реальности внешнего мира и его познаваемости, Лениным особо развиты, поставлены и аргументированы, такие проблемы:
1) Реальность внешнего мира. Здесь новое — прежде всего, связь с теоретической физикой, постановка и решение соответствующих проблем.
2) Материал. Материя в философском и материя в научном смысле слова в их взаимоотношении и единстве.
3) Теория отражения. Здесь Ленин сделал огромный скачок вперёд. Можно сказать, что он, на основе всех завоеваний науки предложил теорию отражения, как она была сформулирована Энгельсом; важным пунктом является разбор и опровержение кантиански окрашенной «Теории иероглифов» Г. В. Плеханова.
4) Учение об истине. Блестящий анализ вопроса об относительной и абсолютной истине. Новый вопрос и его новое решение: о соотношении критериев истины; как критерия соответствия с действительностью, как критерия практического, как критерия «экономического».
5) Вопрос о реальности внешнего мира, о самом бытии объективного, в марксистской литературе с такой силой вообще ставился в первый раз. Это понятно. Ибо основоположникам марксизма, самому Марксу и Энгельсу приходилось бороться с объективным идеализмом, с идеализмом Гегеля, который был противником даже субъективизма Канта («дурной идеализм»), хотя Кант и признавал бытие внешнего мира, как «вещей в себе». Марксу и Энгельсу приходилось ниспровергать «идеальную» структуру объективного бытия, переводить его в материальное, а не доказывать нелепость отрицания самого бытия. Наоборот, Ленину нужно было выдержать победоносное сражение с субъективным идеализмом, тяготеющим к солипсизму; если кантовский идеализм — «дурной», то этот идеализм — «дурнейший». Поэтому разработка проблемы реальности внешнего мира и материальности его субстанции, разработка на основе и в связи со сложными проблемами теоретического естествознания, была крупным шагом вперёд и для теоретической физики, и для философии вообще, и для философии марксизма, т. е. для диалектического материализма — в особенности. Ленину пришлось переворошить всех покойников, начиная от Беркли и Юма, и, учиняя разгром субъективного идеализма и солипсизма, выдвинуть на сцену практику, как непосредственный прорыв в сферу объективного бытия, объективного мира. Об убедительности аргументов, об эрудиции, о революционной страстности и величайшем познавательном оптимизме работы Владимира Ильича нечего и говорить: в этом отношении книга — благодарнейший «человеческий документ», выражение того класса, которым так блестяще руководил покойный учитель.
Вторым центром философской мысли Ленина являются его знаменитые «Философские Тетрадки», изданные уже после его смерти. Это — не цельное произведение. Это — «Randglossen», заметки на полях, реплики, комментарии, отдельные фрагменты, беглые записки мыслей «en lisant Hegel», как выражается сам Ленин, т. е. «при чтении Гегеля» (главным образом Гегеля). Здесь нельзя искать связного и обработанного изложения, систематизированных идей. Но зато это — лаборатория мысли, интимная сторона, «святая святых», эзотерическое существо, вплоть до «самокритики». Этим «Тетрадки» необычайно ценны, свежи, интересны: «дух» Ленина раскрывается в полной силе.
Прежде всего, следует отметить, что если в «Материализме и эмпириокритицизме» марксизм выступает, как диалектический материализм, то в «Философских Тетрадках» он выступает, как диалектический материализм. Там — ударение на материализме. Здесь — ударение на диалектике. Отсюда ряд знаменитых «афоризмов»:
1. «Плеханов критикует кантианство (и агностицизм вообще), более с вульгарно-материалистической, чем с диалектиктически-материалистической точки зрения, поскольку он лишь a limine отвергает их рассуждение, а не исправляет (как Гегель исправлял Канта) эти рассуждения, углубляя, обобщая, расширяя их, показывая связь и переходы всех и всяческих понятий»[433].
2. «Марксисты критиковали (в начале ⅩⅩ века) кантианцев и юмистов более по-фейербаховски (и по-бюхнеровски), чем по-Гегелевски».
Ленин упрекает Плеханова в другом месте «Тетрадок» за то, что Плеханов, много написав по философии, не развивал идей «Большой Логики» (т. е. «Науки Логики») Гегеля. И т. д. Эти беглые замечания (в том числе и «афоризм», что никто не понимал сполна «Капитала», ибо никто не знал диалектики) проливают свет на то гигантское значение, какое Ленин придавал диалектике. Маркс, как известно, собирался дать короткую сводку рациональных моментов гегелевской диалектики, но не успел этого сделать. Энгельс в «Анти-Дюринге» утвердил диалектику в самых общих чертах и развил её на примерах. В «Диалектике Природы» — блестящее применение к естествознанию. Ленин первый дал её материалистическую интерпретацию полностью. Как мы уже указывали, он понял диалектически самое диалектику, он вскрыл аналитически её различные стороны и объединил их синтетически в едином и многообразном понятии. Ленин вычерпал из Гегеля всё, что можно и нужно было вычерпать касающегося диалектики, как таковой. Было бы, конечно, школьным педантством утверждать, что шестнадцать параграфов ленинских определений должны на веки вечные быть удержаны в том же количестве и в том же порядке,— это значило бы, прежде всего, не понимать ни смысла, ни характера ленинских записей. Но нельзя отрицать, что здесь гениально схвачены все существенные моменты, стороны, черты диалектики, как науки, схвачены в их связи и схвачены так, что показано их познавательное значение. Блестяще понята и изложена и онтологическая, и методологическая сторона диалектики, прямо осязаешь её глубоко-жизненное значение: то, что у Гегеля, в его идеалистической трактовке, формулировано в туманной игре абстрактнейших понятий, здесь у Ленина пульсирует, как ритмика многообразной и противоречивой, в противоположностях движущейся, действительности, со всеми её «переходами и переливами»; и соответствующая универсальная «гибкость понятий» выступает, как естественное методологическое требование, без дополнения которого познание бедно, ограничено и бледно.
Теория отражения, развитая Лениным ещё в «Материализме и эмпириокритицизме» подвергается дальнейшей обработке, специально под углом зрения диалектики. Здесь неуместно снова излагать ленинскую позицию: это мы делали на протяжении всей нашей работы. Однако, всё же нужно подчеркнуть трактовку Лениным опосредствованного знания, показания, как процесса, как перехода ко всё более глубоким «сущностям» и всё более широким и общим связям; на трактовку общего, единичного и особенного; на отражение у Ленина, как на сводку законов, научную картину мира и т. д., а не как на простую феноменологию в духе наивного реализма; на диалектический переход от ощущений к мышлению и т. д. Теория отражения Ленина, это отнюдь не элементарная и наивная теория простого зеркала. И «Философские Тетрадки» дают здесь богатейший материал для всякого, кто умеет читать и думать.
Мы считаем исключительно важным и новым положение Ленина о многообразии типов действительных связей, как моментов универсальной связи вещей и процессов, в противоположность одной каузальности. Ни у одного из марксистов этого не было. Положение это Лениным высказывается впервые, и всё значение этого положения скажется не сразу. А оно чревато последствиями чрезвычайными: оно по-новому преодолевает узость, односторонность и ограниченность механического материализма, с его единым и одним типом казуальной связи, механической причинностью. Ленин ни капли не уничтожает монизма и не впадает ни в какой плюрализм. Категория необходимости и всеобщность диалектических законов суть проявления единства закономерностей, а различие типов связи есть проявление многообразия в этом единстве. Это и есть истинно диалектическое понимание универсальной связи. Одно это ленинское положение означает громаднейший шаг веред. Оно сразу смыкает диалектику с такими областями, как, например, математика, этот камень преткновения для казуальности; оно даёт возможность более тонко и правильно поставить вопрос о физическом и психическом (важнейший вопрос всей философии!); оно даёт возможность рационального решения ряда проблем современной теоретической физики и т. д. Здесь Ленин производит целый переворот и гигантски обогащает философию марксизма: нужно только понять это ленинское положение во всей его глубине во всём его теоретическом значении. Для всякого теоретического естествознания и математики это,— настоящий клад и вместе с тем драгоценнейший вклад в философию диалектического материализма.
В «Философских Тетрадках» развито и положение о теоретико-познавательном значении практики, техники и т. д. Эта сторона дела, лапидарно формулированная Марксом в «Немецкой идеологии» (которой Ленин не мог знать, ибо она была опубликована только после его смерти) и в тезисах о Фейербахе, развивалась Энгельсом в «Анти-Дюринге». На идеалистический и антидиалектический лад она развивалась А. Богдановым и сторонниками прагматизма. Ортодоксальные марксисты касались этой темы, как это ни странно, довольно поверхностно. Ленин впервые поставил этот вопрос и материалистически, и диалектически одновременно, то есть во всей его философской глубине. Техника в теории познания — батюшки святы! Ведь, это грубость! Но у Ленина это глубоко-продуманная теоретическая мысль, а не случайность и не выкрутас. Чем больше мы будем идти по пути объединения теории и практики, тем яснее будет вырисовываться перед нами вся действительность и вся действенность этой постановки вопроса.
Смычка с практикой у Ленина шла и во всём объёме его деятельности и мышления, ибо диалектика мысли переходила у него в диалектику действия, в революционную практику переворота и социалистического преобразования мира. Ленин был живым олицетворением единства интеллекта и воли, теории и практики, познания и действия. Учение о субъекте познания дополнилось у него учением о субъекте действия, и никто, кроме него, не разработал так замечательно и так конкретно теорию пролетариата, как субъекта революционного преобразовательного процесса. Его диалектика переходила, через диалектически построенную стратегию и тактику, к диалектике действия, всегда успешного и мудрого, гениальному по своему размаху, принципиальности, конкретности, полной адекватности данной обстановке. Это, конечно, тема особая, и здесь не место её разрабатывать. Но важно, однако, подчеркнуть единство теории и практики, единство в руководстве, которое обеспечило пролетариату победы столь блестящие в условиях столь трудных и сложных.
На долю ленинского гения выпала эпоха перехода к социализму, и он воплощал эту бурную эпоху в её мощных движениях. Пролетариату противостояли условия, которые нужно было сломить, стихия, которую нужно было познать и преодолеть, стихийные силы, которые нужно было организовать. Победоносная революция пролетариата, под руководством Ленина, величайшего диалектика-материалиста и величайшего мастера диалектического действия, блестяще решала свои многотрудные задачи, и большевизм вырос в мировую силу, а марксизм-ленинизм в мировую идеологию сотен миллионов трудящихся; он стал официальной доктриной, идеологической стороной, мировоззрением нового мира, мира социализма. Ленину не удалось дожить до окончательного решения важнейшего вопроса революции: «Кто кого?» При его жизни социализм был только «сектором» народного хозяйства. Ещё сильны были хозяйственные и социальные стихии. Ещё далеко не все подчинил себе социалистический разум плана. Ещё не превратилось общество в телеологическое единство, где необходимость сразу переходит в телеологию. Но предпосылки этого были уже созданы. Пустая болтовня о «ненужности» философии для практики, болтовня филистеров и кустарей мысли и недомыслия, была опровергнута. Гений Ленина блестел. Но эпоха издаёт себе нужных людей, и новые шаги истории выдвинули на его место Сталина, центр тяжести мысли и действия которого — следующий перевал истории, когда социализм победил, под его руководством, навсегда. Все основные жизнедеятельные функции синтезированы в победоносном завершении великих сталинских пятилеток, и теория объединяется с практикой во всём гигантском общественном масштабе и в каждой клеточке общественного организма. Новые мировые вопросы назревают, как вопросы мировой победы социализма и его молодой жизнерадостной культуры.
7—8‑Ⅺ‑37, в дни 20‑летия великой победы.
1
Диалектический материализм — философия марксизма-ленинизма, научное мировоззрение, всеобщий метод познания мира, наука о наиболее общих законах движения и развития природы, общества и мышления. Здесь и далее примечания издателя книги.— СРС.
(обратно)2
«Арабески» — (франц. arabesque, букв. арабский), насыщенный, сложный орнамент, основанный на прихотливом переплетении геометрических и стилизованных растительных мотивов, порой включающие надпись. Сложился в арабском искусстве.
(обратно)3
Апокалипсис — (греч. Apokalypsis — откровение), последняя из книг Нового завета (сер. 68 — нач. 69 гг.) . Содержит пророчества о «конце света», о борьбе между Христом и Антихристом, «страшном суде», «тысячелетнем царстве божьем». Церковь приписывает авторство Иоанну Богослову.
(обратно)4
Эсхатология — (от греч. Eschatos — последний, и logos — слово, учение), религиозное учение о конечных судьбах мира и человека.
(обратно)5
Мессианизм — (от др.-евр. машиах, буквально — помазанник), в некоторых религиях, главным образом, в иудаизме и христианстве «ниспосланный богом», «спаситель», долженствующий «навечно» установить своё царство.
(обратно)6
Фонвизинский недоросль — имеется ввиду произведение Фонвизина Д. И. (1744 или 1745 —1792) «Недоросль» (пост. 1782).
(обратно)7
A posteriori — (лат. Из последующего), исходя из опыта, на основании опыта.
(обратно)8
Тролли — в скандинавских народных поверьях сверхъестественные существа (чаще всего великаны), обычно враждебные людям.
(обратно)9
Н. И. Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«Идеи никогда не могут выводить за пределы старого мирового порядка: во всех случаях они могут выводить только за пределы идей старого мирового порядка. Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей требуются люди, которые должны употребить практическую силу» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Изд. 2.— М. 1955. Т. 2. С. 132.).
(обратно)10
Роман Гельдерлина «Гиперион, и ли греческий отшельник» (Hyperion oder der Eremit in Griechenland) (1794).
(обратно)11
Фашизм — (итал. fascismo, от fascio — пучок, связка, объединение), политическое течение.
(обратно)12
«Домострой» — старинный русский свод житейских правил. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «И не ослабляй, бия младенца: аще бо жезлом биеши его, не умрёт, но здоров будет, ты бо, бия его по телу, а душу его избавлявши от смерти».
(обратно)13
Ignorantia non est argumentam — (лат. незнание — не довод).
(обратно)14
Кантианство — критицизм; 1) учение Канта. 2) совокупность учений, примыкающих к учению Канта.
(обратно)15
Позитивизм — (франц. positivisme, от лат. positivus положительный), философское направление, пытающееся возвыситься над материализмом и идеализмом.
(обратно)16
Агностицизм — (от греч. agnostos — недоступный познанию), философское учение, согласно которому не может быть окончательно решён вопрос об истинности познания окружающей человека действительности.
(обратно)17
Феноменализм — субъективно-идеалистическое учение, согласно которому познание имеет дело не с объектами материального мира, существующими независимо от сознания, а лишь с совокупностью элементарных чувственных компонентов (ощущений, «чувственных данных», сенсибилий и т. п.).
(обратно)18
Сфинкс — 1) в греческой мифологии полуженщина, полульвица, обитавшая на скале близ Фив, задавала проходящим неразрешимую загадку и затем, не получив ответа, пожирала их; 2) в Др. Египте статуя фантастического существа с телом льва и головой человека, реже — животного.
(обратно)19
Фата-Моргана — (лат. fata Morgana — фея Моргана, обманывающая путешественников призрачными видениями), сложный мираж, быстро изменяющийся.
(обратно)20
Солипсизм — (лат. solus единственный + ipse сам), 1) крайняя форма субъективного идеализма, 2) в этическом смысле — крайний эгоизм, эгоцентризм.
(обратно)21
Transensus — (лат. trans передача, sensus — чувство) передача чувств, переход.
(обратно)22
Метафизика — (от греч. meta phisika — после физики), 1) философское учение о сверхчувствительных (недоступных опыту) принципах бытия; 2) противоположный диалектике философский метод, рассматривающий явления в их неизменности и независимости друг от друга, отрицающий противоречия как источник их развития.
(обратно)23
Salto vitale — (лат. сальто жизни).
(обратно)24
Катехизис — (от гр. Katechesis — поучение). 1) религиозная книга; изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов; 2) изложение основ какого-либо учения в форме вопросов и ответов.
(обратно)25
Эмпириокритик — последователь эмпириокритицизма. Эмпириокритицизм — (гр. empeiria опыт + критицизм), махизм — субъективно-идеалистическое учение к. 19 в., возглавлявшееся Э. Махом и Р. Авенариусом.
(обратно)26
Эмпириомонизм — (гр. empeiria опыт + monos один), субъективно-идеалистические воззрения А. Богданова, сводящего физическое к психическому, разновидность эмпирикритицизма.
(обратно)27
Эмпириосимволизм — (гр. empeiria опыт + символ), разновидность эмпириокритицизма, разработан П. С. Юшкевичем, рассматривавшим мир как совокупность символов опыта (ощущений).
(обратно)28
Теология — (гр. theologia, theos бог + logos учение), совокупность религиозных доктрин о сущности и действии бога. В строгом смысле о Т. принято говорить применительно к иудаизму, христианству, исламу.
(обратно)29
Идеализм — (франц. idealisme, от гр. idea идея), общее обозначение философского учения, утверждающего, что дух, сознание, мышление, психическое — первично, а материя, природа — вторично, произвольно.
(обратно)30
Богостроительство — философско-этическое течение, возникшее в 1-м десятилетии ⅩⅩ в. в России; пыталось соединить научный социализм с религией.
(обратно)31
Богоискательство — религиозно-философское течение в среде русской либеральной интеллигенции, проповедовавшее обновление христианства.
(обратно)32
Речь идёт о В. И. Ленине.
(обратно)33
Salto mortafe — (лат. смертельное сальто).
(обратно)34
Mutatis mutandis — (лат. с соответствующими изменениями).
(обратно)35
Der langen Rede kurzer Sinn — (нем. суть дела).
(обратно)36
Ab ovo — (лат. «От яйца»), т. е. с самого начала, с того, что было в самом начале.
(обратно)37
Эмпиризм — (гр. empeiria опыт), философское учение, признающее чувственный опыт единственным источником знаний.
(обратно)38
Дальтонизм — (частичная цветовая слепота), наследственное нарушение цветового зрения у людей, заключающееся в неспособности различать некоторые цвета.
(обратно)39
Volens-nolens — (лат. волей-неволей, хочешь-не хочешь).
(обратно)40
Tutti quanti — (лат. им подобных).
(обратно)41
Скептицизм — (от гр. skeptikos разглядывающий, расследующий), философская позиция, характеризующаяся сомнением в существовании какого-либо надёжного критерия истины. Крайняя форма — агностицизм.
(обратно)42
Субъективный идеализм — одна из разновидностей идеализма; в отличие от объективного идеализма, отрицает наличие какой-либо реальности вне сознания субъекта, либо рассматривает её как нечто полностью определённое его активностью.
(обратно)43
Субстрат — (от позднелат. substratum основа) (биол.). 1) химическое вещество, подвергающееся превращению под действием фермента; 2) основа (предмет или вещество), к которой прикреплены животные или растительные организмы, а также среда постоянного обитания и развития организма, (филос.) 3) устойчивая основа изменчивого процесса — прим. СРС.
(обратно)44
Onus probandi — (лат. бремя доказательств), обязанность приводить доказательства — обязанность одной из двух спорящих сторон подкрепить позицию положительными доводами.
(обратно)45
Quasi — (лат. как бы, будто бы; иногда мнимый, мнимо).
(обратно)46
Андрогин — (греч. androgynos двуполый).
(обратно)47
Se non е vero, е ben trovato — (ит. Если и не неправда, то хорошо придумано).
(обратно)48
Спиритуализм — (от лат. spiritual духовный), объективно-идеалистическое философское воззрение, рассматривающее дух в качестве первоосновы действительности, как особую бестелесную субстанцию, существующую независимо от материи.
(обратно)49
Ut desint vires, tarnen est laudanda voluntas — (лат. Пусть не хватает сил, но (самое) желание заслуживает похвалы).
(обратно)50
Als ob — (нем. Как будто, фикция).
(обратно)51
Спиритизм — (от лат. spiritus душа, дух), мистическое течение, связанное с верой в загробное существование душ умерших и характеризующееся особой практикой «общения» с ними.
(обратно)52
Монада — (от гр. monas, единица, единое), понятие, обозначающее в различных философских учениях основополагающие элементы бытия.
(обратно)53
Ассимиляция — (от лат. assimilato), уподобление, слияние, усвоение.
(обратно)54
Prius — (лат. Более раннее, предшествующее), т. е. исходное положение.
(обратно)55
Гипостаз — (от гипо… и греч. stasis застой), застой крови в нижележащих частях тела или органах. Примечание СРС: Неверно; на самом деле (от греч. Hypostasis — сущность, субстанция; отсюда понятие «ипостась») речь идёт о превращении чего-то абстрактного в объект, наделение не присущей в действительности самостоятельностью.
(обратно)56
Объективный идеализм — одна из основных разновидностей идеализма; в отличие от субъективного идеализма, считает первоосновой мира некое всеобщее сверхиндивидуальное духовное начало («идея», «мировой разум» и т. п.).
(обратно)57
Трансформация — (от познелат. transformatio превращение).
(обратно)58
Квиетизм — (от лат. quietus спокойный, безмятежный), религиозное учение, доводящее идеал пассивного подчинения воле бога до требования быть безразличным к собственному «спасению».
(обратно)59
Атараксия — (гр. ataraxia невозмутимость), понятие др.-гр. этики о душевном спокойствии, безмятежности как высшей ценности.
(обратно)60
Стоицизм — (от гр. stoa портик (галерея с колоннами в Афинах, где учил философ Зенон, основатель С.)), направление античной философии.
(обратно)61
En passant — (фр. мимоходом).
(обратно)62
Стоический — мужественный, стойкий в жизненных испытаниях.
(обратно)63
Гегель. «Лекции по истории философии». Соч.— М. 1932. Т. Ⅹ. С. 407.
(обратно)64
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«…предоставляет несущественному содержанию исчезать в его мышлении, но именно этим оно есть сознание несущественного; оно провозглашает абсолютное исчезновение: оно провозглашает ничтожество видения, слышания и т. д., а само оно видит, слышит и т. д.; оно провозглашает ничтожество нравственных существований и в то же время само подчиняет свои поступки их власти. Его действие и его слова находятся всегда в противоречии друг с другом, и точно так же у него самого двойственное противоречащее сознание — сознание неизменности и равенства (с одной стороны) и полной случайности и неравенства себе (с другой)» (Гегель. «Феноменология Духа». Соч.— М., 1959. T. Ⅳ. С. 111).
(обратно)65
Гегель. Там же. С. 112.
(обратно)66
Платон. Сочинения в 3-х томах. Под общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса.— М.: 1971. Т. 3, ч. 1. Кн. 7. С. 21. (Символ пещеры).
(обратно)67
Abdenken — (нем. осмысливать).
(обратно)68
Иррационализм — (от лат. irrationalis неразумный, бессознательный), обозначение идеалистических течений в философии, которые, в противоположность рационализму, ограничивают или отрицают возможность разума в процессе познания и делают основой миропонимания нечто недоступное разуму или иноприродное ему, утверждая аналогичный и иррациональный характер самого бытия.
(обратно)69
Ignoramis et ignorabimus — (лат. Мы не знаем и никогда не узнаем).
(обратно)70
Троп — (гр. tropos), слово или выражение, употребленное в переносном значении для достижения большей выразительности.
(обратно)71
В указанном сочинении цитата не обнаружена.
(обратно)72
Априори — (от лат. A priori из предшествующего), понятие логики и теории познания, характеризующее знание, предществующее опыту и независимое от него; введено в средневековой схоластике в противоположность апостериори.
(обратно)73
В указанном сочинении цитата не обнаружена.
(обратно)74
Ergo — (лат. Вследствие этого, поэтому; итак).
(обратно)75
Realiter — (фр. реальность, действительность, подлинность, реальная вещь, факт). Неверно. Realiter — лат. в реальности, фактически.— прим. СРС.
(обратно)76
Caput mortuum — (лат. Мертвая голова).
(обратно)77
Leere Abstraktion («wahrheitslose leere Abstraktion») — (нем. Пустая абстракция, лишённая истины).
(обратно)78
В указанном произведении цитата не обнаружена.
(обратно)79
Силлогизм — (гр. syllogismos), рассуждение, в котором две посылки, связывающие субъекты (подлежащие) и предикаты (сказуемые), объединены общим (средним) термином, обеспечивающим «замыкание» понятий (терминов) в заключении.
(обратно)80
Так в тексте публикации. — СРС.
(обратно)81
Unding — (швейц. Очень, весьма). Неверно. На самом деле нем. Бессмыслица, вздор, небылица; дословно: «не-вещь» — прим. СРС.
(обратно)82
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«…связь с другой [вещью] есть прекращение для-себя-бытия. Именно благодаря абсолютному характеру и своему противоположению она находится в отношении к другим [вещам] и по существу есть только это нахождение в отношении; но отношение есть негация её самостоятельности, и вещь, напротив, погибает из-за своего существенного свойства» (Гегель. Сочинения.— M.: 1959. T. Ⅳ. С. 68).
(обратно)83
Так в публикации. Видимо, в рукописи Бухарина пробелы. — прим. СРС.
(обратно)84
Ignorabimus — (лат. Мы это не узнаем)
(обратно)85
Impavide progrediamur — (лат. Без колебаний (бесстрашно) пойдём вперёд.
(обратно)86
Жупел — 1) по христианским религиозным представлениям, горящая сера, смола для грешников в аду; 2) то, что вызывает страх, ужас, чем пугают кого-либо.
(обратно)87
На этом в публикации глава обрывается — СРС.
(обратно)88
Materialismus militans — (лат. Воинствующий материализм).
(обратно)89
Ноумен — (гр. noumenon), в философии Канта непознаваемая «вещь в себе».
(обратно)90
Предикат — (от лат. praedicatum сказанное), в узком смысле — то же, что и свойство; в широком смысле — отношение, т. е. свойство нескольких предметов.
(обратно)91
Лат. «часть в роли целого» — СРС.
(обратно)92
Гегель. «Философия Природы». Т. Ⅱ. С. 42.
(обратно)93
Там же. С. 43.
(обратно)94
Там же. С. 44.
(обратно)95
Корпускула — (от лат. corpusculum частица), частица в классической (неевклидовой) физике.
(обратно)96
Энтелехия — ( от гр. entelecheia завершённость, осуществленность), понятие Аристотеля, означающее осуществление какой-либо возможности бытия.
(обратно)97
Гегель. «Философия Природы». Т. Ⅱ. С. 50.
(обратно)98
Гегель. «Философия Природы». T. Ⅱ. С. 49.
(обратно)99
Журнал «Erkenntnis» — «Познание».
(обратно)100
Umformung — (нем. Преобразование).
(обратно)101
Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu, nisi intellectus ipse — (лат. Нет ничего в уме, чего бы не было раньше в ощущениях, кроме самого ума).
(обратно)102
Гегель. Сочинения. T. Ⅱ. С. 10, 11. Курсив Бухарина.
(обратно)103
Ленин В. И. ПСС, Т. 29. С. 163.
(обратно)104
Волюнтаризм — (от лат. voluntas воля), термин введён Р. Теннисом в 1883. 1) идеалистическое направление в философии, рассматривающее волю в качестве высшего принципа бытия; 2) деятельность, не считающаяся с объективными законами исторического процесса, характеризующаяся произвольными решениями, осуществляющих её лиц.
(обратно)105
Прагматизм — (от гр. pragma дело, действие), субъективно-идеалистическое философское учение.
(обратно)106
Натурфилософия — (нем. Naturphilosophie), философия природы, умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в её целостности.
(обратно)107
Дуализм — (от лат. dualis двойственный), философское учение, исходящее из признания равноправными двух начал духа и материи, идеального и материального. Термин введён Х. Вольфом.
(обратно)108
Интроекция — (от лат. intra внутрь и jacio бросаю, кладу), (психол.) включение индивидом в свой внутренний мир воспринимаемых им взглядов, мотивов и установок других людей; основа идентификации.
(обратно)109
Механический материализм — то же, что метафизика.
(обратно)110
Вульгарный материализм — (от лат. vulgaris обыкновенный, простой), течение в буржуазной философии сер. 19 в.(упрощение положения старого материализма, отвергал диалектику, оставаясь на позициях метафизики и механицизма).
(обратно)111
Панлогизм — (пан. гр. logos разум), идеалистическое философское учение, согласно которому бытие есть воплощение разума, законы бытия определяются законами логики, которые являются основой и движущей силой развития всего существующего.
(обратно)112
Ленин В. И. ПСС. Т. 29. С. 60.
(обратно)113
Ленин В. И. ПСС. Т. 29.С. 51,52.
(обратно)114
Наивный реализм — стихийно складывающееся и закрепляющееся в обыденной практике представление о том, что все характеристики внешнего мира, данные в жизненном опыте, адекватно и исчерпывающе выражают объективную реальность.
(обратно)115
Dichtung und Wahrheit — (нем. Вымысел и правда).
(обратно)116
Пантеизм — (от гр.), философское учение, отождествляющее бога и мир. Термин «пантеист» был введён англ. философом Дж. Толандом (1705), а термин П.— его противником нидерл. теологом Й. Фаем.
(обратно)117
Гилозоизм — термин введён Кедвортом в 1678 для обозначения натурфилософских концепций (преим. ранних гр. философов), отрицавших границу между «живым» и «неживым» и полагающих «жизнь» имманентным свойством праматерии.
(обратно)118
Гегель. Сочинения.— М.-Л. 1934. Т. Ⅱ. С. 11.
(обратно)119
Эстетика — (гр. aisthetikos относящийся к чувственному восприятию), философская дисциплина, изучающая выразительные формы, соответствующие представлениям о прекрасном, безобразном, возвышенном и т. д.
(обратно)120
Сенсуализм — (от лат. sensus восприятие, чувство), направление в теории познания, согласно которому чувственность (ощущения, восприятия) являются основой и главной формой познания.
(обратно)121
In nuce, in potentia — (лат. В орехе, т. е. в зародыше, потенциально, в возможности).
(обратно)122
Асимптотический — (гр. asymptotes несовпадающий), (мат.) неограниченно приближающийся.
(обратно)123
Гипостазировать — (гр. gypostasis сущность, субстанция), приписывать отвлечённым понятиям самостоятельное существование, рассматривать общие свойства, отношения и качества как самостоятельно существующие.
(обратно)124
Номинализм — (лат. nomina названия, имена), направление в средневековой философии, согласно которому общие понятия являются лишь именами единичных предметов.
(обратно)125
Реализм — (от познелат. realis вещественный, действительный), в философии — идеалистическое направление, признающее лежащую вне сознания реальность, которая истолковывается либо как бытие идеальных объектов, либо как объект познания, независимый от субъекта, познавательного процесса и опыта.
(обратно)126
В указанном сочинении цитата не обнаружена.
(обратно)127
Корреляция — (от познелат. correlatio соотношение).
(обратно)128
Ленин В. И. ПСС, Т. 29. С. 318.
(обратно)129
Sic — (лат. Так). Точнее: «именно так написано в тексте» — прим. СРС.
(обратно)130
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«…соглашаются с тем, что роды представляют собою не только совокупность сходных признаков, созданную нами абстракцию, что они обладают не только общими признаками, а являются подлинной внутренней сущностью самих предметов; и точно также порядки служат не только для облегчения нам обзора животных, но и представляют собой ступени лестницы самой природы» (Гегель. Сочинения.— М.-Л. 1934, т. Ⅱ. С. 15).
(обратно)131
Sui generis — (лат. Своего рода, особого рода, своеобразный).
(обратно)132
Causa sui — (лат. Причина самого себя, первопричина).
(обратно)133
Ленин В. И. ПСС. Т. 29. С. 209. Курсив Бухарина.
(обратно)134
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«…тот, кто не ощущает, ничего не познаёт и ничего не понимает; если он что-нибудь познает то необходимо, чтобы он это познал также в качестве представления: ибо представления, это — то же, что и ощущения, только без материи…» (Ленин В. И. Т. 29. С. 262).
(обратно)135
Лапидарность — (от лат. lapidarias каменотёс, резчик по камню), краткость, сжатость, выразительность слога, стиля.
(обратно)136
Abstrus — (нем. запутанный, бессмысленный, непонятный).
(обратно)137
Michel — (нем. простодушный, простофиля). Скорее всего, Бухарин имеет в виду французского историка-романтика Жюля Мишле (Jules Michelet), большого любителя гегелевской историософии — прим. СРС.
(обратно)138
Имманентный — (от лат. immanens пребывающий в чём-либо, свойственный чему-либо), нечто внутреннее, присущее какому-либо предмету, явлению, процессу.
(обратно)139
Гегель. Сочинения.— М.-Л. 1934. Т. 11. С. 368. Курсив Бухарина.
(обратно)140
Антропоморфизм — (от антропо- и греч. morphos — форма, вид), уподобление человеку, наделение человеческими свойствами (напр. сознанием) предметов и явлений неживой природы, небесных тел, животных, мифических существ.
(обратно)141
Corpus sanum — (лат. здоровое тело).
(обратно)142
Mens sana in corpore sano — (лат. Здоровый дух в здоровом теле).
(обратно)143
Неогегельянство — разнородное течение идеалистической философии к. 19 — 1‑й трети 20 вв., для которого характерно стремление к созданию целостного мировоззрения на основе возрождения учения Гегеля.
(обратно)144
Сикофант — (гр. sykophantes), в древних Афинах — профессиональный доносчик, клеветник и шантажист.
(обратно)145
Гегель. «Философия Природы». T. Ⅱ. C. 16.
(обратно)146
Вивисекция — (от лат. vivus — живой и sectio — рассечение), операция на живом животном с целью изучения функций организма, действия на него различных веществ, разработки методов лечения и т. п.
(обратно)147
Con amore — (ит. С любовью, с сочувствием).
(обратно)148
Гегель. Там же. С. 17.
(обратно)149
Речь идёт о стихотворении Е. Баратынского «На смерть поэта» (апрель—май 1832).
(обратно)150
Антиномия — (гр. antinomia противоречие в законе), противоречие между положениями, каждое из которых признаётся логически доказуемым.
(обратно)151
A limine — (лат. С порога): сразу же, немедленно, решительно.
(обратно)152
Гегель. Сочинения.— М.-Л. 1934. T. Ⅱ. С. 10. Курсив Бухарина.
(обратно)153
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«Природное единство мышления и созерцания есть единство, которое мы находим у ребёнка, у животного, это — единство, которое в лучшем случае можно назвать чувством, но не духовностью…» (Гегель. Сочинения.— М.-Л. Т. Ⅱ. 1934. С. 13, 14).
(обратно)154
Гносеология — (от гр. gnosis познание и …логия), то же, что теория познания.
(обратно)155
Ландскнехт — (нем. Landsknecht), немецкий наёмный пехотинец в 15—17 вв.
(обратно)156
Scientia — (лат. знание), наука.
(обратно)157
Potentia humana — (лат. человеческая сила).
(обратно)158
Glaubens- und Gefulsphilosophie — (нем. Вера к чувственной философии). На самом деле: «философия веры и чувства» — прим. СРС.
(обратно)159
Kraft-Mensch — (нем. Энергичный человек, силач).
(обратно)160
Kraft-Mensch — (нем. Энергичный человек, силач). Примечание повторено в тексте; ошибка оригинала или СРС. Вероятно, должно быть Kraft-Wille — сильная воля.— прим. РМП.
(обратно)161
Молох (гр.), Молех (евр.). До сер. 20 в. считалось в Палестине, Финикии и Карфагене божество, которому приносились человеческие жертвы, особенно детей.
(обратно)162
Имеется в виду «Богословско-политический трактат». Спиноза. Сочинения. Т. 2.
(обратно)163
Теодицея — (фр. theodicee оправдание бога, от гр. Theos — бог и dike справедливость), общее обозначение религиозно-философских доктрин, стремящихся согласовать идею благого и всемогущего бога с наличием мирового зла, «оправдать» бога как творца и правителя мира вопреки существованию тёмных сторон бытия. Термин введён Г. Лейбницем (1710).
(обратно)164
Маркс К. «Капитал»,— М., 1988. Т. Ⅱ. С. 244.
(обратно)165
В указанном произведении цитата не обнаружена. Цитата обнаружена в указанном произведении, в Акте 1, сцена 1 — прим. СРС.
(обратно)166
Каталепсия — (от гр. katalepsis захват, утверждение), двигательное расстройство — застывание человека в принятой им или приданной ему позе (т. н. «восковая гибкость»).
(обратно)167
Онтология — (от гр. ontos сущее и …логия), раздел философии, учение о бытии, в котором исследуются всеобщие основы, принципы бытия, его структура и закономерности.
(обратно)168
(In) hoc signo vinces (лат. «Сим (знамением) победиши») под этим знаменем победишь.
(обратно)169
Гегель. Сочинения.— М.-Л. 1934. T. Ⅱ. C. 8.
(обратно)170
Бухарин Н. И. цитирует по памяти. Правильно:
«…плуг почтеннее, чем непосредственно те наслаждения, которые подготовляются им и являются целями» ( Гегель.— М., 1939. Т. Ⅱ. С. 205).
(обратно)171
In actu — (лат. В действии, в проявлении).
(обратно)172
Ф. Бэкон, «Новый Органон, или Истинные указания для истолкования природы» (1620, рус. пер. 1935).
(обратно)173
Актуализм — (от позднелат. actualis действительный, также современный, наличный), субъективно-идеалистическое учение, абсолютирующее принципы деятельности и отождествляющие реальность с активностью субъекта.
(обратно)174
Ленин В. И. ПСС.— М., 1977. Т. 29. С. 200.
(обратно)175
Антиципация — (лат. anticipatio : 1) предвосхищение, 2) преждевременное наступление какого-либо явления).
(обратно)176
Джемс, «Многообразие религиозного опыта» — М., 1910.
(обратно)177
Sit venia verbo — (лат. «Пусть это слово будет принято снисходительно»), т. е. с позволения сказать, позволено мне будет так сказать, да простится мне), это выражение: не во гнев будет сказано.
(обратно)178
Эманация — (от познелат. emanatio истечение), исхождение чего-либо из некоего иного; центральное понятие неоплатонизма, означающее происхождение («истечение») множества всех отдельных вещей из Единого.
(обратно)179
Im Werden — (нем. В процессе возникновения, в становлении).
(обратно)180
Potentia — (лат. 1. Сила, власть; 2. Потенциально, в возможности). Греч., в возможности, а не в действительности — прим. СРС.
(обратно)181
«Органическая школа» в социологии, направление в буржуазной социологии к. 19 — нач. 20 вв., отождествляющее общество с организмом и пытавшееся объяснить социальную жизнь биологическими закономерностями.
(обратно)182
О. Шпанн — см. Именной указатель.
(обратно)183
Herschafts und Khechtschaftsverhältnis — (нем. господство и кабальные условия) Правильнее: «отношения господства и подчинения» — прим. СРС.
(обратно)184
Анимизм — ( от лат. anima, animus душа, дух), вера в существование душ и духов, обязательный элемент всякой религии.
(обратно)185
Stricto, strictissimo sensu — (лат. В строгом (узком) строжайшем смысле (слова)).
(обратно)186
Гедонизм — (от гр. hedone удовольствие), направление в этике, утверждающее наслаждение, удовольствие как высшую цель и основной мотив человеческого поведения.
(обратно)187
Аскетизм — ограничение или подавление чувств, желаний, добровольное перенесение физической боли, одиночества и т. п., присущее практике философской школы (направление киников) и особенно различных религий (монашество и т. п.).
(обратно)188
Лат. Материальным образом, проявляясь в материи — прим. СРС.
(обратно)189
Картезианство — направление в философии и естествознании 17—18 вв., теоретическим источником которого были идеи Декарта. Ортодоксальное К. характеризуется дуализмом — разделением мира на две самостоятельные (независимые) субстанции — протяжённую и мыслящую, при этом проблема их взаимодействия в мыслящем существе оказалась в принципе неразрешимой в К.
(обратно)190
Аффицирование — (от лат. afficio — причиняю, влияю, действую), понятие философии Канта, означающее воздействие внешнего объекта («вещи в себе») на душу, обладающую способностью чувствительного восприятия. Термин берет начало в поздней схоластике.
(обратно)191
Панпсихизм — ( от гр. pan — все и — душа), идеалистическое представление о всеобщей одушевлённости природы.
(обратно)192
Ad majorem Dei gloriam — (лат. К вящей славе божией).
(обратно)193
Самопроизвольное зарождение (жизни); термин, используемый в т. ч. Энгельсом в «Диалектике природы» — прим. СРС.
(обратно)194
Телеология — (лат. telos (teleos) цель + логия. На самом деле не лат., а греч.— прим. СРС), идеалистическое учение о цели и целесообразности.
(обратно)195
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.— М.; ГИПП, Т. 2. 1955, Святое семейство или критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании.
(обратно)196
В указанном сочинении цитата не обнаружена. Это слова Клитандра в первом явлении четвёртого действия; однако неясно, чьим переводом пользовался Бухарин — прим. СРС.
(обратно)197
Шеллинг. Общая дедукция динамического процесса. (Allgemeine Deduktion des dynamischen Prozesses. 1800. Bd. 1. H. 2).
(обратно)198
Ленин В. И. ПСС.— М., Полит. лит., изд. 5. 1977. Т. 29. С. 322.
(обратно)199
Überschwengliches — (нем. чрезмерный, преувеличенный, безмерный), термин, употребляемый И. Дицгеном при характеристике отношения абсолютной и относительной истины, материи и духа и т. п.
(обратно)200
Ионисты — досократики (нем. Vorsokratiker; франц. presocratiques, англ. presokraties), новоевропейский термин для обозначения ранних греческих философов 6—5 вв. до н. э., а также их ближайших преемников в 4 в. до н. э., не затронутых влиянием аттической «сократич.» традиции.
(обратно)201
Витализм — (от лат. Vitalis — жизненный, живой, vita — жизнь), учение о качественном отличии живой природы от неживой, о принципиальной несводимости жизненных процессов к силам и законам неорганического мира, о наличии в живых телах особых факторов, отсутствующих в неживых.
(обратно)202
Ламарк Ш. Философия зоологии. Пер. с франц. С. В. Сапожникова. Ред. и вст. статья Вл. Карпова.— М.: Наука, 1911. С. 166.
(обратно)203
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«Разумеется, не к такой гипотезе приводят нас результаты изучения природы. Наоборот, оно показывает нам, что всюду, где какой-нибудь орган перестаёт существовать, там пропадают также и способности, связанные с ними. Животное, не имеющие глаз, ни в коем случае не может видеть…» (с. 167).
(обратно)204
Авенариус Р. Критика чистого опыта. Пер. с нем. И. Федорова. Т. 1. Пер. со 2‑го нем. изд., испр. И. Петцольдом по указаниям, оставшимся после смерти автора — СПб.: Шестаковский и Федоров, 1907. С. 473.
(обратно)205
В указанном сочинении цитата не обнаружена.
(обратно)206
Revenons à nos moutons — (франц. Возвратимся к нашим баранам), т. е. продолжим начатый разговор, не будем отвлекаться от того, о чём говорили. Из французского фарса 15 в. «Адвокат Патлен», в котором этой фразой одёргивают увиливающего от предмета разбирательства подсудимого — прим. СРС.
(обратно)207
Гелио — (от гр. helios Солнце), часть сложных слов, означающая: относящийся к Солнцу, солнечным лучам, солнечной энергии.
(обратно)208
Геотропизм — (от гео- и тропизм ), ростовые движения органов растений под влиянием силы земного тяготения.
(обратно)209
Кущевский И. А. Николай Негорев или благополучный россиянин. Со вступительной статьёй А. Г. Горнфельд.— М.: 1917. С. 164.
(обратно)210
Имеется в виду роман А. Дюма «Королева Марго».
(обратно)211
Universitas rerum et artium — (лат. заняться делом). Неверно. Перевод: «совокупность (вселенная) предметов и искусств», иначе: «университет предметов и искусств» — прим. СРС.
(обратно)212
Der Wunsch ist Vater des Gedankens — (нем. Желание — отец мысли).
(обратно)213
Писарев Д. И. Избранные философские и общественно-политические статьи. Под ред. и с предислов. проф. В. С. Кружкова ГИПЛ. 1949. С. 40.
(обратно)214
Jenseits von Gut und Bösen — (нем. По ту сторону добра и зла).
(обратно)215
Лаццарони — (ит. lazzarone), название деклассированных люмпен-пролетарских элементов в Южн. Италии.
(обратно)216
Лессинг. Европа и Азия. (Europa und Asien 1918, 5 Ausf., 1939).
(обратно)217
Reisetagebuch eines Philosophen — (нем. Дневник путешествующего философа).
(обратно)218
Sit venia verbo — (лат. С позволения сказать).
(обратно)219
Цитата не обнаружена.
(обратно)220
В указанном произведении цитата не обнаружена.
(обратно)221
Речь идёт о сочинении Шеллинга «Общая дедукция динамического процесса или категорий физики» (1800).
(обратно)222
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«Разум есть достоверность сознания, что оно есть вся реальность; так идеализм провозглашает свои понятия» (Гегель. Сочинения.— М.: 1959. T. Ⅳ. C. 125).
(обратно)223
Вербальный — (лат. verbalis устный, словесный).
(обратно)224
Profession de foi — (франц. «Исповедание веры»).
(обратно)225
Указанную цитату проверить не удалось. Удалось. Georg Friedrich Wilhelm Hegel. Eleusis. An Hölderlin. August 1796 — прим. СРС.
(обратно)226
Указанная цитата не обнаружена.
(обратно)227
Цитата не обнаружена.
(обратно)228
В указанном сочинении цитата не обнаружена.
(обратно)229
Имеется в виду термин Беме «мука матери».
(обратно)230
В указанном сочинении цитата не обнаружена.
(обратно)231
Цитата не обнаружена.
(обратно)232
Фишер К. История новой философии. Пер. с нем. Юбилейн. Изд. СПб. Д. Е. Жуковский. 1901—1909. Тт. 1—8. Т. 8. Гегель, его жизнь, сочинения, учение.
(обратно)233
Aufhebung — (нем. Подъём).
(обратно)234
Beiträge zur Geschichte des Materialismus — (нем. «Вклад в историю материализма»). Правильный перевод: «К истории материализма» — прим. СРС.
(обратно)235
Kraft und Stoff — нем. «Сила и материя». Название пользовавшейся большим успехом у демократической молодёжи 60‑х гг. в России книги нем. популяризатора естественно-научных знаний вульгарного материализма Л. Бюхнера (1824—1899). У Тургенева в «Отцах и детях» —
«Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает — продолжал между тем Базаров.— Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится… Дай ему что-нибудь дельное почитать… Я думаю, Бюхнерово „Stoff und Kraft“ на первый случай».
(обратно)236
Сеченов И. М. «Рефлексы головного мозга» (1863, напечатана в 1866).
(обратно)237
L’homme machine — (лат. человек-машина) Название трактата 1748 г. Ж. О. Ламетри.
(обратно)238
Residium — (лат. Здесь. осадок). Residuum — лат. остаток — прим. СРС.
(обратно)239
Gewinbringende Sympathie — (нем. Симпатия, приносящая прибыль).
(обратно)240
Неизвестно, какую работу имеет в виду Н. И. Бухарин: «Der Historismus und seine Probleme» («Историзм и его проблемы»). В., 1922; или «Der Historismus und seine Überwindung» («Историзм и его преодоление», В., 1924, опубл. посм.).
(обратно)241
Владимир Ильич — речь идёт о В. И. Ленине.
(обратно)242
Ленин В. И. ПСС.— М.-Л.: Полит. лит., 1977, изд. 5. Т. 29. С. 146.
(обратно)243
См. примечание 25.
(обратно)244
Гегель Г. Сочинения. Под ред. и с вступ. статьёй А. А. Максимова.— М.-Л., 1934. T. Ⅱ. C. 459.
(обратно)245
Конвенционализм — (от лат. conventio соглашение), направление в философском истолковании науки, согласно которому в основе математической и естественнонаучной теорий лежат произвольные соглашения (условности, определения, конвенция между учёными), выбор которых регулируется лишь соображениями удобства, целесообразности, «принципом экономии мышления» и т. п.
(обратно)246
Sui generis — (лат. Своего рода, особого рода, своеобразный).
(обратно)247
Н. Бельтов — см. Г. В. Плеханов.
(обратно)248
Работа Плеханова Г. В. «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895).
(обратно)249
Cum grano salis — (лат. «С крупинкой соли», «с приправой»), т. е. с солью остроумия, иронически, насмешливо или саркастически, с некоторой поправкой, с известной оговоркой, с осторожностью.
(обратно)250
В указанном произведении цитата не обнаружена.
(обратно)251
Гегель. Сочинения.— М.-Л., 1934.— т. Ⅱ, с. 9.
(обратно)252
Бухарин цитирует Аристотеля по «Лекции по истории философии» Гегеля. (Гегель. Сочинения.— М. 1932. Т. Ⅹ. С. 259—260.Курсив Бухарина.)
(обратно)253
См. у Гегеля в указанном сочинении Т. Ⅹ. С. 260.
(обратно)254
Petittio principii — (лат.) В логике — ошибка в доказательстве, состоящая в допущении недоказанной предпосылки; вывод из недоказанного.
(обратно)255
Бухарин цитирует Аристотеля по «Лекции по истории Философии» Гегеля. (Гегель. Сочинения.— М. 1932. Т. Ⅹ. С. 260. Курсив Бухарина)
(обратно)256
См. подробнее у Гегеля: Гегель. Сочинения.— М. 1932. Т. Ⅹ. С. 261.
(обратно)257
Гегель. Сочинения.— М.-Л., 1934. Т. 11. С. 437.
(обратно)258
Ленин. ПСС. Т. 29. С. 170.
(обратно)259
Ленин. ПСС. Т. 29. С. 171.
(обратно)260
«Этика» (Ethica more geometrico demonstrata", Amst., 1677), главное произведение Спинозы.
(обратно)261
Геркуланум, Геркуланиум (Herculaneum),— др. город в Кампании (Италия), на берегу Неаполитанского залива, у подножия Визувия. Возник как поселение осков в 7 в. до н. э. Разрушен 24 августа 79 н. э. во время извержения Везувия.
(обратно)262
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«…ничего не делается без сознательного намерения, без желаемой цели. …Столкновение бесчисленных отдельных стремлений и отдельных действий приводят в области истории к состоянию, совершенно аналогичному тому, которое господствует в лишённой сознания природе. Действия имеют известную желаемую цель; но результаты, на деле вытекающие из этих действий, вовсе нежелательны. А если вначале они, по-видимому, и соответствуют желаемой цели, то в конце концов они ведут совсем не к тем последствиям, которые были желательны. …Люди делают её так: каждый преследует свои собственные, сознательно поставленные цели…» (Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии.— М.: Полит. лит., 1981.— с. 42—43).
(обратно)263
Шпенглер О. «Untergang des AbendLandes» Bd 1 Münch., 1936. («Закат Европы»)
(обратно)264
Фатализм — (лат. fatalis роковой), вера в неотвратимость судьбы, предопределение, рок.
(обратно)265
Sapienti sat — Dictum sapienti sat — (лат. Сказанного достаточно разумному).
(обратно)266
Гегель. Сочинения.— М.-Л. 1934. Т. Ⅱ. С. 488.
(обратно)267
Гегель. Сочинения.— М.-Л. 1934. T. Ⅱ. C. 492.
(обратно)268
Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения.— М.: Полит. издат., Изд. 2‑е. 1961. Т. ⅩⅩ. С. 571.
(обратно)269
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«Если химии удастся изготовить этот белок в том определённо виде, в котором он, очевидно, возник, в виде так называемой протоплазмы,— в том определённом или, вернее, неопределённом виде, в котором он потенциально содержит в себе все другие формы белка (причём нет нужды принимать, что существует только один вид протоплазмы), то диалектический переход будет здесь доказан также и реально, т. е. целиком и полностью. До тех пор дело остается в области мышления, alias гипотезы. Когда химия порождает белок, химический процесс выходит за свои собственные рамки…» (Там же).
(обратно)270
«Физический» идеализм — идеалистическое философское течение, отрицающее объективный характер физического знания и провозглашающее «крах» материализма.
(обратно)271
«Материализм и эмпириокритицизм» (1908).
(обратно)272
Файхингер X. «Philosophie des Als Ob» («Философия фикций» (1877, изд. В 1911).
(обратно)273
Диалектический закон раздвоения единого — имеется в виду закон единства и борьбы противоположностей.
(обратно)274
Энгельс. Диалектика природы, заметки.— М.: Партиздат. 1931. С. 145.
(обратно)275
Гёте. «Zur Morphologie» (1817). Bd. Ⅰ. S. Ⅵ.
(обратно)276
Staatsbiologie — (нем. биология государства).
(обратно)277
Надо полагать, «гормональной» — прим. СРС.
(обратно)278
Вунд В. «Проблемы психологии народов». Перевод Н. Самсонова.— М.: Книгоиздательство «Космос», 1912. В указанном сочинении цитата не обнаружена.
(обратно)279
Нуаре Л. «Der Ursprung der Sprache». Майнц, 1817. («Происхождение языков»).
(обратно)280
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«Всякое слово (речь) уже обобщает».
Курсив в тексте Бухарина (Ленин. ПСС.— М., 1977. Т. 29. С. 246).
(обратно)281
Ленин. ПСС.— М., 1977. Т. 29. С. 286.
(обратно)282
Гегель. Сочинения.— М.-Л. 1934. Т. Ⅱ, С. 487.
(обратно)283
Vice versa — (лат. Наоборот).
(обратно)284
Гегель. Сочинения.— М.-Л. 1934. Т. 11. С. 18. Курсив Бухарина Н. И.
(обратно)285
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«Абсолютная идея… есть тождество теоретической и практической идеи, каждая из которых, взятая отдельно, ещё одностороння…» (Гегель. Сочинения. Перевод Б. Г. Столпнера, просмотренный В. Брушлинским. Под ред. М. Б. Митина.— М., 1939. Т. Ⅵ. С. 296).
(обратно)286
Einleitung zu einer Kritik der politische Ökonomie — Введение к Критике политэкономии.
(обратно)287
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«Гегель поэтому впал в иллюзию, понимая реальное как результат себя в себе синтезирующего, в себе углубляющегося и из самого себя развивающегося мышления…». Далее правильно. Ремарки Н. Бухарина. (См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения.— М.: Полит. Лит., 1968. Т. 46. Ч. 1. С. 37—38).
(обратно)288
Ideologische Stande — (нем. здесь — идеологическое сословие).
(обратно)289
Prolegomena — (гр. Пролегомены, предисловие, введение к изучению какого-либо вопроса, дающее предварительное о нём понятие).
(обратно)290
Idola — (лат. идолы).
(обратно)291
ldola tribus — (лат. идолы племени). Заблуждения, обусловленные родовой ограниченностью человека (Ф. Бэкон) Idola theatri — (лат. идолы театра). Заблуждение, возникающее из-за слепого доверия авторитетам (Ф. Бэкон).
(обратно)292
Oberklasse — (нем. «Высшие» классы общества).
(обратно)293
Unterklasse — (нем. «Низшие» классы общества).
(обратно)294
См. К. Маркс Капитал. Критика политической экономии.— М.: Полит. Лит. 1988. Т. Ⅱ. С. 41—42.
(обратно)295
Саллюстий. «Заговор Катилины». («De coniuratione Catilinae») написана около 78—67 гг. до н. э.
(обратно)296
Фома Аквинский «Summa theologiae» — «Сумма теологии».
(обратно)297
Конрад Н. И. «Очерк японской истории с древнейших времён до революции Мейддзи» // В кн. Япония. Сб. ст./ Под ред. Е. Жукова и А. Розена.— М. 1934.
(обратно)298
Имеется в виду работа Марра Н. Я. Актуальные проблемы и очередные задачи яфетической теории.— М.: Из‑во Ком. Академ. 1929; Марр Н. Я. Вопросы языка в освещении яфетической теории.— Л.: ОГИ3.1933.
(обратно)299
Quantité négligeable — (лат. быть незначительным). На самом деле фр. «пренебрежимо-малая величина» — прим. СРС.
(обратно)300
Преторианцы — (лат. praetoriani): 1) В др. Риме первоначально — личная охрана полководца, позднее — императорская гвардия; 2) Наёмные войска.
(обратно)301
Славянофилы — представители одного из направлений русской общественной мысли середины 19 в.: выступали за принципиально отличный от западно-европейского пути развития России на основе её самобытности.
(обратно)302
Inde ira — (лат Отсюда следует). На самом деле — лат. «отсюда гнев», т. е. «отсюда все беды» — прим. СРС.
(обратно)303
«Упанишады» — (санскр. сокровенное знание), закл. часть вед, их окончание («ведаанта»); основа всех ортодоксальных (принимающих авторитет вед) религ.-филос. систем Индии, в т. ч. веданты. Из св. 200 У. ок. 10 считаются главными. Время создания 7—3 вв. до н. э.— 14—15 вв. н. э.
(обратно)304
Testimonium paupertalis — (лат.) Здесь «Обнаружение собственной слабости, своих слабых сторон».
(обратно)305
Зиммель Г. „Soziologie“, 4 Aufl., В., 1958; „Philisofie des Geldes“, 4 Aufl., Lpz.-Munch., 1922; „Über soziale Differenzirung“, 1890; рус. пер. «Социальная дифференциация», 1909; «Конфликт современной культуры». П., 1923.
(обратно)306
Сакиа-Муни — см. Будда.
(обратно)307
Аскеза — (гр. askesis образ жизни), образ жизни, отвечающий требованиям аскетизма.
(обратно)308
Аффектация — (лат. affectatio), необычное, искусственное возбуждение, неестественность в жестах, манерах, чрезмерная приподнятость речи. В данном случае речь идёт не об «аффектации», а о получении положительных «аффектов», т. е. сильных эмоциональных переживаний — прим. СРС.
(обратно)309
В указанном произведении цитата не обнаружена.
(обратно)310
В указанном произведении цитата не обнаружена.
(обратно)311
Леви-Брюль «Les functions mentales dans les sociètés inferieures». P., 1922.
(обратно)312
Causa sui — (лат. причина себя (схоластический термин)). По Спинозе, субстанция — причина самой себя.
(обратно)313
Ex nihilo — (лат. Из ничего).
(обратно)314
Лат. «в узком смысле» — прим. СРС.
(обратно)315
В указанном сочинении цитата не обнаружена.
(обратно)316
Toolmaking animal — «Человек — это животное, делающее орудие».
(обратно)317
Гегель. Сочинения.— М. 1932. Т. Ⅹ. С. 325.
(обратно)318
Гегель. Сочинения. Под ред. и с вступительной статьёй А. А. Максимова.— М. — Л. 1934. Т. Ⅱ. С. 357—358.
(обратно)319
Гегель. Сочинения.— М. 1932. Т. Ⅹ. С. 130.
(обратно)320
Фр., «поживём — увидим» — прим. СРС.
(обратно)321
Konjunkturforschung — (нем. изучение конъюнктуры).
(обратно)322
Отмар Шпанн (1878—1950), австрийский философ, социолог, экономист, представитель «младоконсерватизма»; придавал особое значение государству, проповедовал кастово-социальное устройство общества, иерархичность — прим. СРС.
(обратно)323
Шпенглер О. «Закат Европы» (Bd. 1—2. 1918—22, рус. пер. 1923. Т1).
(обратно)324
Revolutionäre Praxis — (нем. Практика революции).
(обратно)325
Umwalzende Praxis — (нем. Практика переворота).
(обратно)326
Фетишизм — (фр. fetichisme, от fetiche — идол, талисман). Здесь — характерный для товарно-капиталистического общества процесс наделения продуктов труда сверхъестественными свойствами (самовозрастание стоимости и пр.), обусловленный овеществлением социальных отношений и персонификацией вещей.
(обратно)327
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«Идеология — это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные движущие силы, которые побуждают его к деятельности, остаются ему неизвестными… Он создаёт себе, следовательно, представления о ложных или кажущихся побудительных силах. Так как речь идёт о мыслительном процессе, то он и выводит как содержание, так и форму его из чистого мышления — или из своего собственного, или из мышления своих предшественников. Он имеет дело исключительно с материалом мыслительным; без дальнейших околичностей он считает, что этот материал порождён мышлением, и вообще не занимается исследованием никакого другого, более отдалённого и от мышления независимого источника» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения.— М., 1966.— т. 39, с. 83).
(обратно)328
Цитата в указанном произведении не найдена.
(обратно)329
Аберрация — (лат. Aberratio < aberrare отклоняться, заблуждаться).
(обратно)330
В указанном произведении цитата не обнаружена.
(обратно)331
В указанном произведении цитата не обнаружена.
(обратно)332
Einleitung — (нем. Введение).
(обратно)333
Ленин В. И. ПСС.— М.: Полит. лит., 1963. Изд. 5. Т. 29. С. 150.
(обратно)334
Там же.
(обратно)335
Релятивизм — (лат. relativus относительный), идеалистическое учение об относительности, условности и субъективности человеческого познания, отрицающее объективное содержание знания.
(обратно)336
Ленин В. И. ПСС.— М.: Полит. лит., 1963. Изд. 5. Т. 29. С. 150.
(обратно)337
Софисты — (от греч. софист-мудрец), название (со второй половины Ⅴ в. до н. э.) философов-профессионалов, учителей философии и красноречия.
(обратно)338
Ленин В. И. ПСС.— М.: Полит. лит. Изд. 5. 1963. Т. 29. С. 245.
(обратно)339
Теллурический — (от лат. tellus (telluris) земля).
(обратно)340
Киренаики — древнегреческая философская школа, основанная в Ⅴ в. до н. э. в Кирене (Сев. Африка) Аристиппом. Киренская школа дала ряд представителей античного атеизма.
(обратно)341
Ленин В. И. ПСС.— М., Полит. лит. Изд. 5. 1963. Т. 29. С. 251.
(обратно)342
Гегель. Сочинения.— М.: 1932. Т. Ⅹ. С. 17.
(обратно)343
В указанном произведении цитата не обнаружена.
(обратно)344
Брахман — (санскр.), в др.-инд. религ. умозрении и исходящих из него философских учениях высшая объективная реальность, безличное абсолютное духовное начало, из которого возникает мир со всем, что есть в мире, разрушается, растворяясь в Б. На самом деле под «браманизмом» (брахманизмом) обычно понимается ведическая религия в целом либо этика касты брахманов, и Брахман здесь совершенно не при чём — прим. СРС.
(обратно)345
Утилитаризм — (от лат. utilitas польза, выгода), 1) принцип оценки всех явлений с точки зрения их полезности, возможности служить средством для достижения к.‑л. цели. 2) направление в этике, считающее пользу основой нравственности и критерием человеческих поступков.
(обратно)346
Virtù — (ит. доблесть).
(обратно)347
Эпигоны — (греч. epigonos букв. родившиеся после, потомки). Здесь имеются в виду некритические последователи какого-л. направления в литературе, философии, ухудшающие качество образца — прим. СРС.
(обратно)348
Эпикурейство — учение др.‑гр. философа-материалиста Ⅳ—Ⅲ вв. до н. э. Эпикура и его последователей, исходивших из признания материального единства мира.
(обратно)349
Qui pro quo — (лат. одно вместо другого), путаница, недоразумение.
(обратно)350
Гегель. Сочинения.— М.: Парт. изд. 1932. Т. Ⅹ. Кн. Ⅱ. С. 359—360.
(обратно)351
Summum bonum — (лат. Высшее благо. Бог).
(обратно)352
Carpe diem — (лат. Пользуйся днём). Употребляется в значениях: не теряй времени, стремись употребить его с пользой.
(обратно)353
Гедонизм — (от греч. hedone наслаждение), этическая позиция, утверждающая наслаждение как высшее благо и критерий человеческого поведения и сводящая к нему всё многообразие моральных требований.
(обратно)354
Имеется в виду работа В. И. Ленина «Задачи союзов молодежи».— ПСС .Т. 41. С. 298—318.
(обратно)355
Minderwertigkeitsgefühl — (нем. (психол.) чувство неполноценности).
(обратно)356
Сэмюэл Смайлс (1812—1904) — шотл. писатель, автор нравственно-философских сочинений — прим. СРС.
(обратно)357
Стефани-Фелисите Дюкре де Сент-Обен, графиня де Жанлис (1746—1830) — автор сентиментальных романов моралистической направленности — прим. СРС.
(обратно)358
Фишер К. История Новой философии. Пер. с нем. юбилейного изд.— С.‑П. 1902. Т. 8. С. 196—197.
(обратно)359
Апологеты — (от гр. apologeomai защищаю). Здесь ярый приверженец какой-либо идеи, направления.
(обратно)360
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«Гегель вынужден был строить систему, а философская система, по установившемуся порядку, должна была завершиться абсолютной истиной того или иного рода. И тот же Гегель, который особенно в своей „Логике“, подчёркивает, что эта вечная истина есть не что иное, как сам логический (resp. исторический) процесс, тот же самый Гегель видит себя вынужденным положить конец этому процессу, так как надо же было ему на чём-то закончить свою систему. В „Логике“ этот конец он снова может сделать началом, потому что там конечная точка, абсолютная идея,— абсолютная лишь постольку, поскольку он абсолютно ничего не способен сказать о ней, „отчуждает“ себя (то есть превращается) в природу, а потом в духе, то есть в мышлении и в истории, снова возвращается к самой себе. Но в конце всей философии для подобного возврата к началу оставался только один путь. А именно, нужно было так представить себе конец истории, человечество приходит к познанию как раз этой абсолютной идеи и объявляет, что это познание абсолютной идеи достигнуто в гегелевской философии. Но это значило провозгласить абсолютной истиной всё догматическое содержание системы Гегеля и тем стать в противоречие с его диалектическим методом, разрушающим всё догматическое. Это означало задушить революционную сторону под тяжестью непомерно разросшейся консервативной стороны…» (Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии.— М.: Полит. лит. 1981. Т. 21. С. 8—9).
(обратно)361
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«…параллелью эмбриологии и палеонтологии духа, отображением индивидуального сознания на различных ступенях его развития, рассматриваемых как сокращённое воспроизведение ступеней, исторически пройдённых человеческим сознанием…» (Там же. С. 10.).
(обратно)362
В указанном сочинении цитата не обнаружена.
(обратно)363
Письмо Энгельса Фридриху Альберту Ланге от 29 марта 1865 г. Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«…его настоящая философия природы заключается во второй книге „Логики“, в учении о сущности, которое, собственно говоря, и есть ядро всей доктрины». (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения.— М.. Полит. лит., 1963. Изд. 2. Т. 31. С. 395).
(обратно)364
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«Мы должны рассматривать природу как систему ступеней, каждая из которых необходимо вытекает из другой и является ближайшей истиной той, из которой она проистекала, причём однако здесь нет естественного, физического процесса порождения, а есть лишь порождение в лоне внутренней идеи, составляющей основу природы. Метаморфозе подвергается лишь понятие как таковое, так как лишь его изменения представляют собою развитие». «Мыслительное рассмотрение должно воздержаться от такого рода в сущности туманных представлений, как например представление о так называемом происхождении растений и животных организаций из низших и т. д.» (Гегель. Сочинения. — М.-Л. 1934. Т. 2. С. 28).
(обратно)365
Там же. С. 9.
(обратно)366
Имеется в виду трактат Гете «Zur Farblehre» (1810), с. 325.
(обратно)367
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«Говоря по чести, я сожалею, что… Хинрикс,.. позволил до того начинить себя гегелевской философией, что утратил естественную способность к созерцанию и к мышлению и сверх того выработал в себе столь тяжеловесный образ мыслей и манеру выражения, что в его книге мы натыкаемся на места, когда наш разум немеет и мы не понимаем, что же это такое перед нами… в его книге немало мест, где мысль застревает в неподвижности, а тёмный язык топчется на месте, вернее, движется лишь по кругу точь-в-точь как в ведьминой таблице умножения в моем „Фаусте“» (Эккерман И. П. «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни». Пер. с нем. Н. Ман.— М., Худ. лит., 1986. С. 497—498).
(обратно)368
Письма фон Мюллеру от 16 июля 1827 нет. Цитата не обнаружена.
(обратно)369
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«…Хотя новейшую философию нередко (в насмешку) называли философией тождества, как раз философия (и главным образом спекулятивная логика) показывает ничтожность абстрагирующего от различия, чисто рассудочного тождества; правда, она столь же энергично настаивает на том, что мы не должны успокаиваться на одной лишь голой разности, а должны познавать внутреннее единство всего сущего» (Гегель. Энциклопедия философских наук.— М. АН СССР. 1974. Т. 1. С. 276).
(обратно)370
Цитата не обнаружена.
(обратно)371
Кант И. «Критика чистого разума» (1781); «Критика практического разума» (1788).
(обратно)372
В указанном сочинении цитата не обнаружена. Она здесь: Гегель. Энциклопедия философских наук. М., 1929, С. 318—319 — прим. СРС.
(обратно)373
Фишер К. История Новой философии. Пер. с нем. юбилейного изд.— С.-П., 1902. Т. 8. С. 24.
(обратно)374
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«Цель, абсолютное знание, или дух, знающий себя в качестве духа, должен пройти путь воспоминания о духах, как они существуют в нём самом и как они осуществляют организацию своего царства. Сохранение их (в памяти), если рассматривать со стороны их свободного наличного бытия, являющегося в форме случайности, есть история, со стороны же их организации, постигнутой в понятии,— наука о являющемся знании; обе стороны вместе — история, постигнутая в понятии, и составляют воспоминания абсолютного духа и его Голгофу, действительность, истину и достоверность его престола, без которого он был бы безжизненным и одиноким; лишь пенится для него бесконечность из чаши этого царства духов». (Гегель. Сочинения.— М., 1959. T. Ⅳ. C. 434).
(обратно)375
Герцен А. И. Собрание сочинений в 30‑ти томах.— М., 1954. Т. 1. Курсив Бухарина.
(обратно)376
Апология — (гр. apologia защита кого-либо, чего-либо), заступничество; восхваление.
(обратно)377
Антропологизм — (гр. anthropos человек + логия), представление о человеке как о высшем продукте природы, биологизация человека; непонимание его социально-исторической сущности; ненаучное объяснение явлений общественной жизни свойствами и потребностями отдельных людей как биологических существ, а не на основании исторических законов развития общества.
(обратно)378
Гёте. Сочинения. Под общ. ред. А. В. Луначарского и М. Н. Розанова. Вступ. статья A. B. Луначарского.— М.: Худлит. 1937. Т. Ⅹ. 4. Ⅲ—Ⅳ. C. 715.
(обратно)379
Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Эта дурная бесконечность есть в себе то же самое, что продолжающееся во веки веков долженствование; она хотя и есть отрицание конечного, не может, однако, истинно освободиться от него; это конечное снова выступает в ней же самой как её другое, потому что это бесконечное имеет бытие лишь как находящееся в соотношении с другими для него конечными» (Гегель. Сочинения.— М. Пер. Б. Г. Столпнера. Под ред. М. Б. Митина. 1939. T. Ⅴ. C. 142).
(обратно)380
Ex nihilo nil (nihil) fit — (лат. Ничто не происходит из ничего).
(обратно)381
«Парменид» — диалог Платона, названный по имени главного представителя элейской школы.
(обратно)382
Бухарин даёт свой перевод Галлера, у Гегеля:
«Нагромождаю тьму чисел, мильоны гор, нагромождаю времена над временами, миры над мирами. И когда я со страшной высоты снова взираю с головокружением на тебя, то вся сила чисел, умноженная тысячекратно, ещё не составляет и части тебя. Я их вычитаю, а ты — весь предо мною» (Гегель. Сочинения. Пер. Б. Г. Столпнера. Под ред. М. Б. Митина.— М., 1939. T. Ⅴ. С. 256).
(обратно)383
Гегель. Сочинения.— M., 1937. T. Ⅴ. C. 455.
(обратно)384
Акциденция — (лат. accidentia случайность), здесь фил. случайное, преходящее состояние, несущественное свойство предмета.
(обратно)385
Аподиктический — (гр. apodeiktikos), достоверный, основанный на логической достоверности, неопровержимый.
(обратно)386
Пленге. Marx und Hegel (Tübingen, 1911), (Маркс и Гегель).
(обратно)387
Издатели приводят слово, отсутствующее в немецких словарях; выяснить, что именно было написано Бухариным (и имелось у Зомбарта), не удалось — прим. СРС. (Вероятно, опечатка и имелось в виду Lehrmeinungen — доктрины, теории.— прим. РМП.)
(обратно)388
Der Ausgang des Kapitalismus — (нем. Исход капитализма).
(обратно)389
Имеется в виду соч. Канта «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755).
(обратно)390
Wissenschaft der Logik — (нем.) Имеется в виду работа Гегеля «Наука логики».
(обратно)391
В указанном сочинении цитата не обнаружена.
(обратно)392
Ленин В. И. ПСС.— М.: Полит. лит. 1963. Т. 29. С. 202—203.
(обратно)393
Ленин В. И. Там же. С. 203.
(обратно)394
Так в тексте.— прим. СРС.
(обратно)395
Речь идёт о работах В. И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма» (популярный очерк). (Январь — июнь 1916 г.); «Кризис назрел» (29 сентября 1917 г.).
(обратно)396
Имеется в виду работа В. И. Ленина «Марксизм и восстание». Письмо Центральному Комитету РСДРП(б) (сентябрь 1917 г.).
(обратно)397
Гегель.Сочинения. Т. Ⅹ. С. 240.
(обратно)398
В указанном произведении цитата не обнаружена.
(обратно)399
Контроверза — фp. Controversa < лат. controversia — спор, разногласие, спор; спорный вопрос.
(обратно)400
Дарвинизм — теория эволюции органического мира, обоснованная Ч. Дарвиным и развитая его учениками и последователями.
(обратно)401
Механоламаркисты — принимают в противоположность автогенетикам лишь развитие под влиянием внешних физико-химических факторов. Большинство из них не отрицают творческой роли естественного отбора.
(обратно)402
Психоламаркисты — полная противоположность механоламаркистам, которые, стоя на почве панпсихизма и витализма, объясняют органический прогресс и целесообразность сознательной деятельности протоплазмы как животных, так и растений.
(обратно)403
Имеется в виду — Идеография — письмо при помощи идеограмм; способ обозначить письменным знаком целое понятие; таковы в современных системах письма, цифры, химические и математические символы и т. п.
(обратно)404
Номография — (гр. nomos закон +…графия), раздел математики, изучающий теорию и способы построения особых чертежей, называемых номограммами, с помощью которых можно, не производя вычислений, получать решения вычислительных задач.
(обратно)405
Гегель. Сочинения.— М.‑Л. 1934. Т. Ⅱ. С. 11.
(обратно)406
Ламентация — (лат. lamentatio жалоба, сетование).
(обратно)407
Сентенция — (лат. sententia мнение, суждение), изречение нравоучительного характера.
(обратно)408
Гегель. Сочинения.— М.‑Л. 1934. T. Ⅱ. С. 403.
(обратно)409
Цитата не обнаружена.
(обратно)410
Историческая школа (в полит. экономии) возникла в 40‑х гг. ⅩⅨ в. в Германии. Историческая школа права — направление в науке права, гл. обр. в Германии, возникло в нач. ⅩⅧ в.; выдвигает учение о стихийном развитии права из «народного духа». Главные представители И. Ш. П.— Гуго, Савиньи, Пухта.
(обратно)411
Гегель. Сочинения. Под ред. и вступ. стат. А. А. Максимова — М.‑Л. 1934. С. 29—30.
(обратно)412
Бонне Шарль. (Bonnet Charles. «Contemplation de la nature» (1781), «Traité d’insectologie» (1779).
(обратно)413
Бухарин цитирует по памяти. Правильно:
«Говорят: в природе не бывает скачков, и обычное представление, …полагает, … что постигает их, представляя их себе как постепенное происхождение или исчезновение. Но мы показали, что вообще изменения бытия суть не только переход одной величины в другую, но и переход качественного в количественное и наоборот, становление иным, представляющее собою перерыв постепенности и качественно другое по сравнению с предшествующим существованием». (Гегель. Сочинения. Пер. Б. Г. Столпнера. Под ред. М. Б. Митина.— М., 1939. T. Ⅴ. С. 434).
(обратно)414
That is the question — (англ. Вот вопрос).
(обратно)415
Имеется в виду книга Петцольда «Проблема мира с точки зрения позитивизма» (рус. пер. СПб, 1909).
(обратно)416
Геккель «Natürliche Schöpfungsgeschite» (рус. пер. 1908).
(обратно)417
В указанном сочинении цитата не обнаружена.
(обратно)418
Риккерт. Границы естественно-научного образования понятий.— СПб. 1903.
(обратно)419
Гетерогенный — (гр. geterogenes неоднородный по составу. На самом деле от гр. heteros — иной и genos — род — здесь: инородный, иного происхождения — прим. СРС.
(обратно)420
Чупров A. A. Очерки по теории статистики. 1959.
(обратно)421
Par excellence — (фр. по преимуществу, преимущественно).
(обратно)422
Идеально, т. е. в идее, в пределе — прим. СРС.
(обратно)423
Ленин. ПСС.— М. Т. 29. С. 254.
(обратно)424
Гегель. Сочинения.— М., 1932. Т. Ⅹ. С. 207.
(обратно)425
Имеется ввиду произведение Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532).
(обратно)426
Кампанелла Ф. Город Солнца (La citta del Sole. 1602). Пер. с лат. и коммент. Ф. А. Петровского. С предисл. В. П. Волгина.— М.‑Л.: 1934.
(обратно)427
Имеется в виду «Принцип» и «Князь». Точнее, «Discorsi» = «Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio» — Рассуждения на первую декаду Тита Ливия; «IL Principe» — «Государь» («Князь») — прим. СРС.
(обратно)428
Эзотерический — (гр. esoterikos внутренний), тайный, скрытый, предназначенный исключительно для посвящённых.
(обратно)429
Котерия — фр. coterie кружок, сплочённая группа.
(обратно)430
«Манифест Коммунистической партии» (1848).
(обратно)431
Лавров П. А. «Из истории социальных учений». Пч. «Колос», 1919.
(обратно)432
Ит. «прошедшие времена» — прим. СРС.
(обратно)433
Ленин В. И. ПСС.— М.: Полит. лит., 1969. Изд. 5. Т. 29. С. 161.
(обратно)

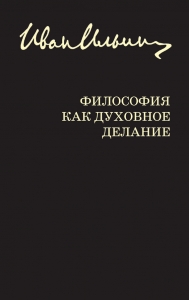

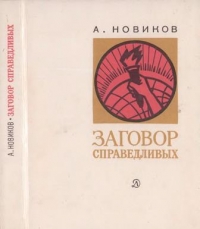

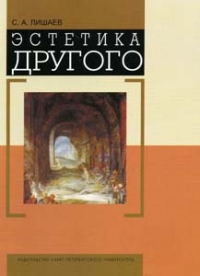
Комментарии к книге «Философские арабески», Николай Иванович Бухарин
Всего 0 комментариев