Российская Академия Наук Институт философии
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ ВЫП. 6
Москва 2000
ББК 151.1
УДК–100
Ответственный редактор :
доктор филос. наук А. П. Огурцов, доктор филос. наук В. М. Розин
Рецензенты:
доктор филос. наук Б.Г.Юдин
кандидат филос. наук П. Д. Тищенко
Ф–56 Философия науки. Вып. 6. — М., 2000. —000 c.
Очередной выпуск ежегодника ИФ РАН "Философия науки" состоит из трех разделов. В первом разделе публикуются материалы Смирновских чтений 1999 г., в которых исследуются теоретико-методологические проблемы современной науки. Во втором разделе собраны статьи, в которых анализируются философские проблемы социальных наук. Третий раздел посвящен историческим путям философии науки в 19 и 20 вв. Философия науки представляет собой область междисциплинарных исследований, в которых наряду с методологами науки принимают участие и специалисты в тех или иных областях ночного знания. Им и адресуется данный Ежегодник.
ISBN 5–201–02036–4 © ИФРАН, 2000
Оглавление
I. Теоретические проблемы философии современной науки (материалы Смирновских чтений)
Севальников А.Ю. О некоторых тенденциях в интерпретации науки
Мамчур Е.А. Принцип "арациональности" и границы социологии познания.
Эрекаев В.Д. Некоторые следствия ЭПР-парадокса
Казютинский В.В. Инфляционная космология: теория и научная картина мира
Печенкин А.А. Модальная интерпретация квантовой механики.
Липкин А.И. О месте моделей в современной физике.
Левич А. И. Природные референты "течения" времени.
II. Философия социальных наук
Сачков Ю. В. Научный метод и познание социальных явлений.
Абрамова Н.Т. Коммуникация и традиция.
Меркулов И. П. Феномен сознания: когнитивные истоки культуры.
Блюхер Ф. Н. Время в истории.
Никитаев В. В. К онтологии множественности миров.
Давыдов Ю. Н. Античная предыстория социальной науки.
III. Из истории философии науки
Огурцов А.П. Философия науки 20 века: успехи и поражения (статья 1).
Новиков А. А. Пять ипостасей русского интуитивизма.
Розин В.М. Опыт изучения творческого пути М.Фуко.
Маркова Л.А. Наука и логика смысла Ж.Делеза
раздел I теоретические проблемы философии современной науки
(Материалы III Смирновских чтений)
А.Ю.Севальников
О некоторых тенденциях в интерпретации науки
Мы переживаем эпоху krisiV’a, по-гречески — суда, судебного разбирательства. Глобальный перелом захватил и то, что породило современную цивилизацию, — науку. Речь идет не о тех очевидных трудностях, связанных прежде всего с общей экономической ситуацией, как-то: проблемы недофинансирования, износа материально-технической базы, оттока умов и т.п., а с процессами внутри самой науки.
Породив изначально великие надежды и мечты, сейчас она действительно испытывает кризис, но кризис совершенно особого рода. Нет, наука не исчезла, не “навсегда покинула нас” (В.Н.Тростников), она есть, развивается и по-прежнему определяет лицо цивилизации. Однако кризис существует, и это, прежде всего, кризис ее оснований, ее метафизических истоков, о которых хотели забыть, но которые вдруг неконтролируемо вырвались наружу. В этой ситуации крайне интересно проанализировать, что же происходит в этой области. Каковы истоки науки? Каков ее ценностный статус? Как оценить ту роль, что она сыграла в мировой культуре за последние три столетия? Как она в действительности соотносится с философией и религией? Вот далеко не полный перечень вопросов, которые всегда обсуждались в философии и которые необычайно широко обсуждаются в России последнее десятилетие.
То, что может быть увидено или схвачено, всегда зависит от того, где мы находимся и как высоко мы поднялись для своего обзора. Несмотря на все декларации об “объективности”, непредвзятости анализа, его “улов” зависит от изначальной точки зрения, того метафизического, мировоззренческого фундамента, на котором находится автор. Нашим отправным утверждением будет тезис М.Бубера из его работы “Религия и действительность”: “Истинный характер эпохи достовернее всего усматривается в преобладающем в ней типе взаимоотношений между религией и действительностью” [1, с. 346][1]. Физическую реальность исследует, прежде всего, естествознание, поэтому вопрос его соотношения с религией приобретает особую актуальность. Уже минуло десятилетие, как исчезли идеологические оковы, по этой тематике появилось невообразимое количество работ, так что вполне можно подводить некоторые итоги.
Сразу необходимо отметить, что академическая философия выступает далеко не в роли лидера. Гораздо раньше эта проблематика стала обсуждаться учеными, Церковью, мистиками, или просто любителями. В этих рамках можно отметить ежегодные конференцию “Наука, философия, религия”, проводимые, прежде всего, Объединенным Институтом ядерных исследований и Московской Духовной Академией, конференцию “Рождественские чтения” с секцией “Научная апологетика”, проводимую Московской Патриархией, регулярный семинар “Фундаментальная наука и духовная культура” Ю.С.Владимирова на физфаке МГУ. И только в последнее время появились два постоянно действующих семинара П.П.Гайденко и В.Н.Катасонова в Институте философии РАН, здесь же, правда, необходимо отметить и хороший сборник “Философско-религиозные истоки науки”, подготовленный коллективом сектора.
Можно выделить наиболее часто обсуждаемые вопросы, один из них — это вопрос генезиса современной науки. Эта тема давно привлекала внимание как зарубежных, так и отечественных исследователей. Сейчас эта тема приобрела второе дыхание и не в последнюю очередь из-за усилившейся критики науки.
Эта критика раздается не только из гуманитарных кругов, связанных прежде всего с философией постмодернизма, но и со стороны мистических, неоспиритуалистских групп, разного рода экологистских кругов и т.п. Упреки в адрес науки тесно переплетаются с критикой христианства. Исходя из библейского повеления: “Наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле” (Быт. 1:28), подвергается критике понимание человека как образа Божия, человека, как владыки над природой. Согласно такой точке зрения, именно здесь лежат корни современного отношения к природе как объекту господства со стороны человека и именно с этим связывается “агрессивный и наступательный” характер современной западной цивилизации, приведшей человечество к экологическому кризису.
“Однако не забудем, — как справедливо отвечает на эту критику П.П.Гайденко, — что, согласно, библейскому повествованию, человек после грехопадения утратил ту первоначальную чистоту, которая была источником как его силы, так и его сочувственной близости ко всей живой твари на земле, благодаря чему он мог “пасти бытие”, если употребить известную метафору Хайдеггера, а не господствовать над ним как своекорыстный насильник” [2, с. 54][2].
Безусловно, современная наука родилась в лоне западноевропейской христианской цивилизации, но какова роль самого христианства, так сказать, “в чистом виде”, до сих пор остается дискуссионной.
В последнее время наибольшее распространение получило представление о том, что научную революцию в главных ее чертах определило возрождение герметической традиции в эпоху Ренессанса. Количество работ, посвященной этой теме, постоянно возрастает. Среди первых можно отметить исследования Ф.Йейтс, Р.Уэстмана, Дж.Макгуайра, П.Рэттанси.
В своей известной книге “Джордано Бруно и герметическая традиция” (1964) Йейтс говорит о “герметическом импульсе как движущей силе” возникновения классической науки, причем основой при этом явилась “алхимическая философия”. За годы, прошедшие со времени публикации, работа Йейтс прошла многостороннюю и придирчивую “проверку” историков науки, стремившихся подтвердить или опровергнуть содержащиеся в ней тезисы.
Ни у кого не вызывает сомнения принадлежность к герметической традиции Дж.Бруно, Парацельса, Ван Гельмонта, Джона Ди, Роберта Фладда, Фр.Патрици, целого ряда других представителей позднего Возрождения. Часто, в качестве возражения, утверждается, что собственно у истоков современной науки находятся совсем другие личности, прежде всего Коперник, Галилей, Кеплер, Ньютон, Декарт, Бэкон, которые весьма далеки по своему мировоззрению от оккультных наук. Тем не менее, как показывают современные исследования, такое утверждение далеко от истины. “Еще несколько лет назад никто и не подозревал о роли Ньютона в этом общем движении, направленном на renovatio европейской религии и культуры с помощью смелого синтеза оккультных традиций и естественных наук. Правда, Ньютон никогда не публиковал результаты своих алхимических опытов, хотя и объявил, что некоторые увенчались успехом. Его бесчисленные алхимические рукописи, неизвестные до 1940 года, недавно были детально проанализированы профессором Бетти Т.Доббс в ее книге “The Foundations of Newton Alchemy” (1975). Проф. Доббс сообщает, что Ньютон проводил в своей лаборатории опыты, описанные в обширной архимической литературе, “в таких размерах, в каких это не делалось никогда, ни до, ни после него” (Dobbs, c. 88) [3, с. 247][3]. По различным оценкам, объем алхимических рукописей, прошедших через его руки, был около 5000 страниц. “Полагают, что Ньютон был членом тайного общества алхимиков, но даже придумал себе алхимический псевдоним Ieova sanctus unus (Единый святой Иегова) — анаграмму своего имени Isaacus Neutonus” [4, с. 307][4]. Всеми авторами, изучавшими эту сторону деятельности Ньютона, подчеркивается его глубокое понимание алхимической проблематики. “С помощью алхимии Ньютон надеялся открыть структуру микроуниверсума, чтобы сопоставить ее со своей космологической системой. Открытие земного притяжения — силы, удерживающей планеты на орбитах, не удовлетворяло его до конца. Однако, несмотря на то, что он с 1669 по 1696 г. неустанно проводил опыты, ему не удалось найти силы, которые управляют корпускулами. Тем не менее, когда в 1679—1680 гг. он начал исследовать динамику орбитального движения, то применил к Вселенной свои “химические” концепции притяжения” [5, с. 247].[5]
Ньютон был уверен, что в алхимии существуют истинные тайны, скрытые от непосвященных, и которое “в наши дни… может быть возвращено с помощью опытов и еще более строгим способом…”. По мнению Доббс, “алхимическое мышление Ньютона было столь прочным, что он никогда не отрицал его значимости. В определенном смысле всю карьеру Ньютона после 1675 г. можно интерпретировать как постоянное усилие объединить алхимию и философию механики” [6, с. 247-248][6].
Элиаде, так же как и Доббс, приходит к выводу, что современная наука — результат брака герметической традиции с философией механики. Здесь мы не будем анализировать выводы М.Элиаде, сами по себе достаточно интересные и заслуживающие внимания. Мы остановимся на других заключениях, опирающихся на этот же материал. Речь идет о ряде публикаций и выступлений известного поэта, культуролога, одного из лучших российских знатоков западноевропейской алхимии Евгения Головина.
В послесловии к изданию Лавкрафта издательства “ГАРФАНГ” им делается попытка соотнесения “современного строя сознания с черно-магическим видением мира”, утверждается, что многие аспекты современной науки совпадают с доктринами и учениями черной магии. Эту же тему он развивает в весьма примечательном интервью для журнала “Элементы”. Его трактовка истоков современной науки, конечно, маргинальна, но, тем не менее, эпатируя публику, она приобрела определенную известность и поэтому есть смысл на ней остановиться. Воспроизведем часть этого интервью:
“Эл.: Мирча Элиаде… не раз указывал, что современный мир… во многих своих аспектах воспроизводит отдельные стороны сугубо герметического, алхимического мировоззрения, лишенного, однако, спиритуального измерения. Эта тема… весьма актуальна и требует дальнейшего развития. Как Вы… отметили, отцы позитивистского мировоззрения были одновременно любителями магии и оккультных наук. Взять к примеру Кеплера…
Е.Г.: Безусловно… Крайне интересен переход магического мировоззрения в мировоззрение научное. Иногда этот переход неуловим, как… у того же Кеплера, который был когда-то другом Роберта Фладда и придворным астрологом мистического императора Рудольфа Второго, но при этом он заложил основы сугубо современной астрономической картины мира. Если внимательно почитать Кеплера, то как раз открывается… весьма странное происхождение современной позитивистской науки… Другим представителем этого явления можно назвать Джона Ди, создателя теории “четвертого измерения”, написавшего глубокое исследование к “Началам” Евклида, знаменитого астронома и картографа. И в то же время Джон Ди — одна из исторических персонификаций доктора Фауста — является переходной фигурой от магии к позитивизму, он распят между магией и позитивистской наукой. Мне всегда было странно, как подобные люди могли это сочетать? Так уж ли несоединимо магическое мировоззрение с позитивистским?.. Есть серьезные основания считать современную науку очень точным продолжением черной магии, только если убрать… ее спиритуальный аспект. Я имею в виду негативную магию слова, орфического посвящения и невыносимо эсхатологический христианский аспект — сведение необозримого многообразия мира и миров к борьбе добра и зла. Если убрать все это у Роджера Бэкона, Альберта Великого и Парацельса, то мы получим весь инструментарий современной науки” [7, с. 50][7].
Такая точка зрения в принципе не нова, имплицитно она уже содержится в работах Йейтс, и позиция Головина лишь крайне и отчетливое выражение такой мысли. Историкам науки уже не раз приходилось подвергать критике воззрения подобного рода. “В качестве характерного примера можно сослаться на основательные “проверочные” исследования историка астрономии Уэстмена и историка физики Макгуайра, выпустивших книгу “Герметизм и научная революция”. Внимательно изучив восприятие коперниканства известными герметистами, Уэстмен пришел к выводу, что герметическая традиция сама по себе не создала ни “атмосферы”, ни связной аргументации, достаточных для того, чтобы склонить принадлежащих к ней деятелей к принятию гелиоцентрической альтернативы…
Макгуайр, внимательно изучивший возможное влияние на Ньютона “Герметического корпуса”, пришел к выводу, что, по сути дела, нельзя вообще говорить о герметизме как самостоятельном идейном течении: “Герметизм не был ни независимой исторической силой, ни обособленной интеллектуальной традицией, но… был почти всегда консолидирован и организован неоплатонизмом и распространялся благодаря оживлению последнего, так что неоплатонизм существует как независимая историческая реальность, чего нельзя сказать об интеллектуальных элементах герметизма” [8, 91-92][8].
Такие выводы подтверждаются и российским философом В.П.Визгиным, проведшим собственные исследования космологии Дж. Бруно. Позиция Визгина достаточно привлекательна, тонко нюансирована. Ему удается показать совместное влияние целого ряда традиций, где герметизм не был магистральным путем к науке нового времени. Не повторяя его известной аргументации, приведем выводы, которые нуждаются в дальнейшем развитии и подтверждении. “Да, магико-герметическое течение, столь широко распространенное и развившиеся в эпоху позднего Возрождения, сыграло свою роль в подготовке научной революции… Но, тем не менее, от спиритуализма, анимизма, и натуральной магии не было пути к новой науке, даже если бы вместе с этими учениями развился не только пантеизм, но и крайний атеизм… Герметический импульс расшатал традиционное христианство Запада, но наука возникла потому, что антихристианского срыва в восточный гностицизм при этом не произошло. И в этом уникальном событии свою роль сыграли и герметисты, и пуритане, и католики” [8, с. 140-141].
Е.А. Мамчур
Принцип “арациональности” и его границы [9]
Так называемое “допущение арациональности” было сформулировано Л.Лауданом с целью определить границы социологического подхода к анализу научного знания. Л.Лаудан выражает суть этого принципа следующим образом: “Социология познания может вступать в силу и применяться для объяснения научных идей только тогда, когда эти идеи не могут быть объяснены в терминах их рациональных достоинств” [1, p. 202][10] Иными словами, социологический анализ должен применяться лишь в том случае, когда речь идет о познавательных явлениях, которые не могут быть объяснены рационально. “Социология познания — только для девиаций” — так выразил сущность допущения арациональности У.Ньютон-Смит [2, p. 238][11]. Она должна и может применяться для объяснения появления и функционирования “плохой науки”, той, что “отклоняется” от прямого пути рациональности. “Хорошая” наука не нуждается в таком анализе: она может и должна быть объяснена с помощью когнитивных факторов. Появление, скажем, дарвинизма, с позиции принципа арациональности, не нуждается ни в каком социологическом объяснении, тогда как феномен “лысенковщины” требует социологического подхода.
Философами науки допущение арациональности было воспринято с энтузиазмом. Они решили, что в лице этого принципа найдено верное решение проблемы границ социологии познания. Дж.Р.Браун подчеркивает его позитивную роль в решении задачи рациональной реконструкции познавательного процесса, утверждая, что он направлен на то, чтобы максимально рационализировать познавательный процесс [3, 143][12]. Так же высоко оценивают его роль другие рационалистически ориентированные философы науки.
Руководствуясь принципом арациональности, философия науки в решении проблемы границ социологического подхода (к анализу знания), оказалась близка к традиционной социологии науки. Известный социолог Р.Мертон так определяет границы социологического подхода: “Центральным пунктом согласия всех подходов к социологии познания является тезис, согласно которому идеи имеют экзистенциальный (т.е. социальный) базис лишь в той мере, в какой они не могут быть определены имманентно (т.е. рационально)” [4, p. 516][13]. Эту точку зрения поддерживал и другой известный социолог науки — К.Манхейм. Он различал между имманентными и не-иммацентными идеями (подразумевая под имманентными идеями те, которые могут быть объяснены с привлечением только когнитивных факторов) и утверждал, что только не-имманентные идеи являются подходящим материалом для социологического анализа.
Между тем, возникшая в 70-х гг. социология познания (особенно то ее направление, которое получило название “Сильной программы социологии познания” — дальше СПСП (она разрабатывается представителями Эдинбургской школы исследования науки ) — относится к такому решению проблемы резко отрицательно. В противовес ему представители СПСП выдвигают принцип (методологической) симметрии. Согласно этому принципу, не только “плохая”, но и “хорошая” наука должна исследоваться средствами социологического анализа [5, p. 4-6][14].
Философы науки встретили принцип методологической симметрии (так же как и “Сильную программу” в целом) с негодованием. В принципе методологической симметрии они усмотрели отказ от признания внутренней логики науки, отрицание автономии научного знания. Они упрекают сторонников СПСП в забвении особого эпистемологического статуса науки, присущих ей специфических особенностей, отличающих ее от мифа, религии и других форм культурной деятельности людей.
Между тем, весь этот гнев в значительной мере напрасен. В самом по себе принципе симметрии, так, как его трактуют все социологические подходы к анализу научного знания, нет ничего криминального. В этом принципе, если он не сопровождается какими-либо дополнительными, более сильными, оговорками, находит отражение тот вполне очевидный факт, что наука является продуктом человеческой деятельности, одним из аспектов человеческой культуры, в силу чего может изучаться теми же методами, что и другие сферы человеческой интеллектуальной деятельности.
Так что сам по себе принцип методологической симметрии имеет право на существование. И в той мере, в какой социология познания ограничивается этим принципом, с нею все в порядке. Любая интеллектуальная деятельность, в том числе и научная, вполне может быть подвергнута таким образом понимаемому социологическому анализу без угрозы искажения её сущности. Принцип арациональности в данном случае оказывается не работающим.
Но тогда возникает вопрос, почему философы науки стремятся распространить действие принципа арациональности и на этот случай? В чем причина их резко отрицательного отношения к постулату методологической симметрии и к социальному вообще? Почему они считают, что социальные факторы всегда ведут только к девиациям?
Одна из причин заключается в особом истолковании самого понятия “социальное”. Философы науки трактуют социальное в смысле групповых интересов, носящих, к тому же, идеологический характер. Все примеры влияния социального на научное познание, которые приводит в своих работах сам автор принципа арациональностиЛ.Лаудан, являются примерами социальных факторов именно такого рода. Отрицая объяснительные возможности когнитивной социологии в теоретической реконструкции познавательного процесса, Лаудан пишет: “Говорим ли мы о социальных классах, экономических основаниях, системе родства, исполняемых ролях, психологических типах или образцах этнической общности, мы обнаруживаем, что все эти факторы не имеют непосредственного отношения к системам научного мировоззрения большинства ученых... Среди защитников (так же как и опровергателей) ньютоновской теории в 18 в. были как сыновья рабочих, так и аристократов; среди ученых, принявших дарвинизм в 1870-80 гг. были как политические консерваторы, так и политические радикалы; приверженцы коперниканской астрономии в 17 веке представляли собой целый спектр занимаемых положений и психологических типов, начиная с университетских преподавателей (Г.Галилей), профессионального военного (Р.Декарт) и кончая священником (М.Мерсенн)” [1, p. 68].
В таком же узком духе трактует социальное и У.Ньютон-Смит. Приводя примеры влияния социального на научное познание, Ньютон-Смит пишет: “Мы можем легко представить себе ученого на ранних стадиях развития науки, который, стремясь занять высокий пост в церкви, выбирает для разработки теорию, которая больше всего нравится церковным авторитетам (или современного молодого ученого, который, желая сделать научную карьеру, выбирает программу, поддерживаемую главой департамента, в котором он работает, хотя в глубине души он убежден, что эта программа лежит вне сферы настоящей науки)” [2, p. 246].
И если философы науки понимают социальное в таком духе, они правы в своем негативном отношении к нему: групповые идеологические интересы действительно способны повлиять на развитие науки самым негативным образом. Достаточно привести только один пример — лысенковщину. Следует отметить, однако, что исходя из такой узкой трактовки социального, философы науки в своем споре с социологами познания нередко бьют мимо цели, поскольку далеко не все социологические направления трактуют социальное в смысле групповых интересов. Многие из них исходят из значительно более широкого истолкования “социального”, понимая его как продукт общества в целом.
Когда, например, Д. Блур говорит о влиянии культурных факторов на математические теории числа и утверждает, что в различных культурах формировались различные концепции числа, он имеет в виду отнюдь не идеологические групповые интересы, а либо культуру античной Греции в целом, либо современную европейскую культуру [5, ch. 5].
Другой причиной негативного отношения к принципу методологической симметрии является то, что философы науки ошибочно приписывают социологам представления о более сильном, чем это есть в реальном бытии науки и в философских реконструкциях познавательного процесса, воздействии социального (на познавательный процесс). Обсуждая вопрос о влиянии социальных факторов на научное познание, можно иметь в виду как более слабое, так и более сильное воздействие. Более слабое воздействие можно охарактеризовать как социальную обусловленность познания, а более сильное — как социальную детерминированность познания. Философы науки подозревают социологов познания в том, что они всегда исходят из утверждений о существовании социальной детерминированности познания. На самом деле это далеко не всегда так.
Принцип методологической симметрии, сформулированный СПСП, не будучи снабженным какими-либо оговорками или дополненным какими-то другими принципами, ничего не говорит о том, какое влияние имеется в виду. Многие социологические направления, принимая этот принцип, предполагают слабое влияние, т.е. социальную обусловленность познания. Так, все направления социологического анализа знания, которые объединяют в последнее время под названием “конструктивизм”, фиксируя свое внимание на том, что наука является человеческим предприятием, что она — продукт деятельности людей [6][15], имеют в виду социальную природу познания и этим ограничиваются.
Есть, однако и такие направления, которые исходят из тезиса о более сильном влиянии. К ним относятся СПСП, а также социальный конструктивизм Б.Латура и С.Вулгара (СК) [7][16]. Так, один из авторов СПСП Д. Блур не просто констатирует влияние социокультурных факторов на математические концепции числа, он отрицает возможность существования единого корпуса математического знания. Он утверждает, что античная математика имеет такое же право на существование, как и современная математика, что она ничуть не хуже этой последней и является ее альтернативой.
Аналогичным образом представители СК не просто утверждают, что на интерпретацию экспериментальных фактов влияют социальные отношения различного рода. Латур и Вулгар полагают, что научные факты целиком и полностью являются социальной конструкцией. С их точки зрения, научные факты становятся фактами только в результате соглашения между учеными. Для представителей СК социальные интересы и мотивы являются главной движущей силой деятельности ученых. Они и не пытаются усмотреть какие-либо другие мотивы этой деятельности. Описывая основные тенденции анализа познавательной деятельности, заложенные СК, Я.Голинский пишет: “Внимание переключилось с аномалий как таковых на их конструирование и на те цели, которые при этом преследовались. Более предпочтительным стал представляться не столько вопрос о том, “что являлось аномалией”, сколько вопросы о том, “кто утверждал, что появилась аномалия” и “каким образом ему удалось убедить в этом других” [5, p. 25]. Эта форма вопроса, полагает Голинский, открывает путь к истинной причине появления аномалий — к исследованию распределения финансовых ресурсов в научном сообществе. Таким образом, поиски финансовой поддержки рассматриваются как основной фактор в оценке научных данных, а значит, и в развитии знания. Излишне говорить, что такая точка зрения является не просто циничной; она является карикатурой на реальную картину деятельности ученых.
СПСП помимо принципа методологической симметрии вводит принцип каузальности, согласно которому социальные факторы при объяснении развития науки должны рассматриваться в качестве причины появления и принятия теорий. Очевидно, что это означает социальную детерминацию научного познания. Принцип методологической симметрии вкупе с принципом каузальности — это уже определенная позиция, которая фактически означает релятивизм в трактовке научного знания, отказ от признания собственной истории науки, отличной от истории социального окружения. В отличие от тезиса о социальной обусловленности, тезис о социокультурной детерминированности естественнонаучного знания является весьма проблематичным. И здесь принцип арациональности может играть конструктивную роль, указав социологам действительные границы действия социальных факторов, фиксируя, что они ответственны за социокультурную обусловленность научного знания.
Таким образом, принцип арациональности, устанавливая границы социологии познания, сам обнаруживает пределы своей применимости. Он оказывается эффективным, если направлен против социологического подхода, предполагающего социальную детерминацию научного знания и/или отождествляющую социальное с групповыми идеологическими интересами. Социологические подходы, которые исходят из более слабых форм влияния социального и имеют в виду социальное в широком смысле слова, лежат вне сферы применимости этого принципа.
Под действие принципа арациональности подпадают социальный конструктивизм Латура и Вулгара (СК) и СПСП. Насколько нам известно, другие социологические подходы исходят из более слабых предпосылок[17]. Для таких направлений, как “конструктивизм”, который, как уже отмечалось, исследует науку в качестве продукта человеческой деятельности и этим ограничивается, или, например, антропологическое и этнографическое направления, которые остаются в рамках социальной обусловленности познания и не отождествляют социальное с идеологией, допущение арациональности оказывается не работающим. Эти социологические подходы, в сущности, не имеют границ.
В.Д.Эрекаев
Некоторые следствия ЭПР-парадокса: 1. Неопределенность одновременных квантовых измерений
Физическое истолкование процесса измерения в квантовой механике сопряжено с рядом существенных трудностей. Большинство из них связано с проблемой интерпретации коллапса волновой функции. Здесь мы рассмотрим некоторые особенности процедуры одновременных измерений в квантовой механике. Согласно квантовой механике, если операторы не коммутируют, то невозможно точно измерить значения соответствующих физических величин одной и той же частицы. Например, измеряя координату частицы и получая ее точное значение, мы не можем одновременно измерить точное значение импульса этой частицы. В рамках ЭПР парадокса [1, с. 604-611][18] мы приходим к выводу, что невозможно одновременно точно измерить эти же характеристики уже для двух частиц, удаленных после взаимодействия друг от друга на пространственно подобный интервал. Но так как частицы по условию мысленного ЭПР эксперимента движутся с одинаковыми скоростями и, следовательно, должны разойтись от места взаимодействия на одинаковое расстояние, то получается, что мы точно можем знать их местоположение и импульсы, которые по первоначальному предположению направлены в противоположные стороны. В этом противоречии и состоит суть ЭПР парадокса в одной из его интерпретаций.
Представим себе ситуацию, что необходимо измерить одновременно две какие-нибудь сопряженные величины, например, импульс и координату частицы. Как уже отмечалось выше, согласно квантовой механике их одновременное точное измерение невозможно. Однако попробуем ответить на следующий вопрос: если у нас имеются приборы для измерения импульса и координаты и мы попытаемся провести одновременное измерение положения и импульса, то при таком одновременном измерении какая физическая величина будет иметь точное значение, а какая неопределенное?
Так как для одной и той же частицы проведение такого одновременного измерения затруднительно, то используем для этой цели ситуацию ЭПР эксперимента. А именно, мы можем измерять положение у одной из разлетевшихся частиц, а импульс — у другой. При этом, согласно квантовой механике, эти частицы представляют собой взаимосвязанную квантово-механическую систему, для которой должно выполняться соотношение неопределенностей и принцип дополнительности. В частности, если мы измерили положение одной частицы, то ее импульс должен быть неопределенным, а существующая между двумя частицами взаимосвязь или корреляция должны привести к тому, что положение второй частицы должно быть определено, а импульс должен иметь неопределенное значение.
Учитывая это, будем одновременно измерять положение у одной частицы, а импульс — у другой. Повторим, что, согласно принципу неопределенности, одна из величин должна иметь точное значение, а другая — неопределенное. Но так как измерение проводится одновременно, то совершенно неясно, какая именно величина будет иметь точное значение, ведь ситуация абсолютно “зеркальная”, полностью симметричная и нельзя отдать предпочтение чему-то одному. В этой ситуации можно говорить либо об усилении принципа неопределенности в отношении к процессу одновременных измерений, либо о новом противоречии в основаниях квантовой механики и, соответственно, об усилении тезиса о ее неполноте.
Поскольку у нас нет критериев для ответа на вопрос о том, какая из величин при одновременном измерении будет измерена первой, чтобы стать точно определенной, то рассмотрим более тщательно сам момент одновременного измерения. Логично предположить, что ответ на вопрос о том, какая физическая величина окажется измеренной точно, состоит в выяснении того, какая из величин окажется измеренной первой. Это действительно было бы логично, поскольку согласно принципу неопределенности мы не можем измерить одновременно точно значения двух некоммутирующих операторов, а измерив точно сначала одну из этих величин, мы автоматически получим неопределенное значение другой величины. Конечно, можно было бы попытаться сначала измерить неопределенную величину, а потом утверждать, что вторая величина — точная. Но это невозможно, ибо “при измерении мы всегда получаем определенный результат”. [2, с. 11-22][19]. Кроме того, для макронаблюдателя и современного способа познания, по-видимому, более понятен и все еще более естественен первый путь: определить по возможности точные значения, а потом делать вывод о неопределенности второй величины. Хотя мы должны допускать, что, по-видимому, в рамках квантовой механики и гейзенберговского принципа неопределенности разделение на точную и неопределенную величины при измерении происходит мгновенно и одновременно.
Здесь также следует учесть и тот факт, что физика — наука приближений, а в реальных физических процессах не существует абсолютно точных, абсолютно мгновенных и абсолютно одновременных событий. Все значения физических величин определяются с некоторой точностью в рамках той или иной концептуальной и теоретико-формальной схемы. Например, согласно специальной теории относительности, одновременность может быть установлена с помощью часов, линеек и светового луча. Но понятно, что эта процедура и эта одновременность не являются чем-то абсолютно точным. С физической точки зрения, с точки зрения рассмотрения этого события как процесса, мгновенное появление двух взаимосвязанных значений физических величин остается совершенно неясным и физически необъяснимым. Принятие положения об абсолютной одновременности событий приведет к мгновенному действию на расстоянии. Последнее противоречит специальной теории относительности, но если все же вдруг и окажется истинным, то потребует капитальной перестройки представлений современной физики.
Поэтому, оставаясь в рамках разумных в настоящее время физических приближений и ограничений, предположим, что как только мы осуществим точное измерение одной из величин, то вслед за этим, пусть даже почти мгновенно, вторая величина принимает неопределенное значение. Физический смысл последнего, на наш взгляд, требует уточнения. Например, это может означать, что некоторая физическая величина никогда не имеет какого-то численного значения в принципе и этому должна соответствовать определенная глубокая онтология. Другая возможная трактовка состоит в том, что неопределенность может трактоваться вероятностно. Не вдаваясь в подробности этого вопроса, рассмотрим далее сам процесс измерения двух характеристик микрочастиц. Уменьшая интервал времени между появлением точного значения одной из физических величин и неопределенного значения квантово-механически сопряженной ей физической величины, мы переходим к рассмотрению бесконечно малых временных интервалов. Формально математически момент появления точного и неопределенного значений величин можно рассматривать как предел процесса при Дt→0.
В то же время квантовая механика дает возможность получить некоторые физически разумные результаты, не доходя до предела t=0. Дело в том, что уже для интервалов времени Дt≈10-23 с начинает явно и эффективно проявляться виртуальная природа микропроцессов. Вообще говоря, Дt≈10-23 с — это время жизни виртуальных частиц, поэтому в пределах этого интервала времени, т.е. от 0 с до 10-23 с, или, по крайней мере, с планковского момента времени 10-43 с до 10-23 с, по-видимому, можно ожидать доминирования виртуальных процессов. Возможно даже, что на этом отрезке времени все физические процессы принимают виртуальную форму существования со всеми вытекающими отсюда свойствами.
Среди разнообразных свойств виртуальной формы существования процессов микромира отметим только следующее: на интервале “виртуального времени”, т.е. в пределах 10-23 с существенно возрастает роль флуктуаций и стохастичности процессов. Что это означает для рассматриваемой нами проблемы? В частности, то, что если мы для одновременного измерения точных значений и координаты и импульса выбираем приборы, которые могут измерить эти значения точно, то ответ на вопрос, какая характеристика будет измерена точно, а какая останется неопределенной, будет определяться виртуальными процессами, протекающими в пределах 10-23 с процесса измерения. Стохастичность флуктуаций, сугубо вероятностный характер процессов этого уровня реальности, по-видимому, должны привести к тому, что результат данного одновременного измерения будет случайным. Это означает, что нельзя даже в принципе сказать, оставаясь в рамках стандартной интерпретации квантовой механики, какая величина будет точно измерена. Но это, в свою очередь, означает, что сам процесс одновременного измерения в квантовой механике становится вероятностным и в этом смысле неопределенным. Мы не можем гарантированно утверждать, что мы получим в результате такого измерения.
Возможно, что и в квантовой механике наши представления об одновременности должны измениться и принять некую неклассическую форму. Такие свойства одновременности не могут быть эквивалентны свойствам одновременности в специальной теории относительности, поскольку применение принципов СТО к квантовой механике ведет к квантовой теории поля, а мы в рассматриваемом случае, по-видимому, все же должны оставаться в рамках стандартной квантовой механики.
В.В.Казютинский
Инфляционная космология: теория и научная картина мира[20]
Сейчас происходит новый коренной пересмотр знаний о Вселенной как целом, т.е. наибольшем по масштабу фрагменте мирового целого, который наука способна выделить имеющимися в данное время средствами. Этот пересмотр касается двух концептуальных уровней: 1) построение новых космологических теорий; 2) изменения блока “мир как целое” в научной картине мира (НКМ).
Современные изменения в космологии вносят чрезвычайно большой, но пока недостаточно оцененный вклад в современную НКМ, не говоря уже о мировоззренческом интересе, который они представляют. Их суть — возвращение к выраженным языком неклассической физики идеям бесконечного множества миров, бесконечности пространства и времени, бесконечности процессов эволюции и самоорганизации во Вселенной (Метавселенной), часть которых считалась навсегда отвергнутой с позиций науки.
Теория расширяющейся Вселенной была исключительно эффективной исследовательской программой. Она позволила решить ряд проблем, относящихся к структуре и эволюции нашей Метагалактики, в том числе, ранним стадиям ее развития. Например, выдающимся достижением стала теория “горячей Вселенной” Г.А.Гамова, подтвержденная открытием в 1965 году реликтового излучения. Многочисленные альтернативы фридмановской космологии оказались неубедительными.
Вместе с тем, теория расширяющейся Вселенной сама столкнулась с рядом серьезных проблем. Некоторые из них носили, так сказать, “технический” характер. Скажем, несколько обескураживает то, что, несмотря на интенсивные исследования, до сих пор не удалось построить в рамках теории А.А.Фридмана достаточно адекватную модель расширяющейся Метагалактики, поскольку известные факты, необходимые для построения такой модели, либо недостаточно точны, либо противоречивы. Другие проблемы носят более принципиальный характер. В качестве “дамоклова меча” над космологами уже давно висит “парадокс массы”, согласно которому 90-95% массы Метагалактики должно находиться в невидимом состоянии, природа которого пока непонятна. Современное развитие теории расширяющейся Вселенной породило ряд еще более серьезных проблем, в сущности, ясно показывающих ограниченность теории, ее неспособность справиться с этими проблемами без существенных концептуальных сдвигов. Особенно много неприятностей доставляла теории проблема самых начальных стадий эволюции Вселенной. Хорошо известна проблема сингулярности: при обращении радиуса Вселенной, т.е. нашей Метагалактики, в нуль многие параметры становились бесконечными. Неясным оказывался физический смысл вопроса: а что было “до” сингулярности (иногда сам этот вопрос объявляли неосмысленным, поскольку время, как утверждал еще Августин, возникло вместе со Вселенной. (Но ответы типа: “до” этого не было времени и, следовательно, сам вопрос поставлен некорректно, многих космологов не очень-то удовлетворяли.) Теория в ее не квантовом варианте не могла объяснить причину, вызвавшую Большой взрыв, расширение Вселенной. Кроме того, существует впечатляющий перечень более десятка других проблем, с которыми теория А.А.Фридмана не смогла справиться. Вот лишь некоторые из них. 1) Проблема плоскостности (или пространственной евклидовости) Вселенной: близость кривизны пространства к нулевому значению, что на порядки отличается от “теоретических ожиданий”; 2) проблема размеров Вселенной: более естественно, с точки зрения теории, было бы ожидать, что наша Вселенная содержит не более нескольких элементарных частиц, а не 1088 по современной оценке — еще одно огромное расхождение теоретических ожиданий с наблюдениями! 3) проблема горизонта: достаточно удаленные точки в нашей Вселенной еще не успели провзаимодействовать и не могут иметь общие параметры (такие, как плотность, температура, и др.). Но наша Вселенная, Метагалактика, в больших масштабах отказывается удивительно однородной, несмотря на невозможность причинных связей между ее удаленными областями.
Сейчас, после того как инфляционная космология смогла решить большую часть этих проблем, затруднения релятивистской космологии перечисляют часто, и даже как-то очень охотно. Но в 60—70-е годы даже их упоминания были очень сдержанными и дозированными, особенно перед лицом нефридмановских исследовательских программ. Во-первых, у многих была еще в памяти трагическая судьба релятивистской космологии, подвергавшейся идеологическим нападкам отнюдь не только в нашей стране. Во-вторых, существовало общее понимание, что вблизи “начала” решающую роль начинают играть квантовые эффекты. Отсюда следовало, что необходима дальнейшая трансляция новых знаний из физики элементарных частиц и квантовой теории поля. Обсуждение космологических проблем на уровне НКМ привело к интереснейшим выводам. Были выдвинуты два фундаментальных принципа, которые вызвали сильный “прогрессивный сдвиг” в космологии.
1) Принцип квантового рождения Вселенной. Космологическая сингулярность является неустранимой чертой концептуальной структуры неквантовой космологии. Но в квантовой космологии это — лишь грубое приближение, которое должно быть заменено понятием спонтанной флуктуации вакуума (Трайон, 1973).
2) Принцип раздувания, согласно которому вскоре после начала расширения Вселенной произошел процесс ее экспоненциального раздувания. Он длился около 10-35 с, но за это время раздувающаяся область должна достигнуть, по выражению А.Д.Линде, “невообразимых размеров”. Согласно некоторым моделям раздувания, масштаб Вселенной (в см) достигнет 10 в степени 1012, т.е. величин, на много порядков превышающих расстояния до самых удаленных объектов наблюдаемой Вселенной.
Первый вариант раздувания был рассмотрен А.А.Старобинским в 1979 году, затем последовательно появились три сценария раздувающейся Вселенной: сценарий А.Гуса (1981 г.), так называемый новый сценарий (А.Д.Линде, А.Альбрехт, П.Дж.Стейнхардт, 1982), сценарий хаотического раздувания (А.Д.Линде, 1986 г.). Сценарий хаотического раздувания исходит из того, что механизм, порождающий быстрое раздувание ранней Вселенной, обусловлен скалярными полями, играющими ключевую роль как в физике элементарных частиц, так и в космологии. Скалярные поля в ранней Вселенной могут принимать произвольные значения; отсюда и название — хаотическое раздувание [1][21].
Раздувание объясняет многие свойства Вселенной, которые создавали неразрешимые проблемы для фридмановской космологии. Например, причиной расширения Вселенной является действие антигравитационных сил в вакууме. Согласно инфляционной космологии, Вселенная должна быть плоской. А.Д.Линде даже рассматривает этот факт как предсказание инфляционной космологии, подтверждаемое наблюдениями. Не составляет проблемы и синхронизация поведения удаленных областей Вселенной.
Теория раздувающейся Вселенной вносит (пока на гипотетическом уровне) серьезные изменения в блок “мир как целое” НКМ.
1. В полном соответствии с философским анализом понятия “Вселенная как целое”, который привел к выводу, что это — “все существующее” с точки зрения данной космологической теории или модели (а не в каком-то абсолютном смысле) [2, с. 116-128][22] теория совершила беспрецедентное расширение объема этого понятия по сравнению с релятивистской космологией. Общепринятая точка зрения, что наша Метагалактика и есть вся Вселенная, была оставлена. В инфляционной космологии введено понятие Метавселенной, тогда как для областей масштаба Метагалактики предложен термин “минивселенные”. Теперь уже Метавселенная рассматривается как “все существующее” с точки зрения инфляционной космологии, а Метагалактика — как ее локальная область. Но не исключено, что если будет создана единая теория физических взаимодействий (ЕФТ, ТВО), то объем понятия Вселенная как целое вновь будет значительно расширен (или изменен).
2. Теория Фридмана основывалась на принципе однородности Вселенной (Метагалактики). Инфляционная космология, объясняя факт крупномасштабной однородности Вселенной при помощи механизма раздувания, одновременно вводит новый принцип — крайней неоднородности Метавселенной. Квантовые флуктуации, связанные с возникновением минивселенных, приводят к различиям физических законов и условий, размерности пространства-времени, свойств элементарных частиц и др. внеметагалактических объектов. Следует ли напоминать, что принцип бесконечного многообразия материального мира, в частности, его физических форм — это довольно старая философская идея, которая сейчас находит новое подтверждение в космологии.
3. Метавселенная как совокупность множества минивселенных, возникающих из флуктуаций пространственно-временной “пены”, очевидно бесконечна, не имеет начала и конца во времени (И.Д.Новиков назвал ее “вечно юной Вселенной”, не подозревая, что эту метафору еще в начале XX века придумал К.Э.Циолковский, критикуя теорию тепловой смерти Вселенной).
4. Теория раздувающейся Вселенной существенно иначе, чем фридмановская, рассматривает процессы космической эволюции. Она отказывается от представления, что вся Вселенная возникла 109 лет назад из сингулярного состояния. Это — лишь возраст нашей минивселенной, Метагалактики, возникшей из вакуумной “пены”. Следовательно, “до” начала расширения Метагалактики был вакуум, который современная наука рассматривает как одну из физических форм материи. Но еще прежде, чем этот вывод был сделан в космологическом контексте, относительность, а вовсе не абсолютность, и вполне природный, а не трансцендентный характер расширения обосновывались из философских соображений [3, с. 49-95][23]. Тем самым, понятие “сотворения мира”, один раз встречающееся в текстах А.А.Фридмана, и бесчисленное множество раз — в теологических, философских, да и собственно космологических сочинениях на протяжении большей части XX века, оказывается не более чем метафорой, не вытекающей из существа инфляционной космологии. Метавселенная, согласно теории, может вообще оказаться стационарной, хотя эволюция входящих в нее минивселенных описывается теорией большого взрыва.
А.Д.Линде ввел понятие вечного раздувания, которое описывает эволюционный процесс, продолжающийся как цепная реакция. Если Метавселенная содержит, по крайней мере, одну раздувающуюся область, она будет безостановочно порождать новые раздувающиеся области. Возникает ветвящаяся структура минивселенных, похожая на фрактал.
5. Инфляционная космология позволила дать совершенно новое понимание проблемы сингулярности. Понятие сингулярности, неустранимое в рамках стандартной релятивистской модели, основанной на классическом способе описания и объяснения, существенно меняет свой смысл при квантовом способе описания и объяснения, применяемом в инфляционной космологии. Оказывается вовсе не обязательным считать, что было какое-то единое начало мира, хотя это допущение и встречается с некоторыми трудностями. Но, по словам А.Д.Линде, в сценариях хаотического раздувания Вселенной “особенно отчетливо видно, что вместо трагизма рождения всего мира из сингулярности, до которой ничего не существовало, и его последующего превращения в ничто, мы имеем дело с нескончаемым процессом взаимопревращения фаз, в которых малы, или, наоборот, велики квантовые флуктуации метрики” [1, с. 237]. Отсюда следует, что незыблемый еще недавно вывод о существовании общекосмологической сингулярности в начале расширения теряет убедительность. Нет необходимости утверждать, что все части Вселенной начали одновременное расширение. Сингулярность заменяется в теории расширяющейся Вселенной квантовой флуктуацией вакуума.
6. Инфляционная космология на современном этапе своего развития пересматривает прежние представления о тепловой смерти Вселенной. А.Д.Линде говорит о “самовоспроизводящейся раздувающейся Вселенной”, т.е. процессе бесконечной самоорганизации. Минивселенные возникают и исчезают, но никакого единого конца этих процессов нет.
7. Как в релятивистской, так и в инфляционной космологии играет значительную роль антропный принцип (АП). Он связывает между собой фундаментальные параметры нашей вселенной, Метагалактики, параметры элементарных частиц и факт существования в Метагалактике человека. К числу необходимых для появления человека космологических условий относится следующие: Вселенная (Метагалактика) должна быть достаточно большой, плоской, однородной. Именно эти свойства ее вытекают из теории раздувающейся Вселенной. Без привлечения процесса раздувания в ранней Вселенной объяснить однообразие ее строения и свойств внутри охваченной наблюдениями области нельзя.
Нетрудно заметить, что в философских основаниях инфляционной космологии сплелись отдельные идеи и образы, транслированные из разных философских систем. Например, идея бесконечного множества миров имеет длительную философскую традицию еще со времен Левкиппа, Демокрита, Эпикура, Лукреция. Особенно глубоко она разрабатывалась Николаем Кузанским и Джордано Бруно. Идея аристотелевской метафизики о превращении потенциально возможного в действительное оказала влияние не только на используемый инфляционной космологией квантовый способ описания и объяснения, но и оказывается — парадоксальным образом! — предшественницей эволюционных идей этой теории. Парадоксальным потому, что сам Аристотель считал Вселенную единственной и, рассматривая возникновение и уничтожение как земные процессы, приписывал небу неизменность во времени и замкнутость в пространстве. Но высказанные им идеи о потенциальном и актуальном бытии были перенесены, вопреки собственным взглядам Аристотеля, на бесконечную Метавселенную. Находят в философских основаниях инфляционной космологии также влияние идей Платона. Оно прослеживается, во всяком случае, через неоплатоников эпохи Возрождения.
Некоторые исследователи (например, А.Н.Павленко) считают, что инфляционная космология должна рассматриваться как новый этап современной революции в науке о Вселенной, поскольку она не только создает новую НКМ, но также приводит к пересмотру некоторых идеалов и норм познания (например, идеалы доказательности знания, которые сводятся к внутритеоретическим факторам). В качестве прогноза или экспертной оценки такая точка зрения приемлема, если мы учтем, однако, следующие обстоятельства.
Конечно, разработка теории, вызывающей крупный сдвиг в наших знаниях о мире и серьезные мировоззренческие последствия, — необходимый признак определенной стадии научной революции. Этот признак должен быть, однако, дополнен обоснованием новой теории, ее признания в научном сообществе, что также входит в структуру революционного сдвига. По степени радикальности, с какой инфляционная космология (особенно вариант хаотического раздувания) пересматривает картину мира как целого, она явно превосходит теорию А.А.Фридмана. В сообществе космологов она стала пользоваться большим влиянием, которое установилось, впрочем, не сразу. В первой половине 80-х годов считались конкурентоспособными различные сценарии квантового рождения Вселенной из вакуума, инфляционная космология — в их числе. Это объяснялось существенными недостатками первых сценариев раздувания. Лишь после появления сценария хаотического раздувания произошел прорыв в признании новой космологии. Тем не менее, проблема обоснования этой космологической теории остается пока открытой, как раз вследствие того, что принятым сейчас идеалам и нормам доказательности знания она не соответствует (другие Вселенные принципиально не наблюдаемы). Надежды на изменение этих идеалов в обозримом будущем (исключение обязательности “внешнего оправдания”) пока невелики. Строго говоря, революция, потенциально заключенная в инфляционной космологии, может состояться, а может и не состояться. На ее развертывание пока можно только надеяться, не исключая полностью также других неожиданных и пока не угадываемых поворотов в этой области.
Социокультурная ассимиляция инфляционной космологии содержит любопытный момент. Являясь чрезвычайно революционной по своей сути, новая космологическая теория не вызвала особого “бума”. Пошло уже около 20 лет после появления первого варианта этой теории, но она почти не вышла за пределы довольно узкого круга специалистов, не стала источником мировоззренческих дискуссий, хотя бы отдаленно напоминающих ожесточенные баталии вокруг теории Коперника, будоражившей умы еще до опубликования его бессмертного трактата, или вокруг теории А.А.Фридмана. Это поразительное обстоятельство нуждается в объяснении.
Не исключено, что основная причина — увы, падение интереса к научному, в частности, физико-математическому знанию, которое интенсивно заменяется разного рода суррогатами, зачастую вызывающими неизмеримо больший ажиотаж, чем самые первоклассные научные достижения. Сейчас находят отклик лишь немногие открытия науки, которые обнаруживают прямую связь с проблемами человеческого бытия.
Далее, инфляционная космология — чрезвычайно сложная теория, не очень понятная даже специалистам из соседних областей физики, а тем более для неспециалистов, и уже в силу только этого одного находящаяся вне сферы этих интересов.
Наконец, идея единственной и конечной во времени Вселенной пустила в культуре слишком глубокие корни, оказала на нее слишком сильное влияние, чтобы с легкостью уступить место теории, явно напоминающей давно отвергнутые космологические образцы.
Тем не менее, прогресс космологии продолжается и ближайшие годы, вероятно, приведут к более уверенным оценкам теории раздувающейся Вселенной.
А.А.Печенкин
Модальная интерпретация квантовой механики как “анти-коллапсовская” интерпретация[24]
1. Предварительные замечания
Впервые термин “модальная интерпретация квантовой механики” употребил американский философ Б. ван Фраассен, назвавший таким образом выдвинутую им в 1973 г. интерпретацию[25]. Эта интерпретация была им подробно изложена в 1991 г.[26] После этого термин “модальная интерпретация” был распространен на некоторые интерпретации, выдвигавшиеся ранее: на интерактивную интерпретацию Р.А.Хилея, на “новую” интерпретацию С.Кохена[27]. В девяностые годы модальная интерпретация становится достаточно популярной: ее поддерживает ряд физиков и философов науки, она излагается в авторитетных книгах по философии физики[28]. Модальная интерпретация занимает свое место в ряду неортодоксальных интерпретаций квантовой механики, т.е. интерпретаций, выдвинутых в противовес ортодоксальной интерпретации, развитой создателями этой теории (В.Гейзенберг, М.Борн, В.Паули, П.А.М.Дирак) и изложенной в основных учебниках[29].
В настоящей статье модальная интерпретация квантовой механики рассматривается как одна из “антиколлапсовских интерпретаций”, т.е. интерпретаций, преодолевающих представление о редукции волнового пакета, поддержанное многими из создателей квантовой теории и прочно вошедшее в ортодоксальную интерпретацию. При этом мы избегаем абстрактной алгебраической терминологии, бытующей в современных работах по философии квантовой механики. В следующем параграфе формулируется проблема квантовомеханической теории измерений, стоящая за представлением о редукции волнового пакета и делящая интерпретации на “коллапсовские” и “антиколлапсовские”. В третьем параграфе излагается основная идея модальной интерпретации и обозначается ее вклад в “антиколлапсовское движение”.
2. “Коллапсовские” и “антиколлапсовские” интерпретации
Идея редукции волнового пакета была высказана В.Гейзенбергом в 1927 г. при обсуждении измерения координаты электрона[30]. Эта идея была затем развита им же, а также П.А.М.Дираком и И. фон Нейманом в понятие некаузального изменения (коллапса) состояния системы при осуществлении измерения. Упрощая существо дела и представляя измерительный прибор как “идеальный фильтр”, редукцией волнового пакета называют переход суперпозиции Ψ =ΣCnцn, где φn — собственные состояния измеряемой величины, в одно из этих собственных состояний φn. Гейзенберг, Дирак и фон Нейман таким образом выделяют, наряду со стандартным каузальным изменением состояния системы (например, электрона) в соответствии с уравнением Шредингера, “некаузальный прыжок” этого состояния, приходящийся на акт измерения. Исходя из суперпозиционного состояния нельзя предсказать то “редуцированное” состояние, в которое эта суперпозиция перейдет в результате редукции, можно лишь вычислить вероятности переходов в различные возможные “редуцированные” состояния.
В квантовомеханической теории измерений, принимающей во внимание взаимодействие с измерительным прибором, редукция волнового пакета выглядит следующим образом. Пусть физическая система I, у которой мы измеряем некоторую величину Q, первоначально находилась в состоянии || I, ш , представимом в виде суперпозиции собственных состояний соответствующего оператора, т.е. в виде cn II qn. Пусть прибор II первоначально находился в состоянии II, 0). В соответствии с законами квантовой механики измерение описывает следующая формула:
U I, II, 0 = cn I, qn II, an (1)
где U — оператор взаимодействия микросистемы с измерительным прибором, an — показания прибора (непосредственные результаты измерения).
Формула (1), однако, не описывает всего процесса измерения. Всякий раз с прибора снимают какое-либо одно показание an и по нему определяют значение измеряемой физической величины qn. На языке редукции волнового пакета это означает переход суперпозиции, стоящей в правой части равенства (1), в один из ее членов, содержащий то значение an, которое действительно наблюдалось. Иными словами, постулируется следующее:
cnI, qn II, an I, qn II, an (2)
В отличие от формулы (1), формула (2) выражает некаузальный скачок, про который мы можем лишь сказать, что его вероятность равна cn[31].
Формулы (1) и (2) не просто повторяют приведенную перед ними схему cnn n. В них обозначен тот факт, что система I, над которой производится измерение, попадает, провзаимодействовав с прибором, в так называемое спутанное состояние, отображенное в правой части формулы (1) и в левой части формулы (2). Иными словами, в них находит свое выражение то обстоятельство, что взаимодействие физической системы с измерительным прибором порождает комплекс, в котором уже нет в чистом виде ни системы, ни прибора. В свою очередь формула (2) показывает, что представленная в ней редукция волнового пакета означает факторизацию: вместе с выделением из суперпозиции одного из ее слагаемых, само это слагаемое превращается в произведение двух чистых состояний, представляющих по отдельности систему 1, над которой производится измерение, и измерительный прибор.
Хотя редукция волнового пакета выпадает из числа динамических процессов, подчиняющихся законам квантовой механики, сам факт этой редукции учитывается в математической схеме этой теории. Сформулируем, следуя И.фон Нейману, понятие проекционного оператора. Это оператор, выделяющий из суперпозиции Ψ = Уcnцn, один из ее членов. В случае формулы (2) это будет оператор Р I, qn II, an, равный
I, qn II, an an, II qn I. Формула (2) превращается в следующую формулу, выражающую проекционный постулат фон Неймана:
Р I, qn II, an cn I, qn II, an = I, qn,II, an[32]/ (3)
“Редукция волнового пакета” сразу же встретила оппозицию. Именно против этого понятия выступил А.Эйнштейн на 5-ой Сольвеевской конференции (1927 г.), предложив статистическую (ансамблевую) интерпретацию волновой функции[33]. “Скачком теории” иронически называл “редукцию” Э.Шредингер, также выступивший со своей “антиколлапсовской” интерпретацией (1950 г.)[34]. Одним из резких критиков “редукции волнового пакета” был американский физик и философ Г.Маргенау[35]. Против этого понятия выступал и советский физик Л.И.Мандельштам[36]. Тем не менее многие из классиков квантовой механики продолжали свободно оперировать понятием редукции. Более того, это понятие заняло важное место в таких авторитетных руководствах по квантовой механике, как двухтомник А.Мессиа и учебник Д.И.Блохинцева.
Как справедливо заметил Дж. Буб, “редукция волнового пакета” предполагает отсылку собственных значений, наблюдаемых при измерении, к собственным состояниям физических систем, так называемую линию связи “собственные значения — собственные состояния” (“eigenvalue — eigenstate link”). Иными словами, при формировании этого понятия неявно предполагается, что наблюдаемые при измерении собственные значения физических величин характеризуют не то состояние системы, в котором она была до измерения, а то собственное состояние, в которое она перешла в результате измерения. “Антиколлапсовские” интерпретации, в свою очередь, разрывают “eigenvalue — eigenstate link”. В них, как правило, выделяются некоторые “предпочтительные” динамические переменные, измерение которых непосредственно характеризует физическую систему, над которой производится это измерение.
Сказанное целесообразно проиллюстрировать на материале дискуссий внутри копенгагенской школы, объединившей большую часть физиков, внесших решающий вклад в создание квантовой теории. Выше было сказано, что понятие редукции волнового пакета прочно вошло в ортодоксальную интерпретацию квантовой механики. Это фраза не означает, что оно господствует среди копенгагенских авторов: определения “копенгагенский” и “ортодоксальный”, хотя и близки, но не совпадают. Большинство сторонников копенгагенской интерпретации действительно принимало “редукцию волнового пакета”, означающую, как писал В.Паули, “общение с иррациональным”[37]. Однако, самый первый “копенгагенец” Н.Бор не признавал “редукцию волнового пакета” и, как подчеркивает К.Хукер, не пользовался языком, в котором могло бы возникнуть это понятие[38]. Хотя разногласия между Бором и другими сторонниками копенгагенской интерпретации не следует преувеличивать (на чем настаивал, в частности, И.С.Алексеев[39]), с точки зрения современных проблем философии квантовой механики они оказываются все же существенными. Н.Бор видел в формулах типа формул (1), (2) и (3) лишь “символические приемы”. Он считал крайне неудачными выражения “наблюдение возмущает явление” и “измерение создает физические атрибуты объектов”, часто используемые вместе с “редукцией волнового пакета”, и отрицал существование в квантовой механике особой проблемы измерения[40].
В качестве “предпочтительных” (по Бубу) динамических переменных, у Бора выступают обычные классические динамические переменные, связанные отношением дополнительности. Это следует из его основных постулатов: 1) целостности “квантового явления”, объединяющего физическую систему и прибор, используемый для измерения у этой системы какой-либо динамической переменной, и 2) необходимости классического языка для описания прибора и результата измерения. “Квантовые явления” дополнительны, поскольку дополнительны приборы и, соответственно, классические динамические характеристики физических систем. Вместе с тем измерение не означает перехода физической системы в какое-либо иное состояние. В квантовой механике физические системы рассматриваются лишь как “квантовые явления”, т.е. в единстве с тем или иным измерительным прибором. Показания приборов (которые непременно должны быть выражены на языке классической физики) непосредственно характеризуют физические системы, над которыми производятся измерения, а не их состояния, возникающие в результате измерений.
Не только копенгагенская интерпретация распадается на “коллапсовскую” и “антиколлапсовскую” версии. Такие две версии присутствуют в статистической (ансамблевой) интерпретации, выдвигавшейся как антитеза копенгагенской. Как было отмечено выше, с “антиколлапсовской” статистической интерпретацией” выступил в 1927 г. А.Эйнштейн. Эйнштейн, правда, лишь наметил контуры своей интерпретации. Статистическая интерпретация в антиколлапсовском варианте была сформулирована позднее философом К.Поппером и физиком Л.Баллентайном[41]. Распространяя на интерпретацию Поппера-Баллентайна термин “предпочтительные динамические переменные”, мы можем сказать, что таковыми в ней являются статистические свойства коллектива (ансамбля) одинаково приготовленных систем (например, отфильтрованных при помощи прибора Штерна-Герлаха). Вспомним, что всякая статистическая интерпретация рассматривает в качестве объекта квантовой механики не одну систему, а такой ансамбль. Поэтому статистические свойства ансамбля непосредственно характеризуют квантово-механическое состояние. При “антиколлапсовской” статистической интерпретации, кроме того, предполагается, что физически осмысленным является лишь “коллективный эксперимент” и, соответственно, лишь статистика показаний приборов, которая непосредственно вытекает из правой части формулы (1). Формулы (2) и (3) оказываются не у дел.
“Коллапсовский” вариант статистической интерпретации (Д.И.Блохинцев) немногим отличается от “коллапсовской” версии копенгагенской интерпретации. Он возникает, если предается физический смысл единичному измерению и, соответственно, процедуре, посредством которой статистика результатов измерения составляется из единичных измерений: мы, скажем, отбираем измерения, дающие импульс p1, затем измерения, дающие p2, затем измерения, дающие p3, затем p3 и т.д. Чтобы получить статистику, характеризующую ансамбль, мы, стало быть, совершаем совокупность редукций исходного состояния: к состоянию с импульсом p1, к состоянию с импульсом р2 и т.д. Эти “редукции” означают отбор подансамблей. Хотя такая терминология, по-видимому, более рациональна, чем “общение с иррациональным” (Паули), она не меняет существа дела. Принимая “редукцию”, мы принимаем некаузальное изменение состояния системы, описываемое формулами (2) и (3).
К числу “антиколлапсовских” интерпретаций относится также интерпретация Д.Бома, прибегающая к “скрытым переменным”. В ней “предпочтительной динамической переменной” оказывается пространственная координата микросистемы. Эта координата подчиняется причинному закону (уравнению), формулируемому при помощи волновой функции, играющей роль “ведущего поля” (guidance field).
Настоящая статья не нацелена на сравнительный анализ “антиколлапсовских” интерпретаций квантовой механики и даже на их полный обзор. Наша задача здесь очертить “антиколлапсовское” движение и охарактеризовать модальную интерпретацию как одну из “антиколлапсовских” интерпретаций.
3. Основная идея модальной интерпретации
Основная идея модальной интерпретации — это идея особого динамического состояния физической системы, называемого иногда также состоянием значений динамических переменных (value state). Иными словами, кроме обычного квантового состояния, представляемого волновой функцией (если это состояние чистое), вводится еще динамическое состояние, определяемое через значения динамических переменных, характерных для данной системы. При модальной интерпретации квантовая механика рассматривается как теория, приписывающая определенные значения этим динамическим переменным. В отличие от ортодоксальной интерпретации, эта интерпретация допускает, что динамическая переменная имеет определенное значение, даже если физическая система не находится в собственном состоянии соответствующего оператора. Иными словами, динамические переменные могут иметь определенные значения независимо от того, проводится ли измерение этих динамических переменных. Динамическая переменная становится объективной характеристикой состояния системы, правда, не квантового состояния, а динамического состояния, дающего более тонкое описание системы.
Модальная интерпретация не предполагает чего-либо нового относительно квантовых состояний. Она лишь подчеркивает тот факт, что эти состояния определяют лишь вероятностные диспозиции значений динамических переменных (отсюда само название “модальная интерпретация”). Это означает, что динамические состояния, вводимые при модальной интерпретации, не полностью определены квантовыми состояниями и не выводятся из них. Вместе с тем квантовые состояния, изменяющиеся в соответствии с уравнением Шредингера, накладывают статистические связи на изменения динамических состояний. “Состояние системы описывает то, что может случиться со значениями физических величин, — пишет о квантовом состоянии ван Фраассен, — то же, что реально происходит с ними, лишь возможно по отношению к состоянию физической системы и не может быть дедуцировано из этого состояния”[42].
Мы сказали, что динамические состояния, вводимые при модальной интерпретации, дают более тонкое описание физической системы, нежели квантовое состояние. Эта тонкость, однако, не переходит в ту тонкость, которая отличает интерпретации, допускающие “скрытые переменные”. Модальная интерпретация учитывает известные ограничительные теоремы: от теоремы фон Неймана до теоремы Кохена-Шпекера[43]. При модальной интерпретации допускается только ограниченный набор динамических переменных, имеющих точные значения, однако эта интерпретация, в отличие от копенгагенской интерпретации, допускает, что эти переменные имеют точные значения во всякое время (а не только тогда, когда производится измерение).
Согласно модальной интерпретации, измерение открывает нам динамическое состояние системы. Пользуясь терминологией Буба, мы можем сказать, что динамическое состояние описывают “предпочтительные динамические переменные”. Если фиксируется какое-либо значение такой динамической переменной, то это не означает, что система переходит в соответствующее квантовое собственное состояние, т.е. это не означает, что происходит редукция волнового пакета. Это означает, что система обладает одним из тех значений динамической переменной, которому квантовое состояние, в котором находится система, приписывает определенную вероятность.
Выше в связи с формулами (1) и (2) отмечалось, что система I, над которой производится измерение, провзаимодействовав с измерительным прибором, оказывается, как и измерительный прибор, в спутанном состоянии. Модальная интерпретация, тем не менее, позволяет приписать (с учетом различных предосторожностей) системе одно из значений qn, а прибору одно из значений an. В таком случае формулы (2) и (3) теряют физический смысл: измерение дает значение an, которое позволяет непосредственно судить о qn.
Было выдвинуто несколько версий модальной интерпретации. Ван Фраассен называет свою версию копенгагенской: это, так сказать, самая слабая версия модальной интерпретации. Динамическое состояние характеризуется тем значением динамической переменной, которым система обладала бы, если она была бы в собственном состоянии этой динамической переменной. В этой версии “редукция волнового пакета” элиминируется путем переформулировки: вместо суммы детерминированного и индетерминированного событий (взаимодействия с прибором и редукции) предполагается сумма индетерминированного и детерминированного событий (реализации одного из значений динамической переменной и взаимодействуя с прибором).
Другие версии модальной интерпретации не принимают того ограничения, к которому прибегает ван Фраассен, и, более того, постулируют особую стохастическую динамику для динамических состояний.
4. Заключение
Выше модальная интерпретация квантовой механики рассматривалась с точки зрения ее “антиколлапсовских” возможностей. Сторонники модальной интерпретации, однако, указывают на преимущества этой интерпретации, проявляющиеся при осмыслении принципов работы квантовых компьютеров и квантовой телепортации. Эти вопросы выходят за пределы настоящей статьи.
А.И.Липкин
О МЕСТЕ МОДЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКЕ[44]
В XX в. обычно и в теоретической физике, и в философии наук в качестве основы рассматривают двухслойную модель научного знания, в которой выделяют математико-теоретический и эмпирический слои. “Немного схематично… можно сказать, что всякая физическая теория состоит из двух дополняющих друг друга частей, — говорил известный физик-теоретик Л.И.Мандельштам в своих лекциях по квантовой механике. — Это уравнения теории… (и) связь этих (входящих в уравнения — А.Л.) символов (величин) с физическими объектами, связь, осуществляемая по конкретным рецептам” [1, с. 326-327].
В [2] к этому еще добавляют “интерпретацию или модель для абстрактного исчисления (уравнения Мандельштама — А.Л.), которая снабжает некоторым “мясом” в терминах более-менее знакомого понятийного или наглядного материала скелетную структуру”. Аналогичное представление модели-интерпретации мы находим в “модели для” [3] и в так называемом “общепринятом взгляде” на теории [4, p. 3]. Но при этом модель выступает не как центральный элемент системы, а как связка между теорией-уравнением и эмпирическим материалом. Главных элементов, как и у Мандельштама, лишь два. Приблизительно то же мы находим даже в рамках структуралистского (модельного) течения философии науки (Суппес, Штегмюллер и др.), где интенсивно используется термин “модель”. Здесь тоже есть только два основных слоя — теоретический и эмпирический: “Научная теория, — пишет П.Суппес в своей работе “Что такое теория?”, — состоит из двух частей. Первая — абстрактное логическое исчисление… Вторую часть теории составляет набор правил, которые приписывают эмпирическое содержание логическому исчислению” [5, p. 56].
С этим взглядом в основном солидаризируется и один из патриархов отечественной философии науки И.В.Кузнецов, который, анализируя структуру физической науки, приводит позицию Л.С.Мандельштама как образец [6, с. 29] и в своем собственном анализе выделяет аналогичные два элемента: “главный структурный элемент” (“ядро физической теории”) — “систему общих законов, выражаемых в математических уравнениях” и “физическую интерпретацию уравнений” [6, с. 34].
Но в реальной физике именно построение физической модели отдельного “явления природы” (или глобальной “картины мира”) является центральным в работе физика. Именно с создания физической модели начинается его работа и в классической и в квантовой механике. После того, как модель есть, составить для нее математическое “уравнение движения”, которое часто называют “законом”, — дело техники. Из чего же составляются эти модели? Мы утверждаем, что они составляются из первичных идеальных объектов (ПИО) типа частиц, полей и др., которые задаются в рамках некоторой системы понятий и постулатов, названной нами “ядром раздела науки” (ЯРН) [7; 8]. В центре этой системы находится взаимосвязанные модельно-онтологические понятия простейшей для данного раздела физики физической системы (А) — ПИО и множества ее состояний (SA), определяемых наборами соответствующих измеримых величин (для классической частицы — положением и скоростью). Эти модельно-онтологические понятия, как и составляемые из них более сложные физические системы, имеют математическую “надстройку”, состоящую из математических образов физической системы (типа гамильтониана или лагранжиана), ее состояний (например, волновой функции в квантовой механике) и “уравнения движения”, задающего связь между состояниями в различные моменты времени t. Кроме того, существует слой “эмпирического материала”, в котором следует выделить “конструктивные элементы”, обеспечивающие приготовление самой физической системы и ее исходного состояния, и эталоны и процедуры сравнения с ними для всех измеримых величин. При этом понятия, входящие в модельно-онтологический и математический слои, задаются одновременно, взаимосвязанно и неявно в рамках системы соответствующих постулатов.
Отметим вторичность математического слоя, в том числе, что в реальной работе физика, как правило, уравнения пристраиваются к модели физической системы, а не наоборот. На это указывает и характерное для физики использование разных “математических представлений” (т.е. математических образов физической системы и ее состояний) для решения одной и той же задачи (Ньютона, Лагранжа, Гамильтона — в классической механике, Шредингера, Гейзенберга, взаимодействия и др. — в квантовой механике). Последнее является причиной “головной боли” у философов, которые сводят теоретическую часть к математическим уравнениям.
Весьма ярко модельный слой проявляется в “методе затравочной классической модели” [8], широко используемом в физике XX в. [7]. Суть последнего состоит в следующей процедуре: берется “затравочная” модель физической системы из классического раздела физики (классической механики и электродинамики), затем берется классический математический образ этой системы (в виде соответствующего гамильтониана или лагранжиана), после чего вводятся определенные процедуры преобразования классического математического образа в неклассический. В результате “затравочной” классической модели (ЗКМ) сопоставляют новое математическое представление, в результате чего “классическая модель” приобретает “неклассические” свойства. В квантовой механике так ставятся все задачи (поищите, откуда берется гамильтониан той или иной квантовомеханической задачи, и вы найдете лежащую в ее основании “затравочную” классическую модель). Этот метод используется и при создании теории относительности и статистической физики [7].
Отметим, что, по сравнению с введенным в [9] понятием “затравочного абстрактного объекта” (ЗАО), наш метод ЗКМ является чрезвычайно конкретным. Метод ЗКМ является конкретным элементом исследовательской работы внутри раздела физики, используемым учеными при постановке физических задач. В весьма интересной работе [9] речь идет о логическом анализе процесса формирования теории. Вопрос о том, можно ли рассматривать ЗКМ как частный случай реализации выявленной в [9] логической процедуры, требует дополнительного анализа.
Наша структура близка структуре В.С.Степина, у которого “теория включает: 1) уравнения (математические выражения законов); 2) теоретическую схему, для объектов которой справедливы уравнения; 3) сложные и опосредованные отображения объектов, составляющих схему, на эмпирический материал” [10, с. 97]. Здесь обозначены все введенные нами слои. У В.С.Степина есть и аналоги наших ПИО и ЯРН — “теоретические объекты” и “фундаментальные теоретические схемы” [10, с. 24, 30]. Но у В.С.Степина нет введенной нами весьма конкретной единой для всех разделов физики структуры (в центре которой переход SA(to) SA(t1)). В отличие от “системы основных положений”, состоящих из аксиом, допущений, общих законов и принципов теории [11, с. 265], наше “ядро раздела науки” обладает четкой и конкретной структурой составляющих его математического, модельного и эмпирического слоев [7,8].
Такой взгляд на физику имеет много общего с “общей структурой фундаментальных физических теорий” Г.Я.Мякишева [12]. Последний выделяет понятие состояния физической системы как центральное и утверждает, что общая структура классической механики остается и в других разделах физики. Но у него, как и у перечисленных выше авторов, в основе лежит двухслойная модель естественной науки, в которой теоретическая часть представлена лишь математическим слоем: “Общими структурными элементами механики Ньютона (и все другие “фундаментальные физические теории”, как он указывает чуть ниже — А.Л.), — пишет Г.Я.Мякишев, — можно считать три элемента: совокупность физических величин (наблюдаемых), с помощью которых описываются объекты данной теории; характеристика состояний системы; уравнения движения, описывающие “эволюцию состояния” [12, с. 423].
Аналогичны отношения нашей структуры и от “костяка” (структуры) физической теории И.В.Кузнецова. У него мы находим похожие на наши ПИО “идеализированные объекты” (абстрактные модели [6, 30]), которые “по своему назначению в высокоорганизованной теоретической системе фактически играют роль фундаментальной идеи” и служат “посредствующим мостом” при “переходе от эмпирического базиса к совокупности новых понятий”. При этом, как и у нас (если под “теориями” понимать разделы физики, у В.И.Кузнецова не выделены указанные выше два типа теорий), “теории… прежде всего отличаются положенными в их основу идеализированным объектами” [6, с. 31, 30]. Главное отличие между нашими ПИО и “идеализированными объектами” В.И.Кузнецова состоит в примате математики в его представлении теории (по сути его модель, как указывалось выше, двухслойна, она состоит из математико-теоретического и эмпирического слоев), вследствие чего “идеализированный объект с самого начала строится с помощью образов и средств математики” и его примерами являются -функция в квантовой механике и “абстрактное псевдоевклидово 4-мерное множество координат и мгновений времени” в СТО, а не квантовая и релятивистская частицы (формируемые в первую очередь в модельном слое), как у нас [7; 8].
То, что в приведенных выше и у И.В.Кузнецова взглядах на науку превалирует противоположная по сравнению с нашей субординация между модельным и математическим слоями, связано, по-видимому, с тем, что в рамках эмпиристской идеологии привыкли строить последовательность: эмпирические факты — эмпирические законы — теоретические законы (2). В ходе преодоления “гносеологического кризиса” в физике границы XIX—XX вв., сопровождавшего становление “неклассической физики” (теории относительности и квантовой механики) и связанной с ним комбинации позитивизма Маха, Пуанкаре и “Венского” и “Берлинского” кружков, теоретический слой в рамках философской рефлексии для очень многих философов и философствующих физиков редуцировался к математическим уравнениям.
Следует отметить, что для традиции советской философии науки 1960—80 гг., где сильный акцент делался не на формальной, а на содержательной стороне познавательного процесса [11, с. 266]), в отличие от западной, характерно непосредственное обращение к “абстрактным объектам” и “мысленным экспериментам”, не ограничиваясь характерным для западной философии науки лишь “оперированием высказываниями” [11, с. 272]. В ее рамках в теорию, наряду с математическим, вводят еще и модельный слой. Наиболее известными образцами такого модельного слоя являются “ненаблюдаемые” “типы содержания физического знания” И.С.Алексеева [13, с. 49-57] и упомянутые выше “теоретические схемы” В.С.Степина [10].
Новизна предлагаемого нами подхода [7;8] состоит в следующих моментах.
1) Как указывается в [11, с. 264, 286], в отечественных и зарубежных исследованиях в качестве различных единиц анализа, встречаются: теории, суждения, умозаключения, научные дисциплины, парадигмы, исследовательские программы и др. Здесь выбрана другая единица анализа — раздел физики (РФ) (классическая и квантовая механика, электродинамика, гидродинамика и т.д.).
2) Известный американский философ Б. ван Фраассен считает, что именно “эмпиризм всегда был главным философским ориентиром в изучении природы” [14, p. 3]. И действительно, в той или иной степени из Фр. Бэкона исходят как западный позитивизм, неопозитивизм и даже постпозитивизм, так и отечественные направления философии науки, восходящие к Марксу, Гегелю и Канту. Предлагаемые же автором поход, названный “конструктивным рационализмом”, является продолжением идущей параллельно вышеназванным линиям — линии Галилея и Ньютона, которые опирались на геометрию Евклида как образец теории [15; 7].
3) Как и в последней, где можно выделить исходные понятия — точка, прямая, плоскость и все прочие строимые из первых “идеальные объекты второго уровня” — геометрические фигуры, в физике тоже можно выделить “первичные идеальные объекты” (ПИО) — частицы, силы, поля, …, из которых (как дом из кирпичиков) строятся модели различных явлений природы и глобальные картины мира.
4) Как и в геометрии Евклида в физике к концу XIX в. перешли к системно-неявному типу определения исходных понятий — ПИО задаются не явно, а в рамках некоторой структуры (аналог системы аксиом геометрии), которую мы называем “ядром раздела науки” — ЯРН (отметим, что оно имеет существенно другой смысл, чем “ядро физической теории” И.В.Кузнецова). Для физики это очень конкретная целостная структура, включающая как теоретические, так и нетеоретические элементы [7, 8].
5) Из указанной иерархичности следует существование теорий двух типов, двух уровней: теорий, отвечающих созданию новых разделов физики (новых ПИО и ЯРН), и теорий различных явлений природы, описываемых (объясняемых, предсказываемых) в рамках уже существующих разделов науки (и соответствующих ПИО).
Это различение не ново, оно фиксируется в предложенном Т.Куном делении на “нормальную” и “аномальную” фазы науки, в эйнштейновском различении на “конструктивные” и “фундаментальные” теории, “фундаментальные” и “частные” “теоретические схемы” в работах В.С.Степина, “фундаментальные физические теории” у Г.Я.Мякишева [12]. Но при анализе структуры теорий это различение по сути не учитывается, в то время как для нас здесь имеются существенные различия: в первом случае мы имеем дело с цепочкой “известные первичные идеальные объекты — конструирование — модель явления”, а во втором — с цепочкой “проблема — конструирование — новые первичные идеальные объекты”. Мы, в основном, обсуждаем последнее.
6) Существенным моментом является то, что мы рассматриваем измерение как принципиально нетеоретический элемент структуры раздела науки (физики), как процедуру сравнения с эталоном, а не как взаимодействие с измеряемым объектом. В этом вопросе мы солидарны с предложенной Фоком при рассмотрении квантовой механики (в полемике с Бором) [16] трехчастной моделью, выделяющей приготовление исходного состояния, теоретическую область и измерение конечного состояния. Существенным усложнением вводимым в эту схему, превращаемую нами в схему ЯРН, является введение конкретной двухслойной структуры теоретической части.
7) Различные разделы физики отличаются друг от друга различным содержательным наполнением указанных функциональных месть (Липкин).
Литература
1) Мандельштам Л.И. Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике. М., 1972.
2) Nagel E. 1961/ The srtucturs of Sciences. N.Y., 1961 (p. 90-117).
3) Huttsn E.H. // British J. for the Phil. of Sci. 1953-54, 4, 285-301.
4) The Structurs of Scientific Theories. Urbana, Chicago, London, 1974.
5) Suppes P. // Philosophy of Sciences Today. N.Y., 1967. P. 55-67.
6) Кузнецов И.В. Избранные труды по методологии физики. М., 1975.
7) Липкин А.И. Модель современной физики (взгляд изнутри и извне). М.: 1999.
8) Липкин А.И. // Философия науки. 1996. Вып. 2. С. 199-217.
9) Жаров С.Н. // Естествознание: системность и динамика. М., 1990.
10) Степин В.С. Становление научной теории. Минск, 1976.
11) Мамчур Е.А., Овчинников Н.Ф., Огурцов А.П. Отечественная философия науки: предварительные итоги. М., 1997.
12) Мякишев Г.Я. // Физическая теория. М, 1980. С. 420-438.
13) Алексеев И.С. Деятельностная концепция познания и реальности. М., 1995.
14) Van Fraassen Bas C. The Scientific Images. Oxf., 1980.
15) Липкин А.И. Фр. Бэкон, Г.Галилей и современная философия науки // Филос. науки. № 3-4. С. 117-137.
16) Фок В.А. Критика взглядов Бора на квантовую механику // Философские вопросы современной физики. М., 1958.
А.П.Левич
Природные референты “течения” времени: становление как изменение количества субстанции[45]
При попытках экспликации, как это часто бывает, представление о времени расщепляется по крайней мере на два понятия: “природа” времени (время императивное, или предвремя) и способы его измерения (время параметрическое, или часы). Точка зрения автора на параметрическое время не будет затронута в настоящей работе (см. Левич, 1996 а, б), но будет сделана попытка осмыслить один из аспектов “природы” времени, понимаемой как существование в мире механизма возникновения изменений и происхождения нового (Левич, 1993; 1996 в). А именно, будет предложено рациональное описание феномена становления, или “течения” нашего времени.
Понять “природу” времени — значит указать его природный референт, т.е. процесс, явление, “носитель” в материальном мире, свойства которого могли бы быть отождествлены или корреспондированы со свойствами, приписываемыми феномену времени. Предполагается вести рассуждения на языке субстанциональных представлений о времени, причём автор выступает за дополнительность, а не противопоставление субстанциональной и реляционной концепций (Левич, 1998). В субстанциональных подходах время изучается как естественнонаучный феномен, в котором проявляются самостоятельные сущности, а не специфический тип отношений между сущностями. Многочисленные примеры применения субстанционального подхода к изучению времени приведены в предшествующей работе автора, специально посвящённой анализу субстанциональных взглядов (Левич, 1998). Понятие субстанции крайне неоднозначно как в естествознании, так и в методологии науки. Часто под субстанцией понимают те сущности, бытийный статус которых отличен от статуса материальных частиц-фермионов, например, пространство, поле, физический вакуум... В контексте проблематики работ по времени предлагаю понимать под субстанцией вид материи, отличный от субстратов, представленных частицами-фермионами, атомами и молекулами. Предполагается, что этот вид материи принадлежит глубинным уровням её строения, возможно, не идентифицируется непосредственно современными экспериментальными технологиями и, может быть, не участвует в известных ныне типах взаимодействий. Предполагается, что во Вселенной существуют генерирующие потоки, совокупность элементов которых является субстанцией. Становление будем рассматривать как процесс накапливания или (и) убыли субстанции в изучаемой системе. Один из уровней иерархического строения системы, на котором существует генерирующий поток, выбирается в качестве “времяобразующего” для изучаемой системы и соответствующий генерирующий поток объявляется природным референтом “течения” времени, или становления.
Для открытых систем идея об отождествлении течения времени с потоком вещества или энергии, по отношению к которым система не изолирована, становится тривиальной. Эти потоки порождают изменения в системе и они же могут служить для параметризации собственной изменчивости системы, т.е. для измерения её собственного времени. В рамках принятых гипотез можно назвать парадоксом становления реалию, в силу которой течение времени присуще не только открытым системам, но и системам, с большой степенью точности рассматриваемым как изолированные и замкнутые, например, анкерный механизм с упругим маятником (механические часы), Солнечная система (астрономические часы), Вселенная в целом... Для разрешения парадокса следует принять в предложенном контексте одно из следующих утверждений:
1) феномен времени не связан с открытостью систем к субстратным и субстанциональным потокам.
2) все системы, которым присущ феномен времени, являются открытыми. Настоящая работа посвящена методологическому анализу второй точки зрения.
Постулируется принцип открытости любых систем по отношению к генерирующим потокам элементов некоторых уровней их иерархического строения (Левич, 1986; 1989; 1997; Levich, 1995). Открытыми для генерирующих потоков оказываются и Вселенная, и любая из частиц, даже не взаимодействующая с другими частицами (в соответствующей модели частицы рассматриваются как источники или стоки генерирующих потоков во Вселенной). Пространство системы оказывается своеобразной средой, порождаемой объединением субстанций генерирующих потоков некоторых уровней строения системы. Любое движение системы в пространстве‑среде состоит в замене составляющих её на определённом уровне строения элементов (Левич, 1996 а, б). Таким образом, и механическое движение (в частности, для изолированных по веществу и энергии систем) описывается потоком через движущуюся систему элементов субстанции‑среды, чем разрешается парадокс становления для механических систем. Замечу, что описываемое движение происходит не путём “раздвигания” элементов пространства, а путём “проникновения” элементов в объект и замены уже имеющихся в объекте элементов (т.е. “эфирного ветра”, “эфирного трения” не существует и субстанция генерирующих потоков не является “эфиром” XIX века). Следует подчеркнуть, что в большинстве субстанциональных подходов субстанция не является материей в форме субстратов — комплексов частиц, обладающих зарядами и взаимодействиями. Субстанция порождает частицы, заряды и взаимодействия: “субстратные” свойства частиц оказываются динамическими характеристиками субстанциональных структур.
Разработка субстанциональных подходов в силу экспериментальной неидентифицированности декларированных в них субстанций встречается со многими эпистемологическим трудностями: отсутствием общепринятых образов, адекватного языка описания, эмпирических реперов, понятийного аппарата.
Можно выделить два пути социализации субстанциональных идей. Наиболее прямой из них — операциональное предъявление, т.е. воспроизводимое измерение каких‑либо характеристик субстанциональных потоков. На этом пути мы находимся скорее в положении “лягушачьего танцмейстера” Гальвани, чем на месте обладателей дошедшей и до наших дней рамки Фарадея. Следует заметить, что экспериментальное обнаружение объектов глубинных уровней строения материи зависит не только от интеллектуальных усилий отдельных исследователей, но в огромной степени — от достигнутой всей цивилизацией “суммы технологий”. Другой путь — умозрительный — “измышлять гипотезы”: опираясь на введённые новые сущности, проводить последовательное теоретическое построение непротиворечивой картины Мира, объяснять известные эффекты, формулировать в экспериментально достижимых областях предсказания новых эффектов и пытаться с помощью субстанциональных подходов решать назревшие проблемы естествознания.
Существование направленных генерирующих потоков в качестве естественных референтов феномена времени разрешает и “парадокс необратимости” (Пригожин, Стенгерс, 1994) — противоречие между безусловной обратимостью во времени фундаментальных физических законов и явной необратимостью в мире реальных процессов. Учёт генерирующих потоков в уравнениях движения (Левич, 1996 б) естественно приводит к их необратимости (в той же степени, в какой необратимы сами потоки).
Поделюсь наблюдением о том, что попытки описания течения времени или существования “стрелы” времени нередко приводят авторов, которые задумывались о природе времени, к субстанциональной её трактовке (Newton, 1687; Prigogine et al., 1989; Пригожин, Стенгерс, 1994; Шихобалов, 1997; Шульман, 1997; подробности см. Левич, 1998) или к необходимости постулировать порождение материи (Bondi, 1960; Hoyle et al., 1993).
Субстанциональная трактовка времени, помогая в решении одних проблем, вызывает к жизни новые, собственные проблемы. Одна из них — неуниверсальность времени в случае существования в системе нескольких генерирующих потоков, претендующих на порождение собственного времени системы, или в случае сопоставления друг с другом собственных времён систем, изменчивость в которых порождается различными генерирующими потоками. Возвращению времени его универсального статуса с помощью энтропийной параметризации будет посвящена отдельная публикация.
Необходимо отметить возможность сохранить без требования открытости Вселенной все рассуждения о связи между субстанциональными потоками и феноменом времени. Для этого следует рассматривать потоки не как порождающие, а как диссипативные, возникающие в результате флуктуаций или какого‑либо первоначального импульса без дальнейшего пополнения системы в целом энергией, субстратами или субстанциями. Так, например, в рамках модели “Большого взрыва” возникают естественные референты времени — космологический (расширение Вселенной, или уменьшение плотности материи, или остывание реликтового излучения) и энтропийный (убывание структурированности или деградация Мира). Диссипативное или “генеративное” происхождения субстанциональных потоков эквивалентны друг другу при описании течения времени, но совершенно различны в мировоззренческом отношении.
Признание генерирующих потоков снимает оппозицию второго начала термодинамики существованию процессов развития, поскольку второе начало относится исключительно к изолированным системам, — отпадает приложимость второго начала к той открытой части Вселенной, где генерирующие потоки порождают течение времени, что, по-видимому, не составляет открытия ни для физиков, ни для астрономов: “...ежедневный опыт убеждает нас в том, что свойства природы не имеют ничего общего со свойствами равновесной системы, а астрономические данные показывают, что то же самое относится и ко всей доступной нашему наблюдению колоссальной области вселенной” (Ландау, Лифшиц, 1964, с. 45‑46), более того, “отдельные небесные тела и их системы так изолированы друг от друга, что для них тепловая смерть должна заметно приблизиться прежде, чем произойдет вмешательство сторонней системы. Поэтому деградированные состояния систем должны бы преобладать, а вместе с тем они почти не встречаются. И задача состоит не только в том, чтобы объяснить неравновесность Вселенной в целом, она имеет значительно более конкретный смысл — понять, почему отдельные системы и сами небесные тела продолжают жить, несмотря на короткие сроки релаксации” (Козырев, 1963, с. 96).
Открытость Вселенной для генерирующих потоков совершенно меняет взгляд на эволюцию Мира. Вот каким рисует будущее изолированной Вселенной И.Д.Новиков (1990, с. 181‑189): “...Если во Вселенной нет заметных количеств материи между галактиками, которая почему-либо не видна, то она всегда будет расширяться... Примерно через сто тысяч миллиардов лет погаснут самые последние звезды... Несмотря на отсутствие пока прямых экспериментальных данных, вся совокупность наших физических знаний указывает на то, что вещество Вселенной не стабильно и хотя очень медленно, но распадается... происходит и процесс квантового испарения черных дыр, которые остаются после смерти некоторых массивных звезд и существуют в ядрах галактик. Таким образом и остывшие звезды, и разреженный газ, а затем и черные дыры в далеком будущем исчезнут из Вселенной... во Вселенной останутся только редкие электроны и позитроны, разбросанные в пространстве на гигантские расстояния друг от друга”.
Еще более радикально описывает будущее “закрытого” Мира (согласно “принципу Гельвеция”, “время, зуб которого разжевывает железо и пирамиды, видит лишь смерть, которую оно приносит” (Гельвеций, 1974, с. 114)) Ю.Б.Молчанов (1990, с. 133): “...во времени исчезает все, и исчезает без следа, и в этом-то и состоит подлинная сущность времени”.
Гипотеза генерирующих потоков позволяет противопоставить принципу Гельвеция другой принцип: “Очевидно, в самых основных свойствах материи, пространства, времени должны заключаться возможности борьбы с тепловой смертью противоположными процессами, которые могут быть названы процессами жизни. Благодаря этим процессам поддерживается вечная жизнь Вселенной” (Козырев, 1963, с. 96), который стоило бы назвать “принципом Козырева”.
Литература
1. Гельвеций К.Ф. Записные книжки // Сочинения. Т. 1. М., 1974.
2. Козырев Н.А. Причинная механика и возможность экспериментального исследования свойств времени // История и методология естественных наук. Вып. 2. М., 1963. С. 95‑113.
3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. М., 1964.
4. Левич А.П. Тезисы о времени естественных систем // Экологический прогноз. М., 1986. С. 163‑190.
5. Левич А.П. Метаболическое время естественных систем // Системные исследования. Ежегодник. 1988. М., 1989. С. 304‑325.
6. Левич А.П. Научное постижение времени // Вопросы философии. 1993. № 4. C. 117‑126.
7. Левич А.П. Субституционное время естественных систем // Вопросы философии. 1996 а. № 1. С. 57‑69.
8. Левич А.П. Время как изменчивость естественных систем: способы количественного описания изменений и порождение изменений субстанциональными потоками // Конструкции времени в естествознании: на пути к пониманию феномена времени. Ч. 1. Междисциплинарное исследование. М., 1996 б. С. 233‑288.
9. Левич А.П. Мотивы и задачи изучения времени // Там же. 1996 в. С. 9‑27.
10. Левич А.П. Время в бытии естественных систем // Анализ систем на пороге XXI века. М., 1997. С. 48‑59.
11. Левич А.П. Время — субстанция или реляция?.. Отказ от противопоставления концепций // Филос. исслед. 1998. № 1. С. 6‑23.
12. Молчанов Ю.Б. Проблема времени в современной науке. М., 1990.
13. Новиков И.Д. Куда течёт река времени? М., 1990.
14. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М., 1994.
15. Шихобалов Л.С. Время: субстанция или реляция?.. Нет ответа // Вестник СПбО РАЕН. 1997. Т. 1. (4). С. 369‑377.
16. Шульман М.Х. О физической природе времени. М., 1997.
17. Bondi H. Cosmology. Cambridge, 1960.
18. Hoyle F., Burbidge G., Narlikar I. V. A Quasi‑Steady State Cosmology Model with Creation of Matter // Astrophysical Journal. 1993. V. 410. P. 437‑457.
19. Levich A.P. Generating Flows and a Substantional Model of Space Time // Gravitation and Cosmology. 1995. Vol. 1. № 3. P. 237‑242.
20. Newton J.S. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. L., 1687.
21. Prigogine I., Gehenian J., Grunzig E., Nardone P. Thermodynamics and cosmology // General Relativity and Gravitation. 1989. Vol. 21. P. 1.
раздел II философия СОЦИАЛЬНЫХ наук
Ю.В.Сачков
Научный метод и познание социальных явлений[46]
Развитие науки и культуры осуществляется не за счет совершенствования психики и творческих способностей отдельных личностей, а путем изобретения и совершенствования научных методов.
В.А.Смирнов
Наука суть действие, направленное на выработку и систематизацию объективных знаний о бытии и познании и опирающееся на эти знания. Соответственно, основу науки составляют ее методы. Их состояние определяет уровень развития научных знаний, характер разработки научных проблем, реальные возможности науки в продвижении в область неизвестного. “Научный метод, — отмечают А.Б.Мигдал и Е.В.Нетесова, — единственное, что позволяет понять задачи науки” [1, с. 74][47]. Методы современной науки достаточно развиты, и их разработка опирается, прежде всего, на развитие физико-математического естествознания.
Особо остро стоит вопрос о научном методе в социальных науках, в науках о строении и эволюции общества. Здесь вопрос о методе во многом остается открытым. Зачастую оспаривается сама возможность “применения” научного метода, как он вырабатывается на базе развития естествознания (опытных наук), к изучению социальных процессов. Утверждается, что познание социальных, исторических явлений не укладывается в подобные представления о научном методе, поскольку эти явления уникальны и поскольку в основе социальных процессов лежат действия человека, обладающего внутренней активностью, свободой воли. Однако такие утверждения требуют анализа. Проблема уникальности не противостоит научному методу. Наука не избегает изучения уникальных процессов. Уникальным, данным в “единственном экземпляре” является и сам феномен становления жизни на земле. Однако эта уникальность не противостоит возможности применения научного метода к изучению строения, функционирования и поведения живых систем, а тем самым — и к изучению процесса возникновения и развития жизни на земле. В какой-то мере уникальна каждая научная задача, что выражается, прежде всего, через задание начальных условий необходимых и обязательных в реальных исследованиях.
Аналогичным образом проблема активности систем, определяемая их внутренними “интересами”, ныне также активно осваивается научным познанием, что находит свое отражение в разработках проблем самодетерминации и самоорганизации в поведении и функционировании сложных систем. Добавим к этому высказывание М.Бунге: “...Материальные предметы на всех уровнях организации все более и более рассматриваются как сущности, имеющие собственную активность, обусловленную, но не полностью детерминированную, окружающей их средой. В возрастающей степени, хотя и не сознательно, признается древний диалектический тезис, что ничто не изменяется исключительно под давлением внешнего принуждения, а все конкретные предметы вместе со своими собственными внутренними процессами принимают участие в непрекращающемся изменении материальной вселенной” [2, с. 207][48].
Научный метод структурирован. Уже в эпоху Возрождения, в ходе становления естествознания (опытной науки) было осознано, что научный метод включает и опытное (эмпирическое, экспериментальное), и теоретическое начала. Эмпирическое начало ведет свое происхождение с процесса наблюдения и его олицетворяют конструирование и применение специальных исследовательских приборов и измерительной техники. Теоретическое начало в своем развитом виде воплощается прежде всего, в математике, в разработке математических форм выражения знаний. Реальное познание всегда основывается на взаимодействии, взаимодополнении этих основных начал познания.
И опытное (экспериментальное), и теоретическое начала познания имеют собственную ценность, несводимы одно к другому и в то же время неотделимы друг от друга. Опытное, экспериментальное начало практически представляет собою своеобразное чувственное анализирование действительности. Именно опыт поставляет первичные, базовые данные (факты), которые образуют фундамент науки. Теоретический анализ имеет своей целью систематизировать, описать и объяснить опытные данные. Теория вскрывает связи в мире чувственных восприятий и тем самым придает им смысл.
В развитии эмпирического начала познания произошли революционные преобразования в ходе становления естествознания — в анализ наблюдений были включены процедуры измерения. Измерения позволяют более строго упорядочить и сделать более достоверной (доказательной, непреложной) и достаточно однообразно понимаемой исходную информацию об исследуемых процессах. В анализе эмпирического начала познания были преодолены узкие рамки простых наблюдений. Г.Галилею приписывается программа развития опытной науки: “Измерить все, что измеримо, и сделать измеримым все, что таковым еще не является”. Измерения позволяют ввести в исследования математику, которая является важнейшей формой выражения закономерностей бытия. Как сказал Д.Гильберт: “Математика — основа всего точного естествознания” [3, с. 69][49].
История наук об обществе свидетельствует, что эмпирическое начало в них выступает прежде всего в форме простых наблюдений и, соответственно, знания об обществе выражались в простой описательной форме. Это, конечно, не умаляет их значения как объективных знаний. На этих путях выработались наши исходные представления о строении общества, его эволюции и ее движущих силах. Вместе с тем в развитии социальных наук вырабатываются и иные формы выражения знаний, преодолевающие простой описательный подход и включающие процедуры измерения. Речь идет о разработке и проникновении в науки об обществе статистических методов исследования. Статистика вторглась в социальные науки, и это нуждается в разностороннем анализе. Слово “статистика” имеет тот же самый корень, что и слово “государство”, и ее становление связано с изучением государства. Статистика как наука возникла в 17-м веке в трудах так называемых политических арифметиков, особенно У.Петти и Д.Гроунта, с именами которых связывают становление классической школы экономики. Статистические данные стали привлекаться к процессам управления государством. Так, социальная статистика рассматривается как эмпирический базис социальных реформ в Англии в период индустриализации в 30-х годах XIX столетия [4, p. 337-350][50]. Со временем по мере охвата статистическим анализом все новых аспектов жизни общества становится все более ясным, что вне анализа статистических данных невозможен и анализ развития общества. Как было сказано в середине XIX века Эрнстом Энгелем: “История есть непрерывно изменяющаяся статистика, а статистика есть остановившаяся история” [4, p. 383].
Статистика преобразовала не только эмпирическое, но и теоретическое начала в познании социальных явлений. Статистические методы ввели в исследования этих явлений достаточно развитый математический аппарат — речь идет о теории вероятностей. Более того, именно на базе анализа статистических данных эта теория во многом и была разработана. Как и статистика, теория вероятностей есть наука о закономерностях, характеризующих массовые явления, но не вообще массовые явления, а определенный их класс, специфика которых выражается через представления о случайности. Понятие случайности здесь характеризует состояния и поведение отдельных элементов (элементарных явлений, событий, сущностей) в составе соответствующих массовых явлений: состояние любого из элементов не определяется и не зависит от состояния других элементов; поведение элементов взаимно не коррелируемо друг с другом. Основным понятием теории вероятностей является понятие вероятностного распределения. Понятие распределения является центральным и для статистики. Н.Винер, отец кибернетики, однажды заявил: “Статистика — это наука о распределении” [5, с. 24][51]. Жизнь общества характеризуется исключительным богатством различных распределений. Приведем некоторые из таковых: распределение средства производства по видам собственности, распределение доходов по группам населения, распределение населения некоторого общества (государства) по видам деятельности, по образованию, по возрасту, по медицинским услугам, распределение населения по профессиональной деятельности, распределение преступлений по их характеру, распределение цен на продукты (предметы потребления) на рынке и многие многие другие. Статистические закономерности и суть закономерности, выражающие зависимости между распределениями различных величин исследуемых систем и характер изменения этих распределений во времени. В основе статистического (вероятностного) анализа действительности лежит искусство мышления на языке распределений.
Фундаментальная роль представлений о распределениях обусловлена тем, что они являются структурными характеристиками статистических систем. Последние прежде всего раскрывают, как соотносятся целостные свойства систем со свойствами их элементов, как отдельные элементы “вписываются” в системы и как “образуются” целостные свойства систем. Тем самым распределения выступают как основа своеобразного системного видения мира.
Общество, как и любая сложная система, иерархически организовано, содержит многие уровни внутренней организации и детерминации. Соответственно, и статистические данные относятся к различным уровням строения и организации общества. Как сказал в свое время М.Бунге: “Исключительно статистический подход к общественно-историческим фактам и, более того, подход, сосредоточивающий внимание на измерении мелких деталей и не обращающий внимания на основные течения, может столь же вводить в заблуждение, сколь и чисто качественный подход. Однако ошибка коренится не в самом методе; она может заключаться в отборе фактов, в отборе, который всегда руководствуется (явно или скрыто) общими принципами. Исключительно статистическое рассмотрение имеет тенденцию оставлять в стороне общие направления общественного развития и внутренний механизм, вызывающий данные статистические результаты. На основе этого микросоциологического подхода... невозможно предвидеть крупные социальные изменения, хотя на основе его можно сделать точные предсказания относительно ожидаемых цен на сигареты такой-то марки. Но эта близорукость... не является внутренне присущей для статистического подхода; она обычно является результатом поверхностного отбора фактов и отсутствия теоретических моделей того явления, для проверки которого должны быть собраны данные. Микросоциологический подход должен быть дополнен исследованием внутреннего механизма социальной эволюции; знание последней может и использовать, и направлять микросоциологическое исследование” [2, с. 317].
Анализ “крупных социальных изменений”, “внутреннего механизма социальной эволюции” наиболее сложен. Здесь встречаются громадные трудности как в раскрытии эмпирических основ, так и в разработке достаточно полных соответствующих теоретических моделей. Подходя с подобными “требованиями” научного метода к анализу социальных процессов глобального масштаба прежде всего встают вопросы о характеристике состояний общества (государства) в некоторый отрезок времени. И в настоящее время уже сложился ряд основанных на статистической обработке показателей состояния общества. К таковым относятся показатели величины внутреннего валового продукта, произведенной энергии, среднего годового дохода на душу населения, доля трудоспособного населения и безработных в общей структуре населения, величина произведенного продукта, приходящаяся на высокие технологии и др. О полноте показателей состояния общества говорить не приходится — жизнь “вбрасывает” новые характеристики. На это обращают внимание такие утверждения: “В качестве показателя национального богатства выступают не запасы сырья или цифры производства, а количество способных к научному творчеству людей”. Или же: “Сейчас нация, не способная ценить обученный интеллект, обречена” [6, с. 3][52].
Характеристика состояния общества опирается на анализ двух важнейших вопросов: как обеспечиваются права человека в обществе и как обеспечивается его устойчивое развитие. Что могут сказать статистические данные в раскрытии этих вопросов? Права человека включают в себя право на жизнь, право на здоровье и право на достойное житие (стремление к счастью). Право на жизнь, точнее — нарушение этого права, характеризуется в обществе прежде всего таким параметром, как число насильственно прерываемых жизней граждан (уровнем преступности). Осуществление права на здоровье характеризуется такими показателями, как состояние медицинского обслуживания, средняя продолжительность жизни членов общества, распространением болезней и эпидемий, включая и наркоманию. Более сложно обстоят дела с характеристикой права на достойное житие. По отношению к бытию человека здесь нередко отмечают полноту его свободы, возможность действовать по внутренним побуждениям и основаниям. Но это, так сказать, высшие этажи в решении рассматриваемого вопроса. В основании лежат право на труд и полнота его вознаграждения, удовлетворение духовных потребностей (показатели образования и возможностей его получения, показатели места и роли науки и культуры в жизни общества).
Анализ проблемы устойчивого развития общества и его структур также многокомпонентен и сложен. Устойчивое развитие общества — это такое его развитие, когда происходящие преобразования в нем и внешние возмущающие воздействия не нарушают выполнения обществом основной его функции — сохранение и обогащение уровня и образа жизни членов общества. Соответственно определяются и основные показатели, характеризующие условия устойчивости. При этом методика определения некоторых из них достаточно разработана. К таковым относятся, например, показатели, характеризующие жизненный уровень населения. Ряд же показателей нуждается в углубленной проработке и коррекции. Сюда прежде всего относятся параметры, относящиеся к решению вопроса о социальной справедливости в той или иной государственной социальной структуре. Представления о социальной справедливости весьма “тонки”, но без их приемлемого решения нельзя надеяться на устойчивое развитие общества. Об этом свидетельствуют многие исторические факты. Отметим некоторые из них, относящиеся к истории Соединенных Штатов Америки. Идея социальной справедливости встала перед отцами-основателями Америки в процессе разработки ее конституции. Существенен в этом отношении анализ политической философии Томаса Джефферсона — автора Декларации независимости, интеллектуального отца Америки. По Джефферсону, природа человека порождает естественное чувство справедливости, что делает общественную жизнь возможной и доброжелательной, так как понимание истинной ценности справедливости позволяет человеку заботиться о благе других и всего общества в целом. Добавим еще, что Франклин Делано Рузвельт в дни “великой депрессии” часто цитировал американского деятеля XIX века Д.Вебстера: “Самое свободное государство на свете не может долго просуществовать, если законы имеют тенденцию создавать быстрое накопление богатства в немногих руках, оставляя большую часть населения в нищете”.
Статистические показатели состояния и развития общества весьма разнообразны, и, естественно, встает вопрос об их целостном рассмотрении, о взаимосвязи распределений различных показателей. Такое целостное рассмотрение взаимосвязей различных показателей в обществе представляет, пожалуй, важнейшую задачу теоретического анализа, и оно в настоящее время характеризует основную направленность теоретических изысканий. Построение подобной обобщающей модели организации общества остается еще во многом открытым, но в то же время разработку социальных наук следует рассматривать и в плане решения этой грандиозной задачи.
Язык статистики, повторим, есть язык распределений. Соответственно, при рассмотрении тех или иных показателей важно определить базовый, оптимальный для жизни общества вид распределения тех или иных показателей. Например, какой спектр распределения доходов в обществе наиболее полно отвечает его внутренней устойчивой структуре? Отклонения от такого “базового” распределения выступают как показатели, выражающие наличие деформаций в обществе, его “болезненное” состояние. Аналогичным образом можно сказать, что отклонение показаний температуры организма от ее “базового” значения выражает его заболевание. Отсюда встает задача лечения организма, лечения общества.
Статистические методы познания применимы в социологических исследованиях прежде всего на уровне первичных, простейших социальных структур, на микросоциологическом уровне. Особо широкому внедрению эти методы обязаны появлению компьютеров и соответствующих программ. Эти направления прикладных исследований весьма важны, и на них в литературе обращается специальное внимание. “...Методы анализа данных и статистические пакеты для компьютеров и других видов ЭВМ, — читаем мы в одной из недавно вышедших книг, — стали на Западе типичным и общеупотребительным инструментом плановых, аналитических, маркетинговых отделов производственных и торговых корпораций, банков и страховых компаний, правительственных и медицинских учреждений. И даже представители мелкого бизнеса часто употребляют методы анализа данных либо самостоятельно, либо обращаясь к услугам консультационных компаний” [7, с. 5][53]. Широкое применение статистических методов анализа данных опирается на определенную подготовку пользователей. В этой связи продолжим приведенное высказывание: “На Западе такая подготовка обеспечивается обучением основам анализа данных практически всех студентов и менеджеров: в программы университетов, школ бизнеса, технических и других колледжей входят систематические курсы прикладной статистики. Разработаны и широко используются курсы основ теории вероятностей и статистики и для старших классов средней школы...
К сожалению, в нашей стране ситуация совершенно иная. В средней школе методы статистического анализа данных (хотя многие из них очень просты и весьма полезны) не упоминаются вовсе, а в высшей школе, даже в тех вузах и университетах, программы которых были просто перегружены математикой, методам анализа данных отводилось очень небольшое место... А в гуманитарных и медицинских вузах курсы анализа данных чаще всего просто отсутствовали. В результате даже самые простейшие методы статистического анализа данных почти для всех отечественных руководителей и менеджеров остаются terra incognita” [7, с. 9].
Применение методов анализа данных на уровне первичных социальных структур преследует, естественно, цели оптимальной организации их деятельности. Вместе с тем они могут приобретать и более широкое значение. Так например, повсеместное применение одного из специализированных разделов статистики — методов контроля качества продукции — явилось “немаловажным фактором успехов стран — лидеров мировой экономики, в особенности Японии” [7, с. 467].
Развитие статистики представляет собою базу развития социальных наук. С течением времени эта база становилась все более обширной и ныне анализ закономерностей развития общества не мыслим вне анализа статистических данных. Эти данные, характеризующие состояние и развитие общества (социальных структур), ныне все более и более нужны для организации жизни общества, для процессов управления. Статистика и зарождалась в ходе становления науки управления государством. В наше время любые уважающие себя общественные структуры создают соответствующие службы. Первое центральное статистическое бюро было образовано в 1841 году в Бельгии и такие службы при правительствах государств получили широкое распространение в мире. И ныне статистические данные составляют необходимый базовый элемент оценки состояний и перспектив развития социальных структур.
Итак, разработка современных методов анализа социальных процессов идет в русле познания сложности, познания сложноорганизованных систем. В структуре этих методов важнейшее значение приобрели статистические методы, в основе которых лежит язык вероятностных распределений, искусство способов задания и оперирования распределениями. Среди тех, кто признает принципиальную значимость теоретико-вероятностного стиля мышления и его более значительную общность в сравнении с мышлением, основывающимся на принципе жесткой детерминации, распространено утверждение, что мышление, которое не включает в свою орбиту идею случайности, является примитивным [2, с. 257]. По аналогии можно сказать, что те социологические исследования, которые не вовлекают в свою орбиту анализ статистических данных, следует также ныне рассматривать как достаточно примитивные.
Н.Т.Абрамова
Коммуникация и традиция
На вопрос о том, откуда и каким образом вырастает традиция, не существует точных ответов. До сих пор не ясно, сводится ли традиция к непосредственному наследованию того, что уже имеется в наличии, то есть к прямому воспроизводству? Или же традиция предполагает, что некоторые из феноменов культуры каким то образом сохраняются, а другие подвержены изменениям? Другими словами, необходимо выявить механизмы воспроизводства или, лучше сказать, общие закономерности культурно-исторического развития, так или иначе включающие, с одной стороны, транслирование и сохранение сходного, некое единообразие устоев и времен, а с другой — предполагает и соответствующее разнообразие. Постановка этой задачи вынуждает нас обратиться к анализу роли коммуникации в сохранении традиции, к изучению путей формирования института наставничества, к поиску истоков механизмов продолжения и сохранения устоев рода, семьи, корпорации. Наконец, нуждается в дополнительном обосновании круг вопросов, связанный с трансляционными процедурами: о достаточности (недостаточности) вербального языка, о роли иных коммуникативных средств, основанных, к примеру, на несловесном мышлении. Поставив вопрос о связи традиции и коммуникации, мы вынуждены обратиться к некоторым историко-культурным концепциям, в которых развивалась сама мысль о сути традиции, о способах и формах передачи знаний. Надо признать, что данные вопросы относятся к широко обсуждаемым от античности до нынешнего дня. Наша попытка продвинуться несколько вглубь истории позволит, надеемся, придать основательность существующим ныне взглядам на коммуникативное содержание традиции.
1. Традиция и сохранение единообразия
В практической жизни действия человека, как правило, подчиняются обычному, “простому евклидовому уму”, а общение построено на обмене мыслями, на освоении информации. Большей частью таким действиям свойственен простой познавательный интерес, и разным людям присуща разная степень способностей проникновения в глубины окружающего мира, в его “тайны”. И все же познавательные способности человека строятся на основе некоторых общих принципов получения и переработки информации. Субъекты познания выступают в таком случае в роли автономных, самодостаточных, рациональных воспроизводителей информации. Коммуникация в таком случае получает смысл простого обменного процесса сообщениями между переработчиками информации. В данном взгляде на коммуникацию и традицию обнаруживает себя главная черта рационалистически ориентированного сознания. Согласно такому представлению, освоение информации имеет статус нравственной ценности и прогрессивности во благо познающего “Я”. Отсюда и то приоритетное место в опыте человека, которое было отведено когнитивным актам. Данная модель коммуникации, получившая название информационно-кодовой, основана на следующих предпосылках: говорящий намеренно отправляет слушающему некоторую мысль, или информацию; на другом конце цепочки (получатель) воспроизводит (перерабатывает и хранит) посланную мысль; оба — говорящий и слушающий — обладают языковыми общими декодирующими устройствами и процессорами. Отсюда симметричный характер процедур кодирования приводит к идентичности содержания знаний и у отправителя и получателя информации[54]. Кодовая модель коммуникации является основополагающей, но не единственной при передаче знаний.
Надо сказать, что мысль о коммуникативной природе трансляции возникла вовсе не в нынешний век новых технологий, а вызревала внутри философии в различных ее концепциях — как рационалистического, так феноменологического планов. Ученые разных эпох перманентно размышляли над вопросами: как передается и постигается знание? Какая из форм обучения является оптимальной? Может ли смысл быть навязан извне? Сводится ли обучение лишь к узнаванию или же оно предполагает и самонаучение? При всем историческом своеобразии и постановка таких вопросов и ответы на них предполагала опору на понятие коммуникации.
Исходный, первоначальный смысл коммуникации (лат. communicatio, communico — делаю общим, связываю, общаюсь) связан с представлением об общении, о передаче информации от человека к человеку как специфической форме взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности, осуществляемой главным образом при помощи языка[55]. Между тем, как показывает анализ опыта такой реконструкции, само понимание традиции и коммуникации существенно отличалось в зависимости от представлений о роли разума и опыта, от понимания природы сознания и др.
Исторически значимые аргументы в пользу кодовой модели коммуникации детально проанализированы М.К.Петровым. К такому выводу автор пришел на основе изучения истоков традиционной культуры — первобытной, земледельческой и более поздних ее форм. Коммуникация, которую автор трактует как возможность сохранения коллективного опыта, предстала как попытка идентификации социальных знаний. Свое понимание исходного понятия М.К.Петров уточняет таким образом: коммуникация обнаруживается там и тогда, где нужно; устранить рассогласование между тем, что есть и тем, что нужно. коммуникация работает на закрепление норм и стабилизацию. Как считает автор, коммуникация нейтральна по отношению к содержанию; ей безразлично, что закреплять и стабилизировать. Поэтому даже, к примеру, радикальные изменения, социогенезе, не отражаются на составе и институте механизмов коммуникации. Последняя работает в режиме обратной связи и возникает в случае рассогласования[56]. Свою классификацию социального кодирования — выделение лично-именного, профессионально-именного и универсально-понятийного типов — автор строит, исходя из представлениц об особых режимах обучения и усвоения знаний. Обоснование мысли о том, что каждому из названных типов присущи свои особые “технологии” передачи знания позволило К.М.Петрову наметить решение ряда вопросов. В их числе: о путях закрепления и воспроизводства поведенческих стереотипов; о механизмах усвоения наглядно-подражательных схем и основных навыков профессиональной подготовки. Анализ этнографических документов, позволил автору реконструировать основные коммуникативные механизмы и процедуры, существовавшие между членами обществ традиционной культуры. М.К.Петров раскрывает содержание знания, получаемое учеником от наставника, режим обучения, ту технику, посредством которой происходит передача знаний и др. Такое исследование помогло автору прийти к выводу о том, что сохранение традиции с необходимостью вытекает из, во-первых, веры в священность и непреложность предлагаемых знаний и умений; во-вторых, из неукоснительного следования предзаданным правилам и ориентирам. Именно поэтому специальное обоснование получила процедура, направленная на воспроизводство, на повторяемость единых для разных поколений структур знаний и умений.
Практическое мышление человека дорефлексивно, оно, как правило, ситуационно, не выделено, как правило, себя из потока сознания[57]. Сосредоточиваясь на текущих событиях и фактах, человек часто оставляет вне поля внимания нечто важное — сами акты субъективного опыта. Э.Гуссерль называет это состояние сознания человека естественной установкой: “Как человек в естественной установке, такой, каким я был до эпохэ. Я наивно вживался в мир; почерпнутое из опыта сразу же получало для меня значимость, и это было базисом для всех остальных моих точек зрения. Как естественно живущее Я, я был трансцендентальным Я, но ничего об этом не знал. Для того чтобы вникнуть в мое абсолютное собственное бытие, я должен был проделать феноменологическое эпохэ”[58].
Итак, коммуникация, основанная на естественной установке сознания, не предполагает рефлексивной работы сознания. Действия человека основаны, скорее, на повседневных рационализациях, общение же направлено на сохранение текущей информации, на ее воспроизводство. К.Ясперс отношения такого плана назвал повседневно-наивной коммуникацией. По своему значению такая характеристика близка к трактовке Гуссерля. Повседневная коммуникация представляет интерес, отличается от подлинной коммуникации. Разъясняя смысл проводимого различия, он отмечает, что реальной базой повседневной коммуникации людей в сообществе является наивное сознание. Главная особенность “наивного сознания” в том, что оно “не задает вопросов” о своем бытии, то есть таких вопросов, которые могли бы внести в мое сознание разлад и раскол. Главное — это не выходить за пределы той “колеи”, которая предопределена традицией и которую неукоснительно должны сохранять все члены сообщества. “В наивном сознании, — подчеркивает Ясперс, — я делаю все то, что делают другие, верю во все то, во что верят другие, думаю то, что думают другие. Мнения, цели, страхи, радости переходят от одного к другому так, что мы даже не замечаем в силу того, что имеет место первичная, нерефлексивная идентификация”. Сознание человека, отмечает К.Ясперс, в такой ситуации просветлено, но его самосознание закутано плотным покрывалом. “Я” человека, погруженное в такого рода общности, еще не находится в состоянии коммуникации, так как он не сознает сам себя”[59].
Действия членов традиционного общества — так, как они представлены в исследовании М.К.Петрова, — построены именно на наивном сознании. Ведь, сохранение устоев достигалось путем неукоснительного выполнения всех норм и ритуалов, содержание которых строго воспроизводилось всей системой воспроизводства традиции. К примеру, программирование в так называемые “взрослые имена” в лично-именном социуме происходит силами старейшин — носителями взрослых имен. “Память старцев, — показывает М.К.Петров, — и есть, собственно, та “фундаментальная библиотека” лично-именного кодирования, в которой хранится “энциклопедия” первобытной социальности: имена, адреса распределения знаний индивидов, связанные с именами тексты. Вместимость этой коллективной памяти и будет в конечном счете определять возможные объемы знания, которые социогенез этого типа способен освоить, включить в трансляцию для передачи от поколения в поколение”[60]. В профессионально-именном типе социального кодирования знания и умения наследуются через институт семьи, через длительный контакт поколений. Все это позволило прийти М.К.Петрову к мысли о существенной зависимости трансляции культуры от коммуникативной практики обучения, о важности непосредственно-жизненного опыта. Сам контекст жизни, ее уклад, то, что создано предшественниками, с необходимостью воспроизводилось последующими поколениями, наследовалось индивидами. В профессионально-именном типе социального кодирования знания навыки, умения наследуются уже иным путем, а именно через институт семьи, через длительный контакт поколений. Но и здесь идентичность социальной практики достигается через обмен одной и той же информацией через симметричное повторение устоев, семейного уклада, через воспроизводство самой ткани живой жизни. Для нас существенно, что сохранение коллективного опыта достигается через повторение, через воспроизводство единообразия этого опыта. В соответствии с таким взглядом, наивное сознание не “омрачено” раздумьями над “смыслами” жизни; напротив, будучи строго соотнесенным с нормами, предъявленными практикой жизни, оно адаптировано к повседневности вполне гармонично, устойчиво по своему внутреннему содержанию. Это и придает коммуникации, основанной на наивном сознании, черты зрелости и необходимости.
Но если характеристика традиции не исчерпывается одним лишь прямым воспроизводством тождественного, единообразного, то как обеспечивается возможность разнообразия? Известный ответ содержится у К.Ясперса, который замечает, что в случае если подлинная коммуникация должна состояться, то при этом нет возврата к неосознанности. Напротив, сознавая сами себя, мы должны, по мнению философа, противопоставить “Я” своему миру и другим мирам о нем. Подлинная коммуникация, по Ясперсу, возможна только тогда, когда “мир мечты и сна” (traumhafte Welt) кристаллизуется с помощью ясного и общезначимого логического мышления и превращается в мир вполне определенных и узнаваемых предметов и закономерностей[61].
2. Традиция и разнообразие
С оценкой К.Ясперса роли логических компонент сознания в трансляции традиции, вполне согласились бы и античные мыслители. Именно у истоков философии сформировались приоритеты, выражавшие негативное отношение к практически ориентированным способам передачи знаний. В соответствии с античным рационализмом, только логос, или “очи разума” открывают подлинную природу реальности, а докса (чувственное знание) является “темным”, “неразумным” знанием, которое только искажает истину. Приоритеты, расставленные античной философской мыслью, были восприняты в качестве установок сознания и последующими поколениями философов. Негативное отношение к практическому слою знания тем самым сказалось на исторической судьбе “неинтеллегибельного” знания: вплоть до нашего времени оно продолжает оставаться слабо изученным. Заметное влияние в указанной связи оказала позиция Аристотеля по вопросу о приоритете знаний теоретика над знаниями практика. Аргументируя свою точку зрения, Аристотель констатирует, что практики большей частью опираются лишь на знание единичного, что умения основанные на опытном знании, ориентированы лишь на индивидуальные предметы. Между тем только общее, с точки зрения Стагирита является выразителем причинных отношений, выразителем его истинности. В соответствии с таким гносеологическим кредо, опытное знание может дать только ответ на вопрос “что” это такое, но оно вовсе не раскрывает того, “почему” это происходит. Способность к выявлению причинных связей Аристотель уравнивает с владением искусствами. Исходя из мысли о приоритете рационального мышления над “телесной” формой знания людей, занимающихся физическим трудом и действующих неосознанно, он стал порой называть неодушевленными предметами. “Наставники более мудры не благодаря умению действовать, а потому, что они обладают отвлеченным знанием и знают причины. Вообще признак знатока — способность научить, а потому мы считаем, что искусство в большей мере знание, нежели опыт, ибо владеющие искусством способны научить, а имеющие опыт не способны”[62].
Как мы видим, расставленные Аристотелем акценты свидетельствуют о том, что когнитивному в опыте человека (в картезианском смысле) был отдан приоритет; логос, таким образом, приобрел статус главной ценности. Но уже в античности представленная точка зрения на роль перцетивного знания не была единственной. Отметим направление мысли, связанное с именем Сократа. В диалогах последнего раскрывается то, как должны строиться отношения между наставником и учеником, то, что составляет главный нерв коммуникации. В соответствии со свидетельствами, которые оставлены мыслителями ранней античности, проблема условий обучения была у Сократа одной из центральных. Уже тогда были выдвинуты вопросы о важности тесных духовных контактов, о содержании передаваемого знания, о способах такой передачи и др. Существенное место философ придает той атмосфере и той форме общения, которые устанавливаются между учителем и учеником. “Эту божественную милость истинной мудрости можно передать близкому разве что в тесном и дружеском единодушном общении, из руки в руку, как силу магнетизма — в этом сходятся свидетельства “Феага” и Ксенофонтовых воспоминаний”[63]. Процедура “постижения мудрости и извлечения уроков из опыта прожитой жизни” возможна, как мы видим, в первую очередь, между “близкими”, “единодушными” и, кроме того, при условии непосредственных телесных контактов. Сократа-учителя больше интересует то, как приобщить своих учеников к знанию, и прежде всего к исповедуемому им самим миросозерцанию и мироотношению. Отсюда, по-видимому, и особое внимание к тому содержанию и тем обстоятельствам, в которых должно протекать освоение знаний.
Сократовская модель обучения, без сомнения, включает в своем составе и необходимость передачи знаний, и прямое его воспроизводство, и т.п. Однако, в качестве стержня процедуры обучения взята вовсе не идея идентичности тнформации на “входе” и “выходе”, а духовно-практическая компонента коммуникации. И хотя условия и сам ход обучения в ней отличаются принципиально, тем не менее данная модель коммуникации также сохраняет в своем составе и некоторые характерные черты, присущие информационно-кодовому варианту.
Между тем для построения отношений, основанных на единодушии, нужны особые усилия, направленные на формирование соответствующего духовного “климата”. Для рассмотрения этого вопроса нам потребуется далее обратиться к еще одному опыту реконструкции исторического предания, где речь пойдет о древнеиндийской ведийской традиции. Современный автор, санскритолог B.C.Семенцов также исследует пути и механизмы передачи социального знания. Предмет его анализа — памятники ведийской культуры. Знакомство с текстами этой культуры убеждает автора в том, что вопрос о путях и средствах трансляции оказался для религиозно-философских концепций той эпохи центральным.
Присмотримся к ходу мысли B.C.Семенцова, попытавшемуся в интересующем нас плане проанализировать архитектонику обучения, наличие в его структуре ряда этапов и уровней. Анализ иерархической организации обучения позволил автору выделить, с одной стороны, традиционное обучение, включающее прямую передачу-прием общих социально значимых смыслов; а с другой — обучение предусматривало трансляцию более тонких смыслов, смыслов, воспроизводящих духовно-психологические, личностные качества самого учителя. Именно эта двуединая задача и накладывает соответствующий отпечаток на весь уклад ведийской традиции.
Итак, ведийская модель коммуникации предполагает, во-первых, и сохранение всего содержания древнеиндийской системы воззрений; и, во-вторых, трансляцию форм ритуального поведения, в которых данное воззрение себя реализует; и, в третьих, наследование образа учителя: ученик должен уметь воссоздавать не только чисто физические, но и духовные качества своего учителя — ход и направление мыслей последнего, его систему ценностей и др. На переднем плане сохранения оказывается, таким образом, овладение знаниями, причем таких ее компонент как: священные тексты, сам ведийский ритуал, который представляет собой чрезвычайно сложную иерархизированную систему сакрального поведения. Систему, которая включает в своем составе особого рода технологии исполнения данного ритуала. И еще: к числу важнейших компонент трансляции ритуала принадлежит также умение ученика воспроизводить “образ” своего учителя.
Итак, трансляция всего названного корпуса знаний вряд ли могла быть успешной, если бы она строилась на основе информационно-кодовой модели. Ведь одного лишь канала связи, основанного на воспроизводстве священных текстов, не достаточно. Семенцов указывает поэтому на ту значимость, которая придавалась непосредственному и тесному общению ученика и учителя[64]. Правда, собственно самого обсуждения вопроса о характере и содержании такого общения мы не находим у Семенцова. Но, чтобы вскрыть и понять ход обучения, характерный для ведийской традиции, попытаемся далее как бы продолжить и развить эту мысль. Прежде всего, надо признать, что наследование трансляционных форм ведийской культуры вряд ли могло состояться, если бы не выполнялось одно из главных условий коммуникации — если бы тесное взаимодействие не переросло в соучастие коммуникантов, если бы ученик не проявлял должной рефлексивной активности. Интерсубъективность как бытие взаимосогласованного опыта предполагает изначальную гармонию ученика и учителя, образование интермонадических сообществ[65]. Эффективность обучения достигается, таким образом, с помощью непосредственных тесных контактов, имеющих характер не просто соприсутствия, но и включающих тонкую духовную связь, духовную общность и понимание. Эти отношения пронизаны своеобразными, как теперь говорят, полями когеренции[66], результатом конституирования совместного интерсубъективного мира[67]. Поведение Я и Другого характеризуется психологическим или феноменологическим переживанием общности (“togethemess”) интересов, действий и т.п. Эта общность не является постоянной, она всегда “движется”, и часть коммуникативной “работы” всегда направлена на ее воспроизводство, достижение и поддержание в каждом новом акте общения. Условием и результатом взаимосогласованного опыта служит со-чувствие, со-осмысление, со-волеизъявление.
Эти идеальные структуры совместного сосуществования выполняют регулятивную функцию, являются, возможно, тем порождающим началом, под влиянием которого формируются такие духовные явления, как патриотизм, память о прародителях, “дух семьи”, “дух школы”, “образ ученого” и др. Само это со-осмысление, со-волеизъявление протекает на фоне и под воздействием той атмосферы, того неуловимого “аромата”, которые и служат отличительными чертами совместного интерсубъективного мира — “школы”, “семьи” и т.п.
“Неуловимый дух” конституируется взаимосогласованными формами поведения, способами демонстрации смыслов, манерой их интерпретации и др. Феноменологическое переживание смысловых образцов оказывается стержнем особых условий наставничества. Без совместного духовного мира, без согласованных условий, предполагающих возможность общности восприятия и ассоциативного переноса смыслов не может возникнуть спаренное единство учителя и ученика — общность нравственно-психологических позиций, разделение друг с другом схожих духовных переживаний, согласованное восприятие и оценка событий и т.п. В противном случае общение носит чисто механический, внешний характер и сводится к простому обмену информацией. А это, как мы помним, залог примитивной интерсубъективности.
По своему внутреннему строго духовная общность является весьма хрупкой и тонкой организацией, полностью зависимой от совместной духовной работы “Я” и “Другого”. Будучи порождением такого акта “здесь” и “сейчас”, духовная общность приобретает индивидуальные “поштучные” черты. Отсутствие же обощенного, необходимого содержания делает невозможным прямое и непосредственное транслирование духоавно-практического опыта ни от “Я” к “Другому”, ни от нынешнего поколения к будущему. Другими словами, каждый новый случай (иная пора, иные поколения сталкиваются с необходимостью поиска своего собственного пути к духовной общности. Чтобы экзистенциально сблизиться требуется, таким образом, усилия по организации совместного духовного опыта. Для нас существенно не столько само содержание идейной общности, сколько основания интерсубьективности, те предпосылки, которые конституируют мир Другого. Тот факт, что слияние отдельных духовных ценностей и образование совместных духовных ценностей является, как полагает Э.Гуссерль, результатом “вчувствования” в чужие смыслы, вынуждает нас реконструировать эти основания. С этой целью обратимся к конкретному описанию рождения взаимопонимания (взаимонепонимания).
Потребность в духовном родстве побуждала людей разных эпох и поколений к действиям в этом направлении. Однако не всегда “благие намерения” ведут к желаемому результату: часто это бывает и дорогой в ад. Обращаясь, к примеру, к “Письмам” английского писателя Честерфилда, мы попытаемся раскрыть, отчего произошло рассогласование между замыслом и результатом. Это обнажение противоречий желаемого и необходимого позволяет выявить некоторые особенности условий наставничества и открывает пути их изучения в ряде дисциплин. Целесообразно сразу оговориться, что “Письма к сыну” являются примером отрицательного воспитательного результата, примером того, какие педагогические шаги могут принести вредные последствия в деле воспитания. В своих “Письмах” Честерфилд в течение многих лет намеренно отправлял подрастающему сыну некий свод информации, в котором была представлена картина ряда правил жизни и поведения. Получатель этой информации должен был, как предполагал отправитель, руководствоваться ею в своей жизни.
Что же получилось на самом деле? Отчего не образовалось единое духовное пространство? Попытаемся найти ответ, взглянув на опыт порождения смысла Другого с позиции коммуникативных отношений. Тщательное изучение мотивации писателя-отца делает коммуникативно понятой любое его стремление: установить с сыном духовное родство, взаимосогласовать и интересы, и образ жизни и др., то есть сделать общими духовные ценности. Свои письма Честерфилд как раз и рассматривал в качестве фундамента и источника взаимной духовной близости.
Между тем, “Письма” оказались и первым и последним “педагогическим шагом”, который был сделан отцом. Свод ряда правил жизни и поведения, сформулированный им, оказался реально отделен от переживаний сына, не стал для последнего “своим”. Тем самым не получилось взаимосогласования “бытия-друг-для-друга” гармонизации их отношений друг с другом. Не произошло это прежде всего потому, что отец оказался всего лишь “отправителем информации”, а сын — “получателем информации”. От того, что информация, бывшая формальной, чисто описательной, не конституировала структуры совместного существования: ведь отец не сделал попыток личным примером продемонстрировать “содержание” изложенных правил; не раскрыл Другому в самой ткани живой жизни, превращенном в сообщество, какой поступок, к примеру, является нравственным, а какой безнравственным, каким путем формируется чувство чести, в чем проявляется достоинство, а какие поступки оказываются постыдными и пр. Другими словами, вложив в свое сообщение некий смысл, отец тем не менее не сумел (не захотел) продемонстрировать свои интенции: а именно, не сделал ничего, чтобы сын распознал его устремления и отреагировал ожидаемым образом. Посланная информация не стала неотъемлемой частью общения; для сына она (информация) вообще не стала смысловым знаком, оказалась пустой, коммуникативно не значимой. Для нашего анализа мысль об опыте порождения смысла, зависимого от коммуникации, оказывается здесь центральной. Будучи коммуникативно-бедным, опыт отца и сына оказался рассогласованным, асимметричным. Тем самым традиция, идущая от писателя Честерфилда, оказалась прерванной, хотя, казалось, чисто внешне связь с “наследником” и не прерывалась.
3. Практическое сознание
Традиция реализует себя, как мы видим, в итоге не только через непосредственную передачу информации (знаний и умений), но и через неявные каналы, связанные с коммуникативными средствами трансляции. И здесь первостепенную роль начинают играть несловесные формы передачи мысли и знаний.
Углубленный анализ структуры сознания, проведенный в наше время психологами, лингвистами, психолингвистами и др., позволил обосновать новый взгляд на процессы мышления. Было обращено внимание на глубокую связь процессов мышления, которые завершаются речью, с потребностями субъекта в общении, с коммуникативными намерениями, с мотивирующей сферой нашего сознания — с влечениями и потребностями, с интересами и побуждениями, аффектами и эмоциями и др. Как стало очевидно из результатов исследования коммуникативной природы сознания, уже в семантике речи содержится скрытое или явное указание на разного рода субъективные намерения по отношению к Другому: попросить о чем-либо, продемонстрировать эмоции по какому-нибудь поводу, выразить отношение и т.п. Настрой речи, его вектор мотивирован, таким образом, интенсиональными переживаниями. Цель речи оказывается двойственной. Придавая смысл своему сообщению, говорящий стремится, чтобы Другой не только его понял, но и, распознав, адекватно реагировал, чтобы речь служила сигналом ответной реакции.
Итак, бытие-друг-для-друга, взаимосогласованный опыт достигается не при одностороннем воздействии говорящего на слушающего, а в сложном коммуникативном взаимодействии. Постигаемый Другим смысл не тождественен полученной информации, а сама процедура трансляции не является механическим процессом обмена сообщениями. Чтобы мысль оказалась нагруженной тем или иным смыслом, она должна конституироваться, пройти соответствующий путь — путь, ведущий к индивидуации, субъективизации смысла. Ведь никто не может ни жить за Другого, ни думать за него. Отсюда и народная мудрость: “нельзя жить “чужим умом”. Утверждая относительный характер процедуры осмысления, релятивность пути поиска смысла, мы тем самым еще раз хотим подчеркнуть, что извлечение смысла не является простым обменным процессом; что усвоить, обменяться можно мыслью или информацией, но не смыслом. Сами же по себе и мысль и информация нейтральны со смысловой точки зрения.
Этот путь субъективации смысла имеет опытную, точнее, практическую природу. Основываясь на некоторых общих структурах понимания, каждый из нас специфицирует процесс осмысления относительно своих возможностей. Преодолевает этот путь сам, шаг за шагом, опираясь на прошлый и текущий опыт, на рациональные и внерациональные (несловесные) мыслительные акты. Весьма существенна и роль сложного коммуникативно-прагматического комплекса, в котором запечатлены элементы предшествующего опыта человека (языкового и неязыкового), оценки ситуации речи и ее адресата, цели речевого акта, решения относительно способа воздействия на собеседника и др.
Идея такого баланса обсуждалась в истории познания. Чтобы продвинуться в осмыслении данной проблемы, нам потребуется реконструкция хода рассуждений Дени Дидро. В своих письмах к Софии Волланд[68] философ-просветитель размышляет по данному поводу о работе скульптора Микеланджело над куполом собора Святого Петра в Риме. Д.Дидро заинтересованно спрашивает, почему скульптор выбрал именно данный свод купола? Обосновывая свой ответ, он обращает внимание на впечатления выдающегося французского геометра Дела Хира. Последний был просто потрясен тем, когда с помощью своей теории сумел доказать, что купол Микеланджело отличается не только красотой, но и необыкновенной прочностью.
“Как смог Микеланджело прийти к кривой, дающей самую большую прочность?” — продолжает удивляться Дидро, обращаясь к Волланд. Философ рассуждает в связи с этим о других математиках и геометрах, которые также указывали на случаи решения конструкторских задач без опоры на теоретическое знание, без наличия каких-либо точных расчетов. Выбор оптимального решения, как полагает Д.Дидро, строится ими по несколько иному канону: исходным основанием здесь служит главным образом непосредственно-осязательный опыт. Визуально-телесное знание в известной роде является антиподом алгоритмическому. В большей степени ему свойственны признаки “фонового знания”, конвенционального по своей природе. Опыт наполняется значением и смыслом под влиянием практики взаимодействия с предметом труда, трудовая деятельность — ее форма и результаты — в значительной мере ситуативно привязаны. Так, смысл своих действий плотник уточняет в каждом конкретном шаге, то есть его деятельность адаптирована к ситуации, носит пошаговый характер. В самом деле, для того, чтобы решить, каким способом он сможет обеспечить устойчивость данной стены, ему нужно вначале понять, какие именно подкосы и в каких именно местах он должен сделать. Эти точки не являются постоянными, они как бы “движутся”. Поэтому коммуникативная нагрузка у плотника направлена на воспроизводство, на достижение и поддержание адекватной ситуации на каждом новом шаге деятельности. Другими словами, опорными для плотника вовсе не являются априорные знания. Вместе с тем пошагово адаптированные именно к данной ситуации, действия плотника должны носить связный и цельный характер, подчиняться общему смыслу. Без воспроизводства каждого шага и всей ситуации в целом, без коммуникативной работы, направленной на это воспроизводство, вряд ли. К примеру, лопасти ветряка мельницы будут найдены под вполне определенным углом к его оси; именно тем углом, который и позволяет ловить ветер самым эффективным образом.
“Как получается, что математик, проверяя то, что уже определено практикой и привычкой, вдруг обнаруживает, что все получается именно так, как если бы это рассчитал лучший математик?” — продолжает вопрошать Д.Дидро. И отвечает: “Это вопрос о расчетах, с одной стороны, и об опыте, с другой. Если первое хорошо обосновано, то оно обязательно соответствует второму”[69]. Вместе с тем философ-просветитель отвергает мнение, будто форма купола собора Святого Петра была найдена лишь с помощью какого-то инстинкта или примитивного рефлекса. Главной здесь была опора на опыт. Дидро развивает мысль, согласно которой скульптору удалось сконструировать свой купол лишь после того, как в своей жизни он неоднократно оказывался в ситуациях, которые развили его интуицию прочности и равновесия. “В своей жизни он сотни раз стоял перед задачей укрепить то, что шаталось и определить, какой же угол подкоса является оптимальным” Опыт разнообразных спортивных состязаний подсказывал будущему художнику, какой из наклонов нужно придавать своему телу, чтобы сопротивление противнику было наибольшим. Во время учебы, сидя среди кип учебников, он научился их класть так, чтобы они были сбалансированы. Д.Дидро убежден, что именно опытным путем скульптору Микельанджело удалось понять, какую кривизну следует придать куполу с тем, чтобы Собор Святого Петра приобрел наибольшую прочность.
Но лишь в наше время открылась фундаментальность представлений о глубинных уровнях мышления, имеющих практическую природу. Физиолог И.М.Сеченов высказал мысль о первичности “предметного мира” по отношению к символизации переработанных впечатлений посредством слова. Блестящее подтверждение эта мысль нашла в исследованиях, связанных с формированием интеллекта и речи у слепоглухонемых детей. Было обнаружено, что в ходе предметно-практической деятельности сначала усваивается жестовый, и лишь затем и словесный язык[70]. Было также обосновано, что наглядно-действенное мышление выступает не только как определенный этап умственного развития человека, но и как самостоятельный вид мыслительной деятельности, совершенствующийся на протяжении всей жизни индивида. А Дж.Серль даже утверждает, что наша способность соотносить себя с миром посредством интенсиональных состояний мнения, желания, предпочтения более фундаментальна, чем вербальная способность[71]. На мотивационно-побудительной стадии формируются замысел и план высказывания. Намерение активизирует сознание говорящего, служит пусковым механизмом речевого акта.
В самой постановке вопроса о наличии мотива, замысла, плана речи, то есть о ходе течения мыслительных процессов, уже содержится новый взгляд на саму сущность мыслительных структур[72]. Ведь еще совсем недавно считалось, что по своему определению мышление связано неразрывно с использованием языка. Критика этого взгляда связана с обоснованием, с одной стороны, идеи о существовании разных типов мышления и, соответственно, о возможности интеллектуальных операций и без использования языка. А с другой стороны, мысль о несловесных формах мысли открывает путь для обоснования других, нестандартных моделей обучения.
С такого рода запросами столкнулись при попытках оптимизации учебной программы по освоению детской неврологии (кафедра медицины и логопедии). Основная задача, которая была поставлена авторами педагогического проекта В.А.Ивановым, В.Б.Ласковым и Н.А.Шевченко, состояла в том, чтобы познакомить студентов-медиков с этическими аспектами поведения, помочь приобрести реальные навыки грамотных и безупречных приемов работы с разнообразным “контингентом”. Речь идет о коммуникативных умениях, и родилась эта идея из чисто практических потребностей оптимизации работы врача, вынужденного действовать в самых разных ситуациях и отвечать на самые разные вопросы. К примеру, неизбежно возникают трудности работы с детьми и подростками, имеющими дефекты развития нервной системы; не менее сложны отношения со взрослыми пациентами, страдающими неврологической дисфункцией. А как общаться с родственниками таких больных? А взаимо несогласованный опыт коллег по профессии? И т.д. Разнообразие отношений, в которые вступает лечащий врач, невольно предъявляет ряд требований к его коммуникативным возможностям. Именно отсюда — из потребности получить знание об отношениях с Другим — и возникла идея дополнить образование студента-медика еще одним учебным курсом. Этот курс, по замыслу авторов проекта, должен быть практическим, в виде ролевых игр. С тем чтобы на личном опыте каждый мог сформировать у себя ряд коммуникативных навыков и умений, имеющих экзистенциальную природу. И прежде всего таких, к примеру, как этическая грамотность, этическая чуткость и сердечность, то есть качеств совместного существования.
Авторы нарисовали наглядную картину отношений, близкую к реальной ситуации в больничных условиях. По их замыслу, вживаясь в те или иные образы, студент должен научиться интенсионально сопереживать, демонстрировать и интерпретировать самые разнообразные смыслы и т.п. Оптимальность ролевых игр авторы усматривают в том, что в игре воссоздается реальная обстановка. Опора на опыт — вот одно из главных условий, которое поможет освободиться от беспомощности перед трудностями в реальных ситуациях, научит справляться с коммуникативными коллизиями, выработать умения адекватно оценивать больничную ситуацию. В числе таких умений особенная ценность была придана сдержанности, сердечности и т.п.
Студентам были предложены такие роли, как “больной ребенок”, “логопед или педагог дефектолог”, “родственник больного” и др. Предлагалось также разыграть к примеру, ситуации, где они должны “послать сообщения родственникам”. Таких случаев множество, например, о подростке, имеющем стойкий дефект функции нервной системы после черепно-мозговой травмы; о больном, прошедшем курс лечения и нуждающемся в выписке из стационара; о том, как нужно разговаривать с ребенком, у которого сохраняется стойкий дефект функции; о том, как сообщать родственникам больного те или иные сведения, как проводить самые разные беседы с больным ребенком и т.д. Ролевые игры, по мнению авторов, должны охватывать все основные проблемные ситуации будущей профессиональной деятельности студентов. Весьма существенно, что такие игры помимо собственно игрового момента предполагают и последующий критический анализ поведения каждого из участников игры. Так сказать, “разбор полета” должен быть также наглядным, чтобы на собственном опыте студент смог научиться правильным вариантам поведения в конкретных ситуациях. Ведь в реальной жизни эти ситуации могут быть и конфликтными и неверными в этическом плане, и профессионально ошибочными и др. Причем “неблагополучные” отношения могут складываться с разными членами ситуации: больными, врачами, педагогами, родными, сослуживцами и т.д. Авторы подчеркивают, что практический, зримо-контактный характер такого обучения более эффективен при формировании и совершенствовании профессиональных навыков, нежели лекции на те же темы. Операциональная постановка задачи открывает возможность формировать, по их мнению, адекватные этико-профессиональные установки[73]. Практический способ получения знаний и умений — вот еще один из оптимальных путей, ведущих к сохранению и воспроизводству традиции.
В наше время идея о практической природе сознания получает широкое признание, в том числе в исследованиях по психологии речи. Отметим попытку развенчания трудно искореняемой мысли, что обучение не является простым рефлекторным актом, что в сознании субъекта изначально заложена структура соотнесенности с Другим. Эта особенность сознания обнаруживает себя при обучении иностранному языку. А.А.Залевская провела специальное исследование о зависимости качества знания иностранного языка от мотивации — внешней и внутренней. Автор опирается на мысль, принятую в англоязычной научной литературе, о том, что понятие изучение языка (acquisition) отличается от другого понятия — усвоение языка (learning): первое из них трактуется как “схватывание” языка в естественных ситуациях общения, часто неосознаваемое; второе же получило смысл сознательного изучения языка в учебных ситуациях разных видов. Овладение языком подразумевает не одно только знание, а и способность мобилизовать это знание при выполнении определенных коммуникативных задач, в определенных контекстах или ситуациях. С точки зрения А.А.Залевской, языковая компетенция в значительной мере связана с прагматической, социокультурной, стратегической, коммуникативной компетенция.
Взаимоотношение понятий языковой компетенции и пользования языком в уточненной выше трактовке заставляет возвратиться к проблеме внешних и внутренних мотивов, участвующих в активизации структур нашего сознания. Механические, внешние когнитивные знания часто бывают бесплодными, они забываются и не играют практически никакой роли. Эффективность обучения связывают поэтому с выполнением главного условия: ученик должен опираться на использование знания и открытия, сделанные им прежде всего самим. В представлении об обучении вносится также и идея об изменении внутреннего чувственно-когнитивного опыта ученика. Значимым научение становится лишь при условии самообучении. Лишь в этом случае наиболее прочно и долго сохраняется. Ибо при этом вовлекаются все чувства, мысли и действия обучаемого, что и предопределяет его ответственность. Ведь опорой для принятия решений служит тогда не внешняя оценка, не мнение “другого”, а самооценка[74]. Учитель, наряду с этим, опираясь на знание о склонностях, о возможностях ученика и пр., должен одновременно попытаться сделать и другое: раскрыть, извлечь на поверхность все то положительное, что в ученике уже заложено, но запрятано вовнутрь. С точки зрения Роджерса, таким средством является эмпатия, которую автор толкует как умение понять внутренний мир “другого”, будто это его собственный мир. Такое умение необходимо учителю для того, чтобы сделать подвижными и открытыми способности ученика. Суть задачи учителя в этом случае состоит в том, чтобы “побуждать” ученика, то есть снабжать его энергией, которая и вызывает изменения[75].
Дальнейшая судьба идеи практического сознания определилась углубленным анализом тех несловесных мыслительных актов, с помощью которых происходит передача мысли — изучением внутренней речи, внутреннего слова, молчания, внутреннего опыта и др. Но эта тема уже для другого разговора.
И.П.Меркулов
Феномен сознания: когнитивные истоки культуры[76]
Вопрос о сознании уже свыше двух тысяч лет обсуждается религиозными мыслителями, философами, физиологами, психологами и психоаналитиками. Впервые древнегреческий анатом и врач Алкмеон из Кротона высказал предположение, что наш мозг является центральным органом психики, нашего мышления и сознания, еще в VI в. до Р.Х. Но хотя в прошлые века было выдвинуто немало заслуживающих внимание философских догадок и предположений, материальная основа человеческой психики и сознания вплоть до недавнего времени оставалась малоизученной. Поэтому тем направлениям классической философии, которые считали неправомерным редуцировать сознание к химическим или физиологическим процессам, так и не удалось до конца преодолеть дуализм души и тела, относительную противоположность духовной реальности (субъективного образа) и ее материального субстрата. Новые перспективы здесь открылись благодаря открытиям, которые были получены во второй половине XX в. в нейрофизиологии, психофизиологии и когнитивной науке. Исследования нейропсихологических основ сознания, в частности, показали, что связи между физическими и психическими событиями в мозге намного теснее, чем это полагают сторонники картезианского дуализма души и тела. Однако неприемлемость дуализма как способа решения проблемы духовного и телесного, конечно же, не означает, что появились какие-то бесспорные решающие аргументы в пользу редукционизма (редуктивизма), который был характерен, например, для моделей человеческой психики, разработанных в 60-70 гг. представителями различных направлений “научного материализма” (Фейгл Г., Рорти Р., Смарт Дж., Патнем Х., Фодор Дж., и др.). Эти модели опирались на различные варианты теории тождества психического и физического и в силу этого, как считали многие философы, игнорировали специфику и фундаментальное значение человеческой культуры. Однако ясно, что несостоятельность физикализма не исключает правомерности иных материалистических концепций сознания.
В то же время современная эпистемология не может игнорировать тот факт, что гипотеза о тождестве физического и психического, утверждающая, что каждому состоянию сознания однозначно (или “много-многозначно”) соответствует определенное состояние когнитивной системы, мозга (или что имеется только одно состояние, которое может восприниматься либо психологически, либо физиологически), остается весьма популярной среди естествоиспытателей — нейрофизиологов, психофизиологов, нейробиологов и т.д. Ее истоки восходят к хорошо известной идее, выдвинутой в свое время одним из пионеров экспериментальной психологии В.Вундтом, согласно которой каждое психическое явление имеет свое физиологическое измерение. Эта идея прекрасно иллюстрировалась известными явлениями покраснения, испарины, изменения сердечного ритма, дыхания и т.д., связанными с переживаниями и сильными эмоциями. Конечно, даже современные варианты гипотезы о тождестве физического и психического нельзя рассматривать как достаточно хорошо подтвержденные. В то же время следует признать, что до сих пор против этой гипотезы не было выдвинуто какого-то решающего контраргумента. Нельзя также отрицать ее эвристичности, поскольку без веры в наличие каких-то корреляций между психическими и физическими процессами невозможно осуществлять соответствующие поиски в нейробиологии, нейрофизиологии и т.д. Парадоксально, но факт — опираясь на эту гипотезу, были получены очень точные данные о физических эффектах сильных эмоций, о локализации зон мозга, связанных с некоторыми когнитивными способностями, с когнитивными типами мышления, о связи между функционированием мозга и некоторых желез (например, щитовидной железы) и т.д. Многие ученые-естественники уверены, что все, что отражается в наших переживаниях, в состояниях нашей психики, имеет свой коррелят в нейрофизиологических процессах, хотя, с другой стороны, далеко не все, что происходит в нашей когнитивной системе, находит отражение в наших субъективных переживаниях.
В современной философии науки правомерность и эвристичность гипотезы о тождестве физического и психического отстаивает нейрофилософия, в задачи которой входит исследование компьютерного моделирования природы мозга и сознания, а также возможностей компьютерного мышления. Наиболее известный представитель этого направления — Патриция С.Черчленд, профессор Калифорнийского университета (г. Сан-Диего, США). По мнению Черчленд, в нервной системе имеется несколько уровней организации — молекулы, структуры нейронов, целые нейроны, малые сети нейронов, большие сети нейронов и мозг в целом. Ученые стремятся объяснить высшие психические функции и способности (восприятие, память и т.д.) прежде всего в терминах когнитивных систем и больших сетей. Но они также должны ставить перед собой задачу объяснить эти функции и способности в терминах меньших сетей. Кроме того, молекулы мозга могут быть подвергнуты биохимическому анализу, а обнаруженные данные — получить интерпретацию в терминах физики. Черчленд высказала предположение, что нейрофизиология и психология будут продолжать коэволюционировать до тех пор, пока в будущем на некотором более высоком уровне психологические теории не окажутся редуцированными к более фундаментальной нейрофизиологической теории. Именно тогда, по ее мнению, возникнут предпосылки для разработки единой теории сознания и мозга[77].
В литературе по философии сознания концепция Черчленд была подвергнута весьма острой критике прежде всего за попытку реанимировать точку зрения, согласно которой более низкий уровень организации обеспечивает объяснение свойств более высокого уровня. В то же время эта концепция вполне оправданно привлекла внимание ученых к необходимости более тесной интеграции нейронаук и когнитивной науки, ориентируя нейробиологов и нейрофизиологов более исчерпывающим образом учитывать результаты, полученные когнитивной психологией и исследованиями в области искусственного интеллекта, а психологов — данные нейроанатомии и нейрофизиологии. Как оказалось, такая интеграция действительно приводит к новым открытиям — например, к открытию изменяющихся свойств нейронов и нейрофизиологических механизмов, связанных с работой внимания, визуальным осознанием, распознаванием образов и т.д.
Какие же открытия в современной науке – генетике человека, нейрофизиологии, нейропсихологии, когнитивной психологии, компьютерной науке и т.д. имеют особое значения для понимания природы сознания, связей между сознанием и мозгом, между феноменом сознания и происходящими в когнитивной системе процессами переработки когнитивной информации?
1. Открытие межполушарной церебральной асимметрии и связанных с функциональной активностью левого и правого полушарий мозга когнитивных типов мышления — знаково-символического (логико-вербального) и пространственно-образного. Хотя сам факт межполушарной церебральной асимметрии был известен уже довольно давно, по крайней мере со второй половины XIX в., наиболее важные результаты в этой области были получены только в 60-х годах XX столетия известным американским нейрофизиологом Р.Сперри (лауреат Нобелевской премии 1981 г.) и его коллегами из Калифорнийского технологического института, которые первоначально преследовали сугубо практические, непосредственно не связанные с изучением межполушарной церебральной асимметрии цели — вылечить больных-эпилептиков, страдавших большим судорожным припадком.
Как показали изящные опыты, проведенные Р.Сперри и его коллегами над пациентами с разделенным мозгом[78], левое полушарие полностью сохраняет способность к письму и речевому общению, к грамматически правильным ответам, оно свободно оперирует знаками, цифрами, математическими формулами и другими формальными правилами, способно выявлять повторяющиеся корреляции (в том числе и музыкальный ритм), но в то же время испытывает серьезные затруднения при выполнении задач на распознавание сложных образов, не поддающихся разложению на простые элементы (например, идентификация изображений человеческих лиц и т.д.). Характерно также, что у пациентов с разделенным мозгом правая рука, функционально подчиненная левому полушарию, утрачивает способность к рисованию (но не к письму), к копированию геометрических фигур, к составлению из кубиков простых композиций. Но с этими тестами на пространственно-образное восприятие гораздо успешнее справляется (особенно при выполнении двигательных задач) левая рука, функционально подчиненная правому полушарию. Это полушарие понимает элементарную речь, простые грамматические конструкции, оно способно к очень ограниченной речепродукции и в состоянии справиться лишь с весьма элементарными аналитическими задачами.
Исследования здоровых людей в целом подтвердили наличие функциональной асимметрии мозга и адекватность когнитивных характеристик правополушарного и левополушарного мышления, полученных при изучении пациентов с рассеченными межполушарными связями. Посредством метода электроэнцефалограммы было установлено, что при выполнении тестов, требующих аналитического подхода (например, устный счет), происходит активация левого полушария, в то время как правое полушарие дает на электроэнцефалограмме альфа-ритм, характерный для бездействующего полушария. Убедительные данные, наглядно свидетельствующие о наличии функциональной асимметрии мозга, были получены также с помощью метода позитронно-эмиссионной томографии. Это позволило предположить, что правое полушарие неповрежденного мозга оперирует исключительно образами и обеспечивает ориентацию в пространстве, а левое полушарие обрабатывает информацию, представленную только в словесно-знаковой форме. Однако, как показали дальнейшие эксперименты, различия между функциями полушарий не определяются только формами репрезентации обрабатываемой информации (т.е. тем, представлена ли эта информация в словесно-знаковой форме или в формате образов). Хотя правое полушарие и не способно к развитой речепродукции, они все же воспринимает элементарную речь и простые грамматические конструкции, а левое полушарие может оперировать несложными образами и репрезентациями геометрических фигур. Поэтому исследователи пришли к выводу, что различия между функциями полушарий и, соответственно, когнитивными типами мышления не сводятся к формам репрезентации материала, а касаются главным образом способов извлечения, структурирования и переработки информации, принципов организации контекстуальной связи стимулов.
2. Открытие в 1924 г. Бергером мозговых волн, которые являются не только несомненным и отчетливым признаком психической активности нашего мозга, но и отражают индивидуальные нейрофизиологические и психологические различия. Это открытие позволило разработать соответствующие технические устройства и использовать метод электроэнцефалограммы, т.е. запись мозговых волн, в медицине как диагностическое средство определения симптомов эпилепсии и иных психических заболеваний, а также местонахождения опухолей и других аномалий.
В зависимости от частоты различают альфа- , бета-, дельта- и тета-волны. Мозговые волны (ЭЭГ), особенно α-волны, формируются благодаря взаимодействию нейрофизиологических процессов на нескольких (по крайней мере трех-четырех) уровнях. “Батарея” ЭЭГ находится в коре больших полушарий, где соответствующие группы нейронов разряжаются в определенном ритме. Их активность координируется водителем ритма, расположенным в таламусе (с ним связаны другие водители ритма), а на активность таламуса, в свою очередь, влияют входы от структур мозга, расположенных на более низких уровнях, прежде всего от ВРАС — восходящей ретикулярной активирующей системы, которая локализована в ретикулярной формации (главным образом в области варолиевого моста и продолговатого мозга). ВРАС играет ведущую роль в организации сна и сновидений, а в состоянии бодрствования она поддерживает определенный уровень “тонической активации”, на которую оказывают влияние — входы от сенсорной стимуляции. На ЭЭГ оказывает влияние также лимбическая система, ответственная за наши эмоциональные реакции, мотивацию и организацию жизнедеятельности.
Электроэнцефалограмма представляет собой очень сложный признак со многими переменными — в их число входит распределение частот и амплитуд в одном отведении, колебания между отведениями от различных областей мозга и форма волн. По мере взросления ЭЭГ меняется. Если отсутствуют болезни мозга (например, эпилепсия, опухоль) или тяжелая усталость, то характер мозговых волн в стандартных условиях (в состоянии расслабленности с закрытыми глазами) практически полностью определяется генетически[79].
Исследования с помощью метода электроэнцефалограммы, в частности, показали, что личностные свойства и поступки индивидов зависят от того, как справляется их мозг с информацией и насколько он спонтанно активен. Оказалось, что определенные индивидуальные различия в нейрофизиологических параметрах коррелируют с психологическими различиями. Так, например, лица с мономорфными альфа-волнами в среднем проявляют себя активными, стабильными и надежными людьми, они с высокой вероятностью обнаруживают признаки высокой спонтанной активности и упорства. Самые сильные их качества — это точность в работе, особенно в условиях стресса, а также возможности кратковременной памяти. Лица с быстрым вариантом затылочного альфа-ритма, вероятно, превосходят других в абстрактном мышлении и в ловкости движений. Они способны быстро перерабатывать информацию. Напротив, категория лиц с низкоамплитудной ЭЭГ демонстрирует низкую спонтанную активность, они склонны быть экстравертами и конформистами, ориентироваться в своем поведении на окружающих. Но у них хорошо развита пространственная ориентация. Лица с диффузными бета-волнами делают большое количество ошибок, несмотря на медленный темп работы. Они обладают низкой устойчивостью к стрессу. Есть также данные о положительной корреляции между альфа-ритмом и умственной деятельностью, а также пространственным восприятием.
3. Психотропные вещества, психофармакологические препараты могут оказывать влияние на симптомы аффективных расстройств и психических заболеваний. Было обнаружено, что психотропные лекарства влияют на функцию нейромедиаторов — химических веществ, обеспечивающих передачу информации между синапсами нейронов головного мозга (например, адреналин). В частности, некоторые больные депрессией реагируют на лекарства, которые ослабляют деградацию адреналина, увеличивая тем самым его количество в синапсах. Больные, страдающие другой формой депрессии, реагируют на лекарства, угнетающие обратный захват адреналина выделившим его нейроном, увеличивая таким образом пригодное для нейропередачи количество адреналина. Нейромедиаторные ферменты обнаруживают отклонения в активности не только при аффективных расстройствах и психозах – изменчивость в заметных пределах существует также между нормальными индивидами. Эта изменчивость в значительной мере определяется генетически.
4. Обмен информацией между нейронами головного мозга происходит посредством электрического (нервного) импульса, хотя передача ее через синапс осуществляется не электрическим, а химическим способом, который вызывает изменение электрического потенциала. Искусственное возбуждение отдельного нейрона соответствующей локальной области мозга слабым электрическим током вызывает появление внутренних ментальных репрезентаций — восприятий, воспоминаний или галлюцинаций, а также некоторых желаний или агрессивных побуждений (эксперименты Пенфильда и др.).
5. Нейрофизиологические исследований шимпанзе — весьма высокоразвитых приматов — показали, что их когнитивные и интеллектуальные способности включают и ограниченную способность отличать Я от не-Я, т.е. зачатки самосознания. Эта способность была обнаружена известным американским нейрофизиологом Р.Сперри с помощью теста с зеркалом — шимпанзе испытывала огромное удовольствие, рассматривая себя в зеркале, что позволило с помощью приборов точно зафиксировать положительный тон ее эмоциональной реакции. Ранее считалось, что только человек способен узнавать себя в зеркале, причем это зачаточное проявление самосознания развивается у него довольно поздно, лишь к 18 месяцам жизни. Обнаруженные у шимпанзе зачатки самосознания свидетельствуют о наличии у них соответствующих преадаптивных когнитивных структур, которые в ходе эволюции получили развитие у филогенетических родственников этих антропоидов — древнейших гоминид. Это открытие, а также данные сравнительного анализа структуры хромосом видов Homo и Pan (шимпанзе), исследования их эволюционных взаимосвязей путем сравнения различий в аминокислотных последовательностях гомологичных белков и т.д. показали, что разрыв между человеком и антропоидами не столь уж велик, как недавно предполагалось.
6. Новейшие достижения в области искусственного интеллекта. В 80—90-х гг. XX в. в когнитивной науке был разработан и успешно применен новый компьютерный подход к моделированию мозга — коннекционизм (от англ. connection — соединение, связь). Этот подход использует искусственные нейронные сети, которые позволяют моделировать и объяснить некоторые процессы познания живых существ (включая человека) и их интеллектуальные способности. Оказалось, что искусственные нейронные сети, использующие принцип параллельной и распределенной обработки информации, с гораздо большей степенью адекватности воспроизводят выявленные нейробиологами механизмы функционирования мозга — например, наличие в организации нейронов промежуточных, “скрытых” слоев, при участии которых происходит внутренняя переработка поступающих извне сигналов, способность определенным образом соединенных групп нейронов к постепенному изменению своих свойств по мере получения новой информации (т.е. к обучению) и т.д. Сознание, разумное мышление, память, с точки зрения коннекционистских моделей, возникают в результате самоорганизации как эмержентное свойство нейронных сетей, когнитивной системы в целом, а не как свойство ее отдельных элементов.
Согласно взглядам современных коннекционистов, нейронные сети — это упрощенные модели мозга, состоящие из большого числа модулей (аналогов нейронов), которым приписываются веса, измеряющие силу соединений между модулями. Эти веса моделируют действия синапсов, обеспечивающих информационный обмен между нейронами. Модули нейронной сети, соединенные вместе в паттерне подключений, обычно делят на три класса: входные модули, которые получают необходимую для обработки информацию; выходные модули, где содержатся результаты обработки информации; и модули, находящиеся между входными и выходными, получившие название скрытых модулей. Если нейронную сеть рассматривать как модель человеческого мозга, то входные модули аналогичны сенсорным нейронам, выходные — моторным нейронам, а скрытые модули — всем другим нейронам. Каждый входной модуль имеет величину возбуждения, репрезентирующую некоторое свойство, внешнее к сети. В конечном счете сигнал от входных модулей распространяется всеми путями через сеть и определяет величины возбуждения во всех скрытых и выходных модулях. Установленный сетью паттерн возбуждения определяется весами или силой соединений между модулями. Величина возбуждения для каждого получающего сигнал модуля рассчитывается согласно функции возбуждения. Так как допускается, что все модули вычисляют в значительной мере ту же самую простую функцию возбуждения, то успешное моделирование человеческих интеллектуальных действий зависит прежде всего от параметров настройки весов между модулями. Поэтому нахождение правильного набора значений, необходимых для выполнения данной задачи, — главная цель в исследованиях коннекционистов. Для этого были изобретены соответствующие алгоритмы, которые позволяют вычислять правильные значения, необходимые для решения многих задач. Как оказалось, успешное применение коннекционистских методов зависит от весьма тонкой корректировки таких алгоритмов и используемых для обучения значений. Обучение обычно включает сотни тысяч попыток корректировки значений и может занимать дни или даже недели.
Уже первые попытки применения нейронных сетей для решения когнитивных задач — для чтения английского текста (NETtalk, сеть, разработанная Сейновским и Розенбергом в 1987 г.), для предсказания форм прошедшего времени английских глаголов (Румелхарт и Мак Клелланд, 1986 г.), для оценки грамматических структур (Элман, 1991 г.) — показали их эффективность в качестве моделей человеческого интеллекта. Они особенно хорошо адаптированы к обработке информации, касающейся ассоциаций, к когнитивным проблемам, которые возникают в случае параллельно действующих противоречивых команд, — например, распознавание объектов, планирование, координирование движений, оценка тонких статистических паттернов, оперирование нечеткими понятиями и т.д.
Из коннекционистских моделей и методов обучения сетей, в частности, следует, что репрезентация когнитивной информации в мозге скорее не локализована в отдельных нейронах или нейронных узлах, а распределена. Человеческая мысль предполагает образование сложных паттернов, действие которых распределено по относительно большим зонам кортекса. Обучение нейронных сетей показало, что каждая распределенная репрезентация является паттерном, действующим через все модули, так как граница между простыми и сложными репрезентациями отсутствует. Поскольку ни один индивидуальный модуль не кодирует какой-либо символ, то распределенные репрезентации являются подсимволическими. Если, например, моделируется действие каждого нейрона с числом, то действие мозга в целом может быть тогда представлено как гигантский вектор (или список) чисел. И вход в мозг из сенсорных систем и его выход к индивидуальным мышечным нейронам также может быть обработан как векторы того же самого типа. Таким образом, с позиции коннекционизма оказывается, что высшие ментальные процессы представляют собой эмерджентные свойства, систематическим образом зависящие от феноменов низшего уровня. Поскольку мозг представляет собой векторный процессор, то проблемы психологии сводятся тогда к вопросу, какие операции с векторами объясняют различные аспекты человеческого познания [80].
7. Современные психофизиологические исследования трансформированных форм сознания, “иносознания” (сна, гипнотического состояния и т.д.). Эти исследования показали, что, например, в гипнотических состояниях при определенных условиях появляется возможность “отключить” функционирование бодрствующего сознания и перейти к “внешнему” (т.е. со стороны гипнолога) управлению многими, протекающими в когнитивной системе человека, информационными процессами (в том числе и высокоуровневыми, ответственными за самосознание, мышление, творчество), а также запустить неосознаваемые для испытуемых программы, воспроизводящие эффекты “новорожденности”, “записать” информацию в подсознание и т.д.[81].
Разумеется, список открытий, в какой-то мере раскрывающих природу сознания, можно было бы продолжить. Однако совершенно ясно, что современная наука не может предоставить каких-либо экспериментально установленных данных, которые прямо или косвенно подтверждали бы гипотезу дуализма “души и тела”, в какой бы завуалированной форме она не выступала. В то же время, несмотря на предпринятые учеными-естественниками усилия, психические феномены (в том числе и ментальные репрезентации) до сих пор так и не удалось вывести из физиологии, представить их как физиологические состояния. Поэтому неудивительно, что разрыв между психологией и физиологией не только породил в свое время серьезный кризис в психологической науке, но и повлек за собой многочисленные попытки перестроить психологию на принципиально иных, социокультурных основаниях, ориентируясь в первую очередь на социологию, культурологию и семиотику. Но как бы при этом не объяснялись психические функции — на основе теории управляемой деятельности, либо знака и способа его употребления, или с помощью культурно-семиотических моделей и т.д. — все сугубо социогуманитарные концепции психики фактически лишают Homo sapiens статуса живого природного существа и объявляют финалом его биологической эволюции эпоху неолита, когда якобы окончательно завершилось формирование “телесности” человека (т.е. его анатомии, физиологии и т.д.), и она наконец-то начинает полностью отвечать заранее предзаданной цели — всем без исключения будущим направлениям развития культуры. Однако данные современной археологии и антропологии достаточно однозначно свидетельствуют о том, что возникший приблизительно 200-150 тыс. лет назад вид Homo sapiens подавляющую часть своей эволюционной истории оставался охотником и собирателем, и только голод и холод заставили его сравнительно недавно (около 10 тыс. назад) перейти к с/производству, а не какая-то его изначально “производственная сущность”.
К счастью, однако, сугубо культурная эволюция человека как интеллектуального вида практически невероятна. Это означало бы, что человеческий мозг превратился в своего рода целенаправленно функционирующее вычислительное устройство с весьма ограниченной способностью к адаптации. “Если бы эволюция человека когда-либо достигла такого конечного пункта, то не было бы никакой человеческой природы, никаких источников страстей, никаких подлинных различий в чувствах и образе мыслей за исключением навязанных ему извне алгоритмов и независимо действующих сил”[82].
Таким образом, позитивное решение психофизиологической проблемы, естественно, исключает любые формы дуализма, который в лучшем случае рассматривает сознание, психику человека как творимую мозгом нефизическую субстанцию, но существующую отдельно от него. Естественнонаучные предпосылки, допускавшие возможность таких представлений, постепенно оказались полностью разрушенными продолжающейся революцией в когнитивных науках, полученными за последние десятилетия данными экспериментальных исследований. В результате дуализм по сути дела превратился в мировоззренческий стереотип, опирающийся исключительно на традиционную оппозицию души и тела, — никому так и не удалось выяснить, каким образом нематериальная сила приводит в движение мускулы человека и управляет его мышлением и поведением, не нарушая при этом по крайней мере физические законы.
Конечно, нельзя исключать, что появление завуалированных вариантов дуализма по меньшей мере частично обусловлено явной недостаточностью наших знаний о порождающих феномен сознания материальных процессах. Если, например, допускается, что сознание — это “атрибут” материи, ее свойство, не сводимое к соответствующему материальному субстрату — физическим, химическим, нейрофизиологическим, и т.п. процессам, то отсюда делается вывод, что в лице феномена сознания мы имеем дело с качественно отличным от материи видом реальности — с “идеальным”, т.е. субъективной реальностью, которая не имеет материального эквивалента на уровне когнитивной системы. Подобную позицию отстаивали, в частности, многие философы-марксисты, полагая, что в человеческом мозге нет никакого физического отпечатка объекта отражения, а образ объекта не сводим ни к самому материальному объекту, ни к физиологическим процессам, которые происходят в мозгу и порождают этот образ. Однако наличие “субъективной реальности” вовсе не требует отказа от гипотезы, что все существующее относится к одному виду реальности — материи. Ведь из этой гипотезы не следует, что психические и физические свойства тождественны, что психические состояния могут быть редуцированы к физиологическим процессам. Если в качестве примера взять хотя бы игру в шахматы, то очевидно, что шахматный ход связан с физическим движением, с перемещением фигуры. Однако он не тождественен, не эквивалентен такому движению. Известно также, что операции исчисления высказываний выполняются в нейронных сетях (или переключающихся устройствах). Но эти операции конечно же не эквивалентны физическим свойствам сетей и к ним не редуцируемы. Таким образом, можно предположить существование эмерджентных свойств (сущностей), которые всегда связаны с материальными процессами, но к ним не сводятся и не могут быть определены на их основе.
С позиции эволюционной эпистемологии информационный контроль окружающей среды является важнейшей функцией когнитивной системы живых существ, обеспечивающей их адаптацию и выживание. В силу этого биологическая эволюция может рассматриваться и как эволюция способов извлечения и переработки когнитивной информации, которая ведет к усложнению когнитивной системы организмов и к появлению у них высших когнитивных функций. С учетом вышеизложенного, феномен сознания может быть интерпретирован как эмерджентное свойство когнитивной системы (мозга), которое не эквивалентно ее физическим и физиологическим свойствам. Это свойство связано с материальными информационными процессами, которые порождают соответствующий уровень управления некоторыми параметрами когнитивной системы в целом, т.е. порождают информационный эквивалент сознания (и других субъективных психических состояний), который, будучи первоначально лишь преадаптивной способностью (например, у шимпанзе), потенциально может обеспечить живым существам огромные адаптивные преимущества. Таким образом, рассматривая вопрос о возникновении феномена сознания, необходимо прежде всего учитывать его информационную природу. Ведь рудименты сознания и самосознания скорее всего возникли у антропоидов еще задолго до появления первых гоминид, которые первоначально также не обладали даром речи и жили небольшими коллективами, не более 50-60 особей. Поэтому в истоки самосознания просто не могут быть вплетены ни речь, ни труд, ни общество в современном его понимании. Последующая эволюция сознания и сознательного информационного контроля окружающей среды явились результатом дальнейшего усложнения и спонтанной самоорганизации когнитивной системы древних гоминид, уже обладавшей некоторыми способностями к управлению жизненно важными мыслительными актами из единого центра. Эта способность конечно же не могла не получить генетического закрепления благодаря естественному отбору, поскольку она оказалось адаптивно ценным эволюционным приобретением, способствующим развитию мышления, социальной коммуникации и т.д., имевших приоритетное значение для выживания гоминид[83]. Таким образом, с позиции эволюционной эпистемологии феномен сознания — это эмерджентное, информационное свойство когнитивной системы, которое, абсолютно не нуждаясь в мифических атрибутах “идеальности”, в то же время в принципе не может быть редуцировано к своему материальному субстрату (нейронным сетям мозга и т.п.), хотя, естественно, и зависит от него.
Основываясь на данных, касающихся зачатков самосознания у шимпанзе, можно предположить, что филогенетически первичное сознание возникает как весьма ограниченный по своим возможностям инструмент управления перцептивным и знаково-символическим мышлением антропоидов. Оказавшись весьма ценной преадаптивной способностью когнитивной системы, довербальный сознательный контроль получает дальнейшее развитие у древних гоминид, а с появлением речи (которое, скорее всего, произошло не без участия сознания) распространяется также и на логико-вербальное мышление Homo sapiens. И хотя когнитивная система человека современного физического типа включает в себя две взаимодействующие подсистемы мышления, связанные с функциональной активностью левого и правого полушарий мозга, человеческое сознание едино — нет и, видимо, не может быть двух относительно автономных “сознаний” или типов сознания: одного для пространственно-образного мышления и пространственных функций, а другого — для мышления знаково-символического (логико-вербального) и вербального знания.
При таком подходе к сознанию граница между биологией и физиологией человека, с одной стороны, и его психикой и мышлением — с другой, не оказывается столь уже принципиально непреодолимой. Если ментальные события суть внутренние репрезентации когнитивной информации, то их материальной основой являются происходящие в мозге нейрофизиологические события — например, закодированный паттерн (модель), благодаря которому электрически разряжаются отдельные группы нейронов. Более того, с учетом этой основы ментальные события уже могут рассматриваться не только как эмерджентные феномены, возникающие благодаря электрической и химической активности нейронов, их сложного взаимодействия, но одновременно и как закодированные в перцептивном или вербальном кодах сущности, функционирующие на более высоком, информационном уровне. Именно поэтому мы можем говорить о ментальных сущностях, что они формируются в результате извлечения, структурирования и обработки человеческим мозгом когнитивной информации. Аналогичным образом мы вправе постулировать наличие в когнитивной системе человека информационно более высоких уровней, обладающих эмерджентными свойствами по отношению к предыдущим информационным уровням — вплоть до самых высших, контролируемых сознанием, когнитивных функций, включая научное мышление и познание.
С учетом вышеизложенного можно утверждать, что сознание не только не противоположно материи (ни в абсолютном, ни в относительном смысле), а по сути дела является материальным феноменом, обусловленным материальными процессами обработки информации в когнитивной системе человека, которые порождают высший уровень управления жизненно важными когнитивными функциями от лица собственного “Я”. Феномен сознания — это такая же природная реальность, как, например, наша удивительная способность внутренне репрезентировать когнитивную информацию в формате перцептивных образов или с помощью вербальных кодов, хотя это и не требует с нашей стороны сознательного контроля. Информационный характер сознания означает, что мы с нашими органами чувств, с нашей когнитивной системой и высшими когнитивными функциями принадлежим природному, реальному миру, что мы включены в его структуры, и что только для рассмотрения процесса познания мы вынуждены допустить различие внешнего мира и нашего сознания.
Итак, мы можем сформулировать в первом приближении следующее рабочее определение сознания. Сознание — это эмерджентное свойство когнитивной системы живых существ, проявляющееся прежде всего в способности самосознания (т.е. в осознании собственного “Я” и своего отличия от других представителей вида, в “узнавании” себя, распознавании образа “Я”, в наличии “Я-образов” и т.д.), которая участвует в процессах извлечения и переработки информации (знаний) о событиях внешней среды, внутренних состояниях, эмоциях и т.п., обеспечивая управление высшими когнитивными функциями и действиями на уровне планов, целей и намерений.
Развитие нашего “Я” репрезентируется на уровне когнитивной системы в наших многочисленных “Я-образах”, которые принимают непосредственное участие в сознательно контролируемых актах восприятия, мышления, творчества и т.д. и соответствующим образом их модифицируют. Верно также и то, что эволюция человеческого самосознания и сознания взаимодействовала и взаимодействует (в силу наличия прямых и обратных связей) с эволюцией мышления, с биологической, когнитивной и культурной эволюцией человека. Более того, появление сознания как эмерджентного свойства когнитивной системы гоминид означало появление у нее нового, высшего уровня управления, организации, который воздействует на ранее сложившиеся уровни (подсистемы) когнитивной системы, трансформирует связанные с этими уровнями высшие когнитивные процессы (функции) — восприятие, внимание, мышление, память и т.д. Появление рудиментов самосознания, сознания создало когнитивные предпосылки для последующего возникновения человеческой духовной культуры.
Вера в сверхъестественное как предпосылка культуры
Психофизиологические и антропологические исследования первобытных популяций дают достаточно веские основания предполагать, что для человечества как вида весьма болезненным по своим последствиям, видимо, оказалось само обретение самосознания. Ведь появление рудиментов самосознания положило начало осознанной психической жизни гоминид. Поэтому осознание собственного “Я”, пусть еще и весьма смутного и слабо дифференцированного, не могло не сопровождаться осознанием отрицательных эмоций — чувства страха, тревоги, тоски, отсутствия безопасности, предчувствия смерти и т.д., — которые в человеческом организме обычно сопряжены с глубокими вегетативными (эндокринными, секреторными, сердечными и т.п.) и тоническими (спазмы, дрожь, расслабление и т.д.) изменениями. К тому же необходимо учитывать, что в эмоциональной оценке событий преимущественно образным мышлением изначально доминируют негативные тона[84]. Нетрудно представить последствия перманентного эмоционального перенапряжения, гнетущего состояния диффузного страха и других отрицательных эмоций — это не только нестабильность психики и нарушения психосоциального “порядка”, но и непосредственная угроза физическому здоровью и жизни первобытных людей.
Осознав свою неповторимость и смертность, древние гоминиды, естественно, были вынуждены выработать какую-то новую для себя адаптивную реакцию, новую форму психологической защиты, которая заблокировала бы доступ к сознанию отрицательных эмоций. Разумеется, решение этой проблемы не могло ограничиться лишь их подавлением и вытеснением, так как без соответствующей переориентации блокада отрицательных эмоций не устраняет эмоционального перенапряжения и не позволяет выйти из состояния психологического дискомфорта. Поскольку в основе наших адаптивных реакций всегда лежат положительные и отрицательные эмоции (эти реакции сопряжены с процессами возбуждения), то для стабилизации психики древних гоминид, для установления психосоциального порядка в первобытных коллективах, по-видимому, был крайне необходим какой-то постоянный и притом общий для всех индивидов источник положительных эмоций. Конечно, само обретение веры в сверхъестественное скорее всего носило в значительной мере неосознанный, инстинктивный характер, но ее истоки, видимо, коренятся также и в появившихся у древних гоминид вместе с зарождением самосознания способностей к самовнушению, к трансформированному (в силу наличия сознания) гипнотическому внушению и эмпатии.
Скорее всего, вера в сверхъестественное и первые примитивные культы зародились у неандертальцев — подвида Homo sapiens, который возник в результате эволюции обитавших на территории Европы популяций Homo erectus. На территории Африки эти гоминиды эволюционировали в Homo sapiens sapiens — человека современного физического типа, останки которого датируются периодом приблизительно 200-150 тыс. лет назад. Неандертальцы были охотниками, собирателями и каннибалами, причем каннибализм носил ритуализированный характер. Они создали культ черепа, открыли для себя секрет первобытной магии, хоронили своих умерших с соблюдением определенных ритуалов и даже верили в существование жизни после смерти, которая, возможно, рассматривалась ими как вид сна. Об этом свидетельствуют обнаруженные археологами захоронения, где умершие погребены в характерных для спящих позах. Данные лингвистической антропологии позволяют также предположить, что неандертальцы обладали лишь весьма ограниченной способностью к речепродукции и вербальной коммуникации. В силу ряда анатомических особенностей строения их черепа, гортани и т.д. они, видимо, вообще были неспособны произносить звуки “а”, “и”, “ю”, “к” и “г”, без которых в принципе не может обходиться ни один человеческий язык.
Возникает, однако, вопрос, какое отношение к зарождению веры в сверхъестественное имеют самовнушение, гипноз и эмпатия? Эмпатия (от греч. ēmpatheia – вчувствование) — это способность человека отождествлять (идентифицировать) один из своих “Я-образов” с воображаемым образом “иного” — с образом других людей, животных, сверхъестественных сил и мифических существ, неодушевленных предметов и даже с линейными и пространственными формами, — которое ведет к изменению самосознания, позволяющему воспринимать, мыслить и действовать с позиции нового “Я”. Психофизиологические механизмы эмпатии, протекающие главным образом на бессознательном и подсознательном уровнях, предполагают самовнушение (или внушение со стороны, гипноз), которое открывает возможность преодолеть сопротивление сознательного “Я” инсталляции воображаемого “Я-образа”. Как известно, в психике человека на протяжении всей его жизни формируются многочисленные и изменяющиеся “Я-образы”, где аккумулируются смутные и не всегда полностью осознаваемые представления о самом себе и других людях. “Я-образы” (в том числе те, которые репрезентируют наши смутные представления о своем положении и роли в детстве), их взаимосвязи определяют состояния “Я”, самосознание личности, и в силу этого накладывают свой отпечаток на мышление и поведение людей. Эти образы возникают благодаря активности правополушарного мышления, которое в относительно меньшей степени подвержено сознательному контролю и больше полагается на стереотипы и неосознаваемые, автоматические мыслительные стратегии. “Я-образы” всегда эмоционально насыщены, так как пространственно-образное мышление непосредственно управляется влиянием аффектов, эмоциональной оценкой, стремлением как можно дольше удержать позитивный аффект, придавая ему преувеличенную, “эгоцентрическую” значимость. Идентифицируя в акте эмпатии свое “Я” с образами других людей, с образами животных, неодушевленных предметов, а также являющихся во время сна образов умерших, сверхъестественных существ и т.д., человек получил возможность мысленно экспериментировать с инсталлированными “Я-образами” в воображаемом поле, используя для этого соответствующие правила оперирования образными репрезентациями и мыслительные стратегии.
Способность к самовнушению, позволяющая целенаправленно изменять самосознание путем инсталляции новых “Я-образов”, присуща только людям (причем, видимо, далеко не всем), в то время как восприимчивость к внешнему гипнотическому воздействую не является отличительной особенностью человека как биологического вида. Высшие животные также могут подвергаться гипнотическому воздействию, и эта их способность активно используется дрессировщиками. Например, в ходе сугубо зрительной коммуникации известный дрессировщик В.Л.Дуров отдавал мысленные команды собаке (в форме визуально представленного сценария поведения — взять зубами книгу, перенести ее на стул и т.д.), которая много раз выполняла их в присутствии руководившего экспериментом В.М.Бехтерева. С помощью гипнотического воздействия отдельные животные могут влиять на поведение других животных своего вида (более низкого ранга) с тем, чтобы оно отвечало бы их целям (например, шимпанзе). Некоторые хищники обладают способностью гипнотически воздействовать на психосоматику своих жертв. Многие животные могут непосредственно осуществлять психосоматическое управление биологическими функциями своего организма. В частности, собаки, кошки, крысы в состоянии повысить или понизить у себя частоту пульса, они регулируют свое кровяное давление, изменяют работу почек, влияют на биотоки мозга и приток крови к правому или левому уху и т.п., если это, например, позволяет избежать боли или получить пищу.
Нетренированному человеку подобного рода “защитное” управление обычно недоступно, но оно становится доступным с помощью самовнушения (или внешнего гипнотического воздействия), позволяющего преодолеть барьер сознания, сопротивление внутреннего сознательного “Я”. Благодаря такой возможности мы можем усилить или ослабить действие на наш организм и мозг различных лекарств, изменить ритм сердечных сокращений, менять температуру тела, снимать ощущение боли и т.д. По-видимому, в ходе самовнушения и гипноза происходит порождение своего рода информационной программы, которая запускает находящиеся в латентном состоянии неосознаваемые когнитивные механизмы правополушарного образного мышления и восприятия, ведущие к изменению самосознания и мобилизации психической активности с позиции нового “Я-образа”. Это изменение самосознания влечет за собой изменение когнитивной системы в целом, так как в дело вступает наша генетическая предрасположенность к сохранению приобретенного. Это означает, что характер функций меняет структуру связей между нейронами таким образом, что повторение этой функции будет происходить легче. Исследователям хорошо известен феномен постгипнотического поведения, когда инсталлированная в ходе гипноза (или самовнушения) программа по инерции “раскручивается” уже в состоянии бодрствования – в течение одного дня, двух недель и даже более.
Древний человек, обращавшийся к тотему или иному объекту, олицетворяющему образ сверхъестественного существа, с просьбой о здоровье, удаче на охоте, о даровании победы над противником и т.д., полагался на могущественную внешнюю силу, абсолютно не догадываясь, что сила находится в нем самом. Сила эта переносится на внешний объект путем отождествления одного из “Я-образов” человека с образом сверхъестественного существа. Однако для того, чтобы сформировать образ сверхъестественного как один из “Я-образов”, необходима способность к продуцированию таких образов, которая может возникнуть только с появлением самосознания, с осознанием собственного “Я” и своего отличия от “не-Я”, от всего иного. Поэтому возникновение самосознания открывает новое поле воображения, связанное с продуцированием новых “Я-образов”. Поскольку восприимчивость к гипнозу является нашим эволюционным наследием, поскольку она существовала у наших биологических предшественников до появления зачатков самосознания, а с его возникновением радикально трансформировалась и дополнилась новой способностью — способностью к самовнушению, то это означает, что лишь с этого момента, с момента зарождения самосознания стал возможным сам акт эмпатии, а соответственно, и создание мысленных образных репрезентаций, воспроизводящих воображаемые действия сверхъестественных сил и существ.
Порожденная верой в сверхъестественное своего рода допинговая зависимость, вероятно, оказалась в дальнейшем одним из факторов, который через механизмы естественного отбора способствовал значительному ускорению темпов когнитивной эволюции отдельных первобытных популяций — развитию способности к пониманию и росту самосознания, расширению сферы сознательного информационного контроля окружающей среды и т.д. Благодаря появившейся вере в существование каких-то высших сил и начал, от содействия которых зависит жизнь и благополучие человека, у первобытных людей постепенно сформировалась внутренняя психофизиологическая потребность наполнить новым сокровенным смыслом свои осознаваемые восприятия, мысли и воспоминания, а кроме того, и неотделимые от них (в силу магии образа) объекты и события. Другими словами, благодаря вере в сверхъестественное происходит порождение культурных смыслов, интенсиональных свойств объектов.
Трудно, конечно, переоценить значение самого факта возникновения древнейших религиозных форм миропонимания для последующей когнитивной и культурной эволюции человечества. Ведь одновременно с первым примитивным культом неандертальцев зародились и какие-то рудименты культуры и “социального сознания”, которое, возможно, на самых ранних этапах формировалось посредством коллективного гипноза (колдунами, шаманами и т.д.) в ходе визуальной, а не вербальной коммуникации. Как свидетельствуют многочисленные археологические данные, региональная специализация в производстве орудий охоты и труда, а также другие существенные различия в материальной жизни начинают проявляться только в период верхнего плейстоцена (т.е. не ранее, чем 100 тыс. лет назад). Но отсюда следует, что в предшествующий период — в период среднего плейстоцена – огромное разнообразие климатических, географических и иных (в том числе, предположительно, и социокультурных) условий среды не оказывало серьезного влияния на образ жизни популяций древних гоминид, на рудименты их “универсальной” (по сути дела “животной”) материальной культуры[85]. Обнаруженные археологами какие-то существенные различия в материальной жизни периода верхнего плейстоцена (позволяющие говорить о возникновении подлинно человеческой культуры), по-видимому, указывают на наличие первых примитивных культов, положивших начало дивергенции и разнообразию духовной культуры первобытных популяций. Появление примитивных культов, а следовательно, и зачатков мировоззрения значительно увеличило адаптированность людей к условиям окружающей среды, поскольку оно способствовало более тесной социальной интеграции первобытных коллективов, их объединению. Возникшая в связи с этим необходимость передачи адаптивно ценной для коллектива информации о священном, сверхъестественном ускорила совершенствование социальной коммуникации, подтолкнуло вперед развитие вербальных и невербальных средств передачи информации — языка танцев, ритуалов, изобразительного искусства. Причем все это задолго до появления с/х производства, зачатки которого возникли не ранее 10 тыс. назад. И, наконец, до появления письменности сакрализация (т.е. превращение в священное) по сути дела оставалось единственным средством закрепления в коллективной памяти важной для выживания людей культурной информации.
Возникает, однако, вопрос, откуда берет свое начало мир мифа, мир религиозных представлений, который явно выходит за пределы повседневного опыта людей? Ведь для продуцирования в актах эмпатии соответствующих “Я-образов” необходим исходный “материал”, какая-то перцептивная информация о сверхъестественных сущностях, которую нужно было откуда-то извлечь. Какие полубессознательные состояния психики гоминид оказались адаптивно ценными эволюционными приобретениями и по мере осознания собственного “Я” могли послужить естественным источником формирования не только веры в сверхъестественное, но и весьма богатого и разнообразного содержания религиозных образов и сюжетов? Разумеется, в данном случае речь может идти лишь о таких присущих жизненному циклу древнейших предков людей психических состояниях, которые по своей внутренней природе были способны выполнять те же самые функции, что и вера в сверхъестественное, т.е. выступать в качестве формы психологической защиты, служить источником положительных эмоций и т.п. Тем самым получил бы объяснение изначально гораздо более высокий ценностный статус религиозно-мифологических представлений по отношению к миру повседневного опыта, их завышенная психологическая оценка, и как следствие этого, типичное для большинства религий удвоение мира, его деление на “сакральный” мир и мир “профанный”.
Как показывают соответствующие исследования, человеческая психика располагает довольно широкими возможностями и разнообразными механизмами психологической защиты (например, блокирование негативной информации, вытеснение по Фрейду и т.д.), но, пожалуй, наиболее важным из них по своим биологическим функциям является сон. Сон — это не просто “отключение” сознания, а весьма активное состояние психики человека, призванное решать ее внутренние проблемы. Во время сна (причем даже в фазе так называемого “быстрого сна”, которая в отличие от фазы “медленного сна” гораздо ближе к состоянию бодрствования) происходит активная блокада восприятия, снижение мышечного тонуса, наступает общая неподвижность и т.п. Таким образом, погружение в сон означает переход в особое психофизиологическое состояние, при котором резко снижаются адаптивные реакции человеческого организма, а его сознательное целенаправленное взаимодействие с внешней средой почти полностью редуцируется. В этом состоянии, когда сознательный контроль сводится лишь к функции “наблюдателя”, значительная часть информации, как ранее усвоенной, так и извлекаемой из внешнего мира, блокируется и тем самым обесценивается — для сознательного “Я” несопоставимо большую значимость в качестве непосредственно воспринимаемой информации приобретают образы и сюжеты, продуцируемые неосознаваемыми механизмами сновидений.
Разумеется, в силу особенностей доминирующих когнитивных типов мышления восприятие и оценка самого содержания сновидений нашими далекими предками и представителями современных цивилизованных популяций кардинальным образом различаются. С когнитивно-эволюционной точки зрения предпосылки возникновения веры в сверхъестественное и наиболее ранних форм религиозно-мифологических представлений, с одной стороны, и личностные и психофизиологические основы существования религии в современных индустриальных обществах, с другой, — это далеко не одно и то же. Для древнего человека (также как, видимо, и для представителей современных первобытных популяций) когнитивный образ выступал в качестве заместителя оригинала, и поэтому знать, познать что-либо для него означало в первую очередь быть очевидцем, иметь непосредственный сенсорный контакт с познаваемым. Характерное для архаического, преимущественно образного мышление абсолютное доверие к показаниям органов чувств, порождающее магию образа, естественно, распространялось и на сюжеты, воспринимаемые “наблюдателем” в состоянии сна. Отсюда, собственно, и возникает субъективное ощущение их реальности — древний человек верил в реальное существование фигурирующих в сновидениях иллюзорных персонажей, событий, сценариев точно так же, как он верил в реальное существование объектов и событий внешнего мира, воспринимаемых в бодрствующем состоянии. В силу своей эмоциональной значимости некоторые образы и сюжеты сновидений прочно закреплялись в структурах долговременной эпизодической памяти. Таким образом, как это не кажется парадоксальным, вероятно, наши древнейшие предки первоначально были избавлены от необходимости как-то дифференцировать естественное и сверхъестественное — мир сновидений вполне мог представляться им на первых порах таким же естественным, как и внешний мир, который также могли населять “невидимые” в состоянии бодрствования “души” умерших родственников, вождей, животных и т.п. Нетрудно понять, какие возможности для эмпатии, для продуцирования новых “Я-образов”, “вчувствования”, идентификации с ними открывались благодаря такого рода когнитивной установке. И эти возможности, по-видимому, широко использовались древними колдунами, шаманами и магами.
Однако постепенно, по мере развития самосознания первобытные люди пришли к выводу, что мир сновидений представляет для них гораздо большую ценность, чем мир, воспринимаемый в состоянии бодрствования. Не в последнюю очередь это, видимо, было связано с реальной биологической значимостью сна для жизнедеятельности и выживания гоминид, которую трудно переоценить, если принять во внимание, что труд, занятия искусством, общение и т.д. еще не играли существенной роли в качестве средств стабилизации психики. Как, в частности, показывают экспериментальные исследования, в состоянии сна происходит разрядка первичных мотивов (сексуального влечения, агрессивности и т.д.) и “удовлетворение” желаний, “избавление” от эмоционально неприятных объектов и негативной информации. Сон, таким образом, приносит успокоение и умиротворение, он по-своему “решает” проблемы, вызывающие неврозы, психозы и другие психосоматические расстройства и болезни, которым в силу специфики правополушарного мышления и образного сознания было особенно подвержено древнее человечество.
Являясь своего рода универсальным психотерапевтическим средством, сон в то же время мог выступать для гоминид и как источник положительных эмоций, позволяя не только иллюзорно снять любое реальное противоречие, но и “увидеть”, вступить в непосредственный сенсорный контакт и установить “сопричастную” связь с “душами” умерших (родственников, вождей, культурных героев и т.д.). Только в содержании сновидений (а также в имитирующих сон актах эмпатии) могли компенсироваться и получить удовлетворение чувство утраты близких, ностальгия по прошлому, ощущение психофизиологической зависимости и потребности в покровительстве со стороны вождей и других могущественных сил и т.п. Результаты исследований сновидений показывают, что они нередко сопровождаются исключительно яркими, окрашенными в позитивные тона, эмоциональными переживаниями, которые, безусловно, выдерживают сравнение с аналогичными эмоциями верующих, погруженных в состояние своего рода “грез наяву” — религиозные отправления (обряды, ритуалы, символы) благодаря самовнушению и гипнозу индуцируют у них чувства восхищения, благоговения и даже восторга, когда их “внутреннему взору” открываются новые миры, наполненные божественным светом и очарованием.
Еще З.Фрейд отмечал, что символика сновидений во многом совпадает с символикой мифов[86], ссылаясь, в частности, на сравнительные исследования О.Ранком мифов о рождении героя. Такого рода совпадения, разумеется, не случайны. Они, в частности, послужили основанием для К.Г.Юнга предположить, что наряду с “индивидуальным бессознательным” существует также и более глубинный (идентичный у всех людей) пласт человеческой психики, который он назвал “коллективным бессознательным”. Удивительное сходство многих сюжетов сновидений с религиозными “грезами наяву”, которые благодаря самовнушению и гипнозу продуцируются ритуальными действиями, сакральными символами и т.д., беспрепятственно преодолевающими барьер сознания, а также биологическая функция сна как средства психологической защиты и источника положительных эмоций — все это в какой-то мере позволяет прояснить механизмы зарождения веры в сверхъестественное и процесс сакрализации (непосредственно связанных с явлением сверхъестественного) эмоционально наиболее значимых образов и сценариев, превращения их в сакральные архетипы. Создание воображаемого мира сверхъестественных сущностей, видимо, стало возможным лишь благодаря появившейся вместе с самосознанием способности к эмпатии, которая позволила идентифицировать один из “Я-образов” с образами и архетипами сверхъестественных сил и существ. Если архаическое мышление — это мышление преимущественно образное, правополушарное, то скорее всего именно эти образы и архетипы могли служить источником сакральных смыслов для других осознаваемых результатов обработки когнитивной информации, а следовательно, и отправным пунктом формирования любых древнейших форм религиозного мировосприятия, рудиментов подлинно человеческой культуры как информационной системы.
Ф.Н.Блюхер
“Время” в истории[87]
Изучая историю, современный человек старается понять человека прошлого, но если мы допускаем, что История — “не знание внешних фактов и событий, а форма самопознания” [1, с. 665][88], то возникает вопрос. Как я “здесь” и “сейчас” настоящий могу задать осмысленный вопрос прошлому? Ведь даже если это прошлое попроще и победнее в культурном плане, чем “я” настоящее (что само по себе не очевидно), оно определенно другое. Поскольку же мне дано только “я”, а не другое, сделать это удается одним единственным способом. В настоящем “себе” мне предстоит отыскать нечто неизменное, постоянное, вечное.
Мне для того, чтобы найти нечто неизменное в себе необходимо постоянное соотнесение себя с другим, причем с другим и настоящим, и прошлым. Поскольку в нас настоящих все очень неустойчиво и зыбко, мы обращаемся в поисках ответа к прошлому, к истории “Я”. Причем к “Я” не просто синтетическому единству апперцепций (в кантовском смысле этого словосочетания), а, как это ни парадоксально звучит, к синтезу субстанций (или того, что описывалось Кантом как закон взаимодействия или общения). “Слово Gemeinschaft в немецком языке имеет двоякий смысл и может обозначать то же, что communio, или то же, что commercium. Мы пользуемся им здесь в последнем смысле, имея в виду динамическое общение, без которого даже и общность места (communio spatii) никогда нельзя было бы познать эмпирически” [2, с. 277][89].
Если мы допускаем, что прошлое другого “Я” связано с настоящим моего “Я”, то мы должны допустить не просто связь между другим и мною, но и одновременность нашего существования, хотя бы в том смысле, что мы жили не в одно и тоже, но принципиально в одно время. Его влияние на меня и мое восприятие этого влияния взаимосвязано. Другой, определяя свое послание мне будущему, имеет обо мне вполне определенное мнение: христианин, свободный, справедливый, образованный и т.п. Я пытаюсь воспринять это послание через то представление, которое я имею о нем вчерашнем и о влиянии его истории на меня сегодняшнего. “В нашей душе все явления как содержащиеся в возможном опыте должны находиться в общности (communio) апперцепции, и поскольку предметы должны представляться связанными [друг с другом] как одновременно существующие, они должны определять друг другу место во времени (выделено нами) и благодаря этому составлять одно целое. ...Но такое [отношение] есть взаимное влияние, т.е. реальное общение (commercium) субстанций, без которого, следовательно, не могло бы иметь место в опыте эмпирическое отношение одновременности” [2, с. 277].
Во-первых, нам необходимо найти нечто неизменное не во многом (как в естествознании), а в разном. Ведь если ученый-естественник ищет описание многого, но одинакового, при этом предельным случаем многого может быть уникальное, (например, биосистема озера Байкал), то историк заведомо сравнивает разное и ищет описание, позволяющие это разное представить как “одно”, или единственное, или единое, или целое, или единообразное, или хоть в какой-то степени похожее. Конкретное понимание “одного”, принимаемое тем или иным историком на данной стадии исследования, для нас не важно. Нам важно здесь подчеркнуть, что в понятие “разное” речь идет о двух событиях, состояниях, процессах и т.п. Так как разница может быть обнаружена только между чем-то и чем-то. Если эта разница между чем-то и чем-то не зафиксирована — исчезает всякий смысл составлять историческое описание. Итак, первое: историк в терминах единичности описывает как минимум два разных события, причем в предельном случае, когда историк пытается сформулировать неизменные законы всемирной истории, таких событий может быть бесконечное множество.
Во-вторых, это разное задается двояко: 1) мы имеем разные события в прошлом; 2) мы имеем разницу прошлого и настоящего. Задачей историка как раз и является определить: 1) место этих событий относительно друг друга во времени (не только в плане что чему предшествовало, но и что на что оказывало влияние, ведь влияние на нас сегодняшних оказывает не только наше с вами прошедшее, но и наши планы на ближайшее и более или менее отдаленное будущее), 2) значение этих событий для (прошлого, настоящего и, возможно, будущего) времени[90]. По существу речь идет о различном понимании “одновременности”. Так как мы не строим здесь исчерпывающую классификацию, нам важно показать хотя бы два значения этого понятия, чтобы продемонстрировать конструктивность предлагаемого нами методологического приема.
Итак, для того, чтобы прояснить статус постоянного, повторяющегося во взаимосвязи исторических событий нам остается простая задача рассмотреть структуру “одновременно существующего многообразия” [2, с. 279]. В качестве оснований деления для многообразия мы предлагаем абстракции “Я” и “Другого”, для одновременности “в одно время” и “в одни и те же сроки”. Причем, фиксируя “одно время” мы можем отвлечься от каких-либо его характеристик, говоря же о “разных временах” мы должны пояснять, чем эта разность связана, т.к. связь входит в сущностное определение исторического события. В результате логической операции получаем классификацию:
1. “Я” и “Другой” (Я) в одни и те же сроки, в одном времени.
2. “Я” и “Другой”(Я) в разные сроки, в одном времени.
3. “Я” и “Другой” в одни и те же сроки, в разное время.
4. “Я” и “Другой” в разные сроки, в разное время.
Поясним, что мы имеем в виду под каждым пунктом нашей схемы.
1. “Я” и “Другой” (Я) в одни и те же сроки, в одном времени. Ясно, что “здесь” и “сейчас” я имею дело только с самим собой. При этом я не могу отрицать, что у моего “Я” в любой момент времени довольно сложная структура. Для этого достаточно вспомнить фихтеанский опыт демонстрации саморефлексии. Для нашей темы принципиально важно, что момент саморефлексии является событием человеческой жизни, даже если он происходит исключительно в психологическом плане. Появление Ichheit[91] на определенном этапе психического развития и есть фиксация данного события.
2. “Я” и “Другой” (Я) в разные сроки, в одном времени. Изменение моего “Я” во время моей жизни не вызывает сомнения, тем не менее мы всегда можем говорить о единстве этого “Я”. При этом в каждый момент времени мы как бы заново создаем свое прошлое, вспоминая его немного по-другому. Но для того, чтобы репродуктивное схватывание осуществлялось, мысль должна различные временные моменты определять как идентичные. ““Все сознание так же относится ко всеохватывающей чистой апперцепции, как все чувственное созерцание в качестве представления к чистому внутреннему созерцанию, а именно ко времени”. Таким образом, единство времени, в котором и в силу которого для нас только и существует единство эмпирического сознания, сведено здесь к общим условиям; и эти условия вместе с основоположениями, из них проистекающими, оказываются при более глубоком анализе теми же, на которых основано все полагание объективно значимых связей и тем самым все “познание предмета”” [3, с. 179][92]. Последнее для нас принципиально важно. Если в результате применения первой схемы мы в той или иной степени психологизируем историю, сравнивая изменения исторического другого со своим собственным изменением, то реализация второй схемы может иметь принципиально апсихологический характер. Речь идет именно об “объективно значимых связях”. В зависимости от того, что историк принимает за объективность — смену материальных орудий труда или смену форм религиозного отношения человека к миру, мы получаем то или иное реальное наполнение данной схемы.
При реализации этой схемы “объектность”, в какой бы материальной или идеальной форме она не выступала, в своих изменениях подчиняется схеме предметно-практической деятельности субъекта. “Предмет познания вполне объективен, но это — объективность одного из узлов практической деятельности, это — объективность деятельности субъекта. Предмет — это именно фрагмент действительности (!), а не просто феномен существования” [4, с. 94][93].
Данная схема имеет фундаментальный характер в том плане, что она лежит в основании любого научного исследования истории. “Я” принципиально не элиминируется из всех других схем, а именно эта схема задает исходное единство понимания роли человека в истории. Но можем ли мы остановится в этом пункте? Нет. Свое определение, имя, возможность изменения, формы осуществления “Я” получает не от самого себя, а от “Другого”, которое конечно же так же является “Я”, но за пределами его отношения ко мне.
3. “Я” и “Другой” в одни и те же сроки, в разное время. Хотя мы употребляем здесь понятие “разное время”, речь идет о форме одновременности. Существование и изменение “Другого” подчинено времени существования его “Я”, которое моему “Я” принципиально недоступно. Какие бы тесные контакты между нами в эти одни и те же сроки не осуществлялись, наша одновременность с ним имеет формальный характер, например связь обмена между независимыми производителями на рынке товаров и услуг. Время выступает здесь не в объективной форме деятельности субъекта. Как во второй схеме, оно объективно само по себе. Наоборот, и “Я” и “Другой” вынуждены считаться в своем взаимодействии с объективностью времени. Наше отношение друг к другу оказывается лишь функцией общего порядка, которой в целом подчинен определенной размерности времени.
“Но что здесь от истории?” — спросите вы. Ведь перед нами описанное Кантом отношение функционального взаимодействия субстанций в классическом естествознании. “Форма действия или функциональной зависимости дает нам основание для признания определенной временной связи в самом предмете... Мы пришли к каузальной системе, в которой оба члена таковы, что можно переходить как от а к в, так и от в к а. Подобная система предстает, например, в совокупности математически-физических уравнений, которые выводятся из ньютоновского закона притяжения. Посредством них каждый элемент космоса объясняется в своем пространственном положении и движении как функция всех остальных, а они, в свою очередь, — как его функция; и в этом сплошном взаимодействии, идущем от массы к массе, конституируется для нас объективная целостность физического пространства и упорядоченность и членение его отдельных частей” [3, с. 171]. Разве мы сами не писали выше, что у историка и естествоиспытателя разные подходы к объекту своего исследования? Однако это не значит, что историк не в праве исповедывать “объективный” подход к истории, т.е. искать в истории устойчивые инварианты существования “абсолютного духа”, выраженного в форме объективных законов, абсолютно независимых от субъектов. Таковы законы развития макроэкономики, или закон соответствия производственных отношений этапам развития производительных сил, или, абсолютно лишенный всякой материальности, закон смены социально-психологической установки индивида, предложенный К.Лампрехтом, когда социально-психологические стадии анимизма, символизма, типизма, конвенционализма, индивидуализма и субъективизма в жесткой очередности сменяют друг друга [1, с. 675]. Мы подчеркиваем этим еще раз, что дело в схеме, а не в предметности. Поиск объективного основания, которому в одинаковой степени подчиняется жизнедеятельность субъектов истории, может приводить к совершенно разным материальным или идеальным наполнениям этой схемы.
Тем не менее, что заставляет нас рассматривать ее в рамках схематизма исторического знания? Прилагательное “разное”, применяемое к существительному “время”.
Это объективное время оказывается способно изменяться, причем изменяться не как угодно, не произвольно, а в строго определенной последовательности. Опыт учета этого изменения дан нам нашим непосредственным взаимодействием с объективным “Другим” (субъектом производственных отношений, субъектом военных действий, субъектом права и т.п.). В отдельных случаях эти отношения неизменны в течение всей нашей жизни, но в других — они изменяются, часто даже у нас на глазах, как например, экономические и правовые отношения современной России. Так как время в данном случае разное, мы можем некоторые отношения рассматривать как относительно неизменные, а другие — как динамичные. Для нас важно одно — “Я” и “Другой” при этом рассматриваются в отношении друг к другу и остаются формально неизменными. Изменяются условия, но сама связь между завоевателем и побежденным, рабом и господином, пролетарием и буржуа, взрослым и ребенком, истцом и ответчиком и т.п. — остается неизменной.
“Смена времен” подчинена своим собственным законам. Это, например, законы развития форм обмена между участниками рынка, или стадии развития науки и техники, или, наконец, экзистенциальные законы развития ментальности, каждый из дисциплинарных подходов строит свою собственную схему смен объективных форм совместного существования индивидов. “Смена времен” может быть как прогрессивной, так и регрессивной в зависимости от ценностных установок историка. Направленность изменений для нас не важна, мы допускаем в истории не только прогрессивное развитие, но и упадок. Нас интересует только два вопроса. Оба они связаны с понятием одновременности. 1) Возможно ли выявить строгую определенность в логике смены одних форм объективного сосуществования истории другими? 2) Возможно ли построить единство различных объективных схем, представить их логически взаимосвязанными?
Интуитивно очевидно, что становлению более зрелых форм связи должно предшествовать вызревание предпосылок, создание предварительных условий. Например, биржи и банки — довольно поздний результат развития финансовых и денежных рынков и рынка ценных бумаг в условиях западной цивилизации [5, с. 84-101][94]. С другой стороны, многие формы экономической деятельности продолжают сосуществовать в течение всей истории экономического обмена. Так, тот же Бродель очень осторожно подходит к рассмотрению данного вопроса: “Различные механизмы обменов, которые мы показали — от простейшего рынка вплоть до биржи, — легко узнаваемы и легко поддаются описанию. Но не так-то просто уточнить их относительное место в экономической жизни, рассмотреть их свидетельство в совокупности. Имели ли они одинаковую давность? Были или не были они связаны между собой, и [если да], то как? Были или не были они орудиями экономического роста? Несомненно, здесь не может быть категорического ответа, коль скоро в зависимости от экономических потоков, которые вдыхали в них жизнь, одни из них вращались быстрее, другие медленнее” [5, с. 123]. А ведь разбираемый нами пример наиболее очевиден и более или менее поддается количественной оценке. Что уж говорить о формах смены государственной власти или правовых отношениях. Остановимся здесь и мы. Зафиксируем проблему, не находящую прямого решения и перейдем к рассмотрению второго вопроса.
Для ответа на него необходимо ввести какую-либо антропологическую абстракцию, описывающую сущностную связь “Я” и “Другого”. Но есть ли у нас какой-либо объективный критерий для выбора из множества определений сущности человека? К сожалению, мы должны признать, что в рамках третьей схемы такого критерия у нас нет. “Я” и “Другой” даны нам в одни и те же сроки. Эти сроки могут быть довольно большими, от этого суть дела не меняется, так как оба представлены вне истории, как неизменные функции объектных отношений. Поэтому для того, чтобы получить хоть какой-то ответ на этот вопрос, приходится гипостазировать цель истории либо всеобщую, как это делает К.Ясперс, либо локальную, в виде вызовов и ответов, как это делает А.Тойнби. И здесь мы невольно из области исторической науки переходим к другой дисциплине, а именно к философии истории, причем переходим необоснованно, так как “цель” — характеристика действия, а не истории. Зафиксируем принципиальную нерешенность этих двух вопросов в рамках третьей схемы.
4. “Я” и “Другой” в разные сроки, в разное время. На первый взгляд — вопрос парадоксальный. Что связывает меня и египтянина, жившего во времена фараонов, кроме учебника истории и моих друзей и родственников, предков которых один из тех фараонов якобы выгнал из Египта. Ничего. Я могу вообще не знать о существовании этого человека, как ничего не знаю о жителях каких-нибудь исторических “Атлантид”. Тем не менее эта связь существует, и она принципиальна, так как именно она впервые позволяет мне поставить осмысленный вопрос о конкретной смене форм в историческом развитии человека. Потому что только здесь я имею дело с конкретным “Другим”, человеком другой эпохи. Связь эта опосредована не только объектными формами нашего с ним существования, но и субъектной формой включения нас в исторически разные формы деятельности. Что же связывает эти формы между собой? Только одно — это формы человеческой деятельности. Только применительно к этой схеме мы имеем право поставить вопрос “Что есть человек?”, не человек вообще (на этот вопрос отвечает биология, а чаще — физиология), а человек в истории, т.к. я могу понять разницу между ним и мной, лишь когда сформулирую нечто общее между нами. При этом нужно сразу оговориться: его глубинная мотивация неизвестна, его культура дана мне часто в нерепрезентативных источниках, его духовный мир — не более чем искусственная попытка моей реконструкции. У нас в руках не Бог весть какой материал для сравнения, и тем не менее, его хватает, чтобы сказать, что его жизнь подчинена тем же самым цикличным законам физического, биологического и социального существования, что и моя.
Для того чтобы объяснить, что мы имеем в виду в четвертой схеме, напомним, что нашей задачей является определение одновременности разнородных по своему составу событийных рядов: событий в жизни человека прошлого и событий в жизни человека настоящего. Для этого придется сначала ответить на несколько вопросов. Что такое событие? Как возможна его фиксация? На основании чего мы можем связать события друг с другом? До сего времени мы не ставили эти вопросы, т.к. событие рассматривалось как элементарная единица человеческой жизни. Нас интересовало установление статуса закономерности в связи событий, сама же связь не ставилась под сомнения, т.к. она опиралась на “эмпирическую реальность времени” [2, с. 140], т.е. между событиями всегда был временной промежуток и мы лишь спрашивали, на чем основана наша уверенность, что он должен быть именно таким, а не другим. Сейчас перед нами несколько иная задача. У нас нет ни одного априорного представления об одновременности: “Я”, “Другое”, “разные сроки”, “разное время”, — и нам впервые придется его сформулировать как бы заново, поэтому само событие перестает быть элементом и становится предметом анализа.
Первое: событие не может быть бесконечным в силу наличия ряда парадоксов, вытекающих из принятия данного предположения. Второе: событие не может быть безграничным, т.к., если к событию применять категории, не фиксирующие его границы, мы не будем иметь право утверждать, что существует хоть какое-то другое событие. Третье: событие не может быть точкой, точнее, мы можем иметь о нем представление как о точке, но лишь в смысле его отличия от линии, плоскости или от конкретной другой точки, т.к., если мы представим событие как абстрактно существующую точку, мы не сможем говорить, что существуют разные события. Исходя из вышеперечисленных ограничений, наиболее подходящей абстракцией для описания события оказывается отрезок, т.е. ограниченная в пространстве (или времени) линия. Но как только мы зафиксировали такое понимание события, у нас сразу появляется проблема его масштабирования, т.е. соотнесение его со всяким другим событием. Представление о событии как о точке возникает исключительно в момент его соотнесения с событием принципиально иного (большего по сравнению с ним) масштаба. Но раз речь идет об отрезках, то временной интервал между ними должен каким-то образом соотноситься со временем интервалов самих отрезков.
Здесь возникает один вопрос, на каком основании мы считаем, что между событиями a1 и а2 существует временной интервал? Не проще ли предположить, что событие a2 следует сразу за событием a1. Но как только мы предполагаем такую абстракцию, следующим нашим предположением должно стать следование события а3 и т.д. вплоть до an, тем самым мы превращаем жизнь человека в ряд однопорядковых событий а, где каждое последующее событие ai+1 является напрямую связанным с аi. Однако мы с вами прекрасно осознаем, что события нашей жизни неравноценны. Наряду с рядом а можно ввести ряд b, ряд c и т.п. В таком случае нам остается либо предположить, что ряд событий ai сменяет произвольный ряд событий bi, а его, в свою очередь, ряд событий сi, либо согласиться, что между событиями a1 и а2 находится промежуток, вмещающий события b, события с и т.п. Последнее кажется более убедительным, т.к. если предположить обратное, то у нас нет никаких оснований ограничить ряд событий а без вмешательства какой-либо иной по отношению к нашей жизни силы, произвольно выбирающей для нас тот или иной ряд событий.
Поскольку нашей проблемой является поиск одновременности, то единственно возможным решением вопроса нам представляется одинаковость пропорций отрезков событий a1 и а2; отрезку времени t, отделяющем события a1 и а2; друг от друга. В символической форме одновременность может быть выражена следующим образом (a1 t = a2 t).
Теперь перейдем ко второму вопросу: как возможна фиксация нами событий. Ясно, что ответ на него зависит от прояснения смысла знаменателя в вышеприведенной формуле. Из всех возможных концепций времени для наших целей вполне подойдет одна из самых древних — аристотелевская. Напомним, что Аристотель определяет время как меру движения, в качестве наиболее удобной единицы меры Аристотель предлагает использовать круговое равномерное движение. Итак, субъективный отрезок события а соотносится с особым образом организованным интервалом t, который есть не что иное, как соотношение двух отрезков, один из которых является произвольным, а второй — соответствующий его масштабам, сознательно выбранный человеком цикличный процесс. Исходя из вышеизложенного, у нас есть все основания считать проблему фиксации событий сугубо субъективной. Ведь даже если мы берем в качестве эталона времени астрономические меры секунд, минут, часов, суток, годов, т.е. объективно (внешние по отношению к человеку) существующие циклы, то мы, тем не менее, не имеем право утверждать, что события человеческой жизни фиксируются нами исключительно в силу того, что между ними проходит определенный (не зависящий от человека) промежуток времени. Данную мысль легко пояснить одним примером: структура событийной жизни древнего египтянина и человека постиндустриального общества разная. Если ритм событий египтянина тесно был связан с естественно-природными циклами времени (длиной светового дня, периодами разлива Нила), то те же самые ритмы современного человека гораздо более зависят от трудового законодательства и финансового положения страны его проживания. Именно на такую сложность специфики восприятия времени для объектов социологии культуры указывает Л.Г.Ионин вслед за А.Щюцем: “Повседневность конструируется “стандартным” временем трудовых ритмов. Последние определяются “пересечением” субъективной длительности и объективного космического времени. Такое сложное строение трудового времени существенно осложняет исторический анализ проблемы. Кроме того, ни субъективное время, ни объективно внешнее время в современном понимании не совпадают с тем, как они воспринимались в Древности”” [6, с. 115][95]. Но как это ни странно, именно такая субъективная фиксация структуры события впервые помогает нам понять объективность связи между ними. Изобразим фиксацию событий символично an t t организацион = an организацион = an (организация).
Мы убираем время на основании того, что в методологическом схематизме, который мы в данном случае предлагаем, необходимо убрать все физические и метафизические смыслы, которые ассоциируются с понятием “времени”. Благодаря этим операциям мы наконец получаем определенность рассматриваемых нами событий. Мы имеем дело не с любым событием человеческой жизни, не с абстрактом а, под который можем подвести любое значение, и не с любой мыслью вообще, сравнивая различные события мы можем вычленить из них то общее, что в них есть — сознательную организацию равномерно повторяющейся деятельности (трудовой, торговой, правовой, социальной, культурной, военной, политической и т.п.). Как раз то, что при реализации такой деятельности человек стремиться элиминировать из нее все субъективное, т.е. сознательно создает объективную конструкцию и позволяет нам говорить об объективности истории, но понятно, что не всей истории, а лишь истории таким образов конструируемых событий.
Наконец, мы подошли к последнему вопросу. На основании чего мы можем связать события друг с другом? Самый простой ответ — на основании определенной темпоральной структуры, в соответствии с которой мы и организуем выделенные нами события. Этот ответ очевиден, но мы не можем с ним согласиться. События, конечно, происходят во времени, но не из-за времени. Человек конечно учитывает объективную темпоральную структуру, но часто организует связь событий не в соответствии с ней, а вопреки ей. Наконец, последнее. Если бы вся организация связи событий была бы лишь функцией объективно существующей темпоральной структуры, то у человека не было бы Истории, в лучшем случае она свелась бы к чоловiчiм историям[96]. Тем не менее человек не только является сыном истории, но и ее единственным творцом. Будучи творцом, именно он задает возможность перехода к новой событийной структуре, к новому связыванию событий друг с другом. Говоря языком феноменологии, мы должны признать изначальную интенциональность события. Если мысль всегда о чем-то, то событие всегда для чего-то. Прежде всего для того, что бы человек мог сосуществовать с природой, с другим человеком, с людьми, причем не только настоящими, но будущими и прошлыми. Итак, “Я” и “Другой” в Истории (т.е. в разные сроки и в разное время) связывает сознательная организация человеком своих действий, направленная на сосуществование его с другими людьми с целью осуществления себя как “человека”[97].
Только после этого объяснения вопрос “Что есть человек?” становится не только осмысленным, но и актуальным, так как тот или иной ответ на него можно рассматривать не только как исторически обусловленный развитием науки, но и как актуализированное в конкретном историческом контексте принятие человеком определенного значения своего имени. Homo politicus, le saint homme, homo ekonomicus, homo sapiens, homo ludens — оказываются конкретными историческими этапами смены человеком своего имени, под которым скрывается актуальная в тот или иной период истории форма сосуществования человека с себе подобными.
Мы рассмотрели четыре типа связи событий в истории между собой. Теперь попытаемся ответить на вопрос: “Какую связь событий мы должны положить в основание факта в исторической науки?” Любую. На основании каждой из них можно установить фактичность связи событий. Первая схема является необходимой для библиографического жанра в историографии. На основании второй строятся предметно-практические описания исторических событий, например, история классовой борьбы во Франции или история культуры Древней Руси. Распространенность третьей схемы снимает всякие вопросы о ее применимости. Сложнее обстоит дело с реализацией четвертой схемы. Нам представляется наиболее близкой к данной схеме текст А.Дж.Тойнби, посвященный анализу “ритмов” распада общества. “Периодичность, будучи одной из черт, делающих процесс распада похожим на процесс роста, не может быть объяснена теми же причинами. Если такты в ритме роста как бы отмечают последовательность успехов в ответ на череду вызовов, то такты в ритме распада образуются в результате цепи поражений в ответ на один и тот же вызов, а если процесс распада, подобно процессу роста, имеет непрерывный характер, то это может произойти потому, что каждое последующее поражение сеет семена новых попыток его преодолеть” [7, с. 475][98].
Главный вывод из нашего исследования заключается в неправомочности подмены событийных схем при установлении фактов связи между историческими событиями. Так, никакие события в биографии художника не могут ничего сказать о факте изменения духовной культуры, и наоборот. Развитие и смена форм правовых отношений в России в XIX веке (кодификация законов, правовая реформа Александра II) оказали существенное влияние на изменение общественной жизни и никакого — на овладение массами опытом политической борьбы за власть в начале следующего столетия.
Предложенная Ф.Броделем методология синтеза социальных наук на основании выделения структуры социального времени послужила образцом для проведенного нами исследования. Критикуя традиционную историографию, основанную на описании исторических событий, измеряемых короткими хронологическими единицами, Бродель ввел понятие “времени больших длительностей” (la longue durйe). Именно с помощью этого понятия мы можем сделать предметом исторического исследования демографические прогрессии, изменения экономических и социальных конъюнктур, цикличные колебания производства, обмена и потребления, т.е. понятия, широко используемые такими социальными науками, как демографией, этнологией, экономикой, социологией и т.п. Субъектом истории при подобном подходе оказываются не отдельные исторические индивиды, а медленно изменяющиеся во времени структуры — “системы достаточно устойчивых отношений между социальной реальностью и массами”. Выделение нового измерения истории и специфического исторического субъекта в виде структур позволило Броделю создать оригинальную модель исторического исследования, широко используемую историками во второй половине XX века. Сначала рассматриваются географические, демографические, агротехнические, производственные и потребительские условия материальной жизни, или как называет их Бродель, “структура повседневности” предмета исследования. (В нашей работе это соответствует второй схеме). Затем анализируются собственно экономические структуры общества, связанные со сферой обмена (рынки и ярмарки, биржи и кредиты, торговля и промышленность) и возникающие на их основе социальные структуры, начиная с простейших торговых иерархий и заканчивая, если того требует предмет исследования, государством, что целиком соответствует предложенной нами третьей схеме. Наконец, в последней части исследования показывается, как в результате взаимодействия выявленных ранее структур возникает собственно предмет исследования, будь то мир экономики современного капитализма [8][99] или современная Франция [9][100]. В этом пункте у нас есть небольшие расхождения с Броделем. Нам кажется, что он недостаточно определенен в постановке предмета своего исследования, что он избегает однозначно поставленных вопросов и не ищет ответов на них, что он недостаточно решителен. Вполне возможно, что Бродель действительно сравнивал цивилизации, а не конструировал предмет истории, как то предполагаем мы.
Нас могут спросить: “Как должны соотноситься друг с другом выявленные в различных событийных рядах исторические факты?”. Мы не можем отрицать между ними когерентную связь, т.е. определенное функциональное согласование в рамках одного временного периода. Однако нам представляется, что эта связь должна выявляться не на уровне конкретно исторического исследования, а в рамках создания концептуального теоретического исследования исторического процесса. Принципиально в таком исследовании то, что историк работает в нем не с историческими фактами, а с теоретическими конструктами.
Но именно на уровне теоретического конструирования понятий, — сформулированных на основании существования самого временного ряда, таких, например, как: “душа”, “мир”, “Бог”, — историка ожидают антиномии исторического знания [10, с. 249-264][101].
Первая антиномия
1. История имеет начало и конец. Она ограничена во времени и локализована в пространстве.
2. Выделить границы какого-либо исторического отрезка невозможно, всякая попытка такого рода — субъективная точка зрения того или иного историка.
Вторая антиномия
1. Все сложные исторические процессы сводятся к простым, поддающимся фиксации действиям, событиям.
2. Исторические процессы настолько сложны и взаимосвязаны, что выделить в них отдельное, не влияющее на другие стороны исторического процесса событие невозможно.
Третья антиномия
1. Все события в истории причинно обусловлены. В истории нет ни одного события, которое невозможно было бы описать, используя исключительно причинно-следственную систему координат.
2. Из исторического описания принципиально неустранима свободная воля субъекта исторического процесса, поэтому исключительно детерминистское описание исторического процесса невозможно.
Четвертая антиномия
1. Будучи сам исторической личностью, историк имеет средства и методы объективного описания исторического процесса. За пределами мира, описываемого историком, принципиально не может быть ничего, что он не мог бы включить в свое описание.
2. Будучи сам участником исторических событий, историк не обладает возможностью описать всю совокупность последствий и условий того или иного исторического действия. Историк не в состоянии описать исторический континуум, так как история принципиально продолжается и потенциально бесконечна, поэтому за пределами его описания всегда остается существенная область человеческого незнания или исторического заблуждения.
Ниже мы попытаемся показать, как эти антиномии могут быть разрешены с помощью созданных нами схем. При этом основной целью исследования станет фиксация категорий, необходимых историку для построения теории исторического процесса. Для того, чтобы наши рассуждения были более понятными, сформулируем вторую антиномию как проблему.
При помощи каких понятий сложные и взаимосвязанные исторические процессы могут быть сведены к простым поддающимся фиксации фактам?
“Я” и “Другой” (Я) в одни и те же сроки, в одном времени. То, что наша жизнь сложна, — доказывать не приходится. То, что мы по мере наших сил с этими сложностями справляемся, — тоже. Мы всегда соотносим жизнь с тем состоянием, в котором находимся “здесь” и “сейчас”. Так, современное состояние России делает актуальной метафору о национальной истории 17 в. — “Смута”. Борьба метафор в современном сознании должна соотноситься с тем, как человек ощущает свое собственное положение в настоящем времени. Оценка человеком своего состояния есть мера понимания им взаимосвязи событий или процессов. Если мы согласимся, что “оценка человека” и “понимание человеком” не свободны от субъективности, то единственно объективной в онтологическом плане категорией, которую мы можем вычленить из данного положения, окажется “мера”. По существу историк, работающий в парадигме первой схемы, должен решить для себя одну онтологическую проблему: в чем заключена объективность меры при нарушении которой “Я” переходит в “Другое”.
Итак, первой и основополагающей категорией является “мера” как форма или формула, в которой можно отобразить полученные нами исторические факты. Ни один из фактов сам по себе не является самодовлеющим и достаточным для исторического исследования. События в истории даны нам принципиально взаимосвязанно. Наша задача состоит в том, чтобы, открыв их, расположить их по значимости в сложном сочетании друг с другом.
Источниковедческий комплекс является ничем иным как эмпирическим базисом, созданным для описания истории в виде формул. В качестве существующего примера таких исследований мы можем привести формулы, описывающие расслоение земельной собственности, выведенные К.В.Хвостовой и В.К.Финном на анализе византийских поземельных отношений XIV века [11, c. 182-184][102].
Но формула — лишь способ организации результатов исследования. Соответствует ли ей какая-либо особенность организации объективного мира? Да. Перед нами ничто иное, как структурная организация объекта исследования. История не является исключением в структурных исследованиях, охвативших науку во второй половине XX века. Они широко применялись в лингвистике, антропологии, психологии. Не избежала их и история культуры. “Основным слоем, на котором основывается всякий анализ, является анализ произведения, поскольку, прежде чем приступить к описанию истории культуры и до того, как мы можем составить представление о причинно-следственной взаимосвязях отдельных ее явлений, необходимо, чтобы у нас была возможность обозреть произведение языка, искусства и религии” [1, с. 106].
От анализа структуры мы должны перейти к системному анализу и... столкнуться с проблемой. Объект истории системен, но системно ли изменение объекта? Чтобы понять, как происходит взаимосвязь состояний, нам необходимо рассмотреть логику процесса и, тем самым, перейти ко второй группе теоретических категорий исторической науки, категориям, описывающим “длительность”.
2. “Я” и “Другой” (Я) в разные сроки в одном времени. Вторая схема впервые дает нам представление об истории. Конечно, это история самого субъекта, но понятая объективно, история овладения субъектом предметной формы объекта. Проблема меры при этом снимается тем, что переносится в объект. Человек изменяется сам по мере овладения им сложной структуры предмета, на который направлена его деятельность. Так появляются в текстах по истории философии “ранний Ницше” и “поздний Хайдеггер”, в текстах по истории общества раннефеодальные государства или империализм как высшая и последняя стадия капитализма. Существенной проблемой такого исторического подхода становится поиск объективных отношений, в границах которых субъект не может измениться, отношений, которые субъект принимает как константы мирового порядка.
“Именно такие последовательности, такие “ряды”, такие “факты длительной временной протяженности” (longues durйes) привлекали мое внимание: они рисуют линии, идущие к горизонту, и самый горизонт всех таких картин минувшего. Они вносят туда порядок, они предлагают некое равновесие, скрывают постоянные свойства — в общем, то, что там есть более или менее объяснимого в этом кажущемся беспорядке. Ж.Лефевр говорил: “Закон — это постоянная величина”. Разумеется, здесь речь идет о константах в течение определенного срока, длительного или средней продолжительности” [12, с. 594][103].
Вторая схема нацеливает историка на поиск определенных длительностей неизменного функционирования субъектов истории в качестве ее объектов, но она же ставит перед историком онтологическую проблему определения “начала” и “конца” этих длительностей. Так решение второй антиномии исторического знания с логической последовательностью упирается в решение первой антиномии. Выделение “начала” и “конца” какого-либо исторического периода не может быть навязано историку извне по аналогии. Это свойство самого исторического объекта.
Если все объекты исторической науки целостны, то целостны и исторические процессы. В истории бывают случаи, когда сложный исторический объект становится монолитом, практически не имеющим частей, например война на выживание. Массы мобилизуются, превращаются в сумму с одной волей, с решением одного вопроса, доведенного до дилеммы — жизнь или смерть. Человек делает не свой личный выбор, а принимает выбор общества. Время рождает героев. Это исключительные моменты в истории, но здесь главное заметить, что они возникают. Революции и есть моменты мобилизации общества, момент решения проблемы “или — или”. Но революции не продолжаются вечно. Целостный исторический объект, т.е. человек, общество, государство, в зависимости от четко выделенных причин, способен мобилизоваться и превратиться в монолит, где уже не действует часть, но лишь на определенное время, для решения конкретных задач, предъявляемых обществом к монолиту. Как только эта задача решена, общество очень быстро восстанавливает свою сложную целостную структуру. Именно эти колебания и есть органика исторического объекта.
Переход целостности к монолиту и последующий этап создания новой целостности должен осознаваться обществом как конкретный исторический отрезок. В эти моменты естественные циклы синхронизируются, и все общество начинает работать как один организм, но лишь до определенного предела. По существу перед нами момент революции: социальной, технологической или культурной. У каждой революции имеются конкретные задачи, для решения которых и происходит синхронизация естественных циклов. Если мы рассмотрим историю как пакет циклов, то именно революции будут объективно выделены как моменты синхронизации различных временных циклов[104].
Следовательно, мы видим, что решающей онтологической проблемой второй схемы является выделение категорий, с помощью которых можно описать естественную границу длительности неизменного функционирования исторического объекта. Это длительность особого рода. Она не может начаться с определения границ отрезка. “Начало” и “конец” исторической длительности являются условными единицами. Изменения истории чаще всего происходят в результате длительных процессов, в которых проблематично выделить “начало” и практически невозможно — “конец”. “Начало” и “конец” — не более чем абстракции, к которым мы апеллируем с целью сделать историю понятной и человекоразмерной. Что же остается за пределами этих абстракций при анализе длительности? Исторически сменяющие друг друга циклы повседневности, на фоне которых происходят процессы становления новой целостности или системы отношений человека к человеку, человека и общества, общества и природы. Каждой из этих систем соответствуют свои параметры длительности. Все вместе они описывают процесс становления человеческой истории.
Итак, “длительность”, “цикл”, “становление” являются основными категориями второй группы. Все они взаимосвязаны. Невозможно понять одну из них, вычленив из целого, т.к. свое объяснение они получают друг через друга. Нам осталось лишь привести мнение специалиста: “Достигнув в 850 году своей вершины, очень долгий цикл стал неуклонно двигаться к концу. Его нисходящее движение продолжалось вплоть до всеобщего возрождения, последовавшего за рубежом 1000 года. Конечно, это новый цикл, о котором я осмеливаюсь заговорить, сам еще нуждается в объяснении... Происходит инверсия, переворот. Однако всякий переворот, который утверждается надолго, вызывает множество вопросов относительно его причин и следствий. Я говорю “причин и следствий”, ибо мы не можем отнести текущие процессы исключительно к той или иной из этих категорий” [13, с. 115][105]. Не можем, но должны ставить вопрос именно о “причине и следствии”, т.к. это третья группа категорий, необходимых для анализа истории.
3. “Я” и “Другой” в одни и те же сроки в разное время. Третья схема предполагает поиск надсубъективных сущностей истории. История человека превращается в ней в историю таких безличных сущностей, как социальные институты, формы развития государства, смена ментальностей, по крайней мере, в том виде, как их понимает Ф.Арьес в своих исследованиях установок европейского человека в отношении смерти. По поводу этих исследований А.Я.Гуревич пишет: “Он придерживается уверенности в существовании единой ментальности, якобы пронизывающей все социальные слои. Он исходит из убеждения, что эволюция мыслительных форм в первую очередь и определяет развитие общества, а потому считает правомерным рассматривать ментальность автономно, вне связи с социальным. Но тем самым Арьес изолирует такой предмет исследования, право на существование которого еще нужно обосновать” [16, с. 247][106]. С этой критикой признанного специалиста по теории исторической ментальности можно только согласиться. Введение такого предмета, как ментальность требует обоснования. Но что делать историку в тех случаях, когда объективность предмета дана ему без всякого обоснования?
Право, государство, армия, экономика существуют, и это их существование мы ощущаем непосредственно. Но как часто? И, может быть, самое главное, можем ли мы определить закономерность их влияния на нас? И тем самым свести сложность нашего включения в различные надсубъективные структуры к простому закону, который проще принять, чем понять? Эти три вопроса объективны, потому что реально стоят перед нами. Если мы принимаем эту их объективность, то весь удар критики, направленный против антиисторизма объективистской истории, оказывается выстрелом в пустоту. “Изучение картин мира, сменяющих одна другую в истории, властно побуждает историков действовать именно так, как повелевает природа исторического ремесла, а именно: изучать свой предмет — человека в обществе — не в качестве внешнего “объекта”, наподобие естественнонаучных объектов, но таким, каков он по своей сути (выделено нами), т.е. в качестве деятельного, мыслящего и чувствующего субъект, автора и актера жизненной драмы истории… [16, с. 293]. Автор этих строк забывает о “зрителях”.
Мы не только субъекты истории, мы гораздо чаще ее объекты. И в качестве объектов у нас невольно возникает вопрос в обоснованности ее “объективных” закономерностей. Нам хотелось бы, чтобы цена “свободы” как цели человеческого существования не превышала предела, ставящего под вопрос само наше существование как биологических, социальных и психологических существ. Такая постановка вопроса непосредственно выводит нас на третью антиномию исторического знания.
Человек функционирует в циклах существования. События его истории непосредственно связаны с функциями этих циклов. В жизни человека не так много моментов, которые он квалифицирует как события (женитьба, рождение ребенка, получение научной степени, смерть и т.п.) Функциональность снимает с человека ответственность за события. “Зачем?” заменяется “Почему?”. Свободная воля человека останется необоснованной без выделения того, чему она противостоит, а именно причинности. Третья антиномия разрешается тем, что человек становится субъектом истории тогда, когда его действия основаны на знании причины (даже в том случае, когда действия противостоят этой причине). Но для выделения причинности события должна быть задана размерность предшествующего события, иначе причиной может быть названо любое предшествующее событие.
Тем самым, вместе с причинностью, и только здесь, а ни в коем случае не раньше, мы вынуждены ставить вопрос о “времени”. В онтологии мы вводим “время” как категорию, которую исключили в методологии. Вводим ее как конструктивный элемент. Именно здесь намечается наше расхождение с Кантом. У Канта время имеет эмпирическое содержание. В онтологии мы должны отвлечься от эмпирии и ввести “время” как теоретический конструкт. Кантовское “время” является значимым для методологии, но лишь для того, чтобы сконструировать схематизм мышления, из содержания которого мы должны его потом удалить. В конечном счете для Канта эмпиричность времени является основой причинности, для нас, напротив, необходимость причинности обуславливает осмысленность введения “времени” в онтологию. Мир истории в отличие от “мира чистого разума” — это мир самого человека, сознательный мир его поведения. В истории проблема сочетания времени и причинности — проблема конституирования исторического субъекта как субъекта истории. Именно здесь и происходит разрыв циклов, их переход в новую систему функционирования, только, решив эту проблему, мы можем говорить о размерности исторических отрезков. Реформы Петра объединяются с деятельностью Екатерины II, решение проблем российской армии решается созданием дворянства как субъекта российской истории. Цикл завершается созданием этики, кодекса чести, неписаных правил поведения, в соответствии с которыми функционируют большие группы, составляющие субъект истории. Именно на этом этапе создается идеология (одной из разновидностей которой является ментальность) как превращенная форма сознания (не значит ложная), позволяющая отдельным людям жить и действовать сообща.
Для объяснения решения третьей схемы приходится решать целый ряд онтологических задач, которые тем не менее можно свести к одной проблеме: с помощью каких категорий мы можем описать необходимость превращения человека из объекта истории в ее субъект?
В отличие от “времени”, которое хотя и дано нам в субъективной форме, тем не менее, объективно, в том плане что, переходя к той или иной форме своей деятельности, человек открывает для себя уже существующие темпоральные структуры, выбор человеком причинности остается субъективным. Но является ли этот выбор произвольным? Нет. В его основании лежат объективные формы темпоральных последовательностей, о которых мы писали выше.
При описании этих темпоральных последовательностей нам приходится использовать уже выделенные нами категории “структуры” и “становления”. Двуединая сущность времени была открыта давно. С одной стороны, оно циклично и описывается равномерным круговым движением. С другой — каждый цикл знаменует собой определенное изменение (становление) целостности, к которой приложимо понятие временности. “Имеющее начало во времени проистекает из кругового движения не вследствие его постоянства, а поскольку оно каждый раз становится новым, оно не нуждается в особой причине, ибо это обновление есть не новый акт, а вечное действие, т.е. действие, не имеющее ни начала, ни конца. Поэтому действователь должен быть вечным, так как вечное действие должно иметь и вечного действователя, а возникающее действие — действователя, имеющего начало во времени. Только благодаря вечному элементу в действии можно понять то, что действие не имеет ни начала, ни конца. И в этом смысле оно постоянно, ибо само по себе оно не постоянно, а изменчиво [17, с. 56-57][107].
Заменим в этом утверждении представление о вечном действователе как о Боге, представлением о человеке, которому только и дано время и история. Ведь если историю, которую мы рассматриваем, является историей мира человека, то за пределами истории невозможно обнаружить человека, а за пределами человека не существует истории. Следовательно, человек является и вечным действователем для истории, и единственной причиной изменчивого.
Темпоральные представления лежат в основании выбора человеком причинно-следственных связей, в соответствии с которыми он пытается объяснить историю. Временная соразмерность циклов является основой, обуславливающей выбор той или иной концепции причинности. В тех случаях, когда действие предшествует окончанию временного цикла, человек употребляет понятие “целесообразность”. Категории третий группы тем самым можно свести к трем понятиям “время”, “причина”, “целесообразность”.
4. “Я” и “Другой” в разные сроки в разное время. Четвертая схема ставит перед историком проблему формирования понятийного аппарата для описания закономерностей в различных областях исторического знания и для различных субъектов истории. Конкретный человек конкретной эпохи решает для себя принципиально однотипную задачу: “Как сделать свою жизнь человеческой?” При всей разности условий и многообразия решений общим остается только проект, создаваемый целесообразным существом. Этот-то проект мы и должны рассматривать на том единственном основании, что мы сами проектирующие существа. Только в этой схеме мы все являемся субъектами истории, но лишь в том смысле, что являемся субъектами своих маленьких историй, сосуществующих в пространстве и времени Земли. Именно здесь сама “История” историка может быть рассмотрена как частный случай исторической деятельности отдельного субъекта, тем самым мы подошли к рассмотрению четвертой антиномии исторического знания. За пределами человека как исторического субъекта существует мир его идеологии, удваивающей мир его существования. И историк, и человек-не-историк подчиняются законам идеологии как надындивидуального мира, но особенность ученого заключается в том, что он является носителем двух идеологий — идеологии общества и идеологии науки и должен решить для себя проблему их согласования, если они противоречат друг другу при изложении истории как научной дисциплины. Это не значит, что научная дисциплина свободна от идеологии, она также подчинена господствующим в науке стереотипам (парадигмам), но вектор направленности социальной и научной идеологии разный. Социальная идеология направлена на сохранение существующего, на охрану привычных для общества механизмов контроля перемен самого общества. Социальная идеология не говорит, каким должно быть общество, она настаивает на том, как оно может изменяться. Научная идеология направлена на поиск истины, в том числе и самой по себе, поэтому научная идеология меняется быстрее, чем социальная, но в более локальном смысле.
Двойственная позиция позволяет историку избегать следствий четвертой антиномии, сформулированной в современном языке теоремой Геделя. Историк может описать мир, т.к. одновременно находится в двух идеальных мирах. Это двуединство ставит перед современным историком проблему самоидентификации. Кто он — детектив (Коллингвуд) [18, с. 253-268][108], судебный следователь (Ранке) [1, с. 663] или свидетель (Солженицын)? Как ученый он может выступать в любой из этих ипостасей, но брать на себя функции суда (судья, адвокат, прокурор) можно лишь в рамках социальной идеологии. Проблема историка заключается в переходе из одной роли в другую.
Историк мыслит как человек определенной эпохи, пользуется языком этой эпохи, в то же время объектом его изучения является прошедшее время, которое он рассматривает с точки зрения объективной науки. Так с необходимостью возникают странные понятия, — оксюмороны, в которых на уровне прилагательных опровергаются существительные: “холодная война”, “бархатная революция”. Образование этих понятий и есть сложное совмещение двух идеальных миров. Мира социального — в существительных и мира научного — в прилагательных. Конструируя те или иные метафоры, человек описывает мир постоянства (мир циклов), в котором он живет. Историк, изучающий не только внутрицикловые периоды, но и периоды переходов, вынужден создавать свой мир метафор, появление которых зависит от принятия историком на себя социальных функций суда.
Становление истории как науки — это проблема становления понятий, описывающих исторический процесс. Онтология истории — это принятие сообществом ученых понятийного каркаса, но созданного не в metaphуsica generalis, а самой metaphуsica specialis, поэтому не проблема времени или человека лежит в основании построения истории как науки, а создание адекватного понятийного аппарата, описывающего историю человечества[109]. Если же мы хотим, чтобы история стала строгой наукой, то отношение между понятиями должны быть количественно определены, так как сам человек в своей жизни в тех рамках, где он действует рационально, определяет свое отношение к действительности через количественное отношение.
Не только каждый историк — человек, но и каждый человек — историк, но лишь в тот момент, когда он задает количественные параметры процессов, определяющих его жизнедеятельность. Соотношение этих параметров друг с другом, их соответствие целям декларируемых объектом истории показывает нам возможность и действительность исторических процессов. Последняя схема помогает нам сформулировать понятия целесообразности человека как субъекта исторической деятельности. Основополагающими в данной схеме оказываются такие понятия, как “жизнь”, “свобода”. Причем каждое из этих понятий является для человека не столько научным, сколько ценностно окрашенным.
В.В.Никитаев
К онтологии множественности миров
Социокультурная рамка данной работы в значительной мере определяется тем, что вслед за В.Ф.Эрном [1] можно назвать “идеей катастрофического прогресса”. Эта идея или, вернее, мотив катастрофичности сегодня настолько уверенно звучит в полифонии философской и научной (не говоря уже о религиозной) мысли — практически доминирует, — что едва ли можно пройти мимо нее при серьезном философском анализе современности. Мы не будем обсуждать здесь вопрос о том, является ли катастрофичность нашей эпохи феноменом или всего лишь особого рода дискурсом, в котором смысл слова “быть” конституируется на базисе значений “рисковать (вызвать катастрофу)”, “предупреждать (катастрофу)”, “выживать (в катастрофе)” и “ликвидировать последствия (катастрофы)”. Действительно важными и первостепенными представляются вопросы об основании, условиях и формах катастрофичности. Попытке ответа на вопрос о предельных (онтологических) основаниях катастрофического прогресса, о катастрофичности как черте бытия, и посвящена данная статья.
Век катастрофического прогресса
Что это значит: катастрофичность как черта бытия?
Для Эрна, например, это заложенная в самой структуре бытия необходимость прорыва “ноуменального” мира в мир “феноменальный”, эмпирический. Для древних атомистов — неизбежное столкновение миров. В еще более древних, мифологических представлениях (от которых, впрочем, недалеко ушли такие теоретики геополитики ХХ века, как Маккиндер или Шмитт), это борьба антагонистических первоначал или противоположных стихий, в ходе которой осуществляется взаимопревращение стихий.
Для нашего рассуждения важное ограничение задается соображением о том, что катастрофа как момент бытия предполагает ее переживание (выживание), — по меньшей мере, такую возможность. То есть, с одной стороны, катастрофа всегда меньше, чем тотальное уничтожение, меньше, чем смерть всего и всех, кого она прямо или косвенно захватила; хотя момент (угрозы) уничтожения и смерти в ней обязательно присутствует.
С другой стороны, катастрофа — это всегда больше, чем несчастный случай, больше, чем просто нарушение существующего порядка. Катастрофа в предельно зримой и осязаемой форме показывает, что этого порядка, к которому мы привыкли и с которым сжились, вообще может не быть. Вначале катастрофа выступает как стихия хаоса, как беспорядок, как негация, которая сама по себе не может быть “вечной”. Знания и опыт говорят нам, что всякая катастрофа раньше или позже прекращается или, по меньшей мере, асимптотически затухает. Однако с другой стороны, мир после нее никогда не бывает в точности тем же самым, — так что катастрофа есть предвестие и вызов со стороны иного, чужого порядка, вызов, на который мы, как люди данного, “нашего” порядка, должны дать ответ, хотя бы и асимметричный. “Чуждость и ответ (Response), — пишет немецкий феноменолог Бернхард Вальденфельс, — составляют единое целое, но таким образом, что чужое бросает нам вызов тем, что оно уклоняется от схватывания и тем, что выходит за пределы понимания” [2, с. 123]. Действительно, то, что может быть понято, — уже не вполне чужое (не способное остаться таковым). Поэтому по-настоящему чужое свидетельствует о некоторой фундаментальной ограниченности возможностей нашего понимания, его принципиальной недостаточности.
Но разве чужое так или иначе не вторгалось и не присутствовало в нашем мире во все времена? Да, такие ситуации регулярно имели место в истории. В прежние времена, однако, они либо носили маргинальный характер, либо достаточно эффективно нормализовались, элиминировались или компенсировались “защитными механизмами” культуры, социальными институтами (см., например, [3]) и целым рядом форм толерантности, детерминируемых, в конечном счете, характером власти и балансом сил (см. [4]). Даже война, как массовое нашествие “чужих”, давно стала феноменом, “освоенным” культурой (в каждой культуре есть свое представление о войне), а потому как бы сама по себе “объясняла” все и жестко определяла нормы поведения (“здесь — мы, там — враг, врага надо уничтожать” и т.п.).
Сегодня ситуации, над которыми мы здесь размышляем, стали массовыми, вышли из-под институционального и культурного контроля, власть и баланс сил утратили свою определенность. “У истории, — писал историк М.Я.Гефтер, — был гигантской важности ресурс, ныне исчерпанный: пространство. История — это развитие, которое “бродит” по планете, втягивая в свою орбиту народ за народом... Но пространства для развития больше нет... Человек кожей чувствует: человечество на него напирает, “чужие” — тут, рядом с ним, тесня его, делая жизнь мучительной и невозможной...” [5, с. 452]. “Чужие” не только теснят, но уже нередко оказываются “внутри” человека, вне зависимости от того, желает ли он следовать постмодернистскому призыву “принять в себя “чужого”, или нет. Из другого полушария планеты Михаилу Гефтеру вторит Майкл Уолцер: “Вопреки скороспелым представлениям, принципиальный конфликт американской жизни заключается в наше время не в противостоянии мультикультурализма некоему культурному гегемонизму или единообразию, плюрализма — единству, многого — одному. На самом деле речь идет о том, что мы живем в условиях специфически современного и постмодернистского конфликта множественности групп и индивида” [4, с. 118]. Собственно говоря, саму эту ситуацию естественно было бы воспринять в духе некоей вселенской катастрофы, — вроде мифологической истории разрушения Вавилонской башни, когда люди вдруг перестали понимать речь друг друга, т.е. стали “чужими”.
О чем, однако, этот вызов чужого? На что он нацелен?… В ответе на данный вопрос трудно ошибиться — дело, так или иначе, идет о власти, о ее сущности, источниках и пределах, осуществлении и распределении, технике и технологии, и т.д. Понимание выступает как ресурс власти.
Каким образом мы могли бы расширить этот ресурс и отстоять свою власть? Традиционно о бытии толковала онтология. Однако, начиная хотя бы с “Метафизики” Аристотеля, онтология, как своего рода исчисление первоначал власти (архэ), в самом своем замысле уже означала тотальный порядок и интеллектуальное освоение (присвоение) Универсума. Сам вопрос об ином порядке и радикально чужом кажется в этих рамках совершенно неуместным. Правда, Хайдеггер говорит более осторожно: “Философия, метафизика есть ностальгия, стремление повсюду быть дома”, притом что “подобной тягой философия может быть только когда мы, философствующие, повсюду не дома” [6, с. 330-331].
Онтологии и онтологическое мышление. “Конкуренты” онтологии
Постановка в такой ситуации вопроса об онтологии как бы естественным образом подразумевает, что онтология может (должна) быть применена как некий инструмент, позволяющий прояснить нечто, некое “катастрофическое бытие”, и дать рекомендации в духе “искусства выживания”. Однако если этой надежде и суждено оправдаться, то, видимо, ровно в той степени, в какой мы понимаем отношения онтологии с реальностью, представляем себе процедурную структуру онтологического мышления и способны “войти” в то состояние сознания (“фундаментальную настроенность”, по Хайдеггеру), в котором онтологическое отношение к реальности вообще возможно. Кроме того, нас, очевидно, интересует не просто онтологическое конструирование как построение тех или иных схем реальности, но обнаружение реальной онтологии — той подлинной структуры бытия, в которой мы живем.
Трудности достижения поставленной нами цели усугубляются тем, что наряду с онтологическим мышлением существуют еще несколько типов интеллектуальной активности, которые похожи на него и нередко подменяют.
Прежде всего, необходимо вспомнить о мифе в философском или культурологическом значении данного термина. Миф по ряду “параметров” близок онтологии, но то, в чем суть онтологии, культурно-исторически формировалось как раз в оппозиции мифу, посредством более или менее явной его критики. Следует упомянуть по меньшей мере три таких момента.
Во-первых, главный водораздел между мифом и онтологией, начиная уже с Сократа и Платона, лежит в систематическом применении критической рефлексии.
Во-вторых, присущее предельным ситуациям экзистенциальное напряжение миф выражает (и тем самым, через идентификацию и катарсис, элиминирует) в формах театрально-драматургических и риторических, а онтология — переводит в план проблем и логического дискурса.
Наконец, мифы всегда картинны, предельно наглядны, так как образы мифа суть его код, ориентированный на массовое сознание язык, и как таковой они должны легко распознаваться. Иными словами, миф — это прежде всего коммуникативная форма. Онтология, поскольку предназначена для организации мышления, напротив, не повествовательна и не изобразительна. Конечно, онтологическое мышление, свернувшее, например, в коммуникативных целях, на путь своей предметизации, с неизбежностью порождает некие представления, которые именуют “онтологическими картинами”, но при этом следует учесть, что собственно онтологию такие картины скрывают, “занавешивают”. В понятии “онтологическая картина” содержится антиномия отождествления представления об объекте с самим объектом. Поэтому, если возможно приписать онтологии свойства некоторого отображения, то онтология, скорее, суть карта, чем картина; карта, включающая в себя и допустимые способы своего “чтения” и того, кто это способен сделать.
Важно также отличать онтологическое мышление от натуралистической и формальной онтологизации, свойственных науке. Классическая естественная наука начинает с натуралистической онтологизации представления своего объекта (главная функция которого состоит в обеспечении возможности постановки задачи) как “данного” ей объекта реальной действительности[110]. Формальной онтологизации подвергаются полученные в результате научного исследования знания о данном объекте (например, о его структуре или механизме изменений). В обоих случаях онтологизация направлена на десубъективацию и реификацию тех или иных представлений (“отчуждение” сознания в вещах). Онтология (онтологическое мышление), напротив, — на субъективацию, в ходе которой человек осмысливает (по сути, конституирует) себя как субъекта некоторой предельной ситуации. В отличие от онтологизированных представлений и моделей, онтология полагается тем же актом, которым конституирует себя мыслящий субъект. Эффект онтологизации не в том, чтобы — как в онтологии — достичь единства мышления и бытия (или хотя бы поставить это как проблему), а в том, чтобы зафиксировать текущую границу между мышлением и бытием, преодоление которой выдвигается в качестве постоянной цели науки и инженерии.
Истоки и смысл онтологического мышления
Итак, что же такое онтология, как она конституируется? Возможно, наиболее уместно будет начать отвечать на этот вопрос с отыскания экзистенциального истока онтологического мышления. Онтологическое мышление по сути своей глубоко практическое, связано с экзистенциальными ситуациями. Это суть ситуации, в которых человек “выступает” за границы и так или иначе противопоставляется повседневной “простой жизни”, которой живет подавляющее большинство людей, считая ее, может быть, не во всем приятной, нередко тяжелой, но единственно реальной. В экзистенциальной ситуации для человека происходит своего рода остановка или расщепление мира. Сущее, столь незыблемо приросшее к своим “естественным местам” или, на худой конец, неумолимо движущееся к ним, вдруг лишается своих корней и повисает в пустоте недоумения, разъедаемое сомнением до состояния полной иллюзорности. Вопрошание становится для человека едва ли не единственной достоверностью, единственной “точкой опоры”, на которой он пытается заново утвердить мир.
Исторически сложилось так, что собственно философская тематизация экзистенциальной ситуации начинается с постановки в ней (и к ней) вопроса об архэ. Именно так, насколько мы можем судить, начиналась философия в Милетском кружке — особенно Анаксимандром (см., например, [А 15, 16]). Смысл слова “архэ” был, видимо, непосредственно ясен древним грекам, — в отличие от нас, вынужденных передавать его единством трех слов типа “начало”, “принцип”, “власть”, или неуклюжей конструкцией вроде: власть, как начало всего, и начало (то, что было вначале), как власть.
Важно понять особенный характер инициирующего онтологическое мышление события — его необратимость, непроизвольность и крайняя серьезность, в частности, кладут предел стремлению постмодернизма все виртуализировать и превратить в игру. В онтологию играть невозможно, хотя можно, как это делают позитивисты и постмодернисты, объявить ее фикцией. Онтология обретается — в смысле “Ищите и обрящите, стучите и откроется вам” — в экзистенциальной, т.е. предельной для человека ситуации. Человек обретает (что, конечно, не эквивалентно “продуцирует”) мышление и вместе с тем онтологию, хотя бы в зачаточной форме некоторой онтологической идеи. Можно сказать и так: в ту или иную онтологию человек обращается как в некоторую религиозную веру. Не менее важно, однако, что всякая онтология — рациональна, конституируется в ориентации на единство бытия и мышления. Точнее было бы сказать не “мышления”, но — используя термин античной философии — “ноэзиса”, как единства собственно мышления (логики) и эстетического чувства (эстетики). То, в чем ноэзис и бытие совпадают, — объявляется как “существенное”, “истинно существующее”, как “сущность” и т.п. Собственно, квалификации такого рода сами по себе имели бы мало смысла и значения, если бы не включались в структуру “воли к власти”, не воплощались бы в культуре, социальных ситуациях и технике.
Онтологически бытие есть особый, предельный (осуществляющий предельный переход) способ мышления о бытии. Подчеркнем, что предельность онтологии суть предельность для мышления, — она характеризует не то, что мыслится и может быть определено как граница мира, но как мыслится, т.е. само мышление. Вообще здесь существенно различие границы и предела. Если граница есть необходимая предпосылка и условие мышления, свободы и развития, — в том смысле, что она ими преодолевается и в этом преодолении позволяет осуществляться, то предел суть то, за чем — безумие, хаос, распад личности и т.п.
Итак, онтологическое мышление и онтология, как его условие и результат, конституируются в попытках рационально восстановить единство и целостность мира[111]. В этом случае экзистенциальная ситуация становится исходным онтологическим опытом. Этот опыт есть опыт некоторого одоса (пути), схождения с бытием, пусть даже и в бесконечной перспективе.
Онтологический опыт назван так не только потому, что вызывает постановку онтологического вопроса, — он также содержит в себе интуицию ответа на данный вопрос, определенную онтологему, разворачиваемую далее мышлением в конкретную онтологию. Онтологема, или онтологическая идея, есть как бы имманентная форма открытия-откровения бытия, его “первое определение”, в равной степени логическое, эстетическое и этическое — в том смысле, что она содержит в себе соответствующие импликации, разворачиваемые затем в логику, эстетику и этику.
В перспективе построения онтологии онтологема раскрывает бытие как дифференцированное в себе единство. Онтологемы — как показывает история философии, например, — бывают разными (зависит ли это от характера ситуации, от личности мыслителя или от самого бытия?). В самом общем случае можно выделить три типа онтологем: онтологема всеединства, онтологема дуальности и онтологема множественности [8]. Далее будет обсуждаться онтологема множественности, поскольку именно она, по моему мнению, обладает наибольшими возможностями для относительно позитивного решения проблемы катастрофического прогресса.
Онтологема множественности
Онтологический опыт, отвечающий этой онтологеме, констатирует: мышление (ноэзис) не равномощно бытию, его совпадение с ним носит локальный и исторический (случайный) характер. Для мышления этот локальный топос совпадения с бытием, в который оно попало, выступает как предельный, как целый мир, но для бытия это всего лишь одно из бесчисленного числа его “мест”. Иными словами, данный реальный мир не только всего лишь один из множества возможных миров, но и один из множества реальных миров.
Идея множественности миров, вообще говоря, имеет длинную историю (см., в частности, [9]), истоки которой теряются в орфико-пифагорейской традиции. Собственно, именно эта традиция, утверждающая существование множества обитаемых миров в пределах видимого Универсума, т.е. миров как “звезд” (планет), прошла через всю Античность, Средневековье, Новое время и дошла до наших дней как научно допускаемая и активно разрабатываемая фантастикой возможность, почти что “факт”. Однако эта картина недостаточно хорошо может служить раскрытием онтологемы множественности миров (ММ), поскольку, будучи погружены в единый физический пространственно-временной континуум, миры едва ли могут считаться более различающимися онтологически, чем просто разные вещи одного (например, нашего) мира.
Атомы и миры (Левкипп, Демокрит и другие атомисты)
Более перспективной в онтологическом плане представляется концепция бесконечного множества миров (ММ) в античном атомизме. Основатель атомизма Левкипп начинал свое рассуждение с оппозиции “пустота — полнота”. “Пустота” берется им как абсолютная пустота, т.е., как называет ее Гегель, — ничто. “Полнота” обладает практически всеми признаками парменидовского бытия: неизменность, вечность, однородность, неделимость. К этим двум первоначалам Левкипп как бы применяет “принцип апейроса” Анаксимандра: у него оказывается, что Вселенная (все) — беспредельна, пустота — бесконечна, тела (атомы) — бесконечны по числу. Иными словами, “апейрон” Анаксимандра превращается у Левкиппа в бесконечность, причем в бесконечность экстенсиональную, механическую: пространственную для пустоты и количественную для атомов. Более того, Левкипп намечает, а Демокрит явно постулирует бесконечное разнообразие атомов по форме, величине, направлению и скорости своего движения.
Атомы, двигаясь в пустоте, сталкиваясь и отскакивая друг от друга, образуют определенную структуру — вихрь. Вихрь — это естественный механизм реализации базового для древней мифологической и натурфилософской мысли принципа “подобное к подобному”. В результате действия этого в буквальном смысле судьбоносного вихря образуются относительно устойчивые конфигурации атомов. Благодаря необходимости возникновения вихрей в разных местах, разделенных пустотой, Вселенная структурируется как бесконечное множество миров (космосов).
Различие между атомами, вещами и мирами — не столько размер (согласно Демокриту, атомы могут быть величиной и с мир), сколько их структура: атомы не содержат пустоты, а вещи и миры — обязательно имеют внутри себя пустоту (отсюда их изменчивость, а значит и бренность). Кроме того, мир как результат вихревого космогенеза обладает шаровой формой и ядерно-оболочечной структурой (см. [9, сс. 9, 41]). Будучи механическими агрегатами атомов, миры, тем не менее, проявляют и биоморфные свойства: они растут, достигают расцвета, дряхлеют и разрушаются при взаимном соударении.
Нетрудно заметить, что архэ у атомистов как бы распадается в соответствии с их фундаментальной оппозицией непрерывной единой пустоты и дискретной множественности атомов на две компоненты. Активность, самодеятельная сторона архэ субстантивируется в вечно движущихся бесконечных по числу и разнообразию атомах. Смысл же того, что отходит пустоте, был намечен уже Анаксимандром в его утверждении, что Земля пребывает неподвижной, “ничем не поддерживаемой”, поскольку находится в центре Вселенной и все возможности движения для нее — равновероятны и равноправны (изономия). Изономия для атомистов — естественна, и пустота в их онтологической картине играет роль предпосылки и условия фундаментальной изономии атомов и миров (она сама по себе есть абсолют изономии)[112]. Более того, изономия — онтологична. Она онтологична в том смысле, что служит выражением принципа единства мышления и бытия (см. [9, сс. 48-49, 62-64]). Все, что может быть помыслено, полагают атомисты, — равновероятно и равноправно. А поскольку Вселенная, атомы и пустота — вечны, для вечного же возможность ничем не отличается от действительности, то все, что мыслимо, — уже существует где-то в бесконечных просторах Вселенной как бесконечное же множество бесконечно разнообразных в себе миров.
Атомисты, в отличие от орфико-пифагорейской традиции, полагают, что все, видимое нами, есть один мир; другие миры нам не видны. И если Демокрит еще допускал внешнее происхождение некоторых небесных тел, как бы “захваченных” извне, то Эпикур утверждает, что границы миров абсолютно непроницаемы. Этот образ замкнутых, непроницаемых друг для друга миров (хотя и расширяющихся за счет внешней экспансии в период своего роста), которые сталкиваются, и меньший или наиболее “дряхлый” из них при этом гибнет, — не только весьма впечатляет (особенно в аспекте размышления о нашей катастрофической современности), но и несет в себе глубокий онтологический смысл. Именно, всякий мир в онтологии ММ целостен и автономен, а все прочие миры — лежат за его горизонтом. В атомизме атомы (вне зависимости от своего размера) и миры — только умозрительны, причем атомы суть умозрительные сущности, а миры — умозрительные явления, запредельные для чувственного восприятия. На этом основании можно сказать, что мир есть своего рода локальная тотальность, то есть он ограничен “извне”, но бесконечен — в восприятии своих обитателей — “изнутри”.
Одним из важнейших вопросов онтологии ММ является вопрос об источнике самой множественности миров. Ведь из того, что Универсум бесконечен, еще не следует, что в нем должно быть множество миров, а не один-единственный бесконечный мир. Левкипп и Демокрит решают этот вопрос сугубо формально, в математическом стиле. Но уже Метродор Хиосский, не удовлетворенный данным решением, предложил в качестве источника бесконечного ММ бесконечную творческую мощь природы; в дальнейшем, у Эпикура и Лукреция, эта бесконечность производящих ресурсов природы подчеркивалась как vis infinitatis, “сила бесконечности” [9, с. 65]. В позднем Средневековье аргумент природы был заменен аргументом бесконечной мощи Творца, которую не может ограничить и исчерпать никакое конечное творение.
Довольно очевидно, что множественность миров неразрывно связана с чем-то вроде принципа относительности, т.е. отсутствием единого центра Универсума, отсутствием абсолютной “системы координат”, или с принципом полицентризма: каждый мир имеет свой центр, свою “систему координат”, свою “волю к власти”.
Главное затруднение атомистической концепции Гегель, например, сформулировал следующим образом: “как только мы признаем, что эти атомы, в качестве маленьких частиц, существуют самостоятельно, их соединение станет совершенно внешним и случайным складыванием” [10, т. 1, с. 309]. Вихрь, будучи механизмом космического масштаба, никак не может претендовать на создание наблюдаемого разнообразия устойчивых форм отдельных вещей и задавать закон их индивидуального и совместного существования.
Монады (Г.В.Лейбниц)
Второе дыхание идея ММ приобрела в XVI-XVII вв., после великих географических, этнографических и астрономических открытий. Миры стали рассматриваться и обсуждаться, прежде всего, как обитаемые и предельно разнообразные. Путешествия в иных мирах (странах) или описания европейского мира, увиденного глазами какого-нибудь экстравагантного чужака, становится излюбленным литературным приемом эпохи Просвещения. Сирано де Бержерак, Свифт, Фонтенель, Вольтер, Монтескье и другие отдали ему свою дань. Нередко он использовался для критики и сатиры существующих порядков. Такое внимание и интерес к теме ММ и “чужих” вполне может рассматриваться как симптом социокультурного кризиса и перелома, начатого в Возрождении и закончившегося в эпоху Просвещения; примерно так же, как это можно сделать и по отношению к периоду кризиса классического полиса V в. до н.э., когда и появилась атомистическая философия (ср. [9, с. 256]).
Онтологической вершиной Просвещения был, несомненно, Лейбниц с его монадологией. Сам Лейбниц, излагая историю своих интеллектуальных поисков, пишет, что освободившись, благодаря занятиям математикой и механикой, “из-под ига Аристотеля”, он “обратился к пустому пространству и атомам…, но отказался от этого после многих размышлений о невозможности найти принцип истинного единства в одной только материи…” [11, т. 1, с. 272]. Ему пришлось вернуться к “субстанциальным формам”, причем он “нашел, что природа этих форм состоит в силе; а отсюда вытекает нечто аналогичное сознанию и стремлению, и, следовательно, их нужно понимать наподобие того, как мы представляем себе души” (там же, с. 272-273). Таким образом, “поскольку материальные атомы противоречат разуму”, то, утверждает Лейбниц, существуют только “атомы-субстанции”. “Их можно было бы назвать метафизическими точками: они обладают чем-то жизненным и своего рода представлениями…” (там же, с. 276).
Итак, согласно Лейбницу, существует множество индивидуальных деятельных простых субстанций (“субстанциальных деятелей”, как именует их Н.О.Лосский), или монад, которые “и суть истинные атомы природы” (Монадология § 3) и образуют более сложные (составные) субстанции, или тела. Монада “не имеет окон, через которые что-либо могло бы войти туда или оттуда выйти” (§ 7), она есть живое зеркало, отражающее универсум со своей точки зрения (§§ 56, 57 и др.) и “настоящее ее чревато будущим” (§ 22). Монада не имеет частей, но обладает в себе множеством состояний и отношений, поскольку ее субстрату присущи восприятие (representatio, представление) и стремление (appetitus, воля). Отсюда следует, что “естественные изменения монад исходят из внутреннего принципа, так как внешняя причина не может иметь влияния внутри монады” (§ 11).
Всякая монада в соединении с особым телом (бесконечным множеством других монад) образует “живую субстанцию”. Согласно Лейбницу, существует бесконечное множество ступеней монад, из которых одни более или менее господствуют над другими [11, т. 1, с. 405], но особенно он обсуждает иерархию монад, включающую “жизни, души, духи” (там же, с. 404). Низший разряд образуют “жизни”, или “энтелехии”, — в них есть известное совершенство и автаркия, которая “делает их источником их внутренних действий и, так сказать, бестелесными автоматами” (Монадология § 18). Монады, восприятия-перцепции которых более отчетливы и сопровождаются памятью, — суть души (там же, § 18). Души, которые, сверх того, обладают “апперцепцией-сознанием, или рефлективным познанием этого внутреннего состояния”, которое производится перцепцией [11, т. 1, с. 406], — принадлежит к разряду “разумных душ”, или духов. “Дух не только зеркало мира творений, но и образ Божества. Дух не только имеет восприятия дел Божиих, но и сам способен производить нечто им подобное, хотя и малых размерах” (там же, сс. 410-411).
Только Бог есть первичное Единство, или “изначальная простая субстанция”, он выступает источником творения всех монад, основателем и гарантом “предустановленной гармонии”, только через посредство Бога монады могут иметь влияние друг на друга, причем — только идеальное влияние (Монадология §§ 47, 51). “В Боге заключается могущество, которое есть источник всего, потом знание, которое содержит в себе все разнообразие идей[113], и, наконец, воля, которая производит изменения или создания сообразно началу наилучшего” (§ 48). Едва ли не главная заслуга Бога — в том, что он создал связь, приспособленность (accommodement) всех сотворенных вещей таким образом, что “любая простая субстанция имеет отношения, которыми выражаются все прочие субстанции.… И как один и тот же город, если смотреть на него с разных сторон, кажется совершенно иным и как бы перспективно умноженным, таким же точно образом вследствие бесконечного множества простых субстанций существует как бы столько же различных универсумов, которые, однако, суть только перспективы одного и того же соответственно различным точкам зрения каждой монады” (§ 57). Естественно, что конечные монады не могут адекватно отражать весь бесконечный универсум, но что-то представляют лучше, отчетливее, что-то — хуже, более смутно. А именно, “хотя каждая сотворенная монада представляет весь универсум, но отчетливее представляет она то тело, которое собственно с ней связано и энтелехию которого она составляет” и сообразно которому универсум в ней отражается (§ 62).
Антропологическая параллель монады, даже если бы сам Лейбниц и не указывал на нее, столь очевидна, что перенести монадологическую конструкцию на личностный мир индивидуума не представляет вроде бы особого труда. Например: личностный, или сингулярный мир есть интерсубъективный жизненный мир (Lebenswelt), “увиденный” данным человеком со своей особой точки зрения, своей позиции в этом общезначимом, универсумальном жизненном мире. Однако как быть с инстанцией Бога? Если мы не признаем ее существование, то личностный мир оказывается вопросом мироустроительной деятельности человека, а не само собой разумеющейся данностью. “Воля и представление” в конечном счете определяют, удастся ли человеку сформировать свой личностный мир, целостный и со своим собственным центром власти; ибо (как подчеркивает Визгин [9, c. 263]) мир — это не только вместилище, но и гармония. Впрочем, это не обязательно, т.к. человек, как известно, — “существо общественное” и вне зависимости от того, есть ли он просто индивид или достиг состояния личности, ему необходимо жить с другими людьми, образовывая и поддерживая тот самый интерсубъективный “жизненный мир” (его можно назвать “регулярным миром” — в отличие от сингулярного личностного мира), внимание к которому привлек Гуссерль.
Но что такое в перспективе онтологемы множественности есть сам этот жизненный мир, что здесь “жизнь”, “представление”, “стремление”, “тело” и прочие характеристики монады?
Мир, культура и цивилизация (О.Шпенглер)
Ситуация, в которой и над которой размышляет Освальд Шпенглер, — это “падение Запада”, именно, падение западноевропейской культуры. Событийный центр здесь — первая мировая война, поставившая под вопрос все итоги столетнего, по меньшей мере, развития Европы. “Существует ли логика истории?” — спрашивает Шпенглер в самом начале своего труда и уточняет: “…не лежат ли в основе всякого исторического процесса черты, присущие индивидуальной жизни?” [12, т. 1, cc. 34-45]. Собственно, в этом уточнении, как пышное дерево в семечке, содержится едва ли не вся его “нефилософская философия”. В частности, сюда можно отнести центральное положение метафоры души — ведь душа еще со времен античности понималась как архэ человека. “Жизнь есть осуществление душевно возможного…” (там же, с. 45) — вот априори Шпенглера.
“Мир как история, понятый, наблюденный и построенный на основании его противоположности, мира как природы, — вот новый аспект бытия…”, рассматривать который Шпенглер намерен, противопоставив — по форме, а не материалу — “два различных способа, при помощи которых человек может подчинить себе, пережить свой окружающий мир” (с. 37). Именно, речь идет о противоположности “планомерно строящего воображения” и “целесообразно разлагающего опыта”, “картина и символ” — против “формулы и системы” (там же). Выстраивая дискурс под знаком формы, Шпенглер не оставляет сомнений в своей позиции: “Убеждение, что все существующее некогда находилось в становлении, что в основе всего, имеющего отношение к природе, и всего познаваемого лежит момент исторического, что в основе мира, как действительности, лежит “я” как возможность… приводит нас к факту, что всякое явление… неминуемо есть выражение чего-то живого. В ставшем отражается становление” (сс. 87-88). Более того, “отправляясь от непосредственного чувства жизни, мы начинаем замечать, что вся картина окружающего мира есть функция самой жизни, отражение, выражение, символ живущей души, притом прежде всего отдельной души, взятой самой по себе. …Морфология мировой истории неизбежно приводит к всеобщей символике” (с. 88).
Таков проект. Как он реализуется? Остановимся только на некоторых релевантных нашей теме моментах.
Наиболее существенным для себя Шпенглер считает “нахождение той противоположности, на основании которой только и можно понять сущность истории: противоположности истории и природы” (с. 91). Однако, что значит “нахождение” давно и активно обсуждавшейся оппозиции?… Видимо, речь идет об особом открывшемся Шпенглеру смысле этой противоположности. Смысле, который он пытается выразить, выстраивая пространство оппозиций: становление — ставшее, направление — протяженность, Dasein — Wachsein, органическое — механическое, судьба — причинность, история — природа, культура — цивилизация, воля — мышление…, среди которых едва ли не самая основополагающая (к ней Шпенглер раз за разом сводит свои пояснения) — оппозиция “время — пространство”. Лежащая в онтологической основе “морфологии мировой истории” противоположность применительно к данной оппозиции выражается следующим образом: “Пространство противоречит времени, хотя последнее и предшествует, и лежит в основе первого” (12, т. 1, с. 185). В эту схему укладываются практически все шпенглеровские оппозиции, включая “культуру и цивилизацию”, “душу и мир”.
Каким же образом здесь возникает множественность миров? Ответ лежит в сути символического. Символ, по Шпенглеру, есть “часть действительности, обладающая для телесного или умственного глаза определенным значением, рассудочным образом не сообщаемая” (там же, с. 231). Но суть, вообще говоря, не в этом. “Предположим, что все, что существует, есть некоторое выражение душевного…, но оно одновременно есть и впечатление на душу, и это взаимоотношение, когда человек бывает одновременно субъектом и объектом, представляет собой суть символического” (там же, с. 232).
Следующий ход состоит в том, чтобы “говорить не о том, что такое мир, а о том, что он обозначает” (там же, с. 234). Под таким углом зрения, “действительность — иными словами, мир по отношению к душе — для каждого отдельного человека и каждой отдельной культуры есть проекция обладающего направлением в область протяженного; она — воплощение внутреннего бытия и сущности, собственное, отражающееся в чужом; она означает само это бытие” (там же, с. 234). Такова действительность как совокупность всех символов по отношению к душе — “Все, что есть, есть также символ” (там же, с. 236). Следовательно, “путем столь же творческого, сколь и бессознательного акта — не “я” осуществляю возможное, но “оно” осуществляется чрез мое посредство как эмпирической личности — из совокупности чувственных и относящихся к области памяти элементов с полной неизбежностью внезапно возникает “этот” мир, единственно существующий для меня. …Поэтому существует столько же миров, сколько людей и культур” (там же, сс. 234-234).
Возможность же самого этого проецирования времени в пространство, души в мир, составляющее сущность символа, возможно в силу того, что “смысл всякой настоящей — бессознательной и внутренне необходимой — символики коренится в феномене смерти, в котором вскрывается сущность пространства” (с. 239). Не столько сама смерть, сколько ее феномен, “создавая душу и мир как таковые, разделяя и противопоставляя их”, приводит к тому, что “все вещи становятся не только впечатлениями..., но и выражениями” (там же), а это и означает рождение культуры. Будучи сущностно связано со смертью, пространство как символ, подчеркивает Шпенглер, оказывается “знаком и выражением самой жизни, самым первоначальным и мощным из всех ее символов” (с. 247), предпосылкой и условием всякой символики, а значит — мира, “как совокупности символов”, и мировой истории, как “образа известной души” (с. 214) и ее судьбы. В истории “нет законов, распространяющихся на объекты, а есть идеи, символически открывающиеся в явлениях” (с. 227).
Итак, “существует столько же миров, сколько людей и культур”, и происходит это в силу того, что и люди, и культуры имеют душу. На естественный вопрос о том, что же такое душа, Шпенглер, по сути, отказывается дать ответ, ссылаясь, во-первых, на то, что душа принадлежит к тем феноменам, которые невозможно выразить в понятиях (разве что постичь как “противопонятие” к понятию мир), а во-вторых, на непосредственную достоверность собственной души для человека. Если применительно к индивидуальной душе с этим можно согласиться, то с “душой культуры” все это становится крайне проблематичным. Впрочем, в качестве одного из не мистических вариантов можно понимать “душу” (“аполлоновскую”, “магическую”, “фаустовскую” и т.п.) просто как некий принцип внутренней цельности, системности или, по меньшей мере, консистентности культуры.
Возможны ли отношения и взаимодействие между культурами (мирами)? Да, отвечает Шпенглер, хотя роль таких контактов сильно преувеличена, поскольку культуры — первичны, а их взаимодействие — вторично (см. [12, т. 2, с. 55]). “Две культуры могут соприкоснуться меж собой — при контакте двух людей или же когда человек одной культуры видит перед собой мертвый мир форм другой культуры в ее доступных для восприятия останках. И в том и в другом случае деятелен один лишь человек”, при этом “всегда бывает важен не первоначальный смысл формы, но лишь сама форма, в которой деятельное ощущение и понимание наблюдателя обнаруживают возможность для собственного творчества. Смыслы не передаются. Ничто не в состоянии притупить глубокого душевного одиночества, пролегающего между существованиями двух людей, принадлежащих к разным породам” (там же, сс. 57-58). “Наследование” и “продолжение” одной культуры в другой есть иллюзия. Смотреть надо не только на то, что было внешним образом заимствовано, но и на то, что было отвергнуто. “Невозможно не изумляться бессознательной мудрости производимого выбора и столь же решительного перетолкования. …Ни в чем, быть может, внутренняя сила существования не выражается с такой отчетливостью, как в этом искусстве планомерного непонимания” (там же, с. 59).
Специфика понятия культуры у Шпенглера существенным образом определяется оппозицией “культура — цивилизация”. Поставив перед собой задачу определить историческое будущее (угасание) культуры Западной Европы, дать образец “нефилософской философии будущего” и, более узко, “морфологически определить строение современности, точнее говоря, времени между 1800 и 2000 годами” [12, т. 1, с. 63], он сталкивается с тем, что одной из проблем “критики современности” оказывается “неумение отделить взаимно друг друга проникающие комплексы форм культурного и цивилизационного существования” (там же, с. 74). Метафоры, которыми Шпенглер разъясняет свое понимание оппозиции культуры и цивилизации, хорошо известны: “культуры суть организмы (растения)” (там же, с. 169 и др.), “цивилизация есть неизбежная судьба культуры” (с. 69), “культура и цивилизация — это живое тело души и ее мумия” (с. 461) и т.д., — самое ключевое, быть может, утверждение о том, что культура становится цивилизацией, когда исчерпывает во внешнем все возможности своей идеи (с. 172).
Из “растительного” характера культуры следует, в частности, что она привязана к определенному ландшафту, что “во всякой культуре язык форм совокупно с историей ее развития привязан к изначальному месту”, в то время как “всякая цивилизованная форма чувствует себя как дома везде, и потому как только появляется, так начинает безгранично распространяться вширь” [12, т. 2, с. 111]. Например, крестьянский дом — “вот предварительное условие всякой культуры, которая опять-таки сама, подобно растению, вырастает из своего материнского ландшафта, углубляя душевную привязанность человека к почве. Что для крестьянина его дом, то для культурного человека город” (там же, с. 92). Но сугубо растительный характер характерен лишь для ранней стадии культуры (или даже для “пракультуры”), которой отвечает такая форма совместного человеческого существования, которую Шпенглер именует “расой” (в современных терминах ее следовало бы назвать, скорее, “этносом”). Раса образуется, когда “к энергии крови, которая на протяжении столетий неизменно запечатлевает одни и те же телесные черты (“фамильные черты”), и к власти почвы (“человеческая порода”) добавляется еще загадочная космическая сила равного такта тесно связанных общин” (с. 129). Раса “имеет корни” и “не переселяется” (с. 121). Упоминавшийся уже “дом — наиболее чистое выражение расы из всех, какие только бывают… и выражение это внутри расы “человека” как такового, принадлежащего биологической картине мира, выделяет человеческие расы собственно всемирной истории, т.е. потоки существования (Dasein) намного более душевного значения” (с. 122). Собственно, это и есть момент образования городов и начала всемирной истории, которая суть “городская история” (с. 97).
При известном напряжении взгляда здесь можно увидеть как бы пунктирный контур иерархия монад Лейбница, именно “жизнь — душа — дух”. Действительно, вслед за расой, отдаленно напоминающей “жизнь”, или “энтелехию” Лейбница, Шпенглер так определяет народ: “Для меня народ — это единство души” (с. 169). Народы могут “менять язык, расу, имя и страну: пока живет их душа, они внутренне присоединяют к себе людей какого угодно происхождения и их переделывают” (там же). “Народ, по стилю принадлежащий одной культуре, — продолжает Шпенглер, — я называю нацией… Это наизначительнейшее из всех великих объединений внутренне сплачивается не только мощным чувством “мы” (как народ — В.Н.). В основе нации лежит идея. В этих потоках общего существования имеется глубинная связь с судьбой, со временем и историей, оказывающаяся иной во всяком отдельном случае, определяя также и отношение народа к расе, языку, стране, государству и религии” (с. 175). Нации — это и “градопостроящие народы в собственном смысле” (с. 176).
Занимающий ключевую позицию в культуре и истории город поначалу всего лишь “удостоверяет” тот ландшафт, ту землю, среди которой он царит, он “является возвышением ее образа” (с. 97), но поздний город, а тем более так называемая “мировая столица”, отрицает природу, отрицает и разрушает все, кроме себя. “Этот каменный колосс, “мировая столица”, высится в конце жизненного пути всякой великой культуры” (там же, с. 102), отмечая эпоху безусловного доминирования цивилизации. Более того, “этот город есть мир, мир в подлинном смысле слова: он имеет значение человеческого обиталища лишь как целое. Дома — это лишь атомы, его образующие” (с. 103). В мировых столицах нации угасают (с. 176), их населяет “цивилизованный человек”: “Цивилизованный человек, этот интеллектуальный кочевник, вновь всецело микрокосм, он совершенно безроден и свободен духовно, как были чувственно свободны охотники и пастухи” (с. 92).
Применительно к последней стадии, характерной, согласно Шпенглеру, и для современности, он заключает: “мы стоим перед фактом бесплодия цивилизованного человека”, причем не в обычном репродуктивном смысле (хотя и он имеет место) — “нет, здесь налицо всецело метафизический поворот к смерти. Последний человек города не хочет больше жить, не как отдельный человек, но как тип, как множество: в этом совокупном существе угасает страх смерти” (с. 107). Наконец, “никто более не сражается за идеи. Последняя идея, идея самой цивилизации, сформулирована в своих основных моментах, и также завершены — в проблемном смысле — техника и экономика” (с. 113). Мир, таким образом, умирает, оставляя свое бездушное тело в наследие молодым или зарождающимся культурам, если таковые найдутся.
Мир в Универсуме миров
Итак, что же такое мир? Мир — это социокультурное пространственно-временное целое.
Пространство мира имеет в своем “ядре” определенный вмещающий ландшафт, определенный регион земной поверхности со всем, что имеет значение для людей и включено ими в свою жизнь и практику. Этот ландшафт “пропущен” через сознание и деятельность, социализирован (см., например, [13]), нагружен и структурирован историческими и культурными значениями и значимостями. Именно в таком виде он входит в тело мира — “объективный” ландшафт существует только в науке. Кроме реально-телесного топоса мира в состав его пространства входит весь Универсум, “увиденный с точки зрения” данного мира; это видение может быть выражено в мифах, обыденном или научном знании о других странах, мирах, галактиках и т.п.
Время мира образуется из исходно дискретного множества индивидуальных телесно-реальных времен. Индивидуальное время здесь следует понимать в смысле жизненного времени тела, его имманентной, как бы внутренней, или “экзистенциальной” темпоральности (анализу которой Хайдеггер посвятил свое “Бытие и время”), из (на) которых “впоследствии”, посредством особых форм синхронизации, образуется единое, общественное или публичное время того или иного регулярного мира (см., например, [14, с. 411 и далее]). Общественное время лежит в основе всего общественного воспроизводства: как хозяйственно-экономического, так и чисто социального. И индивидуальные, и общественное времена переплетаются с природными циклами вмещающего ландшафта, образуя с ними культурно определенные и закрепленные в разного рода объективациях (например, в архитектуре и производственных технологиях) структуры отношений, а все вместе — жизнь мира.
Социокультурная целостность мира обеспечивается не только посредством очерченного выше пространственно-временного единства, но и за счет того, что на чисто человеческом уровне мир имеет в качестве своего субстрата социальные общности разного рода (вплоть до государства и союза государств), в отношении которых культура выступает нормативной структурой, обеспечивающей устойчивое, долговременное существование. Кроме того, культура содержит рамки, задающие смысловую связность и “плотность” мира. Именно потому, что культура (ее мировоззренческая компонента) поддерживает тотальную интерпретацию всего, о чем в данном сообществе существует “социальный опыт”, с соответствующими вариациями, интер- и экстраполяциями, в “нормальном” состоянии мира нет “дыр”, в которые было бы видно (откуда бы выступало) иное в его крайней форме чужого.
Заметим, что случай так называемого “природного мира” (например, в форме биоценоза) может быть получен из данного дискурса в качестве своего рода “вырожденного случая” — случая отсутствия человека и объективаций его культуры.
Основополагающим отличием социокультурных миров от природных служит то, что границы между социокультурными мирами (как сингулярными, так и регулярными) носят не физический, но смысловой характер. Социокультурные миры, как своего рода тела, непроницаемы друг для друга на уровне смысла: смысл одного мира не пересекается и не переводится в смысл другого. Объективно одна и та же вещь за счет разной культурной интерпретации как бы “раздваивается”. Джомолунгма так же далека от Эвереста, как Восток и Запад, которым, по Киплингу, “никогда не сойтись”. Таким образом, миры могут располагаться на одной и той же территории, в границах одного и того же вмещающего ландшафта, одних и тех же архитектурных и инженерных сооружений, оставаясь при этом безнадежно чужими друг для друга. Они могут при этом локально сотрудничать, конкурировать или сохранять индифферентность. Нетрудно понять, что возможность “мирного сосуществования” детерминируется тем, насколько эффективно удается примирить различные системы интерпретации и оценивания “точек пересечения” миров. Сегодня, когда географические и государственные границы уже не изолируют и не скрепляют разные миры столь надежно, как раньше (а и раньше это было не так уж надежно), вопрос о поликультурности стал одной из самых актуальных и острых проблем[114].
Вообще говоря, вышеизложенное отвечает тому состоянию Универсума, которое к концу ХХ века уже не существует. Происшедший исторический перелом связан, в первую очередь, с развитием инженерии, придавшей технике и технологии, в конце концов, всепроникающий и вездесущий характер. Это, во-первых, привело к тому, что биоценозы (в которые человек некогда входил как верхнее, завершающее трофическую цепь звено) перерождаются в техноценозы [15].
Во-вторых, сформировались и бурно развиваются разного рода — транспортные, финансовые, информационные и т.д. — всемирные инфраструктурные сети. Развитие инфраструктуры вообще сделало возможным феномен экстерриториальности. Уже в случае автотранспортной инфраструктуры мы видим по всему миру почти одинаковые дороги и правила движения, одни и те же марки машин, одинаковые бензозаправки и закусочные…
В случае же глобальных телекоммуникационных сетей, например Интернет, вся инфраструктура унифицирована настолько, что практически полностью исчезает из поля зрения обычного пользователя-потребителя. На базе Интернет сложился уже целый мир (или даже несколько), в котором можно учиться, работать, отдыхать, развлекаться, искать друзей и знакомиться, получать медицинские, юридические и иные консультации, вести научные и политические дискуссии, заниматься виртуальным сексом, ходить по “магазинам” и делать покупки (реальные), можно построить себе “дом” (homepage) и принимать в нем гостей. В полном соответствии с понятием монады Лейбница Интернет репрезентирует в себе структуры всех иных миров. К тому же в Интернет, при всей ее демократичности и свободе, существует вполне реальная власть, свои “силовые структуры” (Internet Engineering Task Force, Internet Research Task Force и др.), хулиганы и грабители (хакеры), случаются реальные компьютерные “эпидемии”… Технически упразднивший все государственные границы Интернет, тем не менее, сегодня подвергается все более жестким попыткам со стороны правительственных органов разных стран поставить ее под тот или иной государственный контроль. При всем том, Великая сеть сетей, Интернет, в известном смысле есть всего лишь высшая, на данный момент, точка “инфраструктурной революции”, освобождающей человека от привязанности к “вмещающему ландшафту” и дающая новому “интеллектуальному кочевнику” невиданные доселе просторы (киберпространство) и свободу.
Бурный рост разного рода политических и PR-технологий привел уже к тому, что и этносы конструируются (см., например, [16]).
Не означает ли все это, что роль творческого, бесконечно производящего миры начала, ранее возлагавшаяся на природу или Бога, теперь взяла на себя инженерия? Что идея Мира из предельной, замыкающей рамки, становится рабочей идеей, идеей для инженерного воплощения?..
Заключение
Возникшие в результате технико-технологического и социокультурного развития условия для “размножения” миров, с одной стороны, дают каждому человеку возможность развития своей индивидуальности, возможность избежать унифицирующего влияния своего непосредственного окружения, но с другой стороны — это ведет к смешению миров, к разрывам, катастрофам, массовому вторжению чужого. Даже в самом благоприятном, западном либерально-демократическом варианте наступает эрозия культурных основ. “Общество, в котором расходящиеся миры становятся общедоступными как на рынке, — пишут исследователи социального конструирования реальности П.Бергер и Т.Лукман, — содержит в себе особые сочетания субъективной реальности и идентичности. Растет общее сознание релятивности всех миров, включая и свой собственный, который теперь осознается, скорее, как один из миров, а не как Мир. Вследствие этого собственное институциональное поведение воспринимается как “роль”, от которой можно отдалиться в своем сознании и которую можно “разыгрывать” под манипулятивным контролем” [3, c. 278]. Миры теряют свою “плотность” и резистентность, их жители превращаются в постмодернистских шизоидов, “людей без свойств”…
Если теперь попытаться определить, что же служит онтологической сердцевиной мира, то можно указать на особое для каждого мира (как регулярного, так и сингулярного) стремление[115] к конвертированию (взаимообращению) времени и пространства, и способ такого конвертирования, при котором ни время, ни пространство не только не исчезают, “переходя в противоположность”, но только и конституируются как таковые, в своей особенности и единстве. В сущности это и есть бытие. Применительно к природному миру такое взаимообращение проявляет себя как движение — в широком смысле изменения вообще, включая жизнь, — над загадкой которого уже тысячи лет бьется человеческая мысль. В социокультурных мирах ближайшим внешним проявлением этого взаимообращения выступает история.
Таким образом, разные миры — разные исторические линии. Катастрофы, с этой точки зрения, суть “короткие замыкания” этих исторических линий через некие всеобщие эквиваленты, первым среди которых сегодня, как и в незапамятные времена, выступает власть, контроль над ресурсами миростроительства, включающими в себя как пространство, так и понимание.
Литература
1. Эрн В.Ф. Соч. М., 1991.
2. Вальденфельс Б. Мотив чужого. М., 1999.
3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1991.
4. Уолцер М. О терпимости. М., 2000.
5. Гефтер М.Я. Из тех и этих лет. М.,1991.
6. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
7. Щедровицкий Г.П. Методологический смысл оппозиции натуралистического и системодеятельностного подходов. “Вопросы методологии”, 1991, № 2.
8. Никитаев В.В. Онтологии и проблема технической реальности. “Вопросы методологии”, 1997, № 3-4.
9. Визгин В.П. Идея множественности миров. М., 1988.
10. Гегель Г.В.Ф. История философии. В 3-х томах. СПб., 1994.
11. Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х томах. М., 1982.
12. Шпенглер О. Закат Европы. В 2-х томах. Т. 1. Н-ск, 1993, т. 2. М., 1998.
13. Бурдье П. Физическое и социальное пространства: проникновение и присвоение. — П.Бурдье. Социология политики. М., 1993.
14. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.
15. Кудрин Б.И. Введение в технетику. Томск, 1993.
16. Тишков В. Этничность, национализм и государство в посткоммунистическом обществе. “Вопросы социологии”, 1993, № 1/2.
Ю.Н.Давыдов
Античная предыстория социальной науки[116]
В современной социологии понятие общества обычно расшифровывается как в узком, так и в широком смысле. В широком — как совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения людей, в которых находит свое выражение их всесторонняя зависимость друг от друга. В узком — как генетически и/или структурно определенный тип (род, вид, подвид и т.п.) общения, предстающий либо в качестве исторически определенной целостности, либо в виде ее обособившегося элемента (фрагмент, момент). Так, или примерно так, общество концептуализировалось в итоге длительного научно-теоретического процесса, содержанием которого было постепенное сосредоточение внимания исследователей на первичных, сущностных (субстанциальных) его характеристиках, мало-помалу обособляемых от вторичных, несущественных (акцидентальных) определений. В то же время это был процесс определения предметной сферы исследования общества, сопровождавшийся ее внутренней дифференциацией и разработкой соответствующих понятий и понятийных систем.
Если же взять этот собственно теоретический процесс в его институциональном аспекте — в связи с эволюцией научных дисциплин, в рамках которых формировалось целостное понимание общества и его различных аспектов, то прежде всего придется обратиться к философии. Ибо здесь, в этом материнском лоне науки и научности как таковой, — взятой не только в генетической связи с мифологически-религиозным сознанием, но и в напряженном противостоянии ему, то есть в своего рода “контрапунктическом” отношении к нему, — формировались те комплексы изначальных интуиций, исходных представлений и понятий, в рамках которых постепенно кристаллизировалась особая область, каковая впоследствии (когда уже сформировался соответствующий “концепт”) получила название социальной философии, философии общества, продолжавшей свою дальнейшую эволюцию наряду с философией природы и в многосложных отношениях с нею.
Первоначально этот процесс спецификации в рамках общефилософского знания социальной философии протекал в виде развития учения о “законах”, о “полисе” как таковом и “полисах” в качестве его разновидностей (“политика”) и т.п.; на этой почве и произрастали, с одной стороны, многообразные концепции государства и права, а с другой — общества как совокупности этих и иных его аспектов: прообраз будущей социологии (получившей свое название лишь задним числом, после узаконения соответствующего термина и понятия), в рамках которой постепенно обособлялись два уровня знания об обществе — эмпирически-конкретный и собственно теоретический. В целом это был столь же сложный, сколь и длительный процесс институционализации знания об обществе как специальной дисциплины, которая в качестве таковой могла уже претендовать на статус особой науки.
1. Научное самоутверждение обществознания и проблематизация донаучного понимания общества
Однако для того, чтобы такая возможность превратилась в действительность, названного было еще недостаточно. Недоставало общего принципа, на основе которого можно было бы объединить все эти накопившиеся эмпирические сведения и фрагментарные концепции не только внешним образом — с помощью их институционального подведения под одну общую крышу, но и внутренне, логико-методологически. То есть исходя не только из интуитивно предполагаемого единства изучаемого предмета, но также (и главным образом) из теоретически доказуемого единообразия метода его исследования, с помощью которого можно было бы удостоверить и неслучайность постулируемого единства. Иначе говоря, интуитивное предположение относительно существования одного и того же предмета (под какими бы наименованиями он ни фигурировал), разделяемое исследователями, изучавшими различные аспекты общества, каждый из которых был “отнесен” только к нему (а не к чему-то совсем другому), должно было получить, наконец, и собственно теоретическую артикуляцию и обоснование. А это было невозможно осуществить иначе, как с помощью соответствующего метода.
Стоит ли специально оговаривать, что прежде чем будущие обществоведы “дозрели” до такой постановки вопроса, — а это произошло лишь в начале 19 века, — осваимое ими “проблемное поле” оставалось (особенно, если взглянуть на него с естественнонаучной точки зрения) на до-, или преднаучной стадии его теоретической обработки. И, стало быть, в недалеком будущем обществоведов подстерегал вопрос, который и станет специальным предметом обсуждения в предлагаемой статье: как оценить “донаучный” период эволюции социального знания, например, античное понимание общества, с точки зрения того ее этапа, который со времен О.Конта и К.Маркса оценивается в качестве научного, или даже “подлинно научного”, как любили говорить марксисты? И можно ли ограничиться ленинской квалификацией социального знания античных времен в качестве некоей “смеси” науки и мифологии? Наконец, не имеет ли смысл задаться здесь другим, более конкретным, вопросом о существовании разных культурно-исторических типов научного знания, “научности” вообще, попытавшись — по крайней мере, в рассматриваемом случае — заменить отвлеченное противоположение “научного” знания, с одной стороны, и “донаучного” — с другой, несколько более приземленным (и уже потому гораздо менее радикальным) различением по крайней мере двух (хотя фактически их все-таки больше) подобных типов социально-научного познания?
Но прежде чем приступить к такого рода анализу в ходе рассмотрения некоторых особенностей античного понимания общества, шаг за шагом ведшего по пути кристаллизации самого этого теоретического понятия, вернемся к проблеме взаимозависимости предмета обществоведения и его метода, заострившейся как раз в судьбоносный момент конституирования “донаучного” (теперь мы имеем право поставить это слово в отстраняющие кавычки) знания об обществе в качестве особой науки. Дело в том, что тогда, во-первых, именно этот предмет еще не был “освоен” теоретически. Он “витал” в головах исследователей его различных аспектов лишь в виде не вполне артикулированной предпосылки — интуитивного представления, которое само еще нуждалось в методологической обработке и теоретическом удостоверении. Однако для этого был необходим соответствующий метод, который к тому же отвечал бы критериям научности и прежде всего критерию адекватности, соответствия своему предмету. А он тоже отсутствовал, — и точно так же — по причине зыбкости и неопределенности этого самого предмета, каковые исключали возможность как-то “соответствовать” ему, подвергая сомнению и постановку вопроса о необходимой сопряженности метода исследования с его предметом. (Как свидетельствуют подготовительные работы к “Капиталу”, аналогичные соображения были во времена К.Маркса еще одним — и достаточно весомым — аргументом в пользу вердикта о “донаучности” тогдашнего состояния социального знания, не говоря уже о его античной предыстории).
Так возникал заколдованный круг, в котором оказывалось обществознание, пока и поскольку определение его предмета представлялось невозможным без соответствующего ему метода, между тем как последний не мог утвердить себя в качестве такового, пока и поскольку апеллировал к одной лишь “интуиции” своего предмета. Научное познание предмета обществоведения предполагало адекватный метод его рассмотрения, тогда как сам этот метод должен был, со своей стороны, иметь неоспоримые доказательства его соответствия (той же адекватности) предмету. А выход из этого круга был осложнен к тому же латентным противоречием между далеко идущим своеобразием (радикальной “самобытностью”) предмета искомой социальной науки, с одной стороны, и требованием единообразия научного метода, утвердившимся как в естествознании, так и в философии (включая немецкую идеалистическую, находившуюся в “полемическом отношении” к нему) — с другой. В этой ситуации, — которая неоднократно возникала и прежде (при изучении различных, взятых обособленно друг от друга, аспектов социального целого), но во всей ее значимости была осознана лишь во времена О.Конта и К.Маркса, — ничего не оставалось, как заимствовать метод у дисциплин, уже успевших убедительно доказать свою научность. А таковыми были тогда математика и науки о природе (прежде всего физика и химия), научная состоятельность которых не вызывала сомнений. И первый этап подобного самоутверждения обществоведения в качестве особой науки был связан как раз со стремлением его ведущих представителей доказать применимость естественнонаучной методологии к специфическому предмету их собственной науки, каким было (и оставалось в дальнейшем) общество как некая самобытная и “самозаконная” целостность.
При этом основным способом такого доказательства стала, как известно, апелляция к принципу универсальности научного метода, над обоснованием какового давно уже работали философы; и работали еще до того, как произошла институционализация обществоведения в качестве особой дисциплины, которая в не столь уж отдаленном будущем обещала расколоть общее пространство научного исследования на два “домена” — естественнонаучный и социально-научный, поставив в порядок дня “сфинксову проблему” их взаимоотношения. Причем на первых порах, как раз тогда, когда обществоведы были болезненно озабочены утверждением научного статуса своей дисциплины, эта проблема решалась на основе идеи единства научной методологии, интерпретируемого как тождество методов естествознания и обществоведения.
На этой позиции стояли оба основоположника научного понимания общества — и О.Конт, К.Маркс, — несмотря на весьма существенные различия философских традиций (в первом случае, картезиански-просветительской, во втором гегелевски-фейербаховской), от которых они отправлялись. Ни первый, ни второй не представляли себе возможность двух равнозначимых методов. Хотя К.Маркс, чье представление о научности методологии было “зациклено” в жестких рамках “Большой логики” Гегеля, которая стала моделью для логики “Капитала”, постоянно корректировал его в духе просветительского материализма, тщетно пытаясь объединить эти две решительно расходящиеся линии. И только в начале следующего века “твердокаменный” марксист В.И.Ленин расставит здесь все точки над “i”, утвердив своей категорической резолюцией: “Не надо трех слов” методологическое тождество “диалектики, логики и теории познания”. Основное же теоретико-методологическое разграничение проводилось по линии принципиального противопоставления “подлинно научного” понимания общества его — донаучной — “неподлинности”.
Такова в общем была проблемная ситуация, в рамках которой до сравнительно недавнего времени ставился и решался (причем не только у нас в России, но и в методологически гораздо более продвинутых странах Запада) вопрос о “донаучном” — в частности античном, социально-философском — понимании общества, взятом в его отношении к современному научно-социологическому.
2. Дистанцирование “научного” понимания общества от “донаучного”
Однако в чем был смысл и какова была природа подобного противопоставления (утверждаемого с особой резкостью и категоричностью, вызывающей сегодня вполне резонные возражения), под знаком которого протекал первый этап самоутверждения “научного” обществознания? Для того, чтобы ответить на этот вопрос (хотя бы вкратце и предварительно — с расчетом более обстоятельно рассмотреть его в последующем изложении), вспомним об основных интенциях главных героев этого этапа эволюции обществознания.
Если отвлечься от того мощнейшего “первотолчка”, которым О.Конт был обязан своему учителю А.Сен-Симону, то его можно назвать первым, кто фактически вывел обществознание на путь приобщения к Науке и “истинно научной” методологии, дав имя новорожденной науке (“социология” — слово, образованное от корней двух языков, принятых в европейском научном сообществе, — латинского и греческого), и определив ее место в специально разработанной им научной иерархии, которое, естественно, должно было оказаться на самой вершине возведенного им здания. Социология должна была увенчать его, и увенчать не только потому, что ей предстояло стать научной дисциплиной, последней по времени и счету, но и потому, что она, согласно контовской концепции, была призвана замкнуть “систему наук”, завершив тем самым все здание истинной научности. Так что подобное “самоопределение” социологической науки оказывалось не только свидетельством универсального единства научного метода, но и триумфом самой этой дисциплины, которой было отведено едва ли не самое почетное место в иерархии наук. Нужно ли специально добавлять к сказанному, насколько глубокой должна была оказаться при этом пропасть, развернувшаяся вдруг между социологической Наукой, с одной стороны, и до-, или пред-, а то и вовсе антинаучным обществоведением — с другой? И сколь бы высокое уважение ни демонстрировал, подчас, О.Конт, ссылаясь на своих предшественников, в особенности античных, — об этой дистанции, отделяющей, согласно контовскому убеждению, разрозненные социальные воззрения его предшественников от его собственной систематически развернутой и научно фундированной социологии, забывать все-таки не следовало бы.
Сказанное об О.Конте, фактически заложившем традицию радикально “дистанцированного” отношения научного понимания общества к “ненаучному”, в целом вполне применимо и к тому, которое демонстрировал К.Маркс, причем — и это весьма показательно — задолго до того, как он вообще узнал о существовании контовских работ. Если здесь существовали отличия, то они были связны не с сознанием непреложности самой этой дистанции, а с более открыто выраженным критицизмом, какой, утверждая ее, не упускал случая продемонстрировать К.Маркс. Этот сугубый критицизм, отчасти связанный с темпераментом основоположника “научного социализма” и с атмосферой младогегельянского критиканства, в которую он погрузился в молодые годы, оказался в своего рода “избирательном сродстве” с “теорией классовой борьбы” (и, соответственно, “классовой обусловленности” теоретического сознания), каковую он считал неотъемлемой составляющей своего “до конца научного” понимания общества. Она-то и побуждала его “углублять” критику предметного содержания концепций, представлявшихся ему “ненаучными” (в силу их мифологичности, религиозности, утопичности и т.п.), пронизывая ее гиперкритическим духом “так сказать, партийности”, как определил его молодой В.И.Ленин. А эта последняя, как нам хорошо известно, предполагала, кроме всего прочего, также поиск и оценку “классового” подтекста рассматриваемых теорий, что неизбежно превращало их содержательный анализ в партийно-пристрастное разоблачение авторов этих теорий. И тем самым лишь углублялась пропасть, отделяющая (“единственно научное”, согласно марксистской квалификации) учение об обществе от различных “донаучных” (“утопических”, “идеалистических”, “метафизический” и пр.) воззрений его предшественников — как ближайших, так и более отдаленных.
Как видим, решающий момент конституирования обществоведения в качестве социальной науки был отмечен глубоким расколом этой дисциплины на “научный” и “ненаучный” ее отсеки, который, в чем нам предстоит еще неоднократно убеждаться, должен был весьма негативно сказаться, кроме всего прочего, и на изучении “донаучного” этапа его дисциплинарной эволюции. Но это была только одна сторона кризисного процесса научного самоутверждения обществоведения. Другой его стороной было наметившееся размежевание (если не раскол) между социологией, конституировавшейся в качестве особой науки именно благодаря усвоению ею естественнонаучной методологии, и другими “науками о духе” (теорией государства и права, историей культуры, культурологией, искусствознанием, литературоведением и т.д.), которые явно не спешили с тем, что их представители называли “некритическим усвоением” этой методологии. На этой линии размежевания социологии с традиционными “науками о духе” возродился старый спор (продолжавшийся, то разгораясь, то затухая, и в 20-м веке) о “научной аутентичности” попыток “пансоциологически” ориентированных обществоведов применить общезначимую естественнонаучную методологию к уникальным предметам гуманитарии.
Что же касается социологии, чей научный статус к концу 19-го века утвердился настолько, что, наконец, больше уже не должен был бы вызывать никаких сомнений, то она именно в этот момент оказалась ввергнутой в глубокий общеметодологический кризис, который продемонстрировал ее незащищенность ни от одного из упомянутых здесь “проклятых вопросов” — как касающихся ее научного настоящего, так и (в особенности) обращенных к ее до-, пред-, или вовсе “прото” научному прошлому. Способна ли она вновь подтвердить свой научный статус? С какого момента можно было считать доказанной ее научную аутентичность, а до какого нельзя? В какой степени заслуживают доверия теории и отдельные положения ученых, высказанные в период, когда персонифицированная ими дисциплина явно не обладала общепризнанным статусом “действительно” научной? Вот вопросы, вновь заострившиеся уже во времена первого большого кризиса социологии в начале 20-го века (чтобы впоследствии вновь прозвучать на рубеже 1960/1970-х годов).
В самом деле, каково, к примеру, научное достоинство целого ряда гипотез и эвристически ценных ходов мысли (скажем, тех же Платона и Аристотеля), которые фактически “работали” в теоретических построениях О.Конта, К.Маркса, Э.Дюркгейма, М.Вебера и других социологов 19-го и 22-го веков? Уже один этот вопрос способен поставить историю социологии перед серьезной дилеммой: либо признать научность целого ряда положений упомянутых античных мыслителей, далеко идущим образом ассимилированных и классиками мировой социологической науки, и ведущими представителями региональных социологий 20-го столетия, либо поставить под вопрос научное достоинство социологии вообще вместе с соответствующим статусом ее основоположников и ведущих представителей. Либо — таков еще один возможный вариант — проблематизировать саму эту демаркационную линию между социологической наукой и, так сказать, “донаукой”, что была так резко прочерчена основоположниками науки об обществе.
Таковы вопросы, которые побуждают нас вновь и вновь обращаться к античной предыстории социальной науки, сосредоточившись на платоновском и аристотелевском понимании общества.
3. Платон: “полис” как тождество государства и общества
Для того, чтобы если не преодолеть окончательно, то хотя бы уменьшить пропасть, разверзнувшуюся между современным (социально-научным) и античным (“донаучным”), пониманиями общества в ходе социологического просвещения, начатого О.Контом и радикализированного К.Марксом, следует вспомнить о двух принципиально важных моментах, от которых полностью абстрагировались эти общепризнанные основоположники социальной науки. Во-первых, о том факте, что уже и Платон и Аристотель достаточно решительно дистанцировались от господствовавших в их эпоху мифологически-религиозных представлений об обществе, в лучшем случае используя мифы в дидактических, пропедевтических, но не собственно теоретических целях; а в самом исследовательском процессе они так или иначе опирались на естественнонаучные воззрения и логико-теоретическую методологию своих философских предшественников, в особенности же на методологию пифагорейцев, ориентировавшихся на математическое знание и внесших решающий вклад в его дальнейшее развитие (“Не геометр да не войдет” — вот лозунг, высеченный над входом в платоновскую академию). Во-вторых, — о том обстоятельстве, что каждый из названных мыслителей выстраивал свое понимание общества в общих рамках определенного типа знания, который, при всех его отличиях от современного все-таки никак нельзя считать ни донаучным, ни (тем менее) ненаучным.
Но кроме того существенно важен еще один момент, теоретико-методологическую значимость которого не оценили должным образом основатели науки об обществе. А именно то, что на протяжении длительного периода эволюции античной социально-философской мысли знание об обществе, в целом имевшее скорее теоретический, чем эмпирический характер (хотя вовсе не исключавшее проникновенных эмпирических наблюдений и обобщений), фактически идентифицировалось со знанием о государстве, его законах, а также обычаях и нормах поведения людей. Однако уже в социально-философских построениях Платона с полной определенностью утверждалась вполне конкретная связь возникновения и дальнейшего существования государства не только с собственно политическими устремлениями людей, его составляющих, но также и с их совсем “неполитическими” (“бытовыми”) потребностями: в пище, одежде, жилье и пр. “Государство, — писал Платон, — возникает… когда каждый из нас не может удовлетворить сам себя, но нуждается еще во многом.… Испытывая нужду во многом, люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь: такое совместное поселение и получает у нас название государства” (4, с. 145). Следовательно, “его создают наши потребности”, причем “первая и самая большая потребность — это добыча пищи для существования жизни.… Вторая потребность — жилье, третья — одежда и так далее” (там же).
Как видим, в платоновских диалогах государство определяется как “совместное поселение” людей в целях взаимопомощи в деле удовлетворения названных потребностей, равно как и лежащей в их основе изначальной потребности в самосохранении, которая молчаливо предполагалась при этом. А чтобы удовлетворить названные потребности, согласно Платону, необходимо разделение труда, которое опять-таки является делом государства. “Смотри же, — говорит в этом платоновском диалоге Сократ, обращаясь к одному из своих собеседников, — … каким образом государство может обеспечить себя всем этим: не так ли, что кто-нибудь будет земледельцем, другой — строителем, третий — ткачом? И не добавить ли нам к этому сапожника и еще кого-нибудь из тех, кто обслуживает наши телесные нужды” (там же). Не ограничиваясь этим соображением, Платон вкладывает в уста Сократа следующий вопрос: “Внутри самого государства как будут они (люди, в нем живущие. — Ю.Д.) передавать друг другу все то, что каждый производит?” И тут же отвечает: “Ведь ради того мы и основали государство, чтобы люди вступали в общение” (4, с. 148), которое оказывается у него немыслимым без рынка и денежного обращения: “Из этого у нас возникает и рынок, и монета — знак обмена” (там же). Государство, таким образом, представляется пространством общения, понимаемого в самом широком смысле этого слова, — так, как, собственно говоря, понимается общество в современной социологической науке.
А если и во всем предыдущем платоновском рассуждении, предложенном от имени мудреца Сократа, заменить термин государство (“полис”), взятый в его античном социально-философском толковании, термином “общество” взятом так, как толковали (и зачастую все еще толкуют) его провозвестники “социологического просвещения” почти два с половиной тысячелетия спустя, то не так уж трудно будет заметить, что под этими разными терминами скрывалось поразительно близкое, а подчас и вовсе идентичное содержание. И где здесь та китайская стена между новейшей наукой и древнейшей “донаукой”, на выстраивание которой затратили столько усилий и О.Конт и К.Маркс?.. Однако сделаем еще один шаг в изложении платоновской концепции общества как “полиса”, то есть города-государства, который и был, как видим, вполне реальным, фактически существовавшим в пространстве и времени прообразом, сообразуясь с каковым платонов Сократ выстраивал логически выверенную цепь своих рассуждений. Он важен для нас тем, что выводит нас на его, этого рассуждения, новый уровень, опять-таки предвосхищающий открытия основоположников современной социальной науки об обществе.
На этом уровне размышления автора “Государства” обнаруживается, что в конечном счете первый вопрос — как произвести многообразные средства обеспечения человеческих потребностей (с которого, как правило, начинали, — разумеется, без ссылок на “идеалиста-Платона”, — основоположники “материалистического понимания” общества и его истории) не был ни единственным, ни центральным. Главным образом его волновало другое — как обеспечить населению полиса “достаточно пастбищ и пашен” (4, с. 151), без которых невозможно производство необходимой для него многообразной продукции и как оградить завоеванные земли от “бесконечного стяжательства” соседних стран? А для этого, по словам Платона, нужны воины, причем не какой-то пустяк, а… целое войско” (там же) “Разве надо больше беспокоиться о сапожном, чем о военном искусстве?” — задает Сократ у Платона риторический вопрос. И тут же получает категорический ответ одного из своих собеседников: “Ни в коем случае” (там же). Так в платоновской системе разделения труда, получающей социально-философское оправдание, на первое место выдвигаются воины-профессионалы, а общество в целом получает отчетливо выраженный характер военной организации.
И здесь активным “обществообразующим” механизмом оказывается уже не взаимозависимость различных отраслей разделенного труда, вызывающих к жизни товаро-денежный обмен, а чисто политическое функционирование государства: защита населения, и прежде всего его территории, от посягательств внешних врагов, а также обеспечение порядка и стабильности внутри страны. Сила, практически реализующая структурную связь людей, нуждающихся в совместном “обитании” в определенном пространстве, мыслилась как политическая в узком смысле: не случайно ее носителем в платоновском проекте идеального полиса оказалось сословие (каста) воинов “стражей”. Полис, согласно традиционному представлению древних греков, это прежде всего военизированное поселение, отгороженное от внешних врагов вооруженной силой горожан, призванных обеспечивать его неприступность. Отсюда и характерное для древнегреческой социальной философии греков сплавление в соответствующем теоретическом понятии общества и государства. И чем более естественным и органичным казался Платону этот “сплав”, обеспечивающий городу-государству его целостность и монолитность, тем труднее было для этого великого мыслителя представить в расщепленности и обособленности два аспекта полиса: “чисто” социальный и “стерильно” политический. “Социальность” была пронизана “политичностью” настолько, что для социального “как такового”, этой синей птицы научной социологии 19 века, вообще не оставалось места.
Однако не это ли обеспечивало Платону (как и следующему за ним Аристотелю) ту самую цельность и объемность — стереоскопичность — социологического видения окружающей его действительности, которое не только ставит античного мыслителя на один уровень с основоположниками современной социальной науки, но, подчас, и возвышает над ними? А если радикальное неприятие этой действительности побуждало его творить Утопию, обеспечивавшую ему внутреннюю (“тайную”, как сказал бы Пушкин), свободу от нее, то ведь по сути дела платоновский утопизм мало чем отличался от контовского или марксовского. Ибо во всех трех случаях Утопия как правило оказывалась тем местом (“которого нет”), где вновь возрождалось в своей изначальной нераздельности все то, что каждый из ее творцов поспешил “научно расчленить” и слишком скрупулезно “дифференцировать”.
Что же касается самой этой концепции “полиса”, проникнутой ощущением изначальной “слиянности” социально-экономического и военно-политического аспектов жизни древнегреческого города-государства, то ее вообще не следовало бы списывать за счет платоновского “утопизма”. Не случайно она была реанимирована в контовской концепции общества “военного” типа, исторически предшествовавшего современному — “промышленному”, или “индустриальному”; а ее, в свою очередь, заимствовали у О.Конта (забыв о “донаучном” первоисточнике) многие авторитетные социологии 19-го века, начиная с Г.Спенсера, к которым в 20-м столетии примкнули теоретики “индустриального общества”. Так платоновская идея была историзирована и релятивизирована О.Контом и его последователями, получившими тем самым возможность представить глубоко укорененную, а потому всепроникающую связь военизированного государства и “мирного” общества как пережиток рабовладельчески-феодального прошлого, подлежащий теоретическому разоблачению и практической ликвидации. В границах того же маниловски-просветительского способа мышления оставалась и марксова идея “неизбежного отмирания” государства (как “аппарата насилия”) с последующей передачей его “служебных” функций “эмансипированному человечеству”.
4. Аристотель: полис как высший синтез многообразных “форм общения”
Платоновская концепция государственно-политическим образом структурированного общества получила дальнейшее развитие у Аристотеля, осмыслившего под углом зрения власти (господства) не только его макро-, но и микроструктуру. Господство/подчинение, понятое как основополагающий тип межчеловеческой связи, структурирующей население в общество, аморфную массу людей в политически дифференцированное целое — полис, характеризует, согласно Аристотелю, не только публичную, но также внутрисемейную жизнь цивилизованных греков в отличие от нецивилизованных “варваров”. Иначе говоря, если Платон был вообще склонен упразднить семью, превратив воспроизводство человеческого рода в функцию “политического руководства” общественным организмом, то Аристотель, не склонный к такого рода экстремизму, рассудил иначе. Он истолковал утопическую платоновскую идею “политизации” воспроизводства людей, низведя ее на “бытовой” уровень фактически существующих внутрисемейных отношений: отношений мужа и жены, отца и детей, главы семьи и включенных в семью рабов (а это последнее, кстати сказать, уже само по себе политизировало семейные отношения, превращая их в “классовые”). Оказывается, отец семейства и так выполнял политическую, то есть “властную” функцию регулирования процесса воспроизводства населения “полиса”, как говорится, на своем (домашнем) посту. А общество, взятое под углом властных отношений, — это и есть государство, и не может быть ничем иным, как таким государственно-политическим образованием.
Свой анализ общества, который в целом можно охарактеризовать как социально-философский, хотя в нем уже присутствуют и собственно социологические мотивы, Аристотель, подобно Платону, начинает с “факта”, хотя в отличие от своего предшественника, он артикулирует это свое “начало” методологически. Речь идет об эмпирическом факте существования государства (полиса), который подлежит осмыслению с точки зрения его ближайших предпосылок — условий его возможности. Задача заключалась в том, чтобы теоретически обосновать (“удостоверить”) этот факт, сперва разложив его на составляющие элементы, каждый из которых подлежал специальному рассмотрению, а затем синтезировав в новую целостность, в составе которой установлено место каждого из этих элементов и его связь со всеми остальными. Этот предмет рассмотрения — город-государство — квалифицируется в первых же строках аристотелевой “Политики” как “своего рода общение” (5, с. 376), или, как звучит это место в другом, более раннем переводе, “некоторая форма общежития” (6, с. 1). Иначе говоря, полис определяется через понятие “общения” (“общежития”), причем общение “своего рода”, общежития “некоторой формы”, что предполагает наличие также других родов, или форм, общения (общей, совместной жизни), а не одной-единственной. Таким образом проблема полиса, города-государства, полисно-политического сосуществования людей с самого начала предполагает различение, сопоставление и классификацию этих форм.
Различные формы общения с самого начала персонифицируются у Аристотеля соответствующими социальными типами: “царь”, “государственный муж”, “домохозяин”, “господин”, чтобы затем, поставив вопрос о различии их функций, можно было перейти к различению персонифицируемых ими способов “общежития” и его элементов. Любопытно, что вопрос этот с самого начала ставится полемически — с намеком на “тех”, кто “неправильно говорят”, будто все названные типологические определения “суть понятия тождественные” (5, с. 376). Можно предположить, что Аристотель имеет в виду платоновского Сократа, у которого встречается мысль, будто все эти типы различаются лишь количественно, но не качественно, то есть речь идет лишь о “большем или меньшем количестве лиц, подчиненных… власти” людей, принадлежащих к вышеназванным типам, “а не о качестве самой власти” (там же). При желании отсюда можно вывести идею природного равенства людей, решительно отвергаемую Стагиритом.
Уже здесь обращают на себя внимание два принципиально важных и в то же время взаимосвязанных момента. Во-первых, проблема социального общения с самого начала мыслится Аристотелем под углом зрения отношений власти, или, как у нас принято теперь говорить, властных отношений — господства/подчинения, приказа/исполнения, указания/послушания. А во-вторых, акцентируя не количественные, а именно качественные различия, персонифицируемые вышеназванными социальными персонажами, Аристотель опирается прежде всего на качественные характеристики власти, определяющие эти отношения и воплощенные в них. Говорить ли об общении, как основополагающей категории социально-философского понимания общества, или об отношении господства/подчинения, — это для автора “Политики” одно и то же. Что, естественно, и обусловило отождествление в его теоретическом сознании социальности (“общежития”, а, вернее, общебытия) и господства, — предпосылка, как видим, глубоко родственная платоновской.
Однако, отправляясь от этой предпосылки, Аристотель идет дальше своего предшественника, делая следующий шаг вперед по пути конкретизации представлений и понятий, очерченных кругом исходной идентификации социального общения и политического господства. Согласно его другому постулату, также выдвинутому в собственно философском разделе его “Политики”, целью общения, или общебытия, является даже не власть, взятая сама по себе (“волю” к которой более двух тысячелетий спустя экстатически воспоет Ф.Ницше), каковая — в такой ее абстрактности — и впрямь могла бы измеряться чисто количественно: числом людей, каких эта власть могла бы “подмять” под себя. Дело в том, что, как подчеркивает Стагирит, “все общения (в более раннем скворцовском переводе — “общежитие во всех его формах” (6, с. 2) стремятся (stokhadzon tai) к тому или иному благу” (5, с. 376), только его имея своей высшей целью. И, следовательно, различать их нужно, отправляясь не столько даже от различия этих целей, сколько от определяющих “благ” (риккертианец М.Вебер назовет их ценностями), которые в процессе общения, как и в человеческой деятельности вообще, играют первостепенную роль.
Таким образом, с одной стороны, предлагается объективный критерий различения форм общения, а с другой — устанавливается принцип соподчинения (иерархии) этих форм, исходя из внутренней “природы” каждой из них, определяемой ее изначальным “стремлением” к соответствующему “благу”. “К высшему из всех благ” (наилучшему из всех благ”, согласно переводу Н.Скворцова (6, с. 2) устремлена такая форма “общежития”, которая, во-первых, является наиболее важной из них” (“стоит выше всех” (там же), а во-вторых, “обнимает собой все остальные” (5, с. 376). И, разумеется, на месте такой — наивысшей, наиважнейшей и всеобъемлющей — формы общебытия Аристотель не мог не представить лишь ту, что “называется государством, или общением политическим” (там же), то есть общеполисным: социально-политическим. Но, конечно же, не в современном узкополитическом смысле этого словосочетания, который скорее поглощает первый его элемент, а в античном синкретически-синтетическом, сохраняющем оба его момента в их сплавленности друг с другом. Причем этот тезис не носит в аристотелевской “Политике” характера “голого заверения”, как сказал бы Гегель. Нет, Аристотель стремится всесторонне обосновать его (чему, собственно, и посвящена вся первая глава этого его труда), одновременно демонстрируя и свой метод достижения такой цели.
Метод же этот заключается, прежде всего, в расчленении сложного (а в данном случае им является “общеполисная” деятельность как высшая и всеобъемлющая форма общения) “на его простые элементы (мельчайшие части целого)”, чтобы выяснить, чем каждый из них отличается от остальных, и можно ли постичь его в собственной “природе” (5, 376, ср. 6, с. 3). В качестве такой “мельчайшей части”, которая не может быть названа формой общения, поскольку лежит за его порогом, Аристотель выделяет чисто природное спаривание особей природного мира, в каковом, по его словам, находит прямое выражение “естественная необходимость”, побуждающая “сочетаться попарно тех, кто не может существовать друг без друга” (5, с. 377). В человеческом же мире на первом месте среди подобных “пар” находятся, согласно Аристотелю, “женщина и мужчина”, соединяющиеся друг с другом “в целях продолжения потомства” (5, с. 377). На втором — “властвующий и подчиненный” (6, с. 3), то есть господин и раб, которые “также естественно соединяются между собою в интересе их собственного благосостояния” (6, с. 3), или, точнее, “в целях взаимного самосохранения” (5, с. 377). В обоих случаях Аристотель объясняет простейшее “соединение” такого рода, ссылаясь на его “естественность”, акцентируемую не только с точки зрения целей каждого из его участников и “благ”, ими достигаемых (в одном случае это продолжение рода, в другом — простое самосохранение, в третьем — известное благосостояние соединившихся, а в целом — “польза” каждого из них (6, с. 3-4, 5, с. 377). При этом он подчеркивает также “природную” предрасположенность каждой из объединяющихся сторон, хотя эта предрасположенность далеко не очевидна в случае “соединения” господина и раба. Это, вероятно, и побуждало Аристотеля расширять понятие “естественного”, апеллируя не к одним лишь “чисто природным”, но также и к интеллектуальным свойствам людей, объединяющихся в “пару”. Так он обращает внимание на интеллектуальные преимущества господина: его способность к предвидению, которая, по убеждению Стагирита, на стороне раба уравновешивается лишь избыточной “физической силой” (5, с. 377). И уже здесь понятие “естественного” трактуется предельно широко, в смысле объективно необходимого”, независимого от волеизъявления либо обеих сторон “общения”, либо — что гораздо чаще — одной из них.
В общем, “мельчайшие элементы” более развитых способов общения берутся здесь вне зависимости от того, в каких формах — чисто животных или собственно человеческих, и с какой долей осознания реализуется в каждом конкретном случае вызвавшая их необходимость (она же — объективная целесообразность), например, “сочетание попарно” женщин с мужчинами обусловливается, по словам Аристотеля, “не сознательным решением, но зависит от естественного стремления, свойственного и остальным животным и растениям (еще один пример более узкого толкования “естественной необходимости”. — Ю.Д.) — оставить после себя подобное существо” (5, с. 377). Но как только проблема выходит за пределы именно так понимаемой необходимости, превращаясь в собственно политическую (в расширительном платоно-аристотелевском смысле), она предстает в совершенно ином виде. Так, по словам Стагирита, “варвар и раб по природе своей понятия тождественные”. Недаром говорит поэт: “Прилично властвовать над варварами грекам” (5, с. 377). А вот “домохозяину” (в особенности же философам, рассуждающим о человеческих отношениях) совсем не приличествует неспособность различать отношение, с одной стороны, к собственной жене, а с другой — к его рабу, живущему в том же доме. Ибо “женщина и раб по природе своей два различных существа” (там же), а потому относиться к ним одинаково — это все равно что совершить противоестественный акт. Здесь, как видим, “природное” явно сливается с “политическим” (в широком платоно-аристотелевском смысле), или, по крайней мере, не артикулируется принципиальное различие “естественно”-природного и “естественно”-политического (“природно” необходимого и “политически” необходимого). В этом пункте чувствуется ослабление той самой углубленной “теоретической рефлексивности”, которая, как правило, не изменяла автору “Политики”, изобилующей тончайшими различениями и дефинициями.
Проведя скрупулезное аналитическое различение двух типов межиндивидуальных связей (свободного со свободным и свободного с рабом), Аристотель немедленно возвращается на путь синтезирования, тут же делая вывод, согласно которому из них “получается первый вид общения — семья” (5, с. 377), В цитируемом здесь переводе словосочетание “вид общения” явно было употреблено для того, чтобы отличить семью, как качественно иное, синтетически целостное, образование от “элементарных” межиндивидуальных связей, которые обозначались с помощью термина “общение”, а подчас и словосочетания “форма общения”, хотя по сути дела они (и особенно последнее из них) гораздо более адекватно использовались Аристотелем для обозначения и семьи, и государства в целом (“полиса”). Из этой затруднительной терминологической ситуации гораздо удачнее выпутался автор более раннего перевода аристотелевской “Политики”, когда передал мысль философа так: “из вышеупомянутых двух соединений (мужа и жены, господина и раба — Ю.Д.) образуется первая форма общежития — семья” (6, с. 5). Здесь гораздо более четко выполняется желание Аристотеля различить простейшие элементы, без которых невозможна семья как клеточка полисного общебытия, с одной стороны, и саму ее “форму” (именно эту “форму общежития”), взятую как целое, — с другой. Это — “общение, естественным путем возникшее для удовлетворения повседневных потребностей” (5, с. 377). Или — как та же мысль звучит в истолковывающем переводе Н.Скворцова — “первая естественная форма общежития, не изменяющаяся во все время человеческого существования” (6. с. 6).
Поскольку уже в рамках “первой естественной” (и в этой своей естественности — элементарной) “формы общежития” Аристотель различает два гетерогенных типа отношений: между свободнорожденными (муж и жена, родители и дети), с одной стороны, и между ними и рабами — с другой, — постольку эта клеточка древнегреческого полиса, попавшая в фокус микроскопической оптики Стагирита, оказывается не такой простой, как можно было бы ожидать. Уже на этом первоначальном уровне социально-философского рассмотрения, которое, чтобы не употреблять контовский термин, можно было бы назвать социономическим, он фиксирует глубочайший раскол, каковой предстает одновременно и как социальный, и как политический: между свободнорожденными на одной стороне (и одной половине дома) и “прирожденными” рабами — на другой. Соответственно различаются и типы властвования/подчинения, которые, как видим, фиксируются Аристотелем на внутриклеточном уровне полисной структуры, причем фиксируются в двух расходящихся измерениях: одно — это область “властных отношений” — между свободнорожденным (муж и жена, родители и дети), и другое — это область их контактов с “рабами по природе”: взаимодействий, которые являются “отношениями господства/подчинения” в более узком смысле, приближающемся к абстракции “собственно политического” в современном понимании. Так выглядит полисно-политический принцип на микроуровне структуры города-государства аристотелевских времен.
Как и следовало ожидать, основополагающим принципом “внутриклеточного” строения социальной ткани в аристотелевской “Политике” оказывается власть, взятая как асимметричная двухполюсная структура: господство/подчинение, приказание/исполнение, назидание/послушание и пр. “Ведь властвование и подчинение, — говорит он, оправдывая и универсализуя такого рода дихотомию, — не только необходимы, но и полезны, и прямо от рождения некоторые существа различаются (в том отношении, что одни из них как бы предназначены) к подчинению, а другие — к властвованию” (5, 1254а с. 20, 25). Отсюда изначальная разнокачественность укорененных в ней межчеловеческих отношений, на которой настаивает Аристотель (полемизируя, подчас, с Платоном как раз по этому поводу). “…Власть господина и власть государственного мужа, равно как и все виды власти, не тождественны, — утверждает он. — Одна — власть над свободными по природе, другая — власть над рабами. Власть господина в семье — монархия (ибо всякая семья управляется монархически), власть же государственного мужа — это власть над свободными и равными” (5, е 1255в с. 15-25). На этом основополагающем различении базируется аристотелевская классификация типов господства/подчинения, характеризующих общественную жизнь древнегреческого полиса.
Однако вернемся к рассмотрению аристотелевской классификации “форм общения”, образующих классический полис. Составленная из простейших элементов (связей, или их “соединений”) семья сама в свою очередь оказывается “элементом” второй, более развитой, формы общения, объемлющей ее. В русских переводах “Политики” она называется “селением” (5, с. 378) или “слободой” (6, с. 6), хотя, дабы избежать здесь невольной идентификации “селения” с пространственно локализованным селом, было бы лучше воспользоваться здесь словом “поселение”. Это, по Аристотелю, — “общение, состоящее из нескольких семей” (5, с. 378), его цель — “обслуживание” уже не только “кратковременных потребностей” (там же), какими озабочена каждая семья в отдельности, но потребностей “долговременных”, возникающих в условиях совместного существования нескольких или даже многих семей: “колонии” семей, соединенных узами кровного родства. При этом речь идет здесь не столько о конкретных потребностях, связанных с состоявшимся (“эмпирическим”) фактом их совместного существования, сколько о (“естественной”) необходимости, вызвавшей к жизни сам этот факт объединения людей в такого рода “колонию” (поселение), как именует Стагирит эту новую “форму общения” людей.
Эта “форма общежития” предполагает, согласно аристотелевской концепции, и соответствующий тип отношений господства/подчинения, структурирующих ее, который персонифицируется фигурой “царя”. Так называет Аристотель племенного вождя-патриарха, обладающего — в силу старшинства — высшей властью в поселении. Властью, отмеченной печатью единства (если не тождества) ее общественного (точнее, общеродового), политического (вернее, пред-политического и сакрального ее аспектов. В то же время эта форма властного общения сохраняет, “снимая” их в себе (как сказал бы Гегель), и ту власть, какой обладает старший в семье: муж в отношении к жене, отец — в отношении к детям, господин — в отношении к рабам, хозяин — в отношении ко всей семейной собственности. “Греческие государства, — пишет Аристотель, — потому вначале и управлялись царями (а в настоящее время то же мы видим у негреческих племен), что они образовались из элементов, признававших над собою царскую власть: ведь во всякой семье старший облечен полномочиями царя” (5, с. 378). И тут же добавляет, подчеркивая специфику этой новой, более развитой “формы общежития”, о которой ведет речь: “И в колониях семей селениях поддерживали в силу родственных отношений между их членами тот же порядок. Об этом именно и упоминает Гомер, говоря: “Правит каждый женами и детьми”, ведь они жили отдельными семьями, как, впрочем, и вообще жили люди в древнейшие времена. И о богах говорят, что они стоят под властью царя, потому что люди — отчасти еще и теперь, а отчасти и в древнейшие времена управлялись царями…” (там же).
Но несмотря на то, что отношения в рамках этой кровнородственной и, соответственно, патриархальной “формы общения” представлялись автору “Политики” более развитыми, чем чисто семейные, он не считал, что они уже соответствовали истинной цели всей описанной эволюции: высочайшему благу, ради достижения которого вообще существует человеческое общение. Наивысшей формой человеческого общебытия является для него “вполне завершенное государство”, которое толкуется им как “общество, состоящее из нескольких селений (лучше было бы перевести поселений. — Ю.Д.)… достигшее, можно сказать, в полной мере самодовлеющего состояния и возникшее ради потребностей жизни, но существующее ради достижения благой жизни” (5, с. 378). Это — очень емкая, предельно сконцентрированная формулировка, сгущенность которой обусловлена сущностью определяемого ею феномена: полиса, рассматриваемого как синтез всех составляющих его “форм общения”, каждая из которых имела свою специфику и собственную историю. Речь идет об итоговой, завершающей “форме общежития”, объемлющей все предыдущие, вбирая их в свою внутреннюю структуру, включая и входящие в их состав “простейшие элементы” общения: первичные узы, соединения и связи “попарно” сопрягающие людей. Анализируя эту форму, Аристотель приходит к пониманию общества как такового. К такому пониманию, которое не просто приближается к современному, но в целом ряде существенно важных пунктов оказывается тождественным ему.
Заключение
В заключение — об исследовательском методе Аристотеля, в котором мы до сих пор акцентировали только одну, аналитически дифференцирующую его сторону, рискуя исказить его общую теоретико-методологическую перспективу. Теперь пришла, наконец, пора обратить внимание на другой — синтезирующий аспект аристотелевской методологии. Наиболее четко и выразительно он выступает в момент, когда Стагирит фиксирует заключительный этап исследуемого им процесса: афинский полис, как “вполне завершенное государство”, которое достигло, наконец, “в полной мере самодовлеющего состояния”, обеспечивающего своим гражданам возможность “достижения благой жизни”. Обращает на себя внимание уже сам характер той завершенности, какую достигают в наиболее развитой “форме общежития” (в полисе, изначально выступавшем как конечная цель ценность всего предшествующего процесса) и входящие в нее частные “формы общения”, и общение как таковое — “общительность” граждан полиса, совпадающая с их “человечностью”. Речь идет о том “самодовлеющем состоянии”, когда общение осуществляется уже не с целью приобретения того или иного определенного эмпирически-конкретного “блага”, а ради самого этого общения. То есть ради жизни в таком общении, освобожденной от всякой односторонности и своекорыстия, понятой как действительно свободная (ибо самодовлеющая) жизнь во Благе, блаженная жизнь. Это и есть, если хотите, “царство свободы”, оставляющее позади себя всякую необходимость.
Здесь сразу же бросается в глаза резкое, можно даже сказать радикальное противопоставление “естественной” необходимости исторического процесса “возникновения” полиса как высшей “формы общежития” — его, этого процесса, конечному результату: “благой жизни” в условиях отсутствия такой необходимости. Налицо пропасть между историческим процессом формирования средств для достижения “благой жизни”, подвластном “естественной необходимости”, и его конечным результатом — самоцельным наслаждением такой жизнью, освобожденной от гнета подобной необходимости — созерцательной жизнью “благородного свободнорожденного” в лоне окончательно сформировавшегося полиса, общества как такового. Пока шла речь о процессе приближения к этой цели, наличествовала общая связь, сопрягающая цепями “естественной необходимости” этот полис со всеми предшествовавшими ему “формами общения”. Но как только эта цель была признана достигнутой, наступил “момент истины” — осознание разрыва этой связи — освобождение от необходимости, лежавшей в ее основе, наступление в корне противоположного состояния, изымающего этот общий результат из процесса, приведшего к нему.
Речь идет, стало быть, не просто о процессе превращения абстрактной возможности в конкретную действительность, но о чем-то гораздо большем. А именно о том, что гегельянец К.Маркс назвал бы “переходом количества в качество” и скачком “из царства необходимости в царство свободы”. Оказывается, без такого “большого скачка” не обошелся не только “научный социализм” К.Маркса (если не вся его “материалистическая наука” об обществе). Аналогичный ход мысли, так свойственный и политическому утопизму и мистическому эсхатологизму, вовсе не чужд и такому трезвому аналитику и умеренному (производное от излюбленной аристотелевской меры) политику, каким был Стагирит. И это, кстати сказать, — еще один момент, парадоксальным образом роднящий “социологос” творца “Политики” и “социодиалектику” создателя “Капитала”. Что и дает нам возможность еще раз засвидетельствовать нерушимую “связь времен”, в данном случае являющую себя именно в том ее звене, которое, как казалось К.Марксу, он “до основанья” аннигилировал.
Если же аналогичные “скачки” мысли автора “Капитала” не мешают сегодняшним западным социологам, причем не одной лишь марксистской или неомарксистской ориентации, причислять его (пусть даже не без существенных оговорок), к классикам общественной науки, тогда почему, спрашивается, все еще существует негласное запрещение ставить тот же вопрос применительно к автору “Политики”? К социальному мыслителю, вполне адекватно проанализировавшему сложную ткань современного ему общества как на микросоциологическом, так и на макросоциологическом уровнях? Тем более, что он сумел достаточно корректно — не в пример “микросоциологам” 20-го века, “забывшим” об этом своем предшественнике-первопроходце, — связать оба этих уровня в рамках единой теории. Только потому, что Аристотель не мог (да, пожалуй, не захотел бы, если бы и смог) обособить социальное измерение афинского полиса от политического? Но, быть может, и в этом он был не так уж не прав? Особенно, если взять это его “прегрешение” на фоне многообещающего политологического уклона новейшей теоретической социологии.
Следует, однако, обратить внимание на еще один, причем более важный, пункт далеко идущей “смычки” марксовой “науки об обществе” с аристотелевской “до-”, или “пред”наукой о нем, — ибо он касается проблемы незаконного, непризнанного, но тем не менее очевидного родства метода экстатического революционера К.Маркса с методологией философа меры — Аристотеля. В подходе автора “Политики”, — требующем сперва аналитически вычленять из некоторого интуитивно воспринимаемого объекта (в рассматриваемом случае — общества), его “клеточку” (например, “простейший” вид связи между людьми), чтобы затем методически, постепенно, шаг за шагом восходить от нее к тому же объекту, но уже реконструированному в его конкретной (то есть внутренне расчлененной целостности, — нельзя не увидеть предвосхищения, а, вернее, аналога того, что К.Маркс — более двух тысячелетий спустя! — назовет методом “восхождения от абстрактного к конкретному”. Правда, сделает он это со ссылкой не на самого Стагирита, а на Гегеля, истолковавшего его в духе порядком “софистицированной” диалектики, утратившей как раз аристотелевское чувство меры. Но тем не менее основное, что обеспечивало непреходящую ценность аристотелевской методологии, все-таки сохранилось, явив свою эвристическую силу в проникновенных марксовых анализах конкретных социально-экономических реалий, сближавших К.Маркса именно с автором “Политики”, отдаляя его тем самым от автора “Философии права”.
Вот почему случилось так, что и здесь основоположник “подлинной науки об обществе” фактически (и, разумеется, не отдавая себе в этом отчета) подрывал китайскую стену, им же и возведенную, между “научным” и “донаучным” способами познания социальной реальности. Ибо, как свидетельствуют марксовы подготовительные работы к “Капиталу”, метод его автора оказался, в общем, идентичным методологии автора “Политики”. И если где в процессе их применения и возникало нечто вроде “дивергенции”, то виной тому чаще всего оказывалась марксова “так сказать, партийность”, а совсем не недостаток научного “объективизма” у Аристотеля.
Наконец, важно обратить внимание на еще один момент методологии Стагирита, который зачастую квалифицируется марксистски настроенными историками социально-философской мысли как “теологизм”. “…Мы, утверждает он, — называем природой каждого объекта — возьмем, например, природу человека, коня, семьи — то состояние, какое получается при завершении его развития” (там же). Иными словами, конечный результат органического роста того, другого и третьего (который вполне можно было бы уподобить развитию растения из его “простейшего элемента”) не только количественно, но и качественно отличается от процесса, приведшего к нему. А “в завершении сказывается природа” (там же), природа той целостности, каковая изначально была целью того процесса, который неуклонно вел к ней; и его управителем, явившим свой лик лишь в финале длительного исторического пути. И если к только что упомянутому аристотелевскому перечню, в котором не забыты ни “человек”, ни “семья”, присовокупить еще и “город-государство”, то именно в нем будет явлен телос “целостность цели” всего процесса, конечным результатом которого и стал, согласно автору “Политики”, греческий полис.
Важно подчеркнуть, что здесь у Аристотеля нет ни примитивного “телеологизма”, ни (так часто смыкающегося с ним) “прогрессизма” — видения Прогресса, разомкнутого в бесконечность (Гегель был склонен называть ее “дурной”), как толковали развитие просветители. Речь идет у него о поступательном процессе, совершающемся в цепи взаимосвязанных, но относительно замкнутых циклов, в целом охватывающих период от “возникновения” рассматриваемого предмета (в данном случае это греческий полис) вплоть до осуществления им той “естественной”, или, как мы сказали бы сегодня, объективной цели, ради которой он и был вызван к жизни. Как утверждает автор “Политики”, “в осуществлении конечной цели и состоит высшее завершение”, “наивысшее существование” любого предмета” (5, с. 377-378). Это и находит свое выражение в его “самодовлеющем существовании”, в том, что он, “довлея себе”, больше не нуждается ни в чем, вне него находящемся. И “природа”, влекущая “общественную жизнь” к ее “наивысшему” — полисному, то есть общественно-политическому — состоянию, если взять ее в целом, та же самая, что влечет к реализации заключенной в нем цели самоосуществления каждый отдельный элемент, каждую предварительную форму государственного общения.
Отправляясь отсюда, Аристотель делает вывод, что по своей подлинной “природе” человек не является ни “семейным”, ни “сельски-слободским” существом; что он “по природе своей существо политическое (полисное — Ю.Д.), а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, — либо недоразвитое в нравственном отношении существо, либо сверхчеловек” (5, с. 378). При этом существенно иметь в виду, что речь идет о наивысшем состоянии “общественной жизни”, объемлющей все предварительные формы ее становления, включая в свою органику. Таким образом получается, что то, что Аристотель называет полисом, а в наших переводах фигурирует как “государство”, на самом деле является обществом как таковым, то есть, как сказал бы Гегель, полностью соответствующим “своему понятию”. Но если осмыслить эту терминологически-понятийную ситуацию именно так, то уже не покажется парадоксом (или антинаучной фантазией) аристотелевское утверждение, согласно которому, несмотря на то, что исторически “сперва образуется семья, а потом государство, …по смыслу своей природы государство существует прежде, чем семья и каждый из нас в отдельности” (6, 9). (В переводе С.А.Жебелева, несколько сглаживающем этот мнимый парадокс, аристотелевская мысль звучит так: “Первичным по природе является государство по сравнению с каждым из нас” (5, с. 379). Между тем достаточно на место термина “государство”, вызывающего сегодня вполне конкретные ассоциации (включая привычное противоположение его “обществу”) поставить аристотелевскую категорию “наивысшей формы общения”, выражающую всеобщность межчеловеческих отношений как их тотальность, — и все встанет на свои места.
Ведь слова “по природе” означали в аристотелевском теоретико-методологическом контексте лишь то, что начало общественности, целиком и полностью развертывающейся в оформленное и самодостаточное целое лишь в греческом “городе-государстве”, должно было изначально соприсутствовать и в “простейших формах общения” (в элементарных связях людей друг с другом), и в более сложных и развитых “формах общежития” (или общебытия), предшествовавших по времени конституированию его специфически полисного формообразования. В таком случае и аргументы Аристотеля в пользу его тезиса о “первичности” государства и “вторичности” всех остальных форм приобретают несколько иной смысл, чем тот, какой обычно из них извлекается. “Природа” всех без исключения форм и способов взаимосвязи людей — общественная, что и предполагается уже внутренним смыслом слов “общение” или “общежитие”, с помощью которых переводится на русский язык аристотелевский постулат об изначальной “общительности” человека, согласно каковому “человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и другие стадные животные” (5, с. 379). И эта “большая степень” общественности человека предшествует, согласно Аристотелю, “формам общения” менее развитым, чем “полис”, взятый как высший синтез всех без исключения обобществляющих форм, но — что здесь самое важное — не “по природе”, толкуемой здесь обычно как что-то в роде гегелевского “понятия”, а как эмпирически фиксируемый факт. Факт присутствия во всех этих формах “общежития” их главного и основного “элемента” — человека, обладающего речью (“словом”), которая и делает его в высшей степени общественным существом еще до того, как возникла первая развитая форма его “общежития”.
Недаром было сказано Аристотелем (причем именно в данной связи): “Речь способна выражать то, что полезно и что вредно, равно как и то, что справедливо и несправедливо. Это свойство людей отличает их от остальных живых существ: только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и т.п. А совокупность всего этого и создает основу семьи и государства” (5, с. 379). Вот она, эта основа всякой человеческой “общественности”, фактически, а вовсе не “метафизически” присутствовавшая в фундаменте всех форм “общежития” людей задолго до того, как возникла его высшая форма. Она вполне реально заключала в себе то самое общественное “целое”, которое предшествовало части (и всем будущим частям), выступая в качестве животворного начала (“элемента”, “стихии”) будущих “форм общения”, предвосхищая конечную цель, к которой должно было привести их последующее развитие и взаиморастворение в синтетической целостности полиса. И подобно тому как принцип “общественности” находит свое завершение в полисе, как самой совершенной из всех “форм общения”, в нем же находит “свое завершение” и человек как “совершеннейший из живых существ” (там же).
Как видим, в подобной идентификации общества и государства, нет ровно ничего ненаучного. Это, как и у Платона, вполне объективная констатация “эмпирического факта”. До-, пред-, или ненаучная сфера начинается лишь за пределами этой констатации, там, где встает вопрос о его, этого факта, оценке, например, о том вечно, непреходяще или, напротив, временно и преходяще — то есть исторично — такое положение вещей, какое застал Стагирит (или какое застало его). И тут уж открывается необозримое пространство для всякого рода утопий, благих пожеланий, или, наконец, тенденциозных противоположений (например, “цивилизованных” и законопослушных граждан греческого полиса непросвещенным “варварам”, живущим по другим обычаям и законам). Речь идет о политических “мечтаниях”, которые тем больше говорят о самом человеке, чем меньше свидетельствуют они о реальном положении вещей: о том, что есть, а не о том, что должно быть. Однако и в поле пристрастных оценок и утопических проекций в желаемое Будущее античный социальный мыслитель мало чем отличается от “социологически искушенного” представителя современного научного сообщества. Можно даже сказать больше: если, например, просто сопоставить тексты Аристотеля с произведениями К.Маркса, то придется констатировать, что в первых оценочный момент и апелляция (прямая или косвенная) к желаемому будущему играет неизмеримо меньшую роль, чем во вторых. И в этом отношении “коэффициент научной объективности” аристотелевских работ так же окажется едва ли не более высоким, чем соответствующий коэффициент марксовых трудов.
Литература
1. История теоретической социологии в 5-ти томах. Отв. ред и составитель Ю.Н.Давыдов. Том 1. От Платона до Канта (Предыстория социологии и первые программы науки об обществе). Москва. “Наука”, 1995.
2. История теоретической социологии в 5-ти томах. Том 2. Социология XIX века (Профессионализация социально-научного знания). Москва, Изд-во Магистер. 1997 (Давыдов Ю.Н., Разделы первый и шестой).
3. Платон. Государство // Платон. Соч., т. 3, ч. 1, 89-454.
4. Платон. Политика или государство // Соч., ч. 3. СПб., 1863.
5. Аристотель. Политика // Аристотель. Соч. в 4-х тт. Т. 4, Москва, 1984.
6. Политика Аристотеля, пер. Н.Скворцова. Москва, 1865.
раздел III из истории философии науки[117]
А.П.Огурцов
Философия науки в 20 веке: успехи и поражения (статья первая)
Данная статья является первой из предполагаемого цикла, который будет посвящен судьбам философии науки в проходящем 20 веке. Выбор материала, оценка тех или иных философских направлений обусловлены личной точкой зрения, претендующей не на общеобязательность, а на более или менее полное описание успехов и провалов в философии науки 20 века. Кто-то другой, естественно, может предложить иной выбор тех концепций, которые составили лицо философии науки 20 века, иную оценку исследований, которые стали программными для философии науки, определили и во многом до сих пор определяют ее стиль мысли.
В середине 19 века в книге “Будущее науки”, написанной в 1848 г., но опубликованной гораздо позднее, Э.Ренан писал: “Наука имеет ценность лишь постольку, поскольку она может заменить религию”, “Наука представляет собой из себя религию. В будущем лишь наука будет давать символы веры и она одна сможет дать человеку разрешение вечных проблем, которого так настоятельно добивается человеческая природа”[118]. Эти сциентистские притязания на то, что наука преобразует не только естественную, но и человеческую природу, отнюдь не умерли вместе с 19 веком. Они нашли свое продолжение и в 20 веке.
Конечно, не только эти сциентистские притязания вывели философию науки на первый план в философии 20 века, превратили ее в интенсивно развивающуюся область философской мысли. Существенную роль в этом сыграли и такие всем очевидные факторы, как широкое и весьма успешное применение науки в технике, промышленности, экономике в целом. Знамя научности стало стягом нового века. Научная рациональность, утвердившаяся в странах Европы, послужила той почвой, на которой воздвигалась конструкция “европейского человечества”, гуманной европейской культуры, которая вот-вот осчастливит плодами своей технической цивилизации все человечество. Первое десятилетие нового века и было десятилетием радужного восприятия и восторженной оценки успехов и научно-технических достижений европейской цивилизации. В этот же период начались глубокие преобразования в самом научном знании — критика механической картины мира дополнилась созданием специальной теории относительности, кардинально изменившей понимание пространства и времени, новейшие открытия в физике, начатые еще в конце 19 века Э.Резерфордом, привели к формулировке М.Планком и А.Эйнштейном понятия кванта, к изменению таких фундаментальных понятий, как энергия, материя, атом. Этот период В.И.Вернадский вполне справедливо называл периодом взрыва научного творчества.
Первое десятилетие: эмпиризм vs конструктивизм
20 век открылся выходом в свет работ двух выдающихся философов науки, каждый из которых принципиально по-разному определял и цели, и предмет философского исследования науки и тем самым задал совершенно различные стратегии философского исследования научного знания. В 1900 г. выходит “Анализ ощущений” Э.Маха, в 1902 г. первый том “Системы философии” Г.Когена “Логика чистого познания”. Обычно первую стратегию называют эмпириокритицизмом, а вторую связывают с программой Марбургской школы неокантианства. Однако такого рода квалификации слишком общи и не выявляют специфические особенности именно философской интерпретации науки, которые не просто обратились к разным областям науки (естествознанию или математике), но по-разному строили программы исследования науки. Тем более, что и для неокантианства, и для неопозитивизма характерна критика опыта. Поэтому такого рода квалификации явно недостаточны и не схватывают своеобразие каждого из направлений философии науки.
Э.Мах в предисловии к “Анализу ощущений” подчеркивал: “За последнее время в науке все более и более встречает признание тот взгляд, что назначение ее должно ограничиваться обобщенным описанием фактов действительности. Признание этого взгляда логически приводит к исключению всех праздных допущений, недоступных контролю опыта и прежде всего допущений метафизических (в кантовском смысле слова)”[119]. В этих словах достаточно четко выражена эмпиристская стратегия философии науки Э.Маха: задача науки — обобщенное описание фактов, задача философии очищение опыта от праздных, спекулятивных допущений. Тем самым философия науки развертывается Э.Махом в пределах гносеологии, ориентированной эмпиристски и замкнутой на анализ сознания изолированного исследователя, хотя он и признает мир чужих Я и даже говорит в “Познании и заблуждении” о том, что “нет изолированного исследователя. Каждый ставит себе также и практические цели, каждый учится и у других и работает также для ориентировки других”[120]. Однако это положение высказано вскользь в качестве примечания относительно позиции теоретическо-методологического солипсизма Й.Петцольдта и В.Шуппе и не стало и не могло стать ядром эмпиристской стратегии Э.Маха, поскольку для этого необходимо было осознать коммуникативный характер познания, его включенность и сопряженность с сообществами и группами исследователей. Мысль трактуется как способ приспособления к среде. Никаких априорных и логико-теоретических предпосылок, аксиом и положений в мышлении не допускается в принципе. Среди праздных допущений, от которых необходимо избавить науку, — понятия причинности, субстанции, атома. С этим же связана и критика Махом механицизма, выдвижение на первый план метода установления сходства и аналогий.
Основная цель философии науки — описание опыта, установление непрерывности и функциональной связи всех его элементов — психических, физиологических и физических. Несомненной заслугой Маха был анализ понятий пространства и времени, числа и меры, умственного и физического эксперимента. Принцип экономии мышления, который обычно в нашей отечественной литературе оценивался негативно и непосредственно связывался с антиметафизическим и даже антитеоретическим пафосом этой стратегии философии науки, на деле был определенным вариантом принципа простоты, который был понят Махом методологически и выполнял важную эвристическую функцию. Существенно и то, что эта программа в философии науки была ориентирована на историю науки. Сам Мах оставил ряд историко-научных работ, сохранивших свою ценность и до наших дней, — по истории принципа сохранения, истории механики, учения о теплоте, физической оптики.
Важным компонентом этого варианта философии науки был культ научности, вера в науку как силу, преобразующую мир. С прогрессом науки Мах связывает грядущий прогресс человечества. “Вера в таинственные чудодейственные силы природы мало-помалу исчезла, но за то распространилась новая вера, вера в чудодейственную мощь науки. Доставляет же она сокровища, о каких ни в одной сказке не прочитаешь; и раздает она их, не как капризная фея — только счастливому избраннику, — а всему человечеству. Нет, поэтому, ничего удивительного, если поклонники ее, стоящие несколько поодаль, верят, будто она в состоянии открыть перед ними бесконечные, недоступные нашим чувствам глубины природы”[121].
Философия науки, развитая в эмпириокритицизме Э.Маха, ориентировалась на эмпирический анализ научного опыта, существовавшего в эмпирических науках, и предполагала очищение его от всех философско-теоретических допущений. Слабости этой программы достаточно хорошо известны. Укажем лишь на то, что математика оставалась вне рамок этой философской программы исследования науки. Кроме того, сама философия науки зависала в воздухе, коль скоро она является формой теоретического исследования научного знания. Поэтому-то сам Э.Мах тяготел скорее к психологии научного исследования и к истории науки, чем к философии науки как таковой.
Альтернативной эмпиризму стратегией была философия науки, развитая неокантианцами Марбургской школы, прежде всего Г.Когеном и П.Наторпом. Сразу же отметим, что Коген не связывал свою программу исследования науки с теорией познания, называя сам этот термин неясным и многозначным. “Логика чистого познания” Когена начинается с уяснения многозначности термина “познание”, которое может характеризовать и отдельное исследование, и различие между индивидуальным и всеобщим знанием, и акт познания, и чистое познание, которое, начиная с греческой философии, отождествляли с математикой, а марбуржцы с принципами математического естествознания. Они сделали предметом своего исследования математику и математическое естествознание. Именно в математике они видели эталон научности. Марбургскую школу интересует прежде всего логическая структура научного знания, которая должна быть единой во всех науках. Эта структура в наиболее явной и чистой форме представлена в математическом естествознании. Его принципы формируются творческим чистым мышлением, которое творит не только форму, но и содержание познания. Мышление есть деятельность созидания. “Созидание и есть само созидаемое (Die Erzeugung selbst ist das Erzeugnis). Речь идет не том, что мышление создает мысли, в которых вещь, отделенная от мысли, рассматривается как нечто законченное, а о том, что само мышление есть цель и предмет своей деятельности”[122]. Подчеркивая суверенность, самостоятельность и изначальность мышления, Коген отождествляет мышление с мышлением генезиса (Ursprung), творения, генетическо-конструктивного полагания бытия. Опыт, столь существенный компонент математического естествознания, превращается Когеном в непознаваемую вещь-в-себе, поскольку опыт как целое не может быть дан в созерцании, его можно лишь мыслить. Тем самым опыт превращен у Когена в регулятивную идею, которая выполняет функции систематического единства научного знания. Предмет и опыт даны лишь постольку, поскольку они созданы мыслью. Этот тезис Коген выразил в парадоксальной форме: “Звезды существуют не на небе, а в учебниках астрономов”.
Основной принцип философии науки Г.Когена — принцип Ursprung, генетического конструирования. “Логика должна стать логикой генезиса. Ведь генезис не только необходимое начало мышления, но и во всем процессе мышления он должен быть утвержден как движущий принцип. Все чистые знания должны быть вариациями принципа генезиса... Логика генезиса должна осуществить себя во всем своем построении. Во всех чистых знаниях, которые принимают их как принципы, принцип генезиса должен господствовать. Тем самым логика генезиса есть логика чистого познания”[123]. Коген вводит понятие первоэлементов чистого познания. К ним он относит не категории, а суждения (Urtheil), которые рассматриваются им как двухплановая деятельность, направленная на обособление и одновременно на объединение разделенных частей. Среди первоэлементов законов мышления он выделяет генезис, тождество и противоречие. К первоэлементам математики он относит реальность, множество, всеединство. Среди первоэлементов математического естествознания субстанцию, закон, понятие. К первоэлементам методики Коген относит возможность, действительность и необходимость.
Для него несомненно первостепенное значение математики для всех форм знания, в том числе и гуманитарного. “Математика имеет неоспоримое значение и для наук о духе. История основывается на хронологии. Политэкономия на статистике. Юриспруденция имеет, по крайней мере, свой исток в понятии условия, и проблема единства является для нее важной проблемой”[124]. Коген называет математику методологическим символом науки. Логика как философия науки рассматривалась Когеном как основа системы философии, которая мыслилась им как философия культуры, включавшая в себя этику чистой воли, где принцип генезиса становится принципом свободы, и эстетику чистого чувства. Завершение его философская система получила в работе “Понятие религии в системе философии” (1915), в которой теология пронизана иудаистским профетизмом.
Другой представитель Марбургской школы П.Наторп в гораздо более четкой форме выразил методологический характер стратегии этой школы. Он сам назвал свою стратегию “методическим идеализмом”, перейдя позднее от логики точных наук к проекту “всеобщей логики”, или “философской систематики”, которая позволит перестроить любые науки — от психологии до социальной педагогики, от социальной политики до социальной экономики. В книге “Логические основы точных наук” (1910) Наторп подчеркивает, что понятие факта в науке не имеет никакого смысла. Главное в науке — развитие, процесс, метод. “Процесс, метод есть все”[125]. Чувственно данное не существует: “для мышления не существует бытия, которое не было бы положено самим мышлением” иными словами “первоначальное бытие есть логическое бытие, бытие определения”[126]. Логическое мышление у марбуржцев мыслится не как психологический акт, а как мышление, представленное в методе решения проблем. В этом методологизме растворяется предметное бытие, а предмет рассматривается скорее как задача, требующая своего решения и тем самым превращающаяся в бесконечный процесс долженствования.
Наторп видит в категориях результат мыслительных актов, которые рассматриваются двухпланово — и как обособление (так возникает категория количества), и как объединение (так возникает категория качества). Следующая ступень развертывания категорий — отношение, которое завершается категорией модальности, характеризующей предмет. В качестве априорных логических структур математики Наторп специально анализирует понятия числа, пространства и отношения. В отличие от Канта Наторп исключает из конструирования этих понятий созерцание, подчеркивая, что они являются функциями чистого мышления. Трудности для Наторпа возникают при конструировании понятия существования, в частности, при чисто логическом выведении трехмерного пространства евклидовой геометрии. Не меньшие трудности возникают и при выведении математических принципов естествознания, в частности, логической дедукции понятия субстанции, в допущении им энергии, сохраняющейся в пространстве. Все эти трудности обусловлены стратегией этой философии — исключить из философии науки опыт и осмыслить научное знание как сугубо логическую конструкцию чистого мышления. Однако заслугой П.Наторпа является то, что он стремится показать приоритет метода, определяющего движение научного знания. Закон этого процесса есть основной закон логики, чистого мышления, или закон метода. В процессе познания создается и предмет, и форма познания. Создание предмета и есть синтетическая деятельность мышления. Синтез и есть первоначало, основная черта генетико-конструктивной деятельности (Ursprung) мышления.
Важным вопросом для Наторпа является различение математики и логики, которое интенсивно обсуждалось в этот период, когда в работах Л.Кутюра, Б.Рассела и А.Уайтхеда формируется математическая логика. Согласно Наторпу, математика нацелена на развитие логического, логика же — на предельное единство, к которому все логическое должно быть возвращено в соответствии со своим понятием. Для Наторпа фундаментальные понятия математики, ее аксиомы должны быть выведены из чисто логических понятий и принципов. Поэтому в отличие от Б.Рассела и Л.Кутюра он не признает отождествления математики с логикой и не приемлет формалистического характера логики отношений, частью которой, по замыслу Кутюра, должна быть “алгебра логики”[127], основанная на изучении отношений включения (подчинения) понятий.
Трансценденталистская логика точных наук постепенно развертывалась у Наторпа в некую “всеобщую логику” философской систематики, построенной по типу гегелевской триады, но называемой им тремя ступенями — недифференцированности, дифференциации и совпадения противоположностей. Всеобщая логика мыслится им уже как логика смыслополагания, как логика, не только преодолевающая все различения (например, субъекта и объекта), но и утверждающая существование единого, но многостороннего первосмысла бытия — логоса. В лекциях 1922-23 гг. Наторпа, изданных в 1959 г. под названием “Философская систематика” (“Philosophische Systematik”) вопрос о смысле слова, высказывания, логоса считается уже мучительной загадкой, чудом и вопросом вопросов. Бог, или первологос, рассматриваются теперь как источник всего творения и предпосылка познания. Бог создал человека и тем самым его теоретический и практический разум. Панлогическая тенденция, которая находила свое выражение в трансцендентализме, выразилась теперь в определении цели “всеобщей логики” — постичь смысл, Логос.
Этот поворот от трансценденталистского исследования основ научного знания к утверждению трансцендентного первологоса существенно изменил и исходные предпосылки философии науки Марбургской школы. Теперь уже ориентация на факт науки рассматривается как ограниченность и недостаток. Наука и ее метод оцениваются лишь как низшая ступень восхождения к Логосу, науке присущи релятивность, смена методов, сомнения в аксиоматическом характере своих оснований, состояние кризиса. Наука не может обрести окончательную истину, она лишена смысла для жизни, хотя и представляет собой часть жизни. Над областью науки, которая Наторпом отождествлялась с теоретическим исследованием, возвышаются области практики и творчества (Poiesis). Теперь уже категории трактуются не как функции логико-теоретического разума, а как творческие формы смыслополагания, как формы бытийственного языка, духовного творения мира. Активистско-идеалистический момент, подчеркивавший конструктивную природу математики и математического естествознания, теперь уже приписывается Богу, первологосу, первослову. Трансцендентализм как стратегия философии науки, ориентировавшая на выявление имманентного смысла научных понятий и теорий, обернулся религиозным утверждением трансцендентности первологоса — секуляризированным обозначением Бога.
В 1910 г., как бы завершая первое десятилетие, выходит книга Э.Кассирера “Substanzbegriff und Funktionsbegriff”, которая через два года выходит в русском переводе “Познание и действительность. Понятие о субстанции и понятие о функции” (СПб., 1912). Кассирер выступает с критикой аристотелевской теории абстракции, которая основывается на родовидовых отношениях между понятиями, на обратном отношении между объемом и содержанием понятий и на допущении понятия субстанции: “Определение понятия через его ближайший высший род и через отличительный признак отображает то поступательное движение, путем которого реальная субстанция развертывает последовательно свои частные формы бытия. И с этим основным понятием о субстанции постоянно связаны и чисто логические теории Аристотеля. Полная система научных дефиниций была бы в то же время полным выражением субстанциальных сил, господствующих над действительностью”[128]. Критика понятия субстанции, развернувшаяся в философии 20 века, — от имманентной философии до эмпириокритицизма и программы описательной физики, — была доведена Кассирером до критики теории образования понятий, которая предполагает и основывается на понятии субстанции. Этому типу образования понятий Кассирер противопоставляет образование понятий в математике, которую отличает мысленное установление конструктивной связи, выведение систематической связи мысленных образов в акте полагания, “свободное творчество определенных связей отношения”[129]. Восприятия должны располагаться в “ряды сходств”. “Без процесса подобного расположения в ряд, без пробегания взором различных моментов не могло бы возникнуть сознания их родовой связи и, значит, не мог бы возникнуть и абстрактный предмет”. Противопоставляя математическое онтологическому, Кассирер выдвигает на первый план логику математического понятия о функции в противовес логике понятия о субстанции. Понятие о функции рассматривается им как всеобщая схема и образец, в соответствии с которым строятся и понятия современного естествознания, а не только математики. В 4-ой главе своей книги Кассирер подробно останавливается на основных понятиях физики, прежде всего механики, для того, чтобы в отличие от позитивизма показать, что естественные науки зависят “от посылок, выходящих из рамок данного в чувственном опыте” и вводят идеальные предельные образы, которые “мы абстрактно ставим на место эмпирических данных чувственного восприятия”[130] — движение в однородном пространстве чистой геометрии, непрерывность времени и др. Естествознание основывается на общих логических принципах, которые не могут редуцированы к чувственно данным, прежде всего на понятии предела и тем самым понятии ряда. “Ни одна естественнонаучная теория не относится непосредственно к самим этим фактам, но только к идеальным пределам, которые мы мысленно ставим на их место”[131]. Геометрическое пространство — базисное понятие механики — оказывается вместе с тем основой для введения понятий об отношениях. Эту мысль Кассирер обосновывает на материале истории физики и химии, подчеркивая, что происходит прогрессирующее преодоление эмпирического материала и выявление такой особенности логического процесса, когда обнаруживается интеллектуальное господство понятия над фактами. Закон и факт в естественных науках “находятся в живой функциональной связи, относясь друг к другу как средство и цель”[132]. Зная об отношении между элементами а, b, c... можно выделить его и построить понятие, которое нельзя построить, исходя из простого существования этих элементов. Исходным для Кассирера является понятие отношения, которое устанавливается мышлением. И совокупность этих отношений, связей, функций и есть то, что называется природой. Исторические истоки и формы этой конструктивистской интерпретации математики и естествознания, подчеркивающей методологическую значимость понятия ряда, или функционального отношения, Кассирер прослеживал в фундаментальном исследовании “Проблема познания в философии и науке нового времени” (Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, Bd. 1, 1906, Bd. 2, 1907, Bd. 3, 1920, Bd. 4, 1957).
В это же десятилетие продолжались исследования методологии исторических наук, начатые неокантианцами Баденской школы (В.Виндельбандом, Г.Риккертом) еще в конце 19 века и переросшие позднее в осмысление наук о культуре. В противовес позитивистской ориентации исторических наук на выявление фактов, и только фактов, Виндельбанд уже в 1894 г. в речи “История и естествознание” противопоставил естествознание как науку о законах истории как науке об однократных реальных событиях. Если естественные науки — номотетические науки, т.е. законополагающие, то исторические науки — идеографические науки, т.е. описывающие отдельные случаи. Это описание предполагает отнесение к ценности, которая и оказывается масштабом истолкования. Все науки о культуре предполагают сознание, которое требует существования норм, вытекающих из ценностей и значимых для реализации поведения человека. Методологическое различение номотетических и идеографических наук обосновывается неокантианцами по-разному — Виндельбандом с помощью различения каузальной закономерности природных явлений в противовес свободе души в работе “О свободе воли” (Ьber Willensfreiheit, 1904), С.Гессеном с помощью введения понятия “индивидуальной причинности” (Individuelle Kausalitдt, 1909) в противоположность причинности как всеобщей закономерности, присущей естествознанию, Г.Риккертом с помощью введения двух разных способов рациональной обработки чувственно данного: если естествознание иррациональный материал опыта превращает в гомогенный континуум, то исторические науки о культуре — в гетерогенную дискретность, или в ряды событий. Историческая связь между событиями осмысляется благодаря отнесению к надысторической системе ценностей, которые функционируют как принцип выбора исторически значимого.
Баденцы обратились к изучению общезначимых культурных ценностей, которые как таковые не обладают существованием, а лишь значимостью (Gelten). Причем между ними также не было единства в понимании ценностей: одни из них (Виндельбанд) отождествили ценность и норму, другие (Риккерт, Г.Мюнстенберг) отделяли ценность, оценку и норму. В статьях “О понятии философии” (Логос, кн. 1, 1910) “Два пути теории познания” (Новые идеи в философии, сб. 7, СПб., 1913) Риккерт выделяет три царства — действительность, ценности, представленные в благах культуры, и смысл, существующий в актах оценки. Характеризуя взаимоотношения субъекта и объекта в теории познания, Риккерт вынужден допустить существование безымянного, трансцендентального, безличного субъекта, которому оказывается имманентной вся действительность. Связав истинное знание с формой суждения, он ставит вопрос о том, в чем же заключается объективность суждения? Отвергнув психологическое истолкование акта суждения, Риккерт обращается к акту оценки, поскольку суждение всегда связано с утверждением или отрицанием ценности. Именно ценность придает познанию характер необходимости, причем необходимости долженствования и тем самым истинности. Смысл придает значимость актам суждения и он обладает вневременным характером. Царство смысла, понятое им как срединное между бытием и ценностями, все более и более трактуется им как нечто трансцендентное, отделенное и отдаленное и от реальных актов познания, и от действий человека. Оно все более и более замыкается в своем объективно-идеальном, потустороннем бытии, которое “значит” ни для кого. Как перейти от трансцендентного мира ценностей к имманентному миру, остается тайной тайн для Риккерта, который сам же подчеркнул, что об этом теория познания не должна спрашивать.
В последующем Риккерт все более подчеркивал примат практического разума перед теоретическим, обосновывая уже ценность истины понятием долга, познания — волей, науки — практическим стремлением как последней основой всякой истинности. Его поворот к построению “системы ценностей” (“О системе ценностей”, “Логос”, 1914. кн. 1, вып. 1, Von System der Werte, Logos, Bd. 4, 1914; System der Philosophie, Bd. 1, 1921) свидетельствовал о том, что он перешел от философии науки и теории познания к философскому обоснованию наук о культуре и культуры как таковой. Борьба против психологизма в гносеологии и философии науки завершилась признанием необходимости трансцендентального психологизма, критика философии жизни обернулась приятием примата воли, попытка осмыслить религию лишь в пределах разума — оправданием религии как святой силы.
Основная линия неокантианского конструктивизма заключалась в осмыслении статуса и способа существования сферы значимости, которая, по его мнению, должна обосновать как естествознание, так и культуру. В конечном итоге они пришли к размежеванию двух сфер — сферы бытия как чувственного и гетерогенного материала научных понятий и сферы “значимости”, представленной в форме научного знания, его понятий и суждений. Наиболее ярким примером этого могут служить работы Э.Ласка “Логика философии и учение о категориях” (1911) и “Учение о суждении” (1912), где категории мыслятся как формы, превращающие материал в предметность, значимость как переживание транссубъективной ценности, а познавательное отношение субъекта и объекта как сугубо созерцательное, укорененное в смысловой и аксиологической полноте жизни.
Первое десятилетие: реализм vs конвенционализм
В 1900 г. выходит в свет первый том “Логических исследований” Э.Гуссерля — книга, которая оказала громадное влияние на формирование философии науки и ее исследовательских программ. Первый том имел подзаголовок — “Пролегомены к чистой логике”. В 1901 г. выходит в свет второй том — “Исследования по феноменологии и теории познания” (ч. 1) и “Элементы феноменологического выяснения познания” (ч. 2). Первый том “Логических исследований” почти целиком посвящен критике психологизма. Для Гуссерля одним из вариантов психологизма была концепция “экономии мышления”, развивавшаяся Э.Махом и Р.Авенариусом. По словам Гуссерля, принцип экономии мышления возвращает нас к психологическому обоснованию, подставляет фактически данное вместо логически идеального. Эмпириокритицизм не в состоянии постичь идеальную сторону и идеальную направленность мышления, редуцируя их к фактам психической жизни и к актам адаптации к среде. По характеристике Гуссерля, “сама по себе чистая логика предшествует всякой экономике мышления” и одним из заблуждений этой концепции науки является попытка построить логику на принципе экономии мышления, т.е. логику на основе психологии. Преимущественная ориентация на эмпирическую сторону науки — таково другое заблуждение этой философии науки, которое объясняет и то, что идеальная связь необходимости подменяется потоком случайных представлений и убеждений[133]. Гуссерль ставит перед собой задачу — дать новое обоснование теории науки и предлагает новую интерпретацию логики, понимаемой им как наукоучение, и теории познания, отождествляемой им с феноменологией. В противовес доминировавшему в философии науки психологизму он с самого начала подчеркивает, что “область какой-либо науки есть объективное замкнутое единое целое... Царство истины объективно делится на области, и исследования должны вестись и группироваться в науке сообразно этим объективным единствам”[134].
Интерпретируя логику как науку о науках, как наукоучение, он связывает науку со знанием, причем со знанием, обладающем истиной и отличающемся от мнения. Критерием истинности является очевидность. Существенной характеристикой науки является для Гуссерля то, что наука есть систематическая связь в теоретическом смысле, единство связи обоснований, систематическое единство, представленное в теории. Тем самым логика как теория науки сводится им по существу к логике обоснования, которая восполняется исследованиями теории и методов отдельных наук. Решающим оказывается анализ процедур обоснования, а исследование методов отдельных наук не может быть осуществлено вне и помимо выявления связи обоснования: “каждый метод представляет собой совокупность приемов, выбор и порядок которых определяется связью обоснования”[135]. Итак, логика как наукоучение невозможна без выявления единства обосновывающей связи, задающей последовательность ступеней обоснования. Наукоучение направлено на постижение системного единства дифференцировавшегося научного знания, задавая идеальную норму и образцы отдельным наукам: “Логика исследует то, что относится к истинной, правильной науке, как таковой, другими словами, то, что конституирует идею науки, чтобы, приложив полученную мерку, можно было решить, отвечают ли эмпирические данные науки своей идее, или в какой мере они к ней приближаются, и в чем они от нее отклоняются. В этом логика проявляет свой характер нормативной науки...”[136]. Возникает вопрос: чем же отличаются нормативные и теоретические науки? Согласно Гуссерлю, нормативные суждения предполагают известного рода оценку и фундаментальную норму, в теоретических суждениях отсутствует их связь с мерой ценности, как источником преобладающего интереса нормирования. Интерпретация философии науки как нормативной дисциплины является для Гуссерля вариантом психологизма, коль скоро нормы логики редуцируются к актам оценки. Психологизму Гуссерль противопоставляет объективность научного знания, понимаемого как единство теоретических положений и способов теоретического обоснования, имеющего идеальный характер. В теоретическом знании единство и порядок познаний определяется теоретическим интересом. Согласно Гуссерлю, основой нормативных наук являются теоретические науки. Теоретическое знание, понимаемое им как систематическое единство, определяется внутренней целью, телеологичностью знания. Истина едина и есть единство знания в надвременном царстве истины.
В философию науки и в логику Гуссерль вслед за Б.Больцано ввел понятие истины-в-себе как идеального единства, обладающего онтологическим статусом. Истина существует вне и до всякого знания. Она лишь реализуется в знании. Наука — это идеальное царство истин, реализующееся в актах познания. Наука трактуется им как объективная или идеальная связь, как единство, понятое двояким образом: “как связь вещей, к которым интенционально относятся переживания мышления (действительные или возможные). И как связь истин, в которой вещное единство приобретает объективную обязательность в качестве того, что оно есть. И то, и другое a priori даны совместно и нераздельно”[137].
Единство науки и единство ее предметной области определяется единством связи обоснования. Закономерность вещей, необходимость истины и познание основания представляют собой, по Гуссерлю, равнозначные выражения. Поэтому он делает акцент в логике как наукоучении на систематическом единстве идеально замкнутой совокупности законов, которое совпадает с необходимостью истины и с единством систематически завершенной теории. Теоретическое знание основывается на единстве истин и на единстве объяснения, т.е. на однородном единстве объясняющих принципов. Форма объединения истин в науке — дедуктивна.
В заключение первого тома “Логических исследований” Гуссерль ставит вопрос об условиях возможности науки и теории вообще, проводя различие между ноэтическими условиями возможности познания, которые вытекают из идеи познания как таковой, и логическими условиями, коренящимися в содержании познания. Эта трансцендентальная постановка вопроса реализуется им в трех планах: Что составляет сущность теории как таковой? Каковы первичные элементарные понятия, из которых конституируется понятие теории? Каковы чистые законы, которые придают теории единство?
Логика мыслится уже как априорная теоретическая номологическая наука, относящаяся к идеальному существу науки как таковой, т.е. как теория теорий, целиком и полностью исключающая всякие эмпирические или антропологические аспекты. Теория науки, понятая как теория теорий, имеет дело с первичными понятиями (понятие, положение, истина и др.), с их соединениями (например, конъюнктивными, гипотетическими и др.). Кроме того, теория науки должна выявлять законы, характеризующие объективное значение и усложнение этих понятий. И, наконец, теория науки должна рассматривать априори формы теорий и соответствующие законы их отношений. Так интерпретируемая теория науки апеллирует прежде всего к чистой категории значения и весьма далека от эмпирических наук. Для того, чтобы перейти к обоснованию эмпирических наук, Гуссерль вводит чистое учение о вероятности, поскольку в опытных науках объяснение исходит не из очевидно достоверных, а из вероятных законов. Но и в вероятных законах он усматривает идеальные элементы и законы, которые и составляют условие возможности эмпирической науки.
Разграничив логику и теорию познания, отождествляемую им с феноменологией, Гуссерль обращает внимание на то, что структуры чистой логики представлены в конкретных психических переживаниях, связаны с языковыми выражениями, образуя с ними феноменологическое единство. Поэтому анализ переживаний мышления и способов выражения и составляет предмет второго тома “Логических исследований” — феноменологии. Гуссерль проводит различие между естественной и феноменологической установками, что позволило ему избежать упреков в реставрации психологизма, который он подверг критике в первом томе “Логических исследований”. Предметом феноменологии оказываются не сами предметы, а то предметное содержание, которое интенционально существует в актах мышления, представления, восприятия и др. Центральным понятием феноменологии на этом этапе является понятие значения, которое оказывается коррелятивным понятию выражение. Отвлекаясь от конкретных форм выражений, данных “здесь” и “теперь”, он стремится выявить в высказываниях нечто тождественное, не зависящее от того, кто их высказывал, при каких обстоятельствах и при каких условиях были осуществлены эти высказывания. Это тождественное и есть идеальное значение, или идеальное содержание высказывания. Помимо этой самотождественности значения Гуссерль обращает внимание на его интенциональность, вовлекающую в сознание “обстояние дела” (Sachverhalt), и на полноту его осуществления. Значение отождествляется им с идеальной предметностью и со смыслом понятий, принципиально отличаясь от предметов. Истина и есть коррелят акта идентификации, характеризуя адекватность интенции с истинным предметом. Идеирующая абстракция, или усмотрение идеальной сущности, и является тем актом, который позволяет постичь тождественность значения. Гуссерль настаивает на идеальном единстве и единственности значения, на его постоянстве и самотождественности (Selbigkeit). Это означает, что, делая акцент на существовании истин самих по себе, Гуссерль оставляет без внимания проблему языка, хотя и говорит о выражении значения. Однако это выражение однозначно, значение лишь флуктуирует в выражениях, оставаясь одним и тем же. Важно и то, что проблематику значения и многообразия актов его выражения он выносит за пределы логики в феноменологию. Именно феноменология делает своим предметом суждения, выражающие позицию говорящего и акты переживания. Значение же трактуется им как отсылка к предмету — реальному или мнимому. Поэтому логика как теория теорий должна элиминировать проблему эквивокаций, очистить теоретическое знание от двусмысленностей и многозначности, коль скоро значимость самотождественна и единственна. “Язык представляет мыслителю широко применимую систему знаков для выражения его мыслей; но, хотя никто не может обойтись без нее, она есть в высшей степени несовершенное вспомогательное средство для точного исследования. Всем известно вредное влияние эквивокаций (двусмысленностей) на правильность умозаключений. Осторожный исследователь может пользоваться языком, лишь искусно обезопасив его; он должен определять употребляемые им термины, поскольку они лишены однозначного и точного смысла”[138]. Он отмечал, что в логике эквивокация имеет роковое значение, а спутанность понятий существенно задерживала успехи познания[139]. Конечно, борьба против спутанности и двусмысленности логических понятий — важнейший путь определения предмета логики. Она была характерна для всей истории логики — от Аристотеля с его учением о категориях как родах сущего, позволяющих избежать логических ошибок, до Канта с его учением об амфиболиях. Но за этим неприятием Гуссерлем эквивокативности языка и познающего разума кроется стремление выявить самотождественное и единственное значение, ограничить язык лишь коммуникативной функцией, оставив вне логико-теоретического рассмотрения его семантику. Позицию Гуссерля периода “Логических исследований” можно охарактеризовать как платонистский реализм, утверждающий существование истин самих по себе и настаивающий на самотождественности и постоянстве значений. Мир объективно-идеальных значимых структур лишь реализуется в актах переживания, флуктуирует в феноменологически разноликих актах познания, представления, восприятия и др. Феноменология же мыслится им как способ вынесения за скобки всех отождествлений и двусмысленностей для того, чтобы достичь структурно единообразного мира самотождественных и инвариантных значений.
Трансценденталистская постановка вопроса об условиях возможности обоснования теоретического знания позволила Гуссерлю наметить пути наукоучения, понимаемого им как построение теории теорий. Однако на этом пути он вынужден был элиминировать теоретические и методологические особенности отдельных наук, подчинив их своей основной задаче — выявлению инвариантных структур значений. Вместе с тем и содержание наукоучения оказалось в “Логических исследованиях” резко суженным: из него “выпала” такая его часть, как эвристика, которая даже у Б.Больцано восполняла логику как теоретическую часть наукоучения. Все эвристические процедуры отдельных наук, все методологические приемы отдельных наук, все особенности построения теоретического знания в различных науках были вынесены за скобку и акцент делался на усмотрении единой теоретической структуры многообразия теорий. Упор на единство, причем на единство теоретическое, повлек за собой подчеркивание единственности и единства объективно-идеальных структур значимости и умаление эвристическо-процессуальной стороны научного познания. Феноменологическое описание актов переживания, которое, казалось бы, должно было возместить умаление эвристически-процессуальной стороны познания, не смогло этого сделать, поскольку даже в феноменологии опять-таки делался акцент на единых структурах и формах переживания. Вынесение за скобку проблем языка коренилось в убежденности в объективности и идеальности значения и вместе с тем оказалось чреватым абсолютизацией логических структур однозначных понятий и элиминацией всех сложных перипетий выражения мысли в языке и речи.
Философской концепцией науки, альтернативной платонистскому реализму, был в этот период конвенционализм, настаивающий на том, что все познавательные формы, понятия, теории являются результатом конвенции между учеными, результатом их соглашения. Тем самым познавательные и понятийные средства лишались объективно-идеального значения и обладали лишь статусом условных конвенций, возникающих в научной практике и исчезающих из нее по соглашению. В 1900 — 1901 гг. в журнале “Revue de Metaphysique et de Morale” выходят две работы французского философа Э.Леруа “Наука и философия” (Science et philosophie) и “Новый позитивизм” (Un positivisme nouveau). Имя Леруа нам известно преимущественно как создателя термина “ноосфера”, предложенного им в 20-е годы в лекциях, которые слушали Тейяр де Шарден и В.И.Вернадский. Но в эти годы Леруа отстаивал идеи конвенциализма, который сочетался с радикальным инструментализмом. Наука, по его мнению, имеет дело с твердыми телами и целиком ориентирована на действие (action), на его результативность. Подобное ограничение предмета исследования науки, имевшее своим истоком философию Э.Бергсона, не соответствовало реалиям научного знания, которое перешло к исследованию изменений и процессов. Согласно Леруа, факты, законы и теории — результат конвенций. Факты формируются духом из непрерывной, бесформенной данности благодаря символам: “научные факты являются действительными фактами для исследователя, который их констатирует. Они никоим образом не даны ему извне”[140]. Законы конструируются исследователем. В этом конструировании громадную роль играет язык. Леруа одним из первых мыслителей обратил внимание на эвристическую функцию языка, истолковывая факт как метафору данного, закон как метафору фактов, а теорию как всеобщую схему представления и символический образ, не подвластный ни опыту, ни дискурсивной объективации. Хотя Леруа и обратил внимание на роль языка, однако недоверие к дискурсивности привело его к критике научной рациональности, отождествлявшейся им с совокупностью конвенций, имеющих инструментальное значение.
Кутюра в своей рецензии на работу Леруа “Наука и философия” охарактеризовал его философско-гносеологические идеи как номинализм, с чем сам Леруа не согласился (Couturat. Contre nominalisme de Le Roy, — Revue de Metaphysique et de Morale, P., 1900, p. 87-93). А.Пуанкаре в книге “Ценность науки” в разделе “Объективная ценность науки” называет философскую теорию Леруа номинализмом и антиинтеллектуализмом. И эта оценка двух мыслителей конвенциализма как номинализма вполне справедлива.
В 1906 г. выходит в свет книга П.Дюгема “La Theorie physique, son objet et sa structure” (в русском переводе “Физическая теория, ее цель и строение”, СПб., 1910). Сделав своим предметом математическую физику, он рассматривал физические теории как конструкции, которые не имеют никакого соприкосновения с реальностью, как символическо-знаковые образования, которые оторваны от мира природных явлений. “Теоретическая физика не постигает реальности вещей, а она ограничивается только описанием доступных восприятию явлений при помощи знаков или символов”[141]. Экспериментатор устанавливает связь между абстрактными, символическими понятиями, “соответствие между которыми и наблюдаемыми в действительности фактами устанавливается исключительно теориями”[142]. Физический закон — символическое отношение. Физическая теория — это система понятий-символов, в применение к которым нельзя говорить ни об истине, ни о заблуждении. Конвенциализм Дюгема тесным образом связан с программой т.н. описательной физики, развивавшейся Г.Герцем, Клиффордом и др., со стремлением физиков рубежа 19 и 20 веков освободиться от метафизических предрассудков, одними из которых были причинность, эфир, субстанция и пр. От ряда натурфилософских и метафизических оснований естествознание начала 20 века освободилось, от других же — так и не смогло освободиться, в частности, от детерминизма.
В 1902 г. выходит книга А.Пуанкаре “Наука и гипотеза”, в 1905 г. — “Ценность науки”, в 1909 — “Наука и метод”. Уже в самом начале книги “Наука и гипотеза” Пуанкаре обращает внимание на то, что некоторые фундаментальные гипотезы естествознания являются конвенциями, условно принятыми соглашениями — “эти условные положения представляют собой продукт свободной деятельности нашего ума, который в этой области не знает препятствий”[143]. Но эти соглашения отнюдь не произвольны, они руководствуются и контролируются опытом. Любая научная теория является своего рода гипотезой. Критерием выбора между научными конвенциями является для Пуанкаре критерий удобства. Сам Пуанкаре проводил различие между понятиями геометрии, которые являются конвенциями, и понятиями физики, которые, хотя и являются конвенциями, но проверяются и опровергаются опытом. “Геометрические аксиомы не являются ни синтетическими априорными суждениями, ни опытными фактами. Они суть условные положения (соглашения): при выборе между всеми возможными соглашениями мы руководствуемся опытными фактами, но самый выбор остается свободным и ограничен лишь необходимостью избегать всякого противоречия” (Там же, с. 40). Опыт не может, по его словам, обосновать выбор между геометриями Евклида или Лобачевского. Критерий выбора — удобство. И он ничего не говорит об объективности или общезначимости геометрии. В отличие от аксиом геометрии и принципы механики, хотя и являются конвенциями, однако имеют опытное происхождение и могут проверяться на опыте. И в этом принципиальное расхождение между философскими концепциями Э.Леруа и А.Пуанкаре. Не рассматривая всей концепции науки А.Пуанкаре, в которой выдвинуто немало плодотворных идей (осмысление роли гипотез в науке, разделение гипотез на три вида, движение науки к простоте и к единству и одновременно к сложности и многообразию, трактовка науки как системы отношений, выдвижение принципа относительности), отметим, что развитие научного знания Пуанкаре рассматривал как переход от условных конвенций к опытным, экспериментальным истинам. Так, говоря о принципе относительности, он заметил, что “он уже не является больше простым условным соглашением, он доступен проверке и, значит, может быть опровергнут опытом. Он — экспериментальная истина” (Там же, с. 427). Речь шла о принципе Лоренца, на котором стала строиться новая физика. Позицию Пуанкаре нельзя охарактеризовать как радикальный конвенциализм. Он сохраняет действенность конвенциализма для определенных разделов научного знания — математики прежде всего и геометрии в частности. Для других же разделов науки интерпретация понятий и законов в духе конвенциализма разрушительна и не адекватна цели и ценности науки. Поэтому он и выступает с критикой радикального конвенциализма Э.Леруа, считая его номиналистом, который отказывал науке в объективной ценности.
Конвенциализм в философии науки обратил внимание на важную роль в науке условных соглашений, фикций, согласия в выборе гипотез и методов исследования. По сути дела, конвенциализм противостоял платонистскому реализму в интерпретации науки и представлял собой иную — номиналистическую линию в понимании науки. Противоборство реализма и номинализма как двух философских ориентаций в интерпретации науки привело к формированию принципиально различных образов науки, ее целей и структуры.
От лингвистического поворота в философии науки к философии языка
В 20-х гг. неокантианцы и Марбургской и Баденской школ осуществляют важный поворот в теории познания, поворот к языку как важнейшей функции разума, без которой невозможно осмыслить ни содержание, ни акты познания. Кассирер разворачивает учение о символических формах духа — мифе и языке. Х.Книттермейер (1891—1958) говорит о чуде слова и разговора, в котором душа открывается миру и мир — душе. Для него не трансцендентальное сознание, а слово и язык оказываются изначальными и все философские проблемы уже выводятся из философии языка, из чуда слова. В эти же 20-е годы Г.Г.Шпет — русский феноменолог — осуществляет поворот феноменологии к проблематике языка во всей ее сложности и многоаспектности. Для него “слово — не обман, не символ только, слово — действительность, вся без остатка действительность есть слово, к нам обращенное, нами уже слышимое, ждущее вашего, философы, уразумения”[144]. Гуссерль периода “Логических исследований” настаивал на том, что необходимо вынести за скобку, подвергнуть феноменологической редукции вся языковые отождествления и возвратиться “к самим вещам” — референтам чистого значения. Вслед за ним и ранний Шпет полагал, что “язык наш — враг наш. Почти за каждым высказываемым или воспринимаемым словом таится, как в засаде, омонимия”[145]. Позднее в 20-е гг. его позиция существенно изменилась — в центре внимания оказались проблемы герменевтики, проблемы внутренней формы слова и осмысление наследия В.Гумбольдта. Шпет одним из первых феноменологов обратился к проблематике философии языка, выявив формообразующую силу языка, стал исследовать семантику языка, сделав его моделью всякой культуротворческой деятельности.
Хотя можно выявить определенные корреляции между поворотом философии к анализу символических форм и символизацией математики (программа Д.Гильберта), логики (работы Б.Рассела, Л.Кутюра) и даже живописи (абстракционизм К.Малевича и Кандинского), между осмыслением важнейшей онтологической роли “естественного языка” в неогумбольдтианстве и попытками укоренить все понятия науки в символических формах родного языка, все же лингвистический поворот в философии вообще и в философии науки, в частности, означал, что прежний гносеологический подход к структуре и общезначимым формам научно-теоретического знания оказался уже неадекватным и далеким от реальных проблем науки 20-х гг., которая находилась в интенсивных поисках новых методологических средств и в острых спорах относительно своих оснований (можно напомнить споры относительно квантовой механики и генетики). В мае 1954 г. выдающийся физик Г.Вейль, вспоминая о годах молодости, обратил внимание на значение идей В.Гумбольдта, Л.Витгенштейна и Э.Кассирера для осмысления роли символического языка в научном познании. Так, говоря об анализе Кассирером символических форм, он писал: “Кассирер находил, что общей особенностью, присущей им всем, является символ, символическое представление... Изучение этих символических форм на основе подходящих структурных категорий должно в конечном счете стремиться к тому, чтобы продемонстрировать их как органичное целое”. Вейля многое восхищало в проведенном Кассирером анализе, который свидетельствовал об уме редкой универсальности, культуры и интеллектуального опыта[146]. Не только философия символических форм Кассирера свидетельствует о лингвистическом повороте в философии науки. Это относится и к философии Л.Витгенштейна, и к философии естественного языка. Этот лингвистический поворот в философии науки будет предметом нашего исследования в последующих статьях об успехах и поражениях философии науки в 20 веке.
В 20-е годы складывается новая исследовательская область философии — философия языка, в которой не просто анализируется взаимосвязь мышления и языка, а выявляется конституирующая роль языка, слова и речи в различных формах дискурса, в познании и в структурах сознания и знания. Термин “философия языка” был предложен П.И.Житецким (1900), А.Марти (А.Marty, 1910), К.Фослером (K.Vossler, 1925), О.Функе (O.Funke, 1928), М.М.Бахтиным и В.Н.Волошиновым (1929).
Классическая философия тематизировала проблематику языка под двумя углами зрения: 1) объяснения генезиса языка, где были выдвинуты две альтернативные концепции — возникновения языка по природе (концепции, развивавшиеся от софистов и стоиков до Просвещения) и по конвенции (от греческих атомистов до Т.Гоббса и Ж.-Ж.Руссо) и 2) взаимосвязь языка и мышления, причем при всем многообразии концепций, обсуждавших этот круг проблем, их объединяло то, что язык рассматривался как пластичный материал выражения мысли, которая трактовалась как безличная, объективно-идеальная структура однозначных значений. Язык для классической философии — зеркало рассудка (Д.Локк, Г.Г.Лейбниц). Конечно, опосредованным образом специфическая структура языка задавала и перспективу категориального расчленения, поскольку категории выявлялись (Аристотелем, Кантом, Тренделенбургом и др.) как типы связки в суждениях, отождествлявших с предложениями, а типы связки субъекта и предиката весьма различны в различных языках. Так, в иврите не существует прямого аналога слову “есть”, поэтому “весь строй еврейской мысли связан с реалиями, отличными от понятий бытия, сущности, объекта, предикации, доказательства и т.д.”[147], а вещь оказывается встречей двух воль, скрещением действия и отношения. Но все же трансцендентализм стремился освободить мышление от сопряженности с языком и ориентировал философию на постижение структур чистого мышления вне языковой реальности. Гердер, Гаман и В.Гумбольдт, подвергнув критике трансцендентальную философию И.Канта, поняли язык как органон рассудка, как способ существования и функционирования ума. В.Гумбольдт задал принципиально новую перспективу исследования языка, который был понят им как “самодеятельное начало”[148], не как мертвый продукт, а как созидающий процесс, не как продукт деятельности (Ergon), а как деятельность (Energeia)[149]. Статус языка после Гумбольдта в корне изменился — из пластичного материала выражения духа он стал постоянно возобновляющейся работой духа. Язык и образует тот мир, который лежит между миром внешних явлений и внутренним миром человека. И этот языковый мир не просто податливый материал для выражения мысли, он сам является энергичной активностью, задавая определенные диспозиции восприятию и мышлению, формируя установки и перспективы для усилий мысли. Несмотря на всю оригинальность лингвистической концепции Гумбольдта, она все же вплоть до 20 в. не оказала какого-либо существенного влияния ни на философию, ни на лингвистику. Философия по-прежнему стремилась очистить структуры знания и мышления от сопряженности с языком, повернуть в своей критической рефлексии от мышления, погруженного в неоправданные отождествления, в метафоры, в полисемичность, присущие естественному языку, к чистому мышлению в понятиях, имеющих объективное, надличностное и однозначное значение. Собственно классическую философию интересовал скорее всего мир идеальных значений, а язык представал либо как податливый материал выражения этого значения, либо как неадекватная форма выражения этого идеального значения, что присуще естественному языку, который должен быть критически проанализирован.
Ситуация принципиально изменилась уже в конце 19 — начале 20 в. Уже Ф.Ницше связал все заблуждения с языком, с гипостазированием и с онтологизацией слов — фикций. Немецкий идеализм он называл “метафизикой языка” (Sprachmetaphysik). Ф.Маутнер, отождествив мышление и речь, выдвинул программу критики языка как источника антропоморфизации, фетишизма и метафоричности. В языкознании возникли концепции, которые не просто возвращались к идеям Гумбольдта, но и развивали их. Так, Г.Штейнталь выделил в языке 1) речь, 2) способность к языку, 3) материал языка. К.Бюлер, стремясь реализовать замыслы Гумбольдта, выдвинул ряд аксиом нового языкознания — 1) язык как органон, 2) знаковая природа языка, 3) анализ языка как речевого действия и речевого акта, как языкового произведения и языковой структуры, 4) язык как система из слов и предложений[150]. Неогумбольдтианство (Л.Вейсгербер, Г.Г.Шпет) раскрыло языковое понимание как миропонимание, поняло естественный язык как орган создания мысли и постижения мира и, обратившись к внутренней форме языка, рассмотрело образование форм духа благодаря языку и в языке. Одна из особенностей лингвистики 20 в. соединение структурализма и семиотики. Основатель структурализма — Ф.Соссюр в “Курсе общей лингвистики”, который он читал на протяжении 1907—1911 гг. и который был издан в 1916 г., провел различие между языком как структурой возможных и реальных норм и речью как совокупностью актов. Ч.Моррис предложил понять процесс семиозиса как процесс, совершающийся в трех измерениях: знак может быть осмыслен либо в своих взаимоотношениях с другими знаками или с совокупной знаковой системой, т.е. синтаксически, либо в своем отношении к предмету, который он обозначает, т.е. семантически, либо в отношении к говорящему, который использует те или иные знаки, т.е. прагматически.
Неопозитивизм, отталкиваясь от работ Г.Фреге, вначале стремился понять язык как средство общения и ориентировался на построение синтаксиса языка (Р.Карнап и др.), в котором задача логики и философии интерпретировалась как логический анализ языка и как языковая терапия (Б.Рассел, Дж.Айер). Эта линия, связанная с различением языка-объекта и метаязыка и с ориентацией на анализ структур языка науки, нашла свое продолжение в генеративной грамматике Н.Хомского. Л.Витгенштейн, который в “Логико-философском трактате” усматривал задачу философии в прояснении слов, позднее в “Философских исследованиях” выдвигает понятие “языковой игры”, в котором подчеркивается, что значение слов обусловлено словоупотреблением, т.е. обращает внимание на прагматический характер языковых значений, а использование языка трактуется им как вид языковой активности. Интерес к прагматике языка характерен как для инструментализма и прагматизма (Д.Дьюи, К.И.Льюис, У.В.О.Куайн), так и для анализа обыденного языка (Д.Уиздом, Д.Райл, Д.Л.Остин, П.Ф.Стросон), где философия понимается как анализ употребления языка и как выявление смыслового богатства естественного языка. Если в 1950—60-е гг. господствовал структурализм и семиотический подход к языку как системе знаков, то в 70-е гг. и в самом языкознании, и в философии языка произошли существенные сдвиги — в центре внимания оказались не только искусственные языки и их семантика, но и естественные языки, синтаксические аспекты языка анализировались в единстве с семантическими, а семантика была понята как экспликация истин и логического следствия (ср. с идей Л.С.Выготского о смысловом синтаксисе внутренней речи). Это направление в философии языка нашло свое развитие в теории речевых актов, где языковые выражения были поняты не как предметы, а как действия (Д.Остин, Серл). Лингвистика в 70-е гг. обратилась к исследованию единиц, более крупных, чем предложение (лингвистика текста, анализ дискурса), что существенно трансформировало и ее предмет, и методы. Предметом ее внимания стали уже не понятия с объективностью и однозначностью их значения, а концепты, формирующиеся вербальным мышлением в актах речи, практического употребления языка, в различных формах концептуализации людьми мира (концептуальный анализ А.Вежбицкой, Н.Д.Арутюновой, приведший к формированию программы семантики культуры). Поворот лингвистики к риторике и философии к неориторике, начатый А.А.Ричардсом в “Философии риторики” (The philosophy of rethoric, Oxf., 1936) позволил не только выявить новые аспекты функционирования языка (письменность и речь, структура диалога, речь и язык, речевая коммуникация), но и показать связь принципов логики с процедурами речевой аргументации, расширить область значений до универсального континуума смыслов, выражающихся в концептах, в системе общих топосов (мест), обратить внимание на специфические процедуры как понимания текста, так и достижения взаимопонимания и консенсуса. Анализ речевого дискурса привел к построению нарратологии и различных концепций рассказа и устной речи, к осознанию эвристической функции метафор (М.Фосс, М.Хессе, П.Рикер), связи языка и стиля (Г.Винокур, Д.Лайонз). Тем самым предмет и языкознания, и философии языка существенно расширился к концу 20 в. — предметом их изучения стал не просто язык как активность мышления, но и речь, речевая коммуникация и все формы использования языка, понятые как способы действия, формирующие континуум смыслов, обладающих полисемичностью и омонимией, не редуцируемых к однозначным и идеально-объективным значениям и предполагающих в качестве способов своего выражения фигуры речи, метафоры и тропы. Наряду с логическим анализом языка в философии языка развиваются концепции герменевтической интерпретации языка (Г.-Г.Гадамер и П.Рикер), трансцендентальная прагматика К.О.Апеля, теория коммуникативного действия Ю.Хабермаса, структурный психоанализ Ж.Лакана, которые делают предметом своего исследования речевые высказывания, языковые коммуникации, прагматику и семантику языка.
A.A.Hовиков
Пять ипостасей русского интуитивизма (О “пропедевтической” гносеологии Н.Лосского)[151]
Признавая заметный вклад русских философов в разработку этической, софиологической, историософской и антропологической проблематики, некоторые исследователи сетуют по поводу якобы традиционного невнимания с их стороны к проблематике гносеологической. Между тем, уже общее знакомство с развитием философской мысли в России в XIX веке позволяет говорить о значительном ее интересе к теории познания и в частности — кантовскому критицизму, приведшему к появлению влиятельного российского неокантианства. Одновременно Россия становится одним из центров по пропаганде и развитию идей наиболее передового, как считала часть отечественной научной и философской общественности, направления в гносеологии — позитивизма. Таким образом, русских философов XIX века можно упрекнуть скорее в отсутствии оригинальных идей в теории познания, нежели в индифферентном к ней отношении.
Эта ситуация начинает существенно меняться в начале XX столетия благодаря усилиям прежде всего таких мыслителей, как братья Трубецкие, С.Франк и Н.Лосский. Последний отнюдь не был узким гносеологом, но его весьма оригинальная концепция непосредственного знания привлекла внимание не только отечественных, но и западных философов[152]. Отмечая безусловную связь Лосского с традициями немецкой классической философии и, одновременно, “соприкосновение” его идей с идеями Липпса, Шуппе, Ремке, Гуссерля[153], западная философская критика указывала на очевидную самостоятельность и самобытность русского философа. Более того, по свидетельству Н.Бердяева, Лосский первым из русских философов открыто противопоставил себя всей современной ему западной философии, оторвавшейся, по его мнению, от реальной жизни и впавшей в состояние глубокого кризиса.
Истоки этого кризиса, считал Лосский, следовало искать в философии Нового времени. Идея самоценности человеческой личности и актуальности роли самосознания, выдвинутая философией XVII века, оказала колоссальное влияние не только на социально-политическую мысль в Европе, но и на формирование принципиально нового подхода к теории знания. Причем, если в общесоциальном плане эта идея оказалась безусловно прогрессивной, то в гносеологии — ошибочной и даже вредной. Порочность ее состояла в жестком противопоставлении “Я” и “не-Я”, субъекта и объекта. Первый не только обособляет себя от объекта, но и становится судьей последнего. Это был путь к субъективизму и абсолютному скептицизму. И если классический рационализм с его чрезмерной склонностью к “чистому интеллектуализму” пошел по этому пути вполне сознательно, то эмпиризм оказался на нем de facto. Справедливо указав на опыт как на основу всякого знания, он, однако, свел его к чувственному восприятию реальной действительности и тем самым привел к “обессмысливанию” последней.
Первым, кто выступил с критикой противопоставления субъекта и объекта, был, по мнению Лосского, Кант. Назвав “гениальным” кантовский критический метод, он, вместе о тем, с сожалением отмечает, что немецкий философ не смог полностью преодолеть пороки “отвлеченного” рационализма и “индивидуалистического” эмпиризма. Привычка оценивать процесс знания исходя из “Я” слишком укоренилась в философии. Мир реальных вещей для него — мир явлений, априорно упорядоченных личностных представлений. Кант обеднил созданную им трансцендентную логику, сведя рациональные синтетические формы к субъективным психическим синтезам. Даже Бог становится у него “правилом синтеза ощущений”. Устранив раскол между знанием и явлением, Кант приводит к расколу между явлением и вещью-в-себе. Эти и другие его заблуждения, резюмирует Лосский, достигли своего апогея в неокантианстве.
Выход гносеологии из постигшего ее кризиса русский философ видит на пути создания теории “надындивидуального” (непосредственного) знания, что, прежде всего, предусматривало ее отказ от базирования на теории сознания. Для этого необходимо было вернуться к лучшим традициям древнегреческого Логоса, где субъект не противопоставляет себя объекту, а естественным образом бытийствует в “океане транссубъективного мира”. Интерес к этой идее начинают проявлять многие направления философской мысли начала XX века, однако наиболее последовательным ее сторонником становится интуитивизм, олицетворяющий собой, как считал Лосский, главную тенденцию развития гносеологии на новом историческом этапе.
***
Работа Лосского “Обоснование интуитивизма” послужила, на наш взгляд, основой формирования особой русской модели этой философской доктрины. Ее главная особенность состоит в стремлении утвердить мысль об изначальной интуитивированности знания с одновременным пересмотром и переоценкой природы и функций самой интуиции. Вопреки А.Бергсону и другим интуитивистам, Лосский считает, что интуиция — не иррациональный акт, не подсознательнее озарение и не инструмент нахождения истины путем перескакивания через известные этапы рассудочного мышления, как думают более серьезные и глубокие мыслители. Ее достоинство — не в игнорировании традиционных форм познания или (воспользуемся выражением К.Ясперса) достижении истины “обходным путем”, а в обеспечении субъекту восприятия объективной действительности так же непосредственно, как и восприятия собственного внутреннего мира, с улавливанием в объекте того главного, что составляет его суть и что, как правило, оказывается скрытым от чувств и рассудка. Только интуиция способна заглянуть в “недра чужого бытия” и, вопреки Канту, постигнуть вещь-в-себе. Чрезвычайно высоко оценивая статус науки и дедуктивного мышления, Лосский, в то же время, предостерегает от их абсолютизации в качестве инструментов миропостижения. Наука очень редко и неохотно заглядывает в метафизические глубины мироздания. И она по-своему права. Но реальный мир гораздо богаче и сложнее его научной картины. Многие его грани и проявления остаются недоступными для прямого наблюдения и теоретического осмысления, хотя давно прочувствованы поэтами и “учуяны” тонко и глубоко мыслящими метафизиками.
Предложенная Лосским интерпретация интуиции была, надо признать, с немалой настороженностью воспринята даже теми его коллегами, чьи общефилософские воззрения были весьма близки воззрениям возбудителя их профессионального беспокойства”. Известный историк русской философии В.Зеньковский, чрезвычайно высоко оценивавший профессиональные качества Лосского и его позитивный вклад в развитие философской мысли в России, полагал, что у автора целой системы интуитивного знания вообще нет “подлинной” интуиции. И он, как ни странно, был прав. Прав при том, однако, условии, что подлинной интуицией следует считать тот недоступный рациональному анализу феномен, который, воспользовавшись своим правом на профессиональное творчество, отверг Лосский. Последний действительно лишил интуицию того традиционного пьедестала, на который ее возвел западный интуитивизм, и, если можно так оказать, приземлив ее, лишил того привлекательного “блеска” (эпитет Зеньковского), который так импонировал поклонникам творчества Бергсона. Уточнив типологию и предметные векторы интуиции (к этому вопросу мы еще вернемся), Лосский твердо встал на позицию понимания и оценки феномена интуиции исключительно в контексте всей системы гносеологии. Никакой особой системы интуитивного знания он по существу не создавал, поскольку само понятие “интуитивное знание” считал, как об этом можно судить на основе анализа его концепции, не вполне корректным. Не культивировал он, кстати говоря, и понятие “интуитивизм”, пользуясь им скорее ради удобства и уважения к философской традиции. Об этом свидетельствуют и подзаголовок — “Пропедевтическая теория познания”, который он дал своему главному труду, и те смысловые конструкции (ипостаси), которые призваны были наилучшим образом раскрыть сущность его “интуитивизма”.
Процесс знания провозглашается Лосским не только главным, но по существу единственным предметом интуитивизма. Последний видится им в качестве “новой теории обыкновенных способов познания вещей”, подлинной “монистической гносеологией”. Одновременно автор спешит сделать одну существенную, как он считает, оговорку, указывающую на некорректность общепринятого отождествления гносеологии с теорией знания (тем более — познания), ибо теория, по его убеждению, должна включать в свой состав весь спектр вопросов, связанных с познавательной деятельностью, в том числе и учение об истории знания, и учение об истине, как центральном ядре философии вообще, и даже вопросы, связанные с проблемой “строения мира”. Гносеология же, в его понимании, — теория знания лишь по преимуществу. “Строго говоря, гносеология должна была бы только исследовать обработку объектов знания и отношение объектов знания к процессу знания, не относя эту обработку и объекты ее ни к Я, ни к сфере не-Я”[154]. В итоге Лосский приходит к выводу, что ничем иным, как учением о составе знания и о свойствах той же истины, характеризующей объективную сторону знания и ее отношение к субъективной стороне, она не может.
В дальнейшем, однако, он отказывается от попыток преодоления некоторых, как ему кажется, изживших себя философских традиций и постулатов. Деликатно выпроводив их за дверь, он вынужден открывать окно для их возвращения. Гносеология, конечно же, теория знания, и в сферу ее компетенции входит и проблема отношения объекта и субъекта, и вопросы о составе знания и свойствах истины. В чем Лосский остается непреклонен, так это в том, что гносеологию категорически нельзя завязывать ни на психологию (как это делают псевдорационалисты), ни, тем более, — на физиологию (к чему стремится Бергсон), хотя она не может и не должна отказываться от помощи последних. Психологическая сторона знания конечно не создает объект, но она помогает его найти, физиологическая подоплека знания сопутствует этому поиску. Вместе с тем, никакая совокупность возможностей психики, физиологии и др. частных наук, не может, соглашается Лосский с Кантом, создать научной теории знания. Таким образом гносеология отнюдь не игнорирует ни психологию, ни физиологию, но ясно показывает, что к анализу состава знания и теории истины они не имеют никакого отношения.
Обсуждая достоинства и недостатки философской системы[155] Лосского, многие его современники из числа русских философов (в том числе и доброжелателей) упрекали автора в отсутствии у него ясности в столь важном вопросе, каким является вопрос о соотношении гносеологии и онтологии”. Причем одни из них указывали на недостаточную их дифференциацию (Лопатин), другие обращали внимание на слабую онтологическую насыщенность его гносеологии (Бердяев) и даже на полное отсутствие между ними какой бы то ни было связи (Зеньковский).
Упреки эти (особенно последний) вряд ли можно назвать справедливыми, поскольку в действительности Лосский настаивает как раз на том, что гносеология невозможна в чистом, отвлеченном виде. Надежда на создание “чистой” гносеологии, как, впрочем, и “чистой” онтологии — не более чем иллюзия. Истинная философия, считает Лосский, есть органическое “металогическое их единство” Вместе с тем, сохраняя верность классическому философскому реализму (имеется в виду реализм древних греков), освобожденному, по его выражению, от “наивности”, и опираясь на основополагающие идеи собственного мировоззрения, он решительно выступает против зависимости гносеологии от традиционно понимаемой онтологии. За отступление от этой позиции философ упрекает и своего идейного учителя Лейбница, и близкого ему по интересам Бергсона.
Приоритет гносеологии над онтологией, который с непоколебимой убежденностью отстаивает Лосский, отнюдь не следует понимать как приоритет знания над бытием. Речь идет исключительно о методическом приоритете одного учения над другим. Прежде чем стать инструментом познания некоторой объективной реальности, всякое учение должно познать свои собственнике задачи и возможности. Тем не менее, в известном смысле гносеология вправе считать себя рациональным фундаментом любой философской и духовно-нравственной системы. Всякая онтология, метафизика, религиозная доктрина должны иметь свое гносеологическое обоснование и оправдание. Называя свою гносеологию “пропедевтической”, автор вовсе не принижает ее значимости и не противопоставляет так называемой “онтологической гносеологии”[156], имеющей своим предметом наиболее общие принципы бытия и ставящей своей целью достижение “полной истины”, а расценивает как “скромный”, но верный шаг в этом направлении. Опираясь на собственную гносеологическую концепцию, Лосский стремится к созданию и “новой онтологии”, органически сочетающей в себе достоинства античного универсализма и современного персонализма, и вместе с тем свободной от известных крайностей этих философских доктрин.
Интуитивистская онтология Лосского исходит из идеи признания трех основных видов бытия: реального, идеального и металогического. Реальное (материальное) бытие, как низшая его ступень, имеет простраственно-временную форму, доступную чувственной интуиции и не представляющую собой особого интереса для метафизики, ибо материя — не субстанция, а лишь пассивный субстрат, служащий основой формирования чувственных транссубъективных качеств. И только. Более того, в природе, заявляет Лосский, вообще нет чисто материальных явлений и процессов, а есть лишь явления и процессы психоматериальные, или психоидно-материальные. Психическое — не надстройка над материальным, а его условие — целевое, смысловое и проч. Психоидность — низший, бессознательный тип психической реальности, простейшая эгоистическая форма проявления психики, отличная от духовного альтруизма. Интуитивизм отнюдь не игнорирует мир материальной реальности, но рассматривает его как сумму конечных вещей и потому не проявляет к нему должного интереса.
Основной формой истинной бытийности, обусловливающей бытийность материальной реальности, является идеальное бытие. Оно имеет два слоя (или подвида) — “абстрактно-идеальный” и “конкретно-идеальный”. Первый слой — аналог платоновских идей — пассивен и не обладает способностью самостоятельного существования. Второй слой, напротив, деятелен и активен. Постижение идеального бытия, свободного от пространственно-временных ограничений, доступно лишь интеллектуальной интуиции. Закрепляя за идеальным бытием приоритет во всех отношениях, интуитивизм предстает в системе философского мировоззрения в облике “идеал-реализма”.
Настаивая на идее единства мира, “идеал-реализм”, в отличие от реализма “наивного”, признающего автономность истин-идей, настаивает на реальности и чрезвычайной значимости для мироздания идеальных отношений. Велико его значение и как методологического ориентира развития научного знания. Подлинная научность там, где имеет место стремление объяснить мир идя сверху вниз, а не наоборот, что типично для обыденного мышления. Следовательно, простое наука должна объяснять из сложного (камень в “огород” Декарта), материальное — из идеального. Только методологический синтез метафизики и строгой науки ведет к постижению “идеала знания”.
И, наконец, высшей ступенью бытия Лосский объявляет металогическое бытие в образе некоего “сверхкосмического принципа”, именуемого то Богом, то Логосом. Логос может существовать без реального (материального и, надо полагать, идеального) мира, но сами эти феномены (миры) невозможны без Логоса. Именно он — закон (“Принцип”) изменения и развития мира, условие его познания. Без Логоса, как синтеза Разума, Добра и Красоты, в мире не было бы ни порядка, ни единства, а царил бы субъективный произвол в духе Маха и его единомышленников. Логос, как антидискурсивная целостность, не допускает разделения на объект и субъект, и потому для него нет проблемы отношений между ними, а есть лишь отношение бытия к бытию, одной функции жизни к другой. В подражание Логосу человек должен стремиться строить свое мировоззрение, исходя не из субъективных возможностей, а из “мировой точки зрения”. Но этот путь может обеспечить лишь мистическая интуиция. Последняя, впрочем, легко распространяет свое влияние на все сферы бытия и познания.
Создавая свое учение, Лосский всячески стремится подчеркнуть его естественную связь с другими гносеологическими концепциями и, в то же время, его право занять собственную нишу в системе философского знания. Интуитивизм не отрицает, например, положительной значимости традиционного эмпиризма и рационализма. Он отрицает лишь некоторые ложные, по мнению автора, посылки этих учений. Более того, в определенном смысле интуитивизм рассматривает самое себя как особую форму и рационализма, и эмпиризма.
Также, как и традиционный эмпиризм, интуитивизм началом познания считает наблюдение, при этом под наблюдением он понимает не только буквальное восприятие реальности с помощью органов чувств, но и интеллектуальное действо в духе Платона (наблюдение “очами разума”). Как и эмпиризм, важнейшим средством познания интуитивизм считает опыт. Вместе с тем он категорически отрицает правомерность ограничения понятия “опыт” рамками чувственно-субъективных восприятий. Такой (давно уже признанный ущербным христианской мыслью) эмпиризм Лосский называет “индивидуалистическим”. Позиция последнего — позиция мнимой научности и мнимой философичности, ведущая к релятивизму и солипсизму. Подлинная же наука там, где достоверное знание основано на осмысленном, т.е. синтетическом, универсальном опыте, представляющим антипсихологическое и антиантропологическое направление в гносеологии. Вопреки эмпиризму “индивидуалистическому” он настаивает на том, что человеческий опыт может быть не только бытийным, но и ценностным: этическим, эстетическим, религиозным. Аксиологический опыт имеет своим предметом нематериальные явления и носит сверхчувственный, мистический (в терминологии Лосского) характер. При этом русский философ дает свою собственную интерпретацию термину “мистическое”, освобождая его от традиционного значения таинства и рассматривая в качестве характеристики своего рода чистого, непосредственного восприятия субъектом той или иной нематериальной реальности. Мистическое, таким образом, не означает сверхопытное. Подобное расширение сферы человеческого опыта (в чем Лосский, напомним еще раз, не был пионером) позволяет интуитивизму рассматривать себя в качестве “универсалистического” или “мистического эмпиризма”.
Понятый таким образом мистицизм оказал, по мысли Лосского, значительное влияние и на рационализм, помогая ему избавиться от “чрезмерного интеллектуализма” и игнорирования роли “полусознательной” деятельности духа. И это не было очередной попыткой направить философскую мысль в иррационалистическое русло. Хотя Лосскому и импонировала мысль Франка и его известных предшественников о том, что высшая истина говорит за себя в молчании, он решительно отстаивает идею рациональной природы философского знания. “Только от случая к случаю нам необходимо в философии прибегать к молчаливому, невыразимому познанию, а затем немедленно же возвращаться от него к рациональному умозрению — истинной сфере философии”[157].
Мистическое насыщение рационализма не умаляет, таким образом, его достоинств, но значительно расширяет его возможности и углубляет понимание его сути. Вот почему, уверяет Лосский, к началу XX столетия на арену выходит уже обновленный, “мистический рационализм”, заполняя собой значительную часть западного философского пространства. В русской же философии он вообще завоевывает ведущие позиции.
Итак, интуитивизм не есть антитеза эмпиризма и рационализма, а есть, напротив, их синтез, что и дает ему право претендовать на статус нового “органического мировоззрения”. Цель последнего — устранение надуманной противоположности знания и бытия, рационального и иррационального (но только в теории), преодоление односторонностей эмпиризма и рационализма не через синтез априорного и апостериорного знания, а на основе синтеза эмпирического и логического оснований достоверного знания. Важнейшим условием создания “органического мировоззрения” стало кардинальное переосмысление отношений объекта и субъекта знания, а также сущности самого знания и путей его достижения.
***
Делая “индивидуалистический эмпиризм” и субъективный идеализм вообще предметом своей критики, Лосский, вместе с тем, не склонен и абсолютизировать эту критику. С присущей ему дипломатичностью он заявляет, что выступает не за отказ от индивидуализма, а за его “органическое перерождение”. Конечно, без объекта нет и субъекта, но, в известном смысле, справедливо и обратное утверждение, ибо значимость и ценность объекта актуальны лишь в отношении к субъекту. Ценность — лишь там, где есть идеальность, а идеальность только там, где есть духовность. Ну а последняя, как известно, своим носителем и хранителем имеет личность, субъекта, персону. Короче, резюмирует Лосский, “в природе все проникнуто субъективным бытием; всюду, где есть что-нибудь есть и кто-нибудь”[158]. И это — не дань гносеологическому субъективизму, но кредо “иерархического персонализма”[159].
И все же свою гносеологию, как уже отмечалось, Лосский строит как теорию “надындивидуального знания”, направленную, с одной стороны, против субъективизма и психологизма, с другой — против всех вариантов трансцендентного знания. В свою очередь в основу этой теории он кладет идею надындивидуального сознания[160].
Вопреки широко распространенному мнению о субъективной уникальности каждого сознания, оно, считает Лосский, лишь отчасти содержит субъективный, психологический аспект и потому не есть нечто, содержащееся в черепной коробке мыслителя. Сознание объединяет в себе все то, что находится в некотором отношении к “Я”. Кроме самого субъекта (“Я”) — это и содержание знания, и отношение субъекта к объекту. Последнее автор выделяет особо и, судя по всему, считает себя пионером этой идеи, как, впрочем, считал до него и другой известный мыслитель.
Всякий предмет (явление) действительно становится объектом знания в точном смысле этого понятия лишь тогда, когда он (оно) попадает в поле актуального интереса субъекта. Эту точку зрения разделяют многие философские школы, но выводы на сей счет, полагает Лосский, делают весьма различные. При всем, однако, различии наиболее типичной ошибкой является утверждение о существовании между объектом и субъектом причинно-следственной связи. Это — позиция “гносеологического натурализма”. Интуитивизм же решительно отрицает не только причинно-следственные отношения, но и какую бы то ни было субординацию между объектом и субъектом. Эти отношения не являются также ни пространственными, ни временными. Они могут быть только координационными. Идея координации, позволяющая, по мысли Лосского, избежать солипсизма, была в свое время предложена, как известно, Авенариусом, но оказалась дискредитированной вследствие ложной ее интерпретации эмпириокритицизмом. Интуитивизм ставит своей целью возвращение гносеологической координации ее законных прав и статуса важного теоретического постулата.
В понимании Лосского гносеологическая координация не есть акт сознательного объединения объекта и субъекта в единое целое. Она — досознательна и представляет собой особый тип их связи. Суть ее в том, что активность органов чувств и физиологических процессов в головном мозгу субъекта есть не причина восприятия объекта, а только стимул к этому восприятию. Именно благодаря координации всякое бытие потенциально является бытием и для другого: реальный объект существует и для-себя (сам-по-себе и до-меня), и для-меня, как субъекта познания. Вместе с тем важно подчеркнуть, что координация делает объект лишь потенциально доступным субъекту, но не гарантирует его познаваемости и уж, само собой разумеется, сама знанием не является. Также как и интуиция, координация — лишь условие знания.
Включая, таким образом, объект в акт знания (сознания), Лосский, вместе с тем, предостерегает от отождествления знания об объекте с самим объектом и тем более от мысли о приоритете знания над бытием. Знание есть особая форма бытия и не только в том смысле, что оно реально существует (бытийствует), но и в том, что содержит в себе бытие, которое вне процесса знания знанием не является. Иными словами: знание-бытие содержит в себе как элемент бытие-незнание и занимает некоторое промежуточное положение между объектом и субъектом, как бы разыгрываясь частично в мире “Я” и в мире “не-Я”. Сам акт знания принадлежит, конечно, субъекту (субъективная сторона знания). Предмет же и содержание знания целиком обусловлены объектом (объективная сторона знания). Это еще раз, уверяет Лосский, опровергает мнение о жесткой обособленности объекта и субъекта. В акте знания внешний объект всегда имманентен процессу знания, но остается трансцендентным по отношению к субъекту знания. Таков исходный постулат интуитивизма, краеугольный камень его теории познания. В эту позицию автор вносит лишь одно уточнение: знание о внешнем мире ничем принципиально не отличается от знания субъектом своего внутреннего мира; и тот и другой познаются одинаково непосредственно.
Вопрос об имманентности — один из центральных и определяющих в интуитивизме. Однако авторские рассуждения об имманентности делают неоднозначной и их оценку со стороны критики. Зеньковский, например, считает теорию познания Лосского “абсолютным”, “торжествующим имманентизмом”. Подтверждением тому, казалось бы, служит и утверждение самого Лосского о том, что “в мире все имманентно всему”, и его убежденность в невозможности трансцендентного знания. Однако внимательный анализ авторской позиции на сей счет заставляет усомниться в оценке Зеньковского и согласиться с мнением Бердяева о том, что традиционному имманентизму интуитивизм близок лишь внешне. Более того, считает Бердяев, имманентную философию Лосский вообще не принял, хотя и воспользовался соответствующей философской идеей, предложив, однако, ее новое понимание.
Имманентная философия, признает Лосский, “в высшей степени” родственна интуитивизму благодаря опоре на идею непосредственного знания. В то же время ее способы обоснования и выводы “резко отличаются” от интуитивизма. В имманентной философии всякое бытие тождественно знанию и зависит от него. Интуитивизм же, напротив, настаивает на том, что бытие предшествует знанию и не зависит от него. Последнее ничего не привносит в действительность и не имеет самостоятельного от действительности значения. Имманентность внешнего объекта процессу знания, не есть, однако, имманентность его содержанию знания. Знание об объекте будет всегда беднее самого объекта и чем больше человек познает, тем больше убеждается в превосходстве реальной действительности над знанием о ней. Имманентной знанию становится лишь малая часть познаваемой реальности. Бульшая же часть ее остается трансцендентной знанию, что практически исключает возможность достижения абсолютно полного знания, свидетельствует о его относительности и исторической ограниченности. Для каждого субъекта объем и глубина знания — материал его собственного отбора и показатель способностей. Но если трансцендентность внешнего объекта знанию лишь частична, то трансцендентность его познающему субъекту — абсолютна.
Все это, однако, характерно для той ситуации, когда объектом осознания выступает внешний субъекту предмет (явление). Когда же субъект делает предметом своего осознания (знания) свои собственные психические состояния, то объект становится имманентным и знанию о нем, и субъекту знания. Это — единственный случай, когда позиция эмпиризма “универсалистического” совпадает с позицией эмпиризма “индивидуалистического”. Принципиальная ошибка последнего, ведущая к субъективизму и солипсизму, состоит, по убеждению Лосского, в том, что имманентными субъекту оказываются не только его собственные состояния, но и любая объективная реальность.
Знание об объекте, поясняет Лосский, с одной стороны действительно беднее самого объекта. С другой же стороны, оно всегда шире последнего, поскольку кроме сведений о нем самом, сколь бы полными они ни были, оно всегда включает в себя и некие дополнительные сведения. Дело в том, что внешний объект, воздействуя на органы чувств субъекта, подает о себе сигналы, которые также воспринимаются субъектом, но представляют собой побочный продукт знания о самом объекте. Пользуясь современным языком, можно было бы сказать, что всякая информация никогда не транслируется, так сказать, в чистом виде и всегда сопровождается определенным “шумом”, содержательным самим по себе, но к содержанию объекта информации отношения не имеющем. Таким образом, адекватное знание об объекте возрастает по мере увеличения объема “чистой” информации и одновременного уменьшения “шума” от побочных сигналов. Избавиться от последних полностью практически невозможно.
Включенность (имманентность) объекта знания в процесс знания – важнейшее условие (но не гарантия) получения подлинного знания. Другим необходимым условием является, по Лосскому, пассивность восприятия объекта субъектом. Активность и какое-либо творчество[161] со стороны последнего на начальном этапе формирования знания не только излишни, но и опасны, поскольку ведут к субъективизму. “Мое переживание” знания об объекте, — поясняет Лосский, — это “мое переживание” объекта. Сам же объект должен быть принят таким, каков он есть сам по себе. При этом следует ясно различать сам воспринимаемый объект от акта его восприятия, формирующего объективный образ[162] (именно образ, а не символ и не комплекс ощущений) этого объекта.
Было бы, однако, поспешным делать на основе оказанного вывод о том, что интуитивизм, помимо упоминавшихся уже идей, имеет точку реального “соприкосновения” и с материалистической теорией отражения. Эффективность и надежность интуиции, как инструмента формирования знания, и состоит в том, что она “схватывает” объект “в подлиннике”, а не в отраженном облике, не в копии. Иными словами: образ объекта — это сам объект, хотя и в “дифференцированном виде”.
С формирования транссубъективного образа, т.е. с обладания объектом “в подлиннике” и начинается, по уверению Лосского, процесс познания в собственном смысле этого слова. Познание становится реальностью (в смысле факта) лишь тогда, когда заканчивается пассивный процесс восприятия объекта и начинаются активные действия субъекта, связанные с ответной реакцией с его стороны на сигналы объекта, представляющей собой комплекс направленных на него интенциональных актов, таких, в частности, как внимание, сравнение, различение и т.п. Причем субъект не создает различий, а лишь фиксирует их в объекте и делает актуальными для себя. Все эти процедуры Лосский относит к психической стороне познания, как первоначальному “аналитическому” этапу его формирования. На этом этапе в состав знания Лосский включает и материальные процессы, такие, например, как отторжение нежелательных физических воздействий со стороны объекта. И все же анализ, где, по утерждению автора, происходит превращение вещи-в-себе в вещь-для-меня, не может считаться достаточным условием достижения достоверного знания, ибо аналитическая компонента в сущности “мертва”. Это становится возможным лишь на втором — “синтетическом” этапе познавательного процесса, ориентированном на содержание знания и его отношение к предмету знания.
Если с формирования образа знание начинается, то знанием как таковым, оно становится только там, где опорой его является осмысленный, т.е. “синтетический” опыт, при котором сама синтетичность обусловлена не субъектом, а предметом опытного знания. Предмет знания, говоря языком логики, есть субъект, содержание знания — предикат. Вот в их отношениях уже четко прослеживается причинно-следственная связь. Смысл и содержание идут от объекта к субъекту знания, но не наоборот. В знании объект, не утрачивая своей реальности, трансформируется в представления и понятия, которые, как уже отмечалось, никогда не достигают всей содержательной полноты реального объекта. Полнота понятийного охвата объективной реальности и есть степень истинности знания о ней. При этом онтологические основы знания, вступив в сферу знания, играют роль его логических основ. Достоинство “синтетической” ступени знания состоит, таким образом, в естественном сближении логики и онтологии и их взаимокоординации, позволяющей избежать крайностей панлогического рационализма об одной стороны и эмпирического иррационализма — с другой.
Всякое достоинство, однако, всегда относительно. “Синтетический” уровень знания при всем своем преимуществе перед “аналитическим” этапом знания, не может иметь абсолютной ценности, как не имеет ее, впрочем, и естественный сплав обоих этих уровней, поскольку образуют они лишь тот компонент духа, который именуется рассудком. Последний ценен своей прагматичностью в положительном смысле этого слова. Он совершенно необходим и незаменим в границах своей компетентности, где, благодаря логике, знание избегает заблуждений. И все же горизонт рассудка весьма узок, а средства бедны. Ему вполне доступны количественные характеристики объекта (предел возможностей позитивистской теории знания), но недоступны качественные и тем более духовные стороны бытия. Последние представляют собой “сплошную текучесть”, где нет места закономерностям и “гнетущей необходимости”, а есть постоянная оригинальность и неповторимость. Логика здесь бессильна и рассудку не за что зацепиться. Бессилен рассудок и там, где необходимо выделить идеальные характеристики объекта, представляющие собой, как уже говорилось, условие системности объективной реальности. Это возможно лишь тогда, когда на арену вновь выступают металогические средства, одним из которых и является интуиция. Последняя, таким образом, обеспечивает не только условие формирования знания, но и его качественную состоятельность. Именно это обстоятельство дает Лосскому право считать себя подлинным интуитивистом.
Завершить весьма краткий анализ разработанной Лосским концепции знания следует, видимо, его оценкой центрального пункта всякой гносеологии: что есть критерий истины и каков ее реальный масштаб?
Предельно краткий ответ на первую часть вопроса, предложенный Лосским, звучит приблизительно так: критерий истинности — в представленности объекта субъекту в подлиннике. Следовательно, критерий лжи — представленность объекта его копией. Примечательно то, что в интуитивизме относительность всякого знания, оперирующего объективным образом, не означает относительности истины. Относительная истина, в отличие от относительного знания, — абсурд, логический и гносеологический нонсенс. Истина тогда истина, когда она абсолютна. Такая истина – вечный стимул знания и условие его прогресса, но не реальная цель. И для науки, и для философии она недостижима. И это не умаляет их достоинств, но обусловливает перманентность их самосовершенствования. Таким образом, абсолютная истина есть, но абсолютное знание невозможно. Только та теория знания достигает успеха, которая на вечном пути к истине всегда сохраняет в себе момент здравого скептицизма. Интуитивизм и есть “относительный скептицизм”. В этом его превосходство и над абсолютным скептицизмом, и над абсолютным гносеологическим оптимизмом, предлагающим процессу познания заведомо ложные цели.
***
Мнение С.Франка об изначальной интуитивированности всей русской философии, равно как и понимание Лосским сущности интуитивизма, позволявшим ему считать убежденным сторонником этой философской доктрины такого, к примеру, мыслителя, как А.Лосев, содержат в себе, на первый взгляд, явную претензию на оригинальность и дают повод заподозрить их авторов в игнорировании творческих норм и философских традиций. Между тем, предложенная Лосским и нашедшая понимание у его коллег экспликация интуиции, возрождала, в сущности, одно из традиционных представлений об этом феномене в европейской философской мысли и ближе всего соприкасалась с локковской идеей минимизации посреднических инстанций на пути к знанию. В этом отношении ее позитивная значимость в системе философского мышления вряд ли уступала “лирической” интуиции Б.Кроче, или бергсоновской “интеллектуальной симпатии”.
Интуитивизм, строго говоря, конечно же не мог претендовать на роль ведущего направления русской философии, но в нем — и здесь Франк оказался, на наш взгляд, гораздо ближе к истине — особенно отчетливо проявилась характерная черта отечественной философской мысли — ее стремление изменить утвердившийся со времен зарождения декартовского рационализма, вектор своего движения: идти не от cogito к sum, а, напротив, от sum — к cogito. И это не было желанием противопоставить русскую философию европейской. Напротив, здесь также имела место попытка восстановить одну из главных тенденций философской классики, по разному, правда, интерпретированных в свое время Иоанном Дамаскином (“ничего от себя”) и Ф.Бэконом (действовать и мыслить только под “диктовку мира”). Одновременно русский интуитивизм (в лице прежде всего и главным образом Лосского) наиболее органично, на наш взгляд, объединил позитивные качества проникнутой христианско-этическим духом отечественной философской мысли с другим важным фактором европейской философской культуры — рациональным (но не рационалистским) стилем мышления.
При всех очевидных теоретических и методологических издержках и даже явных фантазиях[163] русский интуитивизм преследовал вполне разумную цель: с одной стороны — показать опасность абсолютизации субъективного фактора в достижении объективного знания, с другой — расширить сферу познавательных возможностей человека прежде всего за счет использования металогических средств с тем, чтобы вырваться за пределы “жалкой ограниченности” чувственно достоверного и логически схематизированного бытия и насладиться “фаустовской жаждой бесконечной широты жизни”.
Лосский не был ни романтиком, ни сциентистом, ни откровенно религиозным мыслителем. Он был философом в полном и точном смысле этого понятия, прекрасно осознающим ценность и значимость всех форм духовной культуры. Убежденный сторонник науки и научной философии, он считал непременным условием сохранения наукой своего престижа — ее готовность прислушиваться к “голосу совести”. Твердо отстаивая, вслед за Кантом, Гегелем и др., мысль о естественной религиозности истинно философского мировоззрения, Лосский, вместе с тем, всячески противодействовал попыткам откровенно религиозного насыщения гносеологии, за что, в частности, упрекал В.Соловьева, который во многих отношениях был для него безусловным авторитетом. Более того, по свидетельству В.Зеньковского, он решительно шел на пересмотр религиозных догматов там, где видел в том пользу для построения идейно непредвзятой метафизики и теории знания, за что постоянно подвергался критике как “слева”, так и “справа”. Н.Бердяев, к примеру, указывал на недостаточную “святость” его интуитивизма, а также стремление “онаучить” философию, превратить ее в “приживалку у науки”. С.Аскольдов, напротив, называл его гносеологию “божественной”, а не человеческой.
Судя по имевшим место многочисленным дискуссиям, Лосский относился к такой критике достаточно спокойно и терпеливо давал необходимые на сей счет объяснения. Не считая, видимо, нужным реагировать на намек Бердяева относительно своей, якобы, склонности к “мистическому мракобесию”, он, в то же время, не оспаривал “божественности” (но не “святости”) своей гносеологии, ибо был убежден в том, что “всякое основное свойство духа имеет божественный характер” и что во главе мира стоит Бог. С этим, помнится, не спорили ни Ф.Бэкон, ни Б.Спиноза, ни А.Эйнштейн, ни даже “нехристианин” Б.Рассел, ни многие другие выдающиеся мыслители.
Лосский не был, конечно, выдающимся мыслителем, но его знания и профессиональное “чутье” безусловно способствовали выявлению и удержанию в поле внимания современной философской мысли действительно актуальных проблем метафизики и теории познания. Свидетельством тому могут служить и возрожденный, не без его участия, интерес к феномену интуиции со стороны таких, в частности, признанных авторитетов, как А.Уайтхед и Б.Рассел, и их же, отнюдь не игнорируемые представителями других философских направлений, усилия по преодолению сомнительной, по их общему мнению, альтернативы “наука-мистика”, сопровождаемые стремлением к минимизации доказательств в сфере философского мышления и отказом от “опространствления” (spatialization) его предметного поля. Прямая или косвенная причастность Лосского к подобным усилиям, вполне позволяет говорить об оправдании его надежд на движение в “верном направлении”.
В.М.Розин
Творческий путь Мишеля Фуко
Творчество мыслителя, естественно, можно изучать по-разному. Прежде чем перейти к Фуко, я рассмотрю несколько возможных подходов к подобному изучению. Основной вопрос здесь, в какой мере возможно объективное исследование творчества и, собственно говоря, что это такое? Приступая к изучению того или иного автора, я имею перед собой его тексты (в том смысле, что они мне доступны), в которых зафиксировано (отразилось) творчество данного автора. Кроме того, нередко имеются тексты, описывающие те или иные факты и перипетии жизни этого автора. Подчеркиваю, не сами по себе факты, а описание, то есть определенные интерпретации исследователей творчества автора. Именно на эти два типа текстов, являющихся эмпирическим материалом, я могу опираться. В теоретическом и методологическом отношении я опираюсь на все свои представления о творчестве и способах его исследования.
Например, я считаю, что, с одной стороны, автору нужно полностью доверять, в том смысле, что объяснению, или, может быть, описанию, подлежат его собственные представления и убеждения (то есть авторское видение). С другой — поскольку я не автор и решаю свои задачи, находясь в другой ситуации (и поэтому, по выражению М.Бахтина, в отличие от автора обладаю позицией “вненаходимости”), то обязан выявить (реконструировать) истинную интеллектуальную ситуацию, показать, что на самом деле делал автор. Опять же не надо заблуждаться по поводу “истинности” того, что также “на самом деле”. И я тоже осуществляю всего лишь реконструкцию, однако по отношению к автору в рамках гуманитарной коммуникации обязан утверждать, что хотя автор имел в виду одно, но на самом деле делал что-то другое. Еще одно убеждение, вынесенное из практики моих исследований творчества самых разных мыслителей, состоит в том, что характер и особенности творчества определяются по меньшей мере двумя обстоятельствами: как бы внешними, независимыми от мыслителя факторами (влиянием на него культуры, образования, других мыслителей, ситуации, в которой он находится, доступным материалом и т.п.) и сугубо внутренними факторами (присущими ему ценностями, пониманием способов решения проблем, особенностью реализации его личности и прочее).
Далее в установках и методологии мыслителей я различаю два основных подхода: гуманитарный и естественнонаучный (см. подробнее [2; с. 191-198]). С точки зрения гуманитария, творчество автора, которого изучают, всегда соотносимо с позицией исследователя (как говорил Б.Дильтей, в изучаемом объекте исследователь обнаруживает “нечто, что есть в нем самом”); гуманитарное знание, полученное о творчестве, рефлексивно, то есть рано или поздно вступает во взаимодействие (коммуникацию) с самим творчеством; позиция исследователя не является этически нейтральной (объективной в физикалистском смысле слова), а напротив, этически нагружена (например, ориентирована на развитие личности, поддержание форм жизни и т.п.). Естествоиспытатель считает, что творчество — это одна из форм первой природы (интеллектуальной), которую исследователь изучает, избегая всякого привнесения в рассматриваемое творчество себя (в форме ли ценностей, видения или каким-то другим способом); при этом знания, полученные о творчестве, он собирается использовать в практиках инженерного типа (позволяющих овладевать и управлять изучаемым объектом, в данном случае, творчеством). Последнее, конечно, противоречит установке на объективное изучение, если только его не понимать как изучение, позволяющее предсказывать, рассчитывать и овладевать. Но это заблуждение вполне понятно, поскольку все представители естественной науки проводят единый подход относительно использования научных знаний, в результате, сравнивая этот единый подход с позицией гуманитарных исследователей, которые начинают изучения с реализации каждый своих ценностей, представители естественной науки думают, что действуют объективно и этически нейтрально.
Начинаю с гуманитарной проблематизации текстов, выявляя в них то, что непонятно, а также различные странности, противоречия и проблемы. Затем, чтобы объяснить все эти моменты, я пытаюсь встать по отношению к автору в заимствованную позицию и проимитировать его творчество. В отличие от самого автора моя задача облегчена тем, что я знаю, к чему пришел автор (для этого я анализирую тексты) и, отчасти, но только отчасти, как он шел в своем творчестве. Другое отличие — я не просто имитирую логику движения автора, но параллельно рефлексирую ее, то есть восстанавливаю, что автор делал на самом деле. Полученные на основе такой работы знания позволяют приступить к осмыслению и объяснению творчества. При этом с самого начала обычно я решаю две связанных между собой задачи: стараюсь понять (осмыслить, объяснить) интересующего меня автора, его творческий и жизненный путь (для меня творчество автора — это неотъемлемый момент его жизненного пути) и лучше понять самого себя, разрешить какие-то свои проблемы. Последний момент является исключительно важным. Во-первых, он сразу показывает мою позицию — я стараюсь в исследовании реализовать гуманитарный подход. Во-вторых, задает ту рамку (ценностный взгляд), внутри которой я буду объективно вести исследование творчества. Объективно в том смысле, что постараюсь осуществить обычные стандартные процедуры научного познания: рассуждать без противоречий, мыслить понятийно, описывать эмпирический материал (тексты) и т.п. К тому же задание рамки (то есть формулирование собственного интереса и проблем) нельзя считать чисто субъективным обстоятельством в том случае, если я рассматриваю свои интерес и проблемы как одну из возможных (и в этом смысле объективных) культурных позиций.
Мой Фуко
Вспоминаю начало замечательной статьи Марины Цветаевой “Мой Пушкин”. Там Цветаева пишет, что, ранив Пушкина в живот, Дантес ранил всех нас. Лучше гуманитарное отношение к автору не выскажешь. Попробую теперь отрефлектировать свою “рану”, заставляющую меня пристрастно относиться к Фуко. По сути, речь идет о двух моментах: творчестве Фуко и его личности. Познакомившись с работами Фуко, я понял, что его система взглядов близка к методологической, а я считаю себя в философии методологом. Для методологического подхода, если иметь в виду традицию ММК (Московского Методологического кружка), как известно, характерны: исторический подход, постановка в центр изучения и конституирования деятельности, мышления и мыследеятельности, идея социальной практики и культуры как условий функционирования и развития мышления и деятельности, установка на распредмечивание понятий, постоянный интерес к анализу знаний и понятий и др. У Фуко несколько иные представления и понятия, например, — дискурса, диспозитива, правил и практик, но, тем не менее, я утверждаю, что его система родственна методологической. Например, Фуко неоднократно подчеркивал, что он не просто историк, а историк мысли (то есть его интересует, скажем, не столько история секса, сколько мышления о сексе). Он не ограничивается анализом тех или иных феноменов, но подвергает критике и распредмечиванию представления и понятия, в которых они мыслятся. Фуко предложил такой способ исторической реконструкции явлений, когда они трактуются, как порождаемые (конституируемые) в социальных практиках, а также дискурсах. Этот ход мысли вполне сопоставим с методологическим, где любое явление рассматривается как артефакт и в контексте общественной практики, деятельности и мышления. Понятие диспозитива, широко используемое Фуко (под диспозитивом он понимает единство дискурса, конституирующих практик и социальных отношений), на мой взгляд (что правда, требует соответствующей реконструкции), близко к понятиям деятельности и мыследеятельности. Но если система Фуко родственна с методологической, то спрашивается, как он, не являясь методологом, пришел к таким взглядам? Дело, конечно, не только в методологии, а в логике мысли, приводящей к сходным представлениям.
Не менее интересна для меня личность Фуко. С одной стороны, Фуко был обычным человеком, типичным “героем нашего времени”, в том смысле, что не избежал многих проблем, характерных для современного мыслителя и интеллектуала. Он был достаточно одинок, особенно в молодости остро переживал свою нестандартную половую ориентацию, не имел семьи в обычном смысле слова (хотя много пет Фуко жил со своим близким другом), мучался экзистенциальными проблемами, умер от СПИДа. С другой стороны, Фуко был социально активный человек, инициатором ряда известных общественных начинаний (например, организатором движения “антипсихиатрии”), резко критиковал современное буржуазное общество, всю жизнь мучился экзистенциальными проблемами и пытался их разрешить, рассматривал мышление как одну из главных ценностей. Я хотел бы понять, как обе эти стороны личности Фуко повлияли на его творчество.
Жизненный контекст творчества Фуко и основное направление движения его мысли
Хотя здесь будут рассмотрены некоторые обстоятельства жизни Фуко и отдельные влияния на него, я не собираюсь изображать депо так, что именно они определили идеи и творчество Фуко. Эти обстоятельства и влияния создали благоприятный фон для соответствующих идей, не более того, но и не менее.
В своих последних статьях Фуко приписывает Платону создание концепции “эпителии” — буквально “заботы о себе”, на происхождение которой, по мнению Фуко, оказали влияние политические установки Платона: умение заботиться о себе являлось предварительным условие заботы о других (то есть политического действия). Но в связи с этим невольно вспоминается императив матери Фуко, любившей повторять; “Что важно, так это управлять самим собой” [3; с. 396]. Однако пожалуй, более существенно, что Фуко рос в атмосфере ожидания второй мировой войны. Масштабность событий этого времени, вероятно, обусловила и значительность и характер проблем, волновавших Фуко всю жизнь. Вот как он сам во взрослом состоянии отрефлексировал этот момент. “Угроза войны, — вспоминает Фуко, — была нашим горизонтом, рамкой нашего существования. Именно происходящие в мире события — в гораздо большей степени, чем семейная жизнь, — были субстанцией нашей памяти... Наша частная жизнь действительно была под угрозой. Может быть, поэтому-то я и зачарован историей и отношением, которое существует между личным опытом и теми событиями, во власть которых мы попадаем. Думаю, это и есть исходная точка моего теоретического желания” [3; с. 397]. Обратим внимание на два пункта: интерес к истории и проблему участия в ней; мы увидим дальше, что оба они, действительно, позволяют понять одно из основных направлений интеллектуальных поисков Фуко.
Если иметь в виду период образования в высшей школе (Фуко учился в Париже в Высшей нормальной школе), то интерес Фуко к истории дополняется, с одной стороны, увлечением под влиянием своего преподавателя Жана Ипполита философией, прежде всего гегельянской, с другой — относительно кратковременным (примерно два года) хождением в марксизм. Гегель и Маркс, точнее их методы реконструкции Абсолютной Идеи духа и Капитала, вспоминаются, когда читаешь исследования Фуко по археологии знаний, а марксизм — когда пытаешься понять общественную деятельность Фуко и его отношение к буржуазному обществу. В 1978 году свой альянс с компартией, на собрания которой он даже не ходил, Фуко представляет таким образом: “Для меня политика была определенным способом производить опыт в духе Ницше или Батая... для многих из нас, для меня — во всяком случае, было абсолютно очевидно, что положение буржуазного интеллектуала, должного функционировать в качестве преподавателя, журналиста или писателя внутри этого мирка, — это нечто отвратительное и ужасное. Опыт войны [...] с очевидностью показал нам срочную, неотложную необходимость чего-то другого, нежели то общество, в котором жили, общество, которое допустило нацизм, которое легло перед ним, проституировало себя с ним... Мы хорошо понимали, что от того мира, в тотальном неприятии которого мы жили, гегелевская философия увести нас не могла; что если мы желали чего-то совершенно другого, то должны были искать и другие пути; но от этих других путей — мы требовали от них, чтобы они вели нас — куда? — как раз к тому, что и было, как мы полагали, во всяком случае — в демонстрациях” [3; с. 401].
Критический и бунтарский дух Маркса чувствуется и в оценке Фуко современного общества и в тех его общественных начинаниях, которыми он известен. Но для нас, пожалуй, более интересна параллель установок Маркса на переделку общества, а не только его объяснение, и убеждения Фуко о том, что научное знание является условием изменения мира. “Что разум, — пишет Фуко, — испытывает как свою необходимость, или, скорее, что различные формы рациональности выдают за то, что является для них необходимым, — на основе всего этого вполне можно написать историю и обнаружить те сплетения случайностей, откуда это вдруг возникло; что, однако, не означает, что эти формы рациональности были иррациональными; это означает, что они зиждутся на фундаменте человеческой практики и человеческой истории, и, поскольку вещи эти были сделаны, они могут — если знать, как они были сделаны, — быть “и переделаны” [3; с. 441].
Но если кто-то подумает, что Фуко был только последовательным гегельянцем и марксистом, то он сильно ошибется. Указанные здесь гегельянские и марксистские установки и ценности не были единственными, наряду с ними Фуко исповедовал совершенно другие — персоналистические и отчасти экзистенциальные. Уже в Высшей нормальной школе кроме марксизма Фуко занимается феноменологией и экзистенциализмом. Для такого интереса у Фуко было не меньше оснований, чем неудовлетворенностью буржуазным обществом: он остро переживал свою гомосексуальную половую ориентацию, не всегда справлялся со своей психикой, напряженно искал свой путь в жизни [3; с. 403].
Вероятно, на почве изучения экзистенциализма и феноменологии, а также осознания собственного опыта жизни Фуко, правда значительно позднее, приходит к идее работы на собой, ориентированной на конституирование себя (“вырывание” себя у “себя”) и “выслушивание” личного через общественное. “Идея некоторого опыта-предела, функцией которого является вырывать субъекта у него самого, — пишет Фуко, — именно это и было для меня важным в чтении Ницше, Батая и Бланшо; и именно это привело к тому, что какими бы академичными, учеными и скучными ни были книги, которые я написал, я всегда писал их как своего рода прямые опыты, опыты, функция которых — вырывать меня у меня самого и не позволять мне быть тем же самым, что я есть” [3; с. 411]. А в 1981 г. в беседе (“Так важно ли мыслить?”) Фуко говорит: “Каждый раз, когда я пытался проделать ту или иную теоретическую работу, это происходило из элементов моего собственного опыта, всегда находилось в соотношении с процессами, которые, насколько я видел, развертывались вокруг меня. Именно потому, что, как мне казалось, я распознавал в вещах, которые я видел, в институциях, с которыми имел дело, в моих отношениях с другими – трещины, глухие толчки, разные дисфункции, — именно поэтому я и принимался за некоторую работу, своего рода фрагменты автобиографии” [3; с. 406]. Не правда ли, эти размышления напоминают мысли молодого Маркса?
Интеллектуальная развилка и выбор пути
В этом пункте может возникнуть закономерный вопрос: а каким образом Фуко теоретически соединяет гегельянство и марксизм с феноменологией и экзистенциализмом? Первый подход, например, в качестве исходной реальности полагает или разворачивающуюся абсолютную Идею или общественную практику, в которой субъекты (личность) выступают всего лишь материалом, второй подход, напротив, кладет в основание реальности именно личность и ее сознание. Судя по биографическому материалу, первоначально Фуко склонялся к приоритету субъективного подхода. В частности, он выступает с идеей “антропологического проекта”, но, правда, одновременно пытается истолковать личность в марксистских понятиях (отчуждения и пр.). Но очень скоро Фуко резко меняет ориентацию: полностью отказывается от второго подхода в пользу первого. Возможно, в принятии этого решении сыграло рассуждение “по Канту”, то есть сдвижка с “обусловленного на условия”: что, спрашивается, детерминирует поведение и сознание личности, если не язык, практика и другие культурно-исторические образования? Обсуждая этот поворот в творчестве Фуко, С.Табачникова пишет. “Только в одном месте находим слова, которые могли бы помочь понять, как для Фуко совмещались эти два способа мысли: “...если эта субъективность умалишенного является одновременно и призванностью миром, и заброшенностью в него, то не у самого ли мира следует испрашивать секрет этой загадочной субъективности?.. начиная с Истории безумия он не просто отказывается от того, чтобы ставить вопрос о “человеке” и о “субъективности” в экзистенциально-феноменологических или в марксистских терминах, — он вообще перестает мыслить в терминах субъективности, тем более — искать ее “секреты”, где бы то ни было и в чем бы то ни было... Задача построения “антропологии конкретного человека” оборачивается особого рода историческим анализом и критикой самих мыслительных и культурных предпосылок, в рамках которых только и мог возникнуть такой проект, — критикой, которая, по сути дела, ищет возможность для самой мысли быть другой. Это и есть рождение того, что исследователи назовут потом “машиной философствования” Фуко, а он сам будет называть “критическим методом”, или “критической историей”, или — одним словом — “археологией” [3; с. 423].
Здесь я не могу удержаться от сопоставления выбора Фуко с аналогичным предпочтением Г.П.Щедровицкого и его группы в середине-конце 50-х годов. Следуя за А.Зиновьевым, Щедровицкий разделяет в то время основные методологические установки марксизма, но одновременно сотрудничает с психологами на семинаре “психология мышления и логики”, который в Институте психологии вел Шевырев. Оказавшись перед похожим выбором — или положить в основание реальности деиндивидуальное мышление, рассматривая его как культурно-историческое образование, или, напротив, мыслящего психологического субъекта — Щедровицкий ни минуты не колеблется. Практически уже в конце своего творческого пути он еще раз декларирует этот выбор, полемизируя со всеми своими оппонентами. Вот соответствующий фрагмент из лекции по истории Московского методологического кружка, прочитанной Щедровицким в 1989 году.
“Сагатовский когда-то, после 1961—1962 гг. сформулировал это в дискуссии со мной очень точно и прямо: “Георгий Петрович, ахинею вы несете. Есть люди, которые мыслят, но нет мышления и нет никакой деятельности”. Люди — это реальность, и люди иногда мыслят, иногда действуют, иногда любят. Это и есть реальность. Психологизм здесь выражен философски предельно точно: психологизм есть представление о реальностях, а именно, что есть люди, которые могут любить, а могут мыслить, черт подери! Ерунда это, с моей точки зрения, ибо мир есть существование в сущности. И в этом смысле, мышление существует реально — как субстанция, независимо от того, есть люди или нет людей... Я бы сказал, что главное мошенничества — это идея человека с его психикой, а второе мошенничество — это идея субъекта, оппозиция “субъект-объект”... основная проблема, которая встала тогда, в 50-е годы — звучит она очень абстрактна, я бы даже сказал схоластически, не боюсь этого слова, — это проблема: так где же существует человек? Является ли он автономной целостностью или он только частица внутри массы, движущаяся по законам этой массы? Это одна форма этого вопроса. Другая — творчество. Принадлежит ли оно индивиду или оно принадлежит функциональному месту в человеческой организации и структуре? Я на этот вопрос отвечаю очень жестко; конечно, не индивиду, а функциональному месту! ...Утверждается простая вещь: есть некоторая культура, совокупность знаний, которые транслируются из поколения в поколение, а потом рождается — ортогонально ко всему этому — человек, и либо его соединят с этим самым духом, сделают дух доступным, либо не соединят...” [9; с. 56-57].
В целом, Фуко делает похожий шаг, с одной поправкой: он не редуцирует, подобно Щедровицкому, субъекта к функциональному элементу деятельности и мышления, а ставит своей целью показать, что субъект не только является производным от языка и общественной практики и именно в этом своем качестве и должен быть взят в анализе, но также существо изменяющееся. Поясняя в 1981 году свой выбор и подход, Фуко пишет. “Я попытался выйти из философии субъекта, проделывая генеалогию современного субъекта, к которому я подхожу как к исторической и культурной реальности; то есть как к чему-то, что может изменяться... Исходя из этого общего проекта возможны два подхода. Один из способов подступиться к субъекту вообще состоит а том, чтобы рассмотреть современные теоретические построения. В этой перспективе я попытался проанализировать теории субъекта (XVII и XVIII веков) как говорящего, живущего, работающего существа. Но вопрос о субъекте можно рассматривать также и более практическим образом: отправляясь от изучения институтов, которые сделали из отдельных субъектов объекты знания и подчинения, то есть — через изучение лечебниц, тюрем... Я хотел изучать формы восприятия, которые субъект создает по отношению к самому себе” [3; с. 430].
Понятие диспозитива и оценка общественных феноменов
Если продумать логику творческой мысли Фуко, то можно наметить следующую схему. Осуществив кардинальный выбор в пользу культурно-исторического реальности, Фуко начал с анализа того, что лежало как бы на поверхности — с языка и вещей (многие, наверно, помнят его известную книгу “Слова и вещи”). С этого возникает интерес Фуко к дискурсу, который первоначально понимался просто как высказывающая речь о вещах и мире. Однако уже в исходном пункте анализа у Фуко подразумевался особый контекст существования языка и вещей. А именно общественная практика, которая рассматривалась, с одной стороны, в историческом и культурном планах, с другой — в социальном, как отношения власти и управления. Продолжая сравнение с творчеством Щедровицкого и его последователей, отметим, что московские философы под влиянием логических исследований начали с анализа знаний и мышления, которые также брались в контексте исторической общественной практики. Затем вполне в духе требований кантианского разума Фуко переходит к анализу тех условий, которые обусловливали существование (жизнь) языка и вещей. Исследования Фуко показывают, что это, во-первых, правила, нормирующие высказывающую речь, во-вторых, практики, в которых вещи и правила складываются и функционируют. Выступая в 1978 году в Токийском университете, Фуко объясняет, что он “начинал как историк науки и одним из первых вопросов, вставшим перед ним, был вопрос о том, может ли существовать такая история науки, которая рассматривала бы “возникновение, развитие и организацию науки не столько исходя из ее внутренних рациональных структур, сколько отправляясь от внешних элементов, послуживший ей опорой... Я попытался ухватить историческую почву, на которой все это (речь идет об “Истории безумия”. — В.Р.) произошло, а именно: практики заточения, изменение социальных и экономических условий в XVII веке... Я не хочу искать под дискурсом, — чем же является мысль людей, но пытаюсь взять дискурс в его явленном существовании, как некоторую практику, которая подчиняется правилам: правилам образования, существования и сосуществования, подчиняется системам функционирования... Я стараюсь сделать видимым то, что невидимо лишь постольку, поскольку находится слишком явно на поверхности вещей” [7, с. 358, 338].
Примерно в это же время представители Московского методологического кружка от анализа знаний и мышления переходят к анализу деятельности, внутри которой и знание и мышление истолковываются как элементы.
Третий в логическом отношении шаг Фуко — переход в поисках детерминант и условий (теперь уже относительно правил и практик) к анализу властных отношений. Замыкает все три слоя анализа Фуко на основе понятия диспозитива, который наиболее обстоятельно рассмотрен им на материале истории сексуальности. Щедровицкий замыкает свои слои исследования в два этапа; сначала на идею деятельности (она объявляется исходной реальностью), затем на идею “мыследеятельности”, которая помимо планов деятельности и чистого мышления содержит план коммуникации (то есть тоже некоторый социальный аспект).
Параллельно на всех трех этапах мыслительного движения шла критика традиционных представлений. В связи с этим, например, понятие дискурса у Фуко имеет два разных смысла: “публичный” дискурс, декларируемый общественным сознанием, обсуждаемый в научной и философской литературе, и “скрытый дискурс”, который исследователь (в данном случае Фуко) выявляет, реконструирует в качестве истинного состояния дел. С одной стороны, Фуко постоянно описывает и подвергает острой критике публичные дискурсы, с другой — реконструирует и анализирует скрытые дискурсы (например, показывает, что секс в буржуазном обществе не только не третируется и не подавляется, как об этом пишут многочисленные авторы, а напротив, всячески культивируется и поддерживается, помогая реализации властных отношений). В связи с важностью замыкающего систему Фуко понятия диспозитива рассмотрим его более подробно.
“Что я пытаюсь ухватить под этим именем, — пишет Фуко, — так это, во-первых, некий ансамбль — радикально гетерогенный, — включающий в себя дискурсы, институции, архитектурные планировки, регламентирующие решения, законы, административные меры, научные высказывания, философские, но также моральные и филантропические положения, — стало быть: сказанное, точно так же, как и несказанное, — вот элементы диспозитива. Собственно диспозитив — это сеть (а мы бы сказали содержание метода. — В.Р.), которая может быть установлена между этими элементами.
Во-вторых, то, что я хотел бы выделить в понятии диспозитива, это как раз природа связи между этими гетерогенными элементами. Так, некий дискурс может представать то в качестве программы некой институции (то есть публичного дискурса. — В.Р.), то, напротив, в качестве элемента, позволяющего оправдать и прикрыть практику, которая сама по себе остается немой (эта практика реконструируется как скрытый дискурс. — B.Р.), или же, наконец, он может функционировать как переосмысление этой практики, давать ей доступ в новое поле рациональности (мы бы сказали, что в данном случае речь идет об условиях, обеспечивающих трансформацию и развитие. — В.Р.).
Под диспозитивом, в-третьих, я понимаю некоторого рода — скажем так — образование, важнейшей функцией которого в данный исторический момент оказывалось; ответить на некоторую неотложность. Диспозитив имеет, стало быть, преимущественно стратегическую функцию” [7; с. 368].
Может возникнуть законное недоумение: что же это за понятие, совмещающее в себя такое количество несовместимых признаков? Ну, во-первых, это, скорее, не понятие, конечно, не объект, а метод, точнее его содержание. Во-вторых, понятия дискурса и диспозитива открывают новую страницу в развитии социальных и гуманитарных наук. В частности, их употребление позволяет связать в единое целое такие важные планы изучения как: эпистемологический план (дискурсы-знания), дескриптивное и компаративное описание текстов (дискурсы-правила), анализ деятельностных и социальных контекстов и условий (дискурсы — практики и дискурсы — властные отношения). Можно согласиться, что в традиционном членении наук все эти планы и даже их части относятся к разным дисциплинам — теории познания, лингвистике и семиотике, теории деятельности и практической философии, культурологии и социологии. Однако традиционная классификация и организация научных дисциплин уже давно не отвечает потребностям времени. Уже давно наиболее плодотворные исследования и теоретические разработки идут на стыках наук или в междисциплинарных областях. Понятия дискурса и диспозитива — это как раз такие понятия, которые позволят “переплывать” с одного берега научной дисциплины на другой, позволяют связывать и стягивать разнородный материал, относящийся к разным предметам. Наконец, позволяют формировать совершенно новые научные дисциплины, например, такие, которые выстроил Мишель Фуко.
Здесь имеет смысл отметить, что основные представления мышления, деятельности и мыследеятельности в Московском методологическом кружке также были неоднородны, соединяя в себе несколько разных дисциплинарных областей: теорию познания, семиотику, герменевтику и теорию коммуникации, генетический и системный подходы, некоторые (объективистские) аспекты психологии и социологии. При этом неоднократно подчеркивалось, что теория деятельности задает новую организацию предметов и дисциплин.
Используя понятия диспозитива, дискурса, властных отношений и ряд других (одновременно конституируя их) Фуко предпринимает анализ целого ряда феноменов (безумия, сексуальности и т.п.), выступающих одновременно как культурно-исторические и индивидуально-психические образования. Например, он показывает, что современное понимание сексуальности возникает пол влиянием таких формирующихся в XVII—XVIII вв. практик, как христианская исповедь, медицинский и педагогический контроль, практика наказания преступников, в которых усиливаются репрессивные и контрольные элементы. С точки зрения Фуко, все это позволило распространить властные отношения на новые области человеческого поведения. В результате проведенного анализа Фуко удалось показать, что явление сексуальности не является натуральным и лишь отчасти это явление имеет биологическую природу, напротив, сексуальность — явление культурно-историческое и даже социотехническое, поскольку его определяют социальные практики и отношения. Одновременно Фуко приходит к выводу о том, что сексуальность патологична в своей основе и является инструментом власти и подавления человека. Вывод странный, если учесть, что сексуальная жизнь является нормальным аспектом бытия человека Нового времени.
Здесь возникает принципиальный вопрос, почему так получилось, чем была обусловлена негативная оценка сексуальной жизни человека Нового времени; природой сексуальности или же ценностными установками самого Фуко? Думаю, что именно последним обстоятельством, точнее, применяемым Фуко методом исследования и родимыми пятнами марксизма. Что собой представляет метод реконструкции, используемый Фуко? Современный вариант генетического анализа, предполагающий естественнонаучную трактовку изучаемого объекта. Действительно, сексуальность в исследовании Фуко рассматривается как культурно-историческое образование, разворачивающееся по определенным законам. Эти законы Фуко и пытается описать, занимая, как он думает, относительно сексуальности чисто объективную позицию. Но фактически это позиция человека, отрицательно (по-марксистски) оценивающего действительность, и что исключительно важно, собирающегося, познав законы разворачивания сексуальности, изменять, перестраивать ее. Вспомним высказывание Фуко: “...и, поскольку вещи эти были сделаны, они могут — если знать, как они были сделаны, — быть и переделаны”.
Еще одно соображение методологического характера. В естественной науке изменение объекта понимается, как происходящее не под влиянием каких-то целей, а в силу тех или иных функциональных требований. Кстати, и Щедровицкий со товарищи (к их числу принадлежал и автор данной статьи), чтобы объяснить развитие знаний и мышления, вводили подобное функциональное требование — представление о “ситуации разрыва”. Ситуация разрыва понималась как причина, обусловливающая необходимость изобретения новых знаковых средств или, позднее, в теории деятельности, как, функциональное требование на развитие деятельности (необходимость появления в ней новых позиций, уровней нормирования или управления и т.п.). Однако сегодня понятно, что функция, которая задавала данную причину или требование, сама определялась, исходя из определенного идеала, в одном случае идеала развития и функционирования знания, в другом — деятельности. Тем самым принцип развития встраивался в знание, мышление и деятельность; эти образования и были тем, что развивается в культурно-историческом процессе. По сути, Фуко действует по той же логике: под влиянием марксистской оценки буржуазного общества он приписывает сексуальности такой тип развития, который характеризуется патологичностью и властной эксплуатацией человека.
Но если не принимать реконструкцию Фуко, то как тогда строить объяснение? Думаю, следующим образом. В период XVII—XVIII вв. происходит грандиозный культурно-исторический переворот: человек учится жить, ориентируясь не на церковь, а прежде всего на себя (в этой связи складывается самостоятельное повеление и личность) и на общество. С одной стороны, вырабатываются новые нормы общественного поведения, с другой — нравственные и другие императивы поведения отдельного человека. Необходимое условие и первого и второго — формирование в сознании личности ряда новых реалий, а также нового видения мира и себя. В себе человек начинает различать мышление, волю, аффекты, а позднее романтическую любовь и сексуальность. И не просто различать, по сути — он как эзотерик порождает себя в аспекте этих реалий. Подобно тому, как Декарт говорил: “Я мыслю, я существую”, человек Нового времени говорит; “Я осознаю (артикулирую, выражаю в речи) все свои аффекты и переживания, я существую”. Требование священнослужителей к прихожанам рассказывать обо всех своих без исключения сексуальных мыслях и переживаниях (аналогичное требование педагогов, юристов или врачей, провоцирующих своих подопечных или клиентов “исповедаться” во всех отклонениях) проистекало вовсе не из желания контроля и власти, а являлось необходимым условием установления общественной нормы, на которую начинает ориентироваться как отдельный человек, так и общество в целом. И соответствующие практики складываются не как репрессивные, отчуждающие человека, а как социо- и психотехнические, в контексте которых человек осваивает новые реалии духа и тела.
Итак, перед читателем две разные реконструкции (я, естественно, наметил только схему такой реконструкции), какая же из них более правдоподобная? Возможно, читателю поможет то обстоятельство, что сам Фуко в последние годы переходит к совершенно другому типу анализа, где рассматривает античную любовь и сексуальность уже как совершенно нормальное в культурном отношении явление. В беседе с Франсуа Эвальдом Фуко говорит: “Это парадокс, который удивил меня самого, — даже если я немного догадывался о нем уже в “Воле к знанию”, когда выдвигал гипотезу о том, что анализировать конституирование знания о сексуальности можно было бы, исходя не только из механизмов подавления. Что поразило меня в античности, так это то, что точки наиболее активного размышления о сексуальном удовольствии — совсем не те, что связаны с традиционными формами запретов. Напротив, именно там, где сексуальность была наиболее свободна, античные моралисты задавали себе вопросы с наибольшей настойчивостью и сформулировали наиболее строгие положения. Вот самый простой пример: статус замужних женщин запрещал им любые сексуальные отношения вне брака, однако по поводу этой “монополии” почти не встречается ни философских размышлений, ни теоретической заинтересованности. Напротив, любовь к мальчикам была свободной (в определенных пределах), и именно по ее поводу была выработана целая теория сдержанности, воздержания и несексуальной связи. Следовательно, вовсе не запрет позволяет нам понять эти формы проблематизации” [7; с. 314]. Другими словами, Фуко отказывается от того типа реконструкции, который наметил в зрелые годы.
Пересмотр ценностей. Движение к философии “спасения”
Почему же Фуко в последний период своего творчества намечает другой способ реконструкции истории общественных и индивидуальных явлений? Можно выделить по меньшей мере два обстоятельства, обусловившие подобную трансформацию.
Первое было связано с тем, что, осознавая собственную общественную практику и свои ценности. Фуко решительно расстается с марксистской установкой на переделку мира. Вместо этого он вырабатывает новый подход. Фуко не отказывается нести посильную ответственность за ход общественных событий и истории, но считает, что это возможно лишь при определенных условиях. Необходимым условие общественной активности личности, утверждает теперь Фуко, является внимательное выслушивание истории и общественной реальности с тем, чтобы понять, как и в каком направлении действовать. Только в этом случае можно надеяться вписаться в ход истории и повлиять на нее. В статье “Что такое просвещение?” Фуко пишет: “Я хочу сказать, что эта работа, производимая с нашими собственными пределами, должна, с одной стороны, открыть область исторического исследования, а, с другой — начать изучение современной действительности, одновременно отслеживая точки, где изменения были бы возможны и желательны, и точно определяя, какую форму должны носить эти изменения. Иначе говоря, эта историческая онтология нас самих должна отказаться от всех проектов, претендующих на глобальность и радикальность. Ведь на опыте известно, что притязания вырваться из современной системы и дать программу нового общества, новой культуры, нового видения мира не приводят ни к чему, кроме возрождения наиболее опасных традиций” [5; 52].
А вот еще одно размышление Фуко, важное для понимания его новой позиции, теперь уже о левых интеллектуалах. “Долгое время так называемый “левый” интеллектуал брал слово — и право на это за ним признавалось — как тот, кто распоряжается истиной и справедливостью. Его слушали — или он претендовал на то, чтобы его слушали,— как того, кто представляет универсальное. Быть интеллектуалом — это означало быть немного сознанием всех. Думаю, что здесь имели дело с идеей, перенесенной из марксизма, причем марксизма опошленного... Интеллектуал, дескать, выступает ясной и индивидуализированной фигурой той самой универсальности, темной и коллективной формой которой является якобы пролетариат. Вот уже многие годы, однако, интеллектуала больше не просят играть эту роль. Между теорией и практикой установился новый способ связи. Для интеллектуалов стало привычным работать не в сфере универсального, выступающего образцом, справедливого-и-истинного-для-всех, но в определенных секторах, в конкретных точках, там, где они оказываются либо в силу условий работы, либо в силу условий жизни (жилье, больница, приют, лаборатория, университет, семейные или сексуальные отношения)” [3; с. 391].
Второе обстоятельство было не менее существенным. Применение разработанного Фуко метода “критической истории” приводило к такой картине действительности, в которой личность и ее поведение были полностью обусловлены социальными отношениями и реальностью. Получалось, что человек может только плыть по течению, следуя неумолимым законам общественного и исторического развития. Но этот вывод из собственных исследований никак не мог устроить Фуко, который со студенческих лет не просто сочувствовал философии экзистенциализма и феноменологии, но и был весьма активной общественной фигурой. Но и это не все. Был еще один момент, для философа, может быть, даже более важный. Представления о мире и человеке, полученные Фуко, не позволяли ему понять, а как он должен жить сам, в чем состоит его путь к ''спасению”.
Философия “спасения” (в одной из статей я назвал ее эзотерической) — это такая философия, которая не только дает осмысление человеческого бытия, но и говорит, какова цель жизни любого человека, не исключая, естественно, и самого творца данной философии, а также как эту цель реализовать. Уже философия Платона может считаться такой. В ней цель жизни человека и самого Платона задается идеей обретения божественного мира идей с помощью занятий философией и совершенствовании себя и окружающей земной жизни. Философия М.Мамардашвили — один из известных мне последних вариантов философии “спасения”.
Однако уже Аристотель, вышедший, как известно, из школы Платона, создает философскую систему, в которой нет прямого указания, как жить самому философу. И представления Фуко, развитые в основных его работах, не отвечали на подобный вопрос. Но Фуко тяготел к тому, чтобы получить ответ на вопрос о том, как ему жить, именно в собственной философской системе. В последний период своего творчества он упорно ищет решение этой задачи, которая соединятся в его сознании с проблемой преодоления человеком социальной обусловленности. Нельзя сказать, что Фуко решил эту задачу, но, во всяком случае, несколько важных ходов он намечает.
Самый естественный (с точки зрения предыдущего хода мысли) состоял в том, что среди практик, конституирующих человека, Фуко находит (открывает) такие, которые помогают человеку меняться и развиваться [6]. Эти практики Фуко называет “практиками (техниками) себя”, считая, что даже моральное поведение человека не могло сформироваться без их влияния. “Если придерживаться, — пишет Фуко, — известных положений Хабермаса, то можно как будто бы различить три основные типа техник: техники, позволяющие производить веши, изменять их и ими манипулировать; техники, позволяющие использовать системы знаков; и, наконец, техники, позволяющие определять поведение индивидов, предписывать им определенные конечные цели и задачи. Мы имеем, стало быть, техники производства, техники сигнификации, или коммуникации и техники подчинения. В чем я мало-помалу отдал себе отчет, так это в том, что во всех обществах существуют и другого типа техники: техники, которые позволяют индивидам осуществлять — им самим — определенное число операций на своем теле, душе, мыслях и поведении, и при этом так, чтобы производить в себе некоторую трансформацию, изменение и достигать определенного состояния совершенства, счастья, чистоты, сверхъестественной сипы. Назовем эти техники техниками себя. Если хотеть проделать генеалогию субъекта в западной цивилизации, следует учитывать не только техники подчинения, но также и “техники себя”... Я, возможно, слишком настаивал на техниках подчинения, когда изучал лечебницы, тюрьмы и так далее. Конечно, то, что мы называем “дисциплиной”, имеет реальную значимость в институтах этого типа. Однако это лишь один аспект искусства управлять людьми в наших обществах. Если раньше я изучал поле власти, беря за точку отсчета техники подчинения, то теперь, в ближайшие годы, я бы хотел изучать отношения власти, отправляясь от “техник себя” [3; с. 431, 5; с. 315].
В связи с таким решением возникают два принципиальных вопроса: а разве сами техники себя не обусловлены, а также каким образом они преодолеваются? Как Фуко отвечает на второй вопрос, можно понять на материале морали. В одной из бесед он говорит: “Поиск такой формы морали, которая была бы приемлема для всех — в том смысле, что все должны были бы ей подчиниться, — кажется мне чем-то катастрофичным”. Этому Фуко противопоставляет “поиск стилей существования, настолько отличающихся друг от друга, насколько это возможно”, поиск, который ведется в “отдельных группах” [3; с. 438].
Другой шаг в поисках решения проблемы состоял в принципиальном анализе обусловленности, начиная с социальной и исторической, кончая в сфере мышления самого Фуко. Вслед за Хайдеггером Фуко не переставал подчеркивать, что истинное мышление — это всякий раз новое мышление, что правильная мысль делает невозможной мыслить по-старому. Вообще мышление для Фуко выступает в качестве той точки опоры, опираясь на которую человек может изменить себя, преобразовать, вывести за пределы социальной и исторической обусловленности [3; с. 440-441].
Но как все-таки быть с личным спасением? Прямого ответа на этот вопрос в работах Фуко я не нашел, но косвенный вроде бы состоит в следующем. Спасение в понимании Фуко состоит не в обретении где-то Там некой подлинной реальности, а в достойном философа и человека образе жизни Здесь. Достоинство жизни по Фуко в том, чтобы правильно мыслить, преодолевать социальную и историческую обусловленность, вносить посильный вклад в совместную жизнь людей, делать из себя своеобразное произведение искусств. “Вопрос, — писал Фуко, — состоял в том, чтобы знать, как направлять свою собственную жизнь, чтобы придать ей как можно более прекрасную форму (в глазах других, самого себя, а также будущих поколений, для которых можно будет послужить примером). Вот то, что я попытался реконструировать: образование и развитие некоторого практикования себя, целью которого является конституирование самого себя в качестве творения своей собственной жизни” [7; с. 315]. Почему произведение искусств? Возможно потому, что именно в искусстве произведению можно придать любую мыслимую форму (то есть в данном случае придать нужную форму собственной жизни), а также потому, что в реальности искусства достижим идеал, а ведь для рациональной личности достижение идеала и есть утешительная форма “спасения”.
Литература
1. Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М., 1995.
2. Розин В.М. Культурология. М., 1998.
3. Табачникова С. Мишель Фуко: историк настоящего // Мишель Фуко. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996.
5. Фуко М. Что такое Просвещение? // Вопросы методологии. № 1-2, 1996.
6. Фуко М. Герменевтика субъекта // Социо-Логос. М., 1991.
7. Мишель Фуко. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996.
8. Фуко М. Диспозитив сексуальности // Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996.
9. Щедровицкий Л.П. А был ли ММК? // Вопросы методологии. № 1-2. М., 1997.
Л.А.Маркова
Наука и логика смысла Ж.Делеза[164]
К концу века в работах у историков, философов, социологов науки относительно естествознания появились следующие выводы-проблемы, шокирующие часто как их самих, так и все еще привычное к монологическому восприятию мира мышление многих наших современников,в той или иной мере причастных к науке и философии. Наиболее серьезные из этих проблем следующие.
1. Истина как соответствие научного знания природе, которая является объектом ее изучения, утрачивает для ученого свое значение. Это происходит, во-первых, по той причине, что миров оказывается много, каждому из них соответствует своя научно-философская парадигма (парадигма аристотелевской науки, классической науки Нового времени, неклассической науки XX века, постнеклассической науки конца века). Каждый из этих миров формируется в недрах соответствующей культуры определенного исторического периода. Если все эти миры равноценны и не могут быть поглощены каким-то одним, включающим их все в себя, то и истин получается много. Не оказываемся ли мы перед лицом беспредельного релятивизма?
2. Под ударом оказывается и понимание объективности научного знания. Если каждый раз научная парадигма формируется в ходе фундаментальной научной революции философией, погруженной в определенный тип культуры, то центр тяжести в отношении познающий субъект — предмет познания явно перемещается на сторону субъекта. Парадигм научного мышления в европейской истории несколько, и они могут сохранить свою самостоятельность, свое историческое “лицо” только акцентируя свои субъектные характеристики, которые, как оказывается, играют решающую роль в формировании научного мышления определенного типа. В классической науке в логической перспективе субъект научного исследования сводится к точке, к ничто, поскольку все субъектные характеристики по возможности выводятся из научного знания, чтобы сделать его максимально объективным, воспроизводящим в себе природу “как она есть на самом деле”. Как же быть, когда эта точка, которая фокусирует в себе все особенности субъекта, превращая их для научного знания в ничто, вдруг обретает объем, при этом субъектные характеристики становятся значимыми для понимания того, что же такое есть научное знание? Можно ли говорить в таких условиях о его объективности, и если можно, то в каком смысле?
3. В классической науке логическая связь между следующими друг за другом теориями устанавливалась достаточно жесткая: каждая следующая во времени теория включала в себя все ценное, что содержала в себе предыдущая. В целом же, новое знание всегда признавалось более совершенным, точным, более адекватно отражающим окружающий мир. Новая теория объясняла все те факты, которые могла объяснить и предыдущая теория, но плюс к этому она решала и трудности, которые были не под силу ее предшественнице. Но если теории-парадигмы равноправны, каждая решает свои проблемы и средствами своей логики, то как установить между ними рациональную, логическую связь?
4. Поскольку в классической науке логика научного знания строилась на базе устранения субъекта из этого знания, — чем меньше субъектных моментов в знании, тем оно более истинно, — то вторжение в научное знание философии, культуры, социума как субъектного полюса в отношении субъект-объект привело к сомнению в том, что вообще сохранилась какая бы то ни было логика в естествознании. Если взглянуть на все научное познавательное мышление как на некоторый большой эксперимент, то получается, что он проводится нечисто: для природы как предмета изучения не созданы соответствующие экспериментальные условия, она не противостоит ученому как независимая от него, в экспериментальную ситуацию включаются субъектные характеристики исследователя (культуры, научного сообщества, социума), а это недопустимо с точки зрения классической науки, так как разрушает логику.
5. Иначе воспринимается время при интерпретациях науки, понимание времени как прямой линии-стрелы, направленной в бесконечно далекое будущее и уходящей в такое же далекое прошлое, уже не играет доминирующей роли. Имевшие место в истории научные открытия не выстраиваются цепочкой вдоль этой прямой, они существуют как бы одновременно. При этом нарушается дедуктивный ряд развития научных идей как превращенная форма причинно-следственных связей: в каждой крупной парадигме он как бы всякий раз начинается снова после продумывания заново в ходе фундаментальной научной революции основ мышления. Новые логические основания — новый пробег мысли до следующей глобальной революции.
6. Пересматривается проблема границы между научным знанием и не только обществом в целом, но и социальной структурой самой науки. В социологии науки Р.Мертона (середина XX века) прямо утверждалось, что научное знание существует независимо от социальных форм существования науки в обществе. В конце столетия представители микросоциологии, антропосоциологии, конкретной социологии решительно заявляют о социальном характере конструирования научного результата в его содержательном и логическом аспектах. Если в социологической школе Мертона граница между знанием и социумом была внесена внутрь науки как социального института (но эта граница, тем не менее, сохранялась, причем в ее достаточно жестком варианте), то в социологических исследованиях конца века эта граница вообще исчезает.
7. Любопытно проследить судьбу понятия индивидуальности у философов, социологов, историков науки. В классической науке Нового времени, в том числе и в ее исторической перспективе, понятие индивидуального преодолевалось: в эксперименте изучаемый предмет по возможности максимально освобождался от всего индивидуального, субъектного, случайного, только в этом случае эксперимент мог считаться чистым; в истории отдельные события научного развития тоже лишались своей уникальности, историк концентрировал внимание не на том, что отличало отдельные факты друг от друга, а на том, что у них есть общего, — только в этом случае появлялась возможность выводить исторические законы. Когда в середине века, в результате кризиса позитивизма, в анализе науки доминирующим стало понятие фундаментальных научных революций, историческая особенность и индивидуальность выдвинулись на передний план: сосуществующие в историческом пространстве парадигмы интересны прежде всего тем, что их отличает друг от друга, а не тем, что их объединяет. Переключение внимания с глобальных революций и фундаментальных парадигм на изучение событий не столь крупных в рамках исследований типа case studies сохранило значимость понятия индивидуальности (в другом, правда, смысле, чем когда речь идет о базовых парадигмах, но в эти тонкости я сейчас вдаваться не буду). В исследованиях же конца века в рамках, например, микросоциологии, когда знание полностью погружается в социальный контекст и исключительно им формируется, уже и об индивидуальности события говорить не приходится, оно обусловлено бесконечно большим количеством факторов. Эта бесконечность того, что обуславливает знание, как бесконечность одинакова в каждом отдельном случае. События в науке при таком подходе хоть и могут рассматриваться как разные, но едва ли как индивидуальные и особенные. Индивидуальное опять уходит из науки, но другим способом, чем это было в классическом естествознании, с другими результатами. В классической науке отказ от индивидуальности позволял провести жесткую границу между научным знанием, с одной стороны, и философией, культурой, социумом — с другой. В конце XX века освобождение от индивидуальности явилось знаком слияния научного знания с социальным контекстом[165].
Что касается самого естествознания, то философы, социологи, историки ссылаются скорее уже не столько на квантовую механику как перевернувшую философские основания науки, а скорее на синергетику, фрактальную геометрию, парадоксы теории множеств, некоторые достижения в области биологии. В этой статье я не буду касаться такой сложной темы, как содержательные аспекты вышеперечисленных дисциплин, хотя и буду все время иметь в виду, что философские выводы, к которым приходят исследователи науки, соответствуют результатам, полученным в естествознании. Непосредственно же я займусь анализом логики смысла Жиля Делеза и через ее призму попытаюсь разглядеть некоторый общий контекст не только у естествознания и исследований, ему посвященных, но и у философии постмодернизма как таковой[166].
Истина и объективность
Начнем с того, что в середине века после кризиса позитивистской философии усилиями прежде всего таких исследователей, как А.Койре и Т.Кун научное знание было погружено в контекст культуры, что само по себе было революционным шагом. Культура каждого исторического периода своеобразна, индивидуальна, отлична от другой культуры, ей соответствует определенный тип мышления вообще, научного в частности, как же быть в таких условиях с научной истиной и объективностью? В конце века эта трудность воспроизводится с новой силой, и вопрос уже ставится таким образом, что ученый в своих исследованиях вообще не делает своей задачей получение истины. Научное знание погружается теперь уже не в контекст культуры, обладающей своими уникальными особенностями, а в контекст “повседневности”, в контекст сиюминутных бесконечно разнообразных и постоянно меняющихся обстоятельств, не успевающих в своей беспрестанной изменчивости сформировать сколько-нибудь устойчивую индивидуальность. События в науке (в многочисленных лабораториях, научных коллективах или в одной и той же лаборатории, но в следующие друг за другом моменты времени) отличаются друг от друга, они разные, но не индивидуальные. Трудность здесь уже не в том, что истин много, а в том, что их вообще быть не может, а поэтому ученый и не стремится к истине.
В логике смысла Ж.Делеза проблема истины предстает перед нами в двух как бы видах. Большое значение для Делеза имеет определенное понимание предложения, именно через его анализ он пропускает, демонстрирует, показывает “в работе” многие очень важные для него понятия, такие, как смысл, событие, поверхность, серия, парадоксальный элемент и истина в том числе. Он исходит из достаточно обычной, как он сам пишет, принимаемой многими характеристики предложения. В предложении выделяется три главных отношения. Первое — это денотация, или, другими словами, обозначение, указание, индикация. Здесь речь идет об отношении предложения к внешнему положению вещей. При этом положение вещей индивидуализируется. Процедура обозначения заключается в соединении слов с конкретными образами, которые и должны представлять положение вещей. Отдельные слова в предложении играют роль пустых форм для отбора образов, они играют роль указателей. С логической точки зрения, именно истинность или ложность денотации выступают ее критерием и элементом.
Второе отношение предложения — манифестация. Здесь имеется в виду связь между субъектом и предложением, субъект говорит и выражает себя. “Индикация, или обозначение, соотносится с индивидуальными положениями вещей, отдельными образами и единичными обозначающими. Манифестаторы же, начиная с “Я”, задают область личного, действующего как принцип всех возможных денотации. Наконец, при переходе от денотации к манифестации происходит смещение логических ценностей...: речь теперь идет не об истине или лжи, а о достоверности или иллюзии”[167].
Третье отношение предложения, сигнификация, предполагает связь слова с универсальными или общими понятиями. Рассматриваемое предложение вводится здесь только как элемент “доказательства” в самом общем смысле слова: либо как посылка, либо как заключение. Другими словами, имеется в виду, что значение предложения всегда обнаруживается посредством соответствующей ему косвенной процедуры, через его связи с другими предложениями, из которых оно выводится или, наоборот, которые можно вывести из него. “Логической оценкой понятой таким образом сигнификации и доказательства является теперь не истина..., а условие истины — совокупность условий, при которых предложение “было бы” истинным”[168]. Обусловливая истинность предложения, сигнификация тем самым задает и возможность ошибки. Поэтому условия истинности противостоят не лжи, а абсурду, то есть тому, что существует без значения, или тому, что может быть и не истиной, и не ложью.
Таким образом, когда речь идет о трех вышеназванных характеристиках-отношениях предложения, Делез считает возможным говорить об истине или в рамках денотации как о соответствии слова образу предмета, или в рамках сигнификации как о возможности истины, которая обозначается в ходе вывода или доказательства. Такое понимание истины вполне вписывается в нововременное философское и естественнонаучное понимание: истинность научного знания обеспечивается его соответствием предметному миру природы и логическим обоснованием-доказательством возможности этой истины.
Делез, однако, задается вопросом: следует ли ограничиться тремя отношениями предложения, или же надо ввести еще четвертое, которое было бы смыслом и которое помогло бы взглянуть на предложение, а через него и на мир в целом несколько иначе? Делез вводит такое отношение и отмечает его исчезающе неуловимый характер. Оно не может быть локализовано внутри денотации, которая задает истинность или ложность предложения. Смысл не может заключаться в том, что делает предложение истинным или ложным. Любое обозначение всегда уже заранее предполагает смысл, и мы всякий раз неизбежно оказываемся сразу внутри смысла, когда что-либо обозначаем. Что касается сигнификации, то когда мы придаем ей способность определять условия истинности, мы тем самым возвышаемся над истиной и ложью, поскольку ложное предложение тоже имеет смысл и значение. Условия, предпосылки истинности предложения в рамках сигнификации мыслятся как простая возможность обусловленного. Определяя философию как творчество концептов, Делез говорит, что “концепт всегда обладает той истиной, которую получает в зависимости от условий своего создания”[169]. При этом никогда с уверенностью нельзя сказать, что один концепт лучше или истиннее другого.
Делез следующим образом развивает свою мысль: “Здесь мы восходим к основанию. Но то, что обосновывается, остается тем же, чем и было, независимо от обосновывающей его процедуры. Последняя не влияет на то, что обосновывается. Таким образом, денотация остается внешней к тому порядку, который ее обусловливает, а истина и ложь — безразличны к принципу, определяющему возможность истинного или ложного, что позволяет им оставаться в прежнем отношении друг к другу. Обусловленное всегда отсылает к условию, а условие — к обусловленному. Чтобы условию истины избежать такого же дефекта, оно должно обладать собственным элементом, который отличался бы от формы обусловленного. То есть в нем должно быть нечто безусловное, способное обеспечивать реальный генезис денотации и других отношений предложения. Тогда условие истины можно было бы определить уже не как форму концептуальной возможности, а как некую идеальную материю или идеальный “слой”, то есть не как сигнификацию, а, как смысл”[170]. Делез, таким образом, пытается избежать логического круга, когда возможность истины уже содержит в себе всю истину в ее возможностном варианте, а истина как таковая не выходит за пределы того, что уже было заложено в ее возможности. Условием истины становится не ее возможность, а смысл, который выходит за пределы того, что содержится в истине, он безусловен.
В философии и истории науки середины века тоже фиксируется определенное смещение логических акцентов в процедуре доказательства как в движении к истине. Формула “что и требовалось доказать”, которая предполагает, как об этом пишет и Делез, что доказываемое никак не изменяется от характера самого доказательства, подвергается сомнению и переосмысливается. Эпохи научных революций, когда совершаются наиболее значимые сдвиги в развитии естествознания, в концепции Т.Куна характеризуются как кризисные в том смысле, что требующие своего решения задачи оказываются за пределами господствующей в науке парадигмы, она не в состоянии включить их в свою логику. В науке возникает аномалия, решение очередной задачи не подтверждает еще раз совершенство и логическую безупречность господствующей парадигмы, а наоборот, обнаруживает ее неполноценность, расшатывает ее основы. Причем дело обстоит не так, что для решения задачи просто не хватает умения и есть надежда, что со временем она все-таки будет решена. Выявляется принципиальная, логическая невозможность разрешения такого рода задач силами и средствами доминирующей на данный момент парадигмы, обнаруживается логическая необходимость возникновения новой парадигмы и ее конкуренции со старой. Таким образом, нарушается принцип “что и требовалось доказать”. Требовалось еще раз обосновать, доказать продуктивность и истинность господствующей парадигмы, а как раз это-то и не удается. Более того, именно тогда, когда это не удается, в науке бывают получены наиболее значимые результаты.
И.Лакатос в своей книге “Доказательства и опровержения”[171] ставит эту проблему особенно явно, причем на материале математики, где процедура доказательства особенно важна. Рассматривая доказательство теоремы о соотношении числа вершин, ребер и граней многогранника, Лакатос приходит к выводу, что “человек никогда не доказывает того, что он намеревается доказать. Поэтому ни одно доказательство не должно окончиться словами: “Quod erat demonstrandum”[172]. Процесс доказательства не является нейтральным по отношению к тому, что доказывается. По мнению Лакатоса, в доказательстве следует руководствоваться не верой (в безусловную истинность парадигмы или научно-исследовательской программы), а сомнением. В этом вопросе Лакатос идет дальше Куна. Если у последнего сомнение в истинности парадигмы приходит только в момент кризиса, то у Лакатоса наличие сомнения — нормальное состояние научного исследования. Исследователь относится к парадигме не как к результату, а как к проблеме.
Я провожу все эти параллели только для того, чтобы выявить некоторый общий вектор возникающих в конце XX века проблем и трудностей в области логики и мышления, в нашем случае речь идет об исследователях науки и о логике смысла Делеза как представителя постмодернистской философии.
Как я уже отмечала выше, истинность в том ее виде, как она присутствует в классической науке, демонстрируется Делезом через отношения предложения, такие, как денотация и сигнификация. В логике смысла истина понимается принципиально иным образом, прежде всего по той причине, что иначе трактуется объективность и субъектно-предметные отношения. Смысл у Делеза порождает не только логическое предложение с присущими ему отношениями (денотацией, манифестацией и сигнификацией), но и объективные корреляты последнего, причем представления об истине и лжи переносятся с предложений на проблему, которую, как предполагается, эти предложения разрешают. “При этом истина и ложь полностью меняют свой смысл. Вернее, место истины как категории в ситуации, когда истина и ложь относятся к проблеме, а не к соответствующим ей предложениям, заменяет именно категория смысла. С этой точки зрения проблема... отсылает к идеальной объективности, к конститутивной структуре смысла, лежащей в основе как познания, так и познанного, как предложения, так и его коррелятов”[173]. Как мы видим, объективность у Делеза относится к структуре смысла (и события), чья бесстрастность и нейтральность образуют некую константу, без которой событие не обладало бы вечной истиной и не отличалось бы от своих актуализаций во времени. Отождествляя истину со смыслом-событием, Делез выводит за ее пределы субъект-предметные отношения; смысл нейтрален к определенностям субъекта и объекта, внутреннего и внешнего, индивидуального и коллективного, особенного и общего. Он говорит и о “вечной истине”, относящейся к смыслу, и о том, что каждому предложению присуща истинность в той мере, в какой в каждом предложении есть смысл как его четвертое измерение.
Поскольку центр тяжести в философии Делеза переносится в сферу смысла, истина в нововременном ее толковании утрачивает свое значение. Очевидно, что логика смысла никак не может быть отнесена к классической науке и к соответствующему ей понятию истины. Об утрате интереса к истине со стороны ученых в конце века говорят и исследователи науки. У них это связано с тем, что столь важное для классической науки понятие объективности существенно трансформируется. Научное знание уже не детерминируется полностью в своем содержании только предметом изучения, природой. В него включаются субъектные моменты, хотя бы через вовлечение в него истории (принцип соответствия), или через проблему прибор-объект. Новое знание должно “позаботиться” о том, чтобы не только воспроизводить в себе мир природы как предмет изучения, но и установить логическое взаимодействие с другими возможными формами научного восприятия мира, тоже обладающими правом на истинность. Таким образом, новое научное знание должно быть объективным не только по отношению к миру своей фундаментальной парадигмы, но, посредством логических связей с другими парадигмами, по отношению также и к их мирам. Объективность знания как-то уживается, таким образом, с наличием множества миров и множества соответствующих им парадигм. В контексте неклассической науки начала и середины XX века понятие объективности научного знания меняется настолько радикальным образом, что появляется сомнение в возможности говорить об истинности знания в нововременном понимании этого слова. В конце века философы, социологи и историки науки говорят уже об отсутствии такой характеристики научного знания, как его объективность, а вместе с тем и истинность.
Мне важно сейчас подметить определенную синхронность в развитии идей философии, социологии и истории науки, непосредственно связанных с развитием естествознания в XX веке, с одной стороны, и в философии конца века, которая вышла за пределы наукоучения Нового времени, с другой. На мой взгляд, очевидно, что здесь выявляется некоторый общий контекст: в конце века и здесь, и там понятия объективности и истинности приближаются в результате их преобразований к такой логической грани, где они вроде как вообще преодолеваются и исчезают. Даже и понятия такие становятся, похоже, ненужными.
Если логика классической науки основывалась на преодолении индивидуального, особенного, личностного, то для постклассического естествознания (квантовая механика) насущной становится проблема диалога, логического общения между типами научного мышления разных исторических эпох, разных культур. Отсюда придание большого значения субъектным характеристикам науки, а также выдвижение на передний план индивидуального, особенного, уникального. Не случайно в XX веке такой популярностью пользуется понятие диалога, общения “на равных” разных культур, типов мышления, научных парадигм. Что касается философского осмысления диалога, то я бы сослалась на диалогику или культурологию В.С.Библера, которая, на мой взгляд, является логическим выражением ситуации сосуществования в XX веке разных актуализированных в истории культур и типов мышления[174].
В конце века сходят на нет, как бы преодолеваются не только понятия истины и объективности, но и индивидуального. Однако отказ от индивидуального носит принципиально иной характер, чем это было в логике классической науки, или в монологике.
Индивидуальность и личность
Начнем с того, что в логике смысла индивидуальности присутствуют только как выводящие эту логику в сферу других возможных логик (формальную, логику Нового времени, феноменологию, культурологию, диалогику). Сама логика смысла не оперирует индивидуальностями, — сингулярности, которые являются в ней как бы носителями логических отношений, не обладают никакими особенными, уникальными характеристиками, отличающими их друг от друга. Сингулярности выводятся Делезом и за пределы мысли, и за пределы сознания. Последнее для Делеза особенно важно, так как именно выход за пределы сознания он считает радикальным отличием своей философии и от философии Сартра, и от философии Гуссерля. Сознание не существует без синтеза объединения, пишет Делез, но синтез объединения не существует без формы Я, без точки зрения Эго. Источником же сингулярностей является то, что не выступает ни как личное, ни как индивидуальное. Сингулярности занимают бессознательную поверхность и обладают подвижностью, имманентной способностью самовоссоединения. “Сингулярности — это подлинные трансцендентальные события ... Не будучи ни индивидуальными, ни личными, сингулярности заведуют генезисом и индивидуальностей, и личностей: они распределяются в “потенциальном”, которое не имеет вида ни Эго, ни Я, но которое производит их, самоактуализируясь и самоосуществляясь, хотя фигуры этого самоосуществления совсем не похожи на реализующееся потенциальное”[175].
С помощью теории сингулярных точек Делез стремится выйти за пределы синтеза личности и анализа индивидуального, как они существуют (или производятся) в сознании. Он отказывается принять альтернативу: либо сингулярности уже содержатся в индивидуальностях и личностях, либо — недифференцированная бездна. Мы вступаем на поле трансцендентального, когда перед нами открывается мир, кишащий анонимными, номадическими (кочевыми), безличными и доиндивидуальными сингулярностями. Есть что-то такое, что ни индивидуально, ни лично, но сингулярно.
В логике классической науки каким бы индивидуально замысловатым ни было движение любого конкретного тела, оно все равно подчиняется общим законам механики, не учитывающим никаких уникальных особенностей. Индивидуальность поглощается логикой, а если и можно говорить о ее присутствии, то только как о предмете преодоления. В логике Делеза индивидуальностей тоже нет, но сингулярности в этой логике не являются результатом преодоления индивидуальных особенностей, наоборот, они — потенциальное поле их генезиса, они не после-, а доиндивидуальны. Именно эти безличные, доиндивидуальные номадические сингулярности, поверхностная топология конституируют трансцендентальное поле. Индивидуальное порождается этим полем, мы имеем здесь дело с генезисом индивидуального. Окружающий нас мир заполнен индивидуальностями, мир неотделим от них. Но что мы называем миром? Задается вопросом Делез.
Сингулярность можно рассматривать двумя способами, пишет Делез. Во-первых, в ее существовании и распределении, и во-вторых — в ее сущности, согласно которой она распространяется в заданном направлении по линии обычных точек. В этом втором случае можно уже говорить о некоторой стабилизации. Каждая сингулярная точка аналитически распространяется по серии обычных точек вплоть до окрестности другой сингулярности, и так далее. Мир основан на условии, что серии сходятся. Если исходящие из точки серии расходятся, то в окрестности этой точки начинается другой мир. Внутри мира, охватывающего бесконечную систему сходящихся сингулярностей, утверждаются только те индивидуальности, которые отбирают и сворачивают конечное число сингулярностей этой системы. Они присоединяют последние к сингулярностям, уже воплощенным в них, и разворачивают их по своим собственным линиям. Делез вспоминает Лейбница, соглашаясь с его тезисом, что индивидуальная монада выражает весь мир через связь других тел с ней. И в то же время она выражает через связь частей собственного тела эту связь других тел с ней. “Таким образом, индивидуальность бытует в мире всегда как цикл схождения, а мир может сформироваться и мыслиться только вокруг населяющих и заполняющих его индивидуальностей”[176].
Процесс генезиса индивидуальностей, а вместе с тем и мира, Делез сравнивает с проблемой энтропии: сингулярность распространяется по линии обычных точек точно так же, как потенциальная энергия, актуализируясь, спадает до своего низшего уровня, как и в случае с энтропией. При этом сам мир не обладает способностью вновь сформировать потенциал сингулярностей. Сингулярности же осуществляются как в мире, так и в индивидуальностях, которые являются его частями. Осуществляться, уточняет Делез, означает: распространиться по серии обычных точек; быть отобранным согласно правилу схождения; воплощаться в телах, становиться состоянием тел. Ни одна из этих характеристик не принадлежит сингулярностям как таковым. Скорее, они относятся к индивидуализированному миру и мирским индивидуальностям, охватывающим собой сингулярности. Осуществление, поэтому, всегда носит и внутренний, и внешний характер. Быть осуществленным означает также и быть выраженным.
Делез опять обращается к Лейбницу, которому, напоминает он, принадлежит знаменитый тезис о том, что каждая индивидуальная монада выражает целый мир. Однако этот тезис, считает Делез, толкуют неверно, когда говорят, будто он означает наличие врожденных предикатов у выражающей мир монады. Выраженный мир, конечно же, не существует вне выражающих его монад. Но верно и то, что Бог-то создавал мир, а не монады, и что выражаемое не совпадает со своим выражением, а скорее лишь содержится в нем, сохраняя свою самобытность. Мир создан сходящимися друг к другу сериями, и такое схождение определяет их совозможность как правило мирового синтеза. Там, где серии расходятся, начинается иной мир, не-совозможный с первым. Понятие совозможности определяется как континуум сингулярностей, как неразрывное целое, а понятие не-совозможности не сводимо к понятию противоречия. Скорее противоречие каким-то образом должно выводиться из не-совозможности. Противоречие между понятиями Адам-грешник и Адам-не-грешник — это результат, подчеркивает Делез, не-совозможности миров, в которых Адам согрешил или не согрешил. В любом из миров монада выражает все бесконечные сингулярности этого мира, но каждая монада при этом улавливает и “ясно” выражает только определенное число сингулярностей, а именно те сингулярности, в окрестности которых она задана и которые связаны с ее собственным телом. Континуум сингулярностей совершенно другой, чем индивидуальности. Сингулярности доиндивидуальны. “Если верно, что выражаемый мир существует только в индивидуальностях и только как их предикат, то в сингулярностях, управляющих образованием индивидуальностей, он содержится совершенно иным образом — как событие или глагол. Нет больше Адама-грешника, а есть мир, где Адам согрешил...”[177]. Нельзя, полагает Делез, ссылаясь на философию Лейбница, настаивать на врожденности предикатов у выражающих мир монад, так как в этом случае уже заранее предполагается со-возможность выраженного мира, а последний, между тем, предполагает распределение чистых сингулярностей согласно правилам схождения и расхождения. Эти правила принадлежат логике смысла и события, а не логике предикатов и истины.
Делез проводит различие между индивидуальностью и личностью. Индивидуальность определяется в мире-континууме или в мире-цикле схождений. Субъект-личность появляется тогда, когда нечто идентифицируется внутри миров, которые не-совозможны, и когда это нечто пробегает расходящиеся серии. Субъект оказывается лицом к лицу с миром в новом смысле слова мир (Welt), в то время как индивидуальность оказывается внутри мира, а мир — в ней (Umwelt). В этом пункте своих рассуждений Делез высказывает свое несогласие с Гуссерлем, который вводит в игру высший синтез отождествления внутри континуума, все линии которого сходятся и согласуются. Делез предлагает другой путь: только когда можно отождествить нечто в расходящихся сериях, в не-совозможных мирах, появляется объект=X, выходящий за пределы индивидуализированных миров, и Эго, которое убеждено, что превосходит все индивидуальности мира, придавая тем самым и миру новую ценность в свете ценности вновь учрежденного субъекта-личности. Несовозможные миры, несмотря на их не-совозможность, все же имеют нечто объективно общее, что представляет собой двусмысленный знак генетического элемента, в отношении которого несколько миров являются решениями одной и той же проблемы. Внутри этих миров имеется объективно неопределимый Адам, который может быть: первым человеком, жить в саду, породить из себя женщину и так далее.
Или же Делез ссылается на Борхеса: “Скажем, Фан владеет тайной; к нему стучится неизвестный; Фан решает его убить. Есть, видимо, несколько вероятных исходов: Фан может убить незваного гостя; гость может убить Фана; оба могут уцелеть; оба могут погибнуть, и так далее. Так вот, в книге Цюй Пэна реализуются все эти исходы, и каждый из них дает начало новым развилкам”[178].
Мы имеем перед собой уже не индивидуализированный мир, образованный фиксированными сингулярностями и сходящимися сериями, и не заданные индивидуальности, выражающие этот мир. Мы столкнулись со случайной точкой из числа сингулярных точек, которая присуща в равной степени множеству этих миров, а в пределе, — и всем мирам, несмотря на их расхождение и населяющие их индивидуальности. Есть, таким образом, неопределенный Адам, то есть бродяга, кочевник-номад, некий Адам=Х, общий для нескольких миров, как есть и Фан=Х. “В конце концов есть нечто=X, общее для всех миров, — пишет Делез. — Все объекты=Х — это “личности”. Они определяются посредством предикатов, но это уже не аналитические предикаты индивидуальностей, заданных внутри мира, который описывает данные индивидуальности. Напротив, это предикаты, синтетически определяющие личность и раскрывающие с ее помощью различные миры и индивидуальности как великое множество вариантов и возможностей: быть первым человеком и жить в саду” в случае Адама; “хранить тайну и быть потревоженным незваным гостем” в случае Фана. Поскольку имеется абсолютно общий объект, по отношению к которому все миры суть вариации, то его предикаты суть первичные возможности, или категории”[179].
К середине XX в. не только в культуре и в мышлении в целом, но и в науке и в ее интерпретациях (что нас прежде всего интересует) большое значение приобретают такие понятия, как индивидуальность, уникальность, множественность, плюрализм со всеми вытекающими отсюда трудностями несоизмеримости, отсутствия логической связи между культурами, научно-философскими парадигмами, индивидуальностями как таковыми. В культурологии Библера разобщенность преодолевается философским диалогом в сфере логических начал. Каждая культура, соответствующий ей тип мышления выявляет свою специфику через базовые основания, свойственные только ей: свое понимание пространства, времени, причинности, элементарности. Ударение делается на самодетерминации, которая выводит культуру на ее собственные границы, в сферу спора с основаниями другой культуры, другого мышления, делает возможным общение между ними. Культура понимается как субъект, обладающий своими индивидуальными особенностями, только в этом случае культура может стать участником диалога.
Любопытно, что и у Библера, и у Делеза сходное понимание индивидуальности и личности. И у того, и у другого личность-субъект отличается от индивидуальности тем, что находится на грани культур. У Библера мы читаем: “...реальным субъектом “логики культуры”, субъектом ее всеобщих смысловых определений является индивид — этот, особенный, смертный — в той мере, в какой он реализует себя в горизонте личности, в общении личностей, в сфере культуры, на грани культур. Особенное и уникальное я выступает — в логике культуры — субъектом всеобщего”[180]. Библер неоднократно подчеркивает, что общение, диалог между всеобщими разумами возможен только при условии, что субъектом этого диалога будет индивид, мыслящий в горизонте личности, на грани культур, в напряжении последних вопросов бытия.
В философии, в истории, в социологии науки научное знание погружается в контекст культуры, исторически переменчивой, особенной и индивидуальной. Отсюда возникают проблемы, наиболее существенные из которых я перечисляла в начале статьи. В значительной степени они могут быть решены диалогикой, хотя в самой диалогике появляются свои трудности: как формируются, откуда берутся, как “выбираются” из бесконечного количества возможных новые начала новой культуры, новой логики? В диалогике ответ на этот вопрос, конечно, дается: определенный тип мышления, соответствующий конкретной культуре, в ходе своего исторического развития сам подводит к отрицанию собственных начал и к необходимости их замены новыми. Так было и с наукой Нового времени в XX веке, когда в ходе научной революции претерпели радикальное изменение, переосмысление понятия причинности, объективности, времени и др. Предполагается, что в логической перспективе имеется бесконечное множество возможных вариантов понимания этих основополагающих категорий, что в основе каждой культуры лежит эта бесконечность, из которой формируется определенный набор оснований (вспомним Делеза, когда он говорит о формировании индивидуальностей, каждая из которых улавливает и “ясно” выражает только определенное число сингулярностей), и в переломные периоды истории начинают работать именно те, которые наилучшим образом решают существующие трудности. Что это за поле или поверхность, (это уже терминология Делеза), которая лежит в основании любой культуры, будучи абсолютно не похожей ни на одну из них? Не делает ли она одинаковыми все культуры, вопреки тому, что и культурами-то они являются только благодаря своему своеобразию и отличию друг от друга? Можно ли говорить о логике этой сферы, куда в философии Библера выход происходит через диалог логических начал? В логике Библера есть только выход в эту область, сама же логика работает в сфере индивидов, мыслящих в горизонте личностей, на грани культур, в напряжении последних вопросов бытия.
Делез сосредоточивает свою логику в той области, на том поле, на той поверхности, где нет еще не только индивидуальностей и личностей, но и их возможностей, поскольку возможность уже содержит в себе именно свое воплощение, это уже нечто конкретное. Основание, утверждает Делез, должно быть, во-первых, само безосновным (“Начинать, — пишет он, — значит устранить все допущения”[181]), а во-вторых, абсолютно отличным от того, что оно обосновывает. Показывая на примере Декарта, Гегеля, Хайдеггера, что в философии обязательно присутствуют какие-то допущения, если не объективные, то субъективные, Делез заключает: “Из этого можно сделать вывод, что подлинного начала в философии нет, или, скорее, что подлинное философское начало, то есть Различие, есть уже само по себе Повторение”[182] (подчеркнуто мною). Я привожу это высказывание Делеза не для того, чтобы дать представление о его понимании философии, проблему философии мы сейчас не рассматриваем. Мне важно показать, что начало и различие как таковые для Делеза неразрывны: начать можно только в том случае, если то, что начинается, радикально отличается от своего основания. И несколько ниже Делез опять высказывается в том же духе: философия “найдет свое различие и настоящее начало не в союзе с “дофилософским” Образом, а в решительной борьбе с Образом, разоблаченным как нефилософия”[183] (подчеркнуто мною).
Рискуя тем, что меня упрекнут в проведении слишком внешних, поверхностных аналогий, я все-таки позволю себе напомнить ситуацию в исследованих науки. В середине века большое внимание здесь уделялось внешней детерминации развития научных идей социальными факторами: культура, социальные институты, экономика, система образования и так далее влияют на направление, скорость развития идей, на возникающие в обществе предпочтения и связанные с этим размеры финансирования. Но поскольку все эти обстоятельства только внешние по отношению к научным теориям и принципам, то они не могут повлиять, а если и могут, то очень косвенно, на внутреннее содержание и логическую структуру научных идей. Именно потому, что они не похожи, отличаются от научных идей, они не могут их обосновывать. Постепенно к концу века такие внешние факторы, как культура, философия, социальные структуры (невидимые колледжи, научные сообщества, коллективы научных лабораторий) становятся внутренними не только для науки в целом, но и для научного знания как такового. О том, к каким трудностям это приводит, говорилось уже в начале статьи. Следуя логике Делеза, действительно, социальные обстоятельства, сделавшись родственными научному знанию, неотличимыми от него, не могут служить ему основанием. Разумеется, когда Делез говорит о необходимости для основания быть непохожим на обосновываемое, он не имеет в виду ситуацию, хоть сколько-нибудь похожую на ситуацию с внешними факторами (экстернализм — интернализм) в исследованиях науки середины века. Под “непохожестью” не имеются в виду различия между индивидуальными элементами общественного развития (социальные структуры, экономика, политика, научное знание, логика естествознания и так далее). Различие предполагается между областью смысла, событий, сингулярностей, серий и так далее, с одной стороны, и генерированным этой сферой миром индивидуальностей и субъектов. Исследователи науки низвели социальный контекст научной деятельности практически до хаоса, настаивая на включении в этот контекст бесконечного разнообразия всех обстоятельств жизни лаборатории. При этом мы сталкиваемся с логической неряшливостью, когда не может работать уже не только классическая логика, но и диалогика, а логика смысла Делеза тоже беспомощна, хотя бы потому, что не проводится различия между сферой хаоса и имманентным миром генерированных индивидуальностей. Социальный контекст не может быть основанием научной деятельности, если он не отличим от нее, срастается с ней, а если сказать точнее, его элементы беспорядочно перемешиваются с элементами научной деятельности и научного знания.
Выше мы видели, как Делез подводит к полной нейтральности сферу несоизмеримых миров, в которых есть некий общий им всем субъект X. Адам, например, может быть первым человеком, может быть породившим женщину, может быть живущим в саду и так далее. В каждом из этих случаев порождается новый мир, и Адам как некоторый Х является общим для них всех. Но такой общий Х имеется и для всех возможных миров, и в этом своем качестве он и будет безосновной, нейтральной основой всех миров, индивидуальностей, субъектов, культур, логик и так далее. Делез называет эту сферу сферой смысла и создает для нее логику.
Как я уже отмечала, в интерпретациях науки конца века тоже возникает проблема “растворения” индивидуальности научных событий в социальном, культурном контексте. Значит ли, что наступает конец вообще всякой логики, или же возможна логика этого контекста, который, по мере включения в него в перспективе бесконечного количества сопутствующих обстоятельств становится нейтральным, одинаковым для любого события в науке и в то же время является основой науки как таковой? Можно попробовать в философии Делеза найти возможность именно такой логики. Делез, как мы видели выше, стремится показать, проследить генезис самих индивидуальностей и субъектов-личностей.
Становление, время, причина...
Сейчас, пожалуй, настало время расшифровать некоторые термины, очень существенные для логики смысла Делеза, термины, которые я уже употребляла неоднократно без должного раскрытия их содержания. Я имею в виду прежде всего понятия: становление, смысл, событие, серия, сингулярность и некоторые другие. С их помощью Делез раскрывает такие понятия, как время, пространство, причинность, а это для меня и представит главный интерес: в конце века именно эти понятия, наряду с истинностью и объективностью, существенно трансформируются в интерпретациях науки.
Что касается смысла, то Делез отмечает его способность предшествовать любому обозначению, он подобен сфере, куда я уже помещен, он всегда предполагается, как только я начинаю говорить. Без такого предположения невозможно было бы начать речь. Другими словами, говоря нечто, я никогда не проговариваю смысл того, о чем идет речь. С другой стороны, всегда можно сделать смысл того, о чем говорится, объектом следующего предложения, смысл которого, в свою очередь, тоже не проговаривается. Как выраженное предложением смысл не существует, а присущ ему или обитает в нем. Смысл — это тонкая пленка на границе вещей и слов. Событие, как и смысл, обитает в выражающем его предложении, но оно еще обладает и свойством оживать в вещах на поверхности и на внешней стороне бытия.
В логике Делеза большое значение имеет парадокс неопределенного регресса, имеющий сериальную форму. Каждое обозначающее имя обладает смыслом, который должен быть обозначен другим именем: n1—n2—nЗ—n4—... Эта серия представляет собой синтез однородного, причем каждое имя, обозначающее смысл предшествующего имени, обладает более высоким рангом. Делез предлагает обратить внимание на то обстоятельство, что любое имя берется сначала с точки зрения того обозначения, которое оно осуществляет, а затем — того смысла, который оно выражает, поскольку именно этот смысл служит в качестве денотата для другого имени. На этот раз перед нами синтез разнородного. Сериальная форма необходимым образом реализуется в одновременности по крайней мере двух серий, она является, по существу, мультисериальной. Аналогично, напоминает Делез, обстоит дело и в математике, когда серия, построенная в окрестности одной точки, значима только в связи с другой серией, построенной вокруг другой точки, причем вторая серия либо сходится с первой, либо расходится с ней.
В основе всех различений-дуальностей Делеза лежит идея становления. Базой своей философии Делез считает философию стоиков и логику произведений Кэрролла, на образы сказок которого он постоянно ссылается. Если мы говорим, что Алиса увеличивается, то это означает, что она становится больше, чем была. Но верно и то, что она становится меньше, чем сейчас. Она становится больше, чем была, и меньше, чем стала, в один и тот же момент. “В этом суть, — пишет Делез, — одновременности становления, основная черта которого — ускользнуть от настоящего. Именно из-за такого ускользания от настоящего становление не терпит никакого разделения или различения на до и после, на прошлое и будущее. Сущность становления — движение, растягивание в двух смыслах-направлениях сразу: Алиса не растет, не сжимаясь, и наоборот. Здравый смысл утверждает, что у всех вещей есть четко определенный смысл; но суть парадокса состоит в утверждении двух смыслов одновременно”[184]. Такое утверждение двух смыслов одновременно есть нонсенс.
Делез ссылается на Платона, который предлагает различать два измерения. 1. Измерение ограниченных, обладающих мерой вещей, измерение фиксированных качеств, предполагающих паузы и остановки, фиксацию настоящего и указывание на предмет в данный момент времени; 2. Чистое становление вне какой-либо меры, пребывающее сразу в двух смыслах и избегающее настоящего. Делез специально подчеркивает, что этот платоновский дуализм не есть дуализм Идеи и материи, Идей и тел. Двойственность становления — более глубокая двойственность, скрытая в чувственных и материальных телах — подземный дуализм между тем, на что Идея воздействует, и тем, что избегает ее воздействия. Различие здесь проходит не между моделью и копией, а между копиями и симулякрами. Симулякр избегает воздействия Идеи. Обладающие мерой вещи лежат ниже Идей. Но нет ли ниже этих вещей, задается вопросом Делез, еще какой-то безумной стихии, живущей и действующей на изнанке того порядка, который Идеи накладывают на вещи? И нет ли двух языков, двух типов имен, один обозначает паузы и остановки, испытывающие воздействие Идеи, другой выражает движение и становление? Парадокс чистого становления — это парадокс бесконечного тождества обоих смыслов сразу — будущего и прошлого, дня до и дня после, избытка и недостатка, причины и эффекта. Взаимообратимости двух смыслов сразу, так, как они осуществляются в бесконечном тождестве, имеют одно следствие: оспаривание личной самотождественности, утрату собственного имени, что и происходит постоянно с Алисой. Личная неопределенность является не сомнением, внешним по отношению к происходящему, а объективной структурой самого события, которое всегда движется в двух смыслах-направлениях сразу и разрывает на части следующего за ними субъекта.
Для тел и положений вещей существует только одно время — настоящее. Но они могут быть причиной особых вещей совершенно иной природы. Такие эффекты — не тела, они бестелесны. Они не являются физическими качествами, скорее, они — логические атрибуты. Они — не вещи или положения вещей, они — события. Нельзя сказать, что события существуют, скорее, они в чем-то содержатся, чему-то присущи. Это не существительные и не прилагательные, а глаголы. Они не то, что действует, и не то, что претерпевает действие. Они — результаты действий и страданий, нечто “бесстрастное” — бесстрастные результаты. Это — неопределенные формы глагола, неограниченный Эон, становление, бесконечно разделяющее себя на прошлое и будущее и избегающее настоящего.
Опираясь на идею становления, Делез говорит о двух образах времени, которые одновременно и дополняют друг друга, и взаимоис-ключают. С одной стороны, время — это живое настоящее тел, действующих и подвергающихся воздействию, — Хронос. Хронос — это настоящее, которое одно только и существует. Прошлое и будущее превращаются в два его ориентированных измерения, так что мы всегда движемся от прошлого к будущему, но лишь постольку, поскольку моменты настоящего следуют друг за другом внутри частных миров или частных систем. А с другой — это момент, бесконечно делимый на прошлое и будущее, на бестелесные эффекты, которые являются результатами действий и страданий тел — Эон. “Только настоящее существует во времени, собирает и поглощает прошлое и будущее. Но только прошлое и будущее присущи времени и бесконечно разделяют каждое настоящее. Нет трех последовательных измерений, есть лишь два одновременных прочтения времени”[185].
Эон — это время, которому не нужно быть бесконечным, а только бесконечно делимым. Существует только прошлое и будущее, которые делят настоящее до бесконечности, каким бы малым оно ни было, вытягивая его вдоль своей пустой линии. Каждое настоящее делится на прошлое и будущее до бесконечности. Такое время — чистая прямая линия, две крайние точки которой непрестанно отдаляются друг от друга в прошлое и будущее. Для Хроноса настоящее — это все. Для Эона настоящее — это ничто, чистый математический момент, бытие разума, выражающее прошлое и будущее, на которые оно разделено. “Короче, есть два времени: одно составлено только из сплетающихся настоящих, а другое постоянно разлагается на растянутые прошлые и будущие”[186]. Хронос всегда имеет определенный вид, он либо активен, либо пассивен. Эон — вечный инфинитив, вечно нейтрален. Хронос цикличен, он измеряет движение тел и зависит от материи, которая ограничивает и заполняет его. Эон — чистая прямая линия на поверхности, бестелесная, безграничная, пустая форма времени, независимая от всякой материи, и представляет собой время событий-эффектов. Настоящее измеряет временное осуществление события, его вселение в глубину действующих тел и воплощение в положении вещей. Событие же как таковое в своей бесстрастности и световодозвуконепроницаемости не имеет настоящего, оно отступает и устремляется вперед в двух смыслах-направлениях сразу: что еще случится? что уже случилось? Чистое событие есть нечто, что только что случилось или вот-вот произойдет, но никогда не является тем, что происходит сейчас, никогда не бывает актуальной реальностью. Событие — это когда никто не умирает, а всегда либо только что умер, либо вот-вот умрет в пустом настоящем Эона, то есть в вечности. Прямая линия Эона прочерчивается случайной точкой, и на этой линии распределяются сингулярные точки каждого события, соотносясь со случайной точкой, которая заставляет их коммуницировать друг с другом и которая распространяет, растягивает их по всей линии. Каждое событие соотносится со всеми другими, и все вместе они формируют одно Событие — событие Эона, где они обладают вечной истиной. Хронос заполняется положениями вещей и движениями тел, которым он дает меру. Иначе обстоит дело с Эоном, который, будучи пустой и развернутой формой времени, делит до бесконечности то, что преследует его, никогда не находя в нем пристанища — Событие всех событий. Поэтому единство событий-эффектов резко отличается от единства телесных причин. Делез ссылается на физика Больцмана, который объяснял, что движение стрелы времени от прошлого к будущему происходит только в индивидуальных мирах или системах и только по отношению к настоящему, заданному внутри таких систем. “Значит, для Вселенной в целом невозможно различить эти два направления времени, и то же самое относится к пространству: не существует ни выше, ни ниже”[187], то есть, поясняет Делез, нет ни высоты, ни глубины.
Делез сравнивает Эон с идеальным игроком, уникальным броском, от которого качественно отличаются все другие броски. Он играет по крайней мере на двух досках или на границе двух досок. Эон собирает вместе и распределяет по всей своей длине сингулярности, соответствующие обеим доскам-сериям, которые относятся друг к другу подобно небу и земле, предложениям и вещам, выражениям и поглощениям. Эон циркулирует по сериям, без конца разветвляя их. Благодаря ему одно и то же событие одновременно и выражается в предложении, и является атрибутом вещей.
Соприсутствие разных типов времени Делез демонстрирует на примере истории философии; “...философское время — это время всеобщего сосуществования, где “до” и “после” не исключаются, но откладываются друг на друга в стратиграфическом порядке. Это и есть бесконечное становление философии, которое пересекается с ее историей, но не совпадает с нею. Жизнь философов и наиболее внешние моменты их творчества подчиняются обычным законам временной последовательности; однако их имена сосуществуют между собой и блистают либо путеводными звездами, помогающими нам вновь и вновь проходить по составляющим концепта, либо направляющими ориентирами того или иного пласта или страницы; их свет не перестает доходить до нас, подобно свету угасших звезд, еще ярче, чем прежде. Философия — это становление, а не история, сосуществование планов, а не последовательность систем”[188]. Проблема времени в истории науки второй половины XX века тоже становится актуальной. Во взаимодействии разных научных парадигм существенным является не их следование во времени в хронологическом порядке, а их сосуществование на равных, независимо от времени их исторической реализации. Другими словами, история науки начинает напоминать историю философии и историю культуры.
Для пояснения своей позиции Делез приводит цитату из Э.Брейе, который, по его мнению, дает прекрасную реконструкцию стоического мышления: “Когда скальпель рассекает плоть, одно тело сообщает другому не новое свойство, а новый атрибут — “быть порезанным”. Этот атрибут не означает какого-либо реального качества..., наоборот, он всегда выражен глаголом, подразумевающим не бытие, а способ бытия. ...Такой способ бытия находится где-то на грани, на поверхности того бытия, чья природа не способна к изменению. Фактически, этот способ не является чем-то активным или пассивным, ибо пассивность предполагала бы некую телесную природу, подвергающуюся воздействию. Это — чистый и простой результат, или эффект, которому нельзя придать какой-либо статус среди того, что обладает бытием... (Стоики радикально разводили) два среза бытия, чего до них еще никто не делал: с одной стороны реальное и действенное бытие, сила; с другой — срез фактов, резвящихся на поверхности бытия и образующих бесконечное множество бестелесных сущих”[189].
То, что мы имеем в виду, пишет Делез, под “расти”, “уменьшаться”, “краснеть”, “зеленеть”, “резать”, “порезаться” и так далее, — это не тела в их смешении, которые задают количественные и качественные положения вещей — красноту железа, зеленость дерева; это нечто совсем другое. Это бестелесные события на поверхности, результаты смешения тел.
Делез принимает толкование причинной связи стоиками, которые расчленяют ее так, что она воссоздается в каждой из полученных частей, но не одинаково. Стоики соотносят причины с причинами и устанавливают связь между ними (судьба). С другой стороны, они прослеживают связи между эффектами. Однако эффекты никогда не бывают причинами друг друга, они — лишь квази-причины. Эффекты — не тела, они не являются ни физическими качествами, ни свойствами, их можно было бы назвать логическими и диалектическими атрибутами. Они — не вещи или положения вещей, а события. О них нельзя сказать, что они существуют. Скорее, они нечто такое, что в чем-то содержится или чему-то присуще, они — бесстрастные результаты, не живые настоящие, а неопределенные формы глагола, неограниченный Эон, становление. Стоики начинают с разбиения причинной связи, а не с различения видов причинности, как это делали Аристотель и Кант.
Для стоиков положения вещей, количества и качества — такие же сущие (или тела), как и субстанция, и противостоят сверх-бытию, бестелесному как несуществующей сущности. У стоиков высшим понятием выступает не Бытие, а Нечто, поскольку оно принадлежит бытию и небытию, существованию и присущности. По мнению Делеза, стоики, пересмотрев платонизм, совершили радикальный переворот. Если тела с их состояниями, количествами и качествами обладают всеми характеристиками субстанции, то это значит, что характеристики идеи, напротив, относятся к другому плану, к бесстрастному сверхбытию — стерильному, бездействующему, находящемуся на поверхности вещей. Идеальное и бестелесное у стоиков может быть только эффектом.
Сократ спрашивает, можно ли утверждать, что для всего есть своя Идея, и для помоев, и для обрывков волос, и для грязи. У Платона в глубине вещей бушуют раздоры, пишет Делез, между копиями, которые подвергаются действию Идей, и симулякрами, которые такому воздействию не подвергаются. Стоики возвращают к поверхности все, что избегает действия Идеи, беспредельное возвращается. Неограниченное становление более не гул глубинных оснований, они выбираются на поверхность вещей и обретают бесстрастность. Это уже не симулякры, не имеющие основания и повсюду о себе намекающие, это — эффекты, понимаемые в причинном смысле. Стоики открыли поверхностные эффекты, самое потаенное становится самым явным. Становление само становится событием, идеальным и бестелесным. Бесконечно делимое событие всегда двойственно, в нем есть лишь то, что уже случилось или вот-вот случится, но не то, что происходит. Событие бесстрастно, оно ни активно, ни пассивно, оно, скорее, их общий результат (резать — быть порезанным). Оставаясь всегда только эффектами, друг для друга события могут быть лишь квази-причинами и вступать в квази-причинные обратимые отношения (рана и шрам).
Большое значение у Делеза имеет понятие поверхности. Задача философии — выведение глубины на поверхность. Самое глубокое — есть, вместе с тем, и самое непосредственное. То, что было глубиной, развернувшись, становится шириной. Неограниченное становление целиком удерживается в рамках этой вывернутой ширины. События, как и кристаллы, растут и становятся только на границах. Идя вдоль границы, огибая поверхность, мы переходим от тел к бестелесному. Делез вспоминает слова Поля Валери, его мудрую, как он считает, мысль: глубочайшее — это кожа. Событие происходит на поверхности, и чем плотнее оно окаймляет тела, тем более оно бестелесно. История учит нас, напоминает Делез, что у торных путей нет фундамента, а география показывает: только тонкий слой земли плодороден.
Для Делеза очень важна идея двойной причинности. В связи с этим он вспоминает позицию стоиков: события подчиняются двойной каузальности, с одной стороны, их причинами являются смеси тел, с другой — иные события же, которые можно назвать их квази-причинами. Двойную причинность можно понять и с точки зрения физики поверхностей. На поверхности жидкости события зависят и от межмолекулярных изменений как от своей реальной причины, и от вариаций поверхностного натяжения как от своей квази-причины.
В философии, социологии, истории науки конца века причинность является сложной проблемой. Выдвижение в истории науки на передний план научных революций, а вместе с тем увеличение роли культуры в интерпретациях научного знания существенно понизили, а потом и свели практически на нет интерес к внешней социальной детерминации развития научных идей. Между сосуществующими научными парадигмами устанавливаются не причинные, а диалогические отношения. Вместе с утверждением понятия события как основного при проведении исследований типа case studies и вместе с фиксированием внимания социологов на изучении работы отдельной лаборатории отношения между этими элементами научной деятельности становятся весьма неопределенными. Их нельзя назвать ни причинными, ни диалогическими. Дедуктивный ряд развития научных идей как особая форма взаимодействия тоже перестает быть непосредственным предметом исследования. На поверхности оказываются на первый взгляд хаотически, беспорядочно расположенные события, имеющие отношение или к конкретным ситуациям, связанным с какими-то научными достижениями, или с функционированием отдельной лаборатории научного сообщества, любого элемента социальной структуры науки[190]. Проблема характера их взаимодействия, возможности (или невозможности) причинных отношений между ними стоит достаточно остро. Рассуждения Делеза о событиях на поверхности могут, как мне кажется, здесь помочь.
События-эффекты на поверхности, полагает Делез, обладают автономией, которая задается, во-первых, их отличием от причины, а во-вторых, их связью с квази-причиной: “...событие как таковое — то есть смысл — отсылает к парадоксальному элементу, проникающему всюду как нонсенс или как случайная точка и действующему при этом, как квази-причина, обеспечивающая полную автономию эффекта”[191].
Таким образом, квази-причину события-смысла Делез разъясняет через парадоксальный элемент и нонсенс. Следует, по-видимому, показать, что имеет в виду Делез под этими понятиями.
Нонсенс и парадоксальный элемент
Парадоксальный элемент, по словам Делеза, является одновременно и словом, и вещью, он — вечный двигатель, который пробегает разнородные серии, координирует их, заставляет резонировать и сходиться к одной точке, или, наоборот, расходиться и ветвиться на многие. Парадоксальный элемент связан одновременно с двумя сериями и обладает двумя сторонами, которые никогда не соединяются, не сливаются вместе, так как сам парадоксальный элемент никогда не бывает в состоянии равновесия к самому себе. Он является одновременно избытком и недостатком, пустым местом и сверхштатным объектом, эзотерическим словом и экзотерической вещью. Именно поэтому он всегда обозначается двумя способами. В одной серии слово = х, в другой — вещь = х. По словам Секста Эмпирика, стоики пользовались словом, лишенным значения — Блитури (звукоподражание, уподобленное звучанию лиры), и применяли его вместе с другим словом, Скиндапсос (обозначает машину или инструмент). Ибо блитури был скиндапсосом, поймите.
Слово, лишенное значения, иначе пустое слово, может быть обозначено любым эзотерическим словом (это, вещь, Снарк, Бармаглот и так далее). Эзотерические слова обладают двумя степенями, и им соответствуют две фигуры. В первом случае эзотерическое слово одновременно и говорит о чем-то, и высказывает смысл того, о чем говорит, то есть, высказывает свой собственный смысл. Это ненормально, так не может быть. Ведь нормальный закон для всех имен, наделенных смыслом, состоит как раз в том, что их смысл может быть обозначен только другим именем. Имя же, которое высказывает свой собственный смысл, может быть только нонсенсом. Во втором случае центральную роль играет слово-бумажник, двух слов не нужно. Источником альтернативы являются две части слова-бумажника (злопасный = злой-и-опасный или опасный-и-злой). Все слово целиком высказывает свой собственный смысл и поэтому является нонсенсом. Здесь нет согласия с другим нормальным законом имен, наделенных смыслом, который состоит в том, что их смысл не может задавать альтернативу, в которую они сами бы входили. У нонсенса две фигуры: одна соответствует регрессивному синтезу, другая — дизъюнктивному.
Между смыслом и нонсенсом существует определенного типа внутренняя связь, некий способ их соприсутствия, и этим, по словам Делеза, задается вся логика смысла. Между смыслом и нонсенсом существует некоторое специфическое отношение, которое не совпадает с отношением между истиной и ложью, то есть его не следует понимать просто как отношение взаимоисключения. В этом и состоит главная проблема логики смысла. Парадоксальный элемент — это нонсенс, представленный в двух приведенных выше фигурах. Однако, нормальные законы не обязательно противоречат этим двум фигурам. Скорее наоборот, данные фигуры подчиняют нормальные, наделенные смыслом слова этим законам, которые, однако, не приложимы к самим фигурам. Это связано с тезисом, который Делез постоянно отстаивает в разных контекстах своих рассуждений: переход от условия к обусловленному бесплоден, если он совершается только с тем, чтобы помыслить условие в образе обусловленного как простую форму возможности. Нонсенс противоположен отсутствию смысла, а не самому смыслу, который производится им в избытке. Между ним и его продуктом никогда не бывает простого отношения исключения. Смысл принадлежит поверхностному эффекту, он неотделим от поверхности, он не принадлежит высоте или глубине. Поверхность — вот его измерение. Это не означает, однако, что смыслу недостает глубины или высоты. Скорее наоборот, высоте и глубине недостает поверхности, смысла, и они обладают им только благодаря “эффекту”, предполагающему смысл.
Таким образом, то обстоятельство, что Делез сосредоточивает все элементы своей логики (смысл, нонсенс, сингулярности, парадоксальный элемент и так далее) на поверхности, совсем не означает отсутствия у него интереса к глубине, основаниям. Совсем наоборот, по мнению Делеза, — “философия заставляет говорить Бездну и отгадывает мистический язык ее ярости, бесформенности и слепоты”[192]. Бездна — это тела, взятые в их недифференцированной глубине и беспорядочной пульсации. Глубина действует необычным образом: “посредством своей способности организовывать поверхности и сворачиваться внутри поверхностей”[193]. Глубину или бездну Делез называет еще хаосом, для которого “характерно не столько отсутствие определенностей, сколько бесконечная скорость их возникновения и исчезновения; это не переход от одной неопределенности к другой, а, напротив, невозможность никакого соотношения между ними, так как одна возникает уже исчезающей, а другая исчезает едва наметившись. Хаос — это не инертно-стационарное состояние, не случайная смесь. Хаос хаотизирует, растворяет всякую консистенцию в бесконечности”[194]. Извлекая глубину, хаос, бездну на поверхность, Делез стремится логически ее упорядочить. В самой логике смысла нет ни индивидуальностей, ни субъектов, ни объектов, но она их генерирует, формируя из них миры. Философия Делеза, в отличие от философии Платона, ориентирована не от индивидуального, множественного к единому, а наоборот, от безосновной глубины к индивидуальному. Отсюда возможность говорить о плюрализме постмодернистской философии Делеза.
СОДЕРЖАНИЕ
I. Теоретические проблемы философии современной науки (материалы III Смирновских чтений)
Севальников А.Ю. О некоторых тенденциях в интерпретации науки
Мамчур Е.А. Принцип "арациональности" и его границы
Эрекаев В.Д. Некоторые следствия ЭПР-парадокса
Казютинский В.В. Инфляционная космология: теория и научная картина мира
Печенкин А.А. Модальная интерпретация квантовой механики
Липкин А.И. О месте моделей в современной физике
Левич А. И. Природные референты "течения" времени
II. Философия социальных наук
Сачков Ю. В. Научный метод и познание социальных явлений
Абрамова Н.Т. Коммуникация и традиция
Меркулов И. П. Феномен сознания: когнитивные истоки культуры
Блюхер Ф. Н. Время в истории
Никитаев В. В. К онтологии множественности миров.
Давыдов Ю. Н. Античная предыстория социальной науки.
III. Из истории философии науки
Огурцов А.П. Философия науки 20 века: успехи и поражения (статья 1)
Новиков А. А. Пять ипостасей русского интуитивизма
Розин В.М. Опыт изучения творческого пути М.Фуко
Маркова Л.А. Наука и логика смысла Ж.Делеза
Научное издание
Философия науки. Выпуск 6
Утверждено к печати Ученым советом Института философии РАН В авторской редакции Художник: В.К.Кузнецов Технический редактор: Н.Б.Ларионова
Корректор Т.М.Романова
Лицензия ЛР № 020831 от 12.10.98 г.
Подписано в печать с оригинал-макета 00.00.00. Формат 60х84 1/16. Печать офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 00,00. Уч.-изд. л. 15,53. Тираж 200 экз. Заказ № 059.
Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН Компьютерный набор: Т.В.Прохорова Компьютерная верстка: Ю.А.Аношина
Отпечатано в ЦОП Института философии РАН 119842, Москва, Волхонка, 14
Notes
1
Примечания
Бубер М. Два образа веры. М., 1995.
(обратно)2
Гайденко П.П. Христианство и генезис новоевропейского естествознания // Философско-религиозные истоки науки. М., 1997.
(обратно)3
Элиаде М. Кузнецы и алхимики // Азиатская алхимия. М., 1998.
(обратно)4
Кирсанов В.С. Научная революция XVII века. М., 1987.
(обратно)5
Элиаде М. Кузнецы и алхимики.
(обратно)6
Там же.
(обратно)7
См.: Элементы. № 5. 1994.
(обратно)8
См.: Визгин В.П. Герметизм, эксперимент, чудо: три аспекта генезиса науки нового времени // Философско-религиозные истоки науки. М., 1997.
(обратно)9
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 99-03-19580.
(обратно)10
Примечания
Laudan L. Progress and its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth. L., 1977.
(обратно)11
Newton-Smith W. The rationality of Science. Oxford. 1981.
(обратно)12
Brown J.R. The Rational and the Social. Imagery. L., and N.Y. 1989.
(обратно)13
Merton R. The Sociology of Science. Chicago and L., 1973.
(обратно)14
Bloor D. Knowledge and Social Imagery. L., 1976, p. 4-6.
(обратно)15
Golinski J. Making Natural Knowledge. Constructivism and the History of Science. Cambridge. 1998.
(обратно)16
Latour B., Woolgar S. Laboratory Life: The Constructions of Scientific Facts. Prinston. 1979.
(обратно)17
См. об этом также: Огурцов А.П. Социальная история науки: две стратегии исследований // Философия. Наука. Цивилизация. Посвящается 65-летию со дня рождения акад. РАН В.С.Степина. М., 1999. С. 62-88.
(обратно)18
Примечания
Эйнштейн А. Полн. Собр. соч. Т. З.
(обратно)19
Гриб А.А. Нарушение неравенств Белла и проблема интерпретации квантовой теории // Философские исследования оснований квантовой механики. К 25-летию неравенств Белла. М., 1990.
(обратно)20
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 97-03-04368.
(обратно)21
Примечания
См.: Линде А.Д. Физика элементарных частиц и инфляционная космология. М., 1990.
(обратно)22
Казютинский В.В. Понятие “Вселенная” // Бесконечность и Вселенная. М., 1969.
(обратно)23
Казютинский В.В. Идея Вселенной // Философия и мировоззренческие проблемы современной науки. М., 1981.
(обратно)24
Статья представляет результаты исследования, поддержанного РФФИ (проект No: 99-06-80224).
(обратно)25
Примечания
Van Fraassen В. Semantic Analysis of Quantum Logic // C.A. Hooker (ed.) Contemporary Research in the Foundations and Philosophy of Quantum Mechanics. Dordrecht, 1973. Р. 80-113.
(обратно)26
Van Fraassen B. Quantum Mechanics: An Empiricist View. Oxf., 1991.
(обратно)27
Kohen S. A New Interpretation of Quantum Mechanics // P.Lahti, P.Mittelstaedt (eds.) Symposium on the Foundations of Modern Physics. Singapore, 1985. Р. 151-169; Healey R.A. The Philosophy of Quantum Mechanics: An Interactive Interpretation. Camb., 1989.
(обратно)28
Bub J. Interpretating the Quantum World. Camb., 1997; Dickson M. Quantum Chance and Nonlocality. Camb., 1998; The Modal interpretation of Quantum Mechanics. D.Dieks and P.Vermass (eds.). Dordrecht, 1998.
(обратно)29
Ландау Л.Д., Лифшиц E.M. Квантовая механика. Ч. 1. М.–Л.: ОГИЗ, 1948; Мессиа А. Квантовая механика. В 2 т. M., 1978.
(обратно)30
Гейзенберг В. О наглядном содержании квантово-теоретической кинематики и механики // Успехи физических наук. Т. 122, вып. 4. 1977. С. 622.
(обратно)31
Спутанное состояние передается так называемой несобственной матрицей плотности, показывающей, что это состояние вдвойне смешанное: оно не может быть представлено в виде смеси чистых состояний.
(обратно)32
Термин “проекционный постулат фон Неймана” ввел Г.Маргенау.
(обратно)33
Эйнштейн А. Собр. науч. тр. Т. З. M., 1966. С. 528-530.
(обратно)34
Schroedinger Е. Space-time Structure. Camb., 1950.
(обратно)35
Шредингер Э. Избр. тр. по квантовой механике. М., 1976. С. 261-284.
(обратно)36
Мандельштам Л.И. Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике. М., 1972. С. 348.
(обратно)37
Паули В. Физические очерки. М., 1975. С. 62.
(обратно)38
Hooker С.А. The Nature of Quantum Mechanical Reality: Einstein Versus Bohr // Paradigms and Paradoxes. R.G.Golodny (Ed.). Pittsburgh, 1972. Р. 205.
(обратно)39
Алексеев И.С. Концепция дополнительности. Историко-методологический анализ. М., 1978. С. 150-161.
(обратно)40
Бор Н. Избранные научные труды. Т. 2. М., 1971. С. 391, 531.
(обратно)41
Ссылки см. в моей статье: Печенкин А.А. Статистическая интерпретация квантовой механики: достигнут ли прогрессивный сдвиг проблемы? // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 7: Философия. 1997. № 5. С. 26-41.
(обратно)42
Van Fraassen B.C. The Labyrinth of Quantum Logic // Logical and Epistemological Studies in Contemporary Physics / Boston Studies in the Philosophy of Science. Vol. 13. Dordrecht, 1974. Р. 300-301.
(обратно)43
Теорема Кохена-Шпекера указывает, что предположение о том, что функциональные отношения между наблюдаемыми отображается в функциональное отношения между точными значениями этих наблюдаемых, ведет к противоречию даже в том случае, если эти наблюдаемые совместны.
(обратно)44
Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, Грант РФФИ № 99-06-80244.
(обратно)45
Работа поддержана грантом Российского гуманитарного научного фонда № 96‑03‑04053.
(обратно)46
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект 98-06-80047.
(обратно)47
Примечания
Мигдал А.Б., Нетесова Е.В. На пути к истине (О научном методе познании) // Кибернетика живого: биология и информация. М., 1984.
(обратно)48
Бунге М. Причинность. М., 1962.
(обратно)49
Проблемы Гильберта. М., 1969.
(обратно)50
См.: Metz Karl Н. Paupers and Numbers: The Statistical Argument for Social Reform in Britain during the Period of Industrialization // The Probabilistic Revolution. Vol. l. Ideas in History. Cambridge, 1987.
(обратно)51
Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958.
(обратно)52
См.: Мигдал А.Б. Поиски истины. М., 1978.
(обратно)53
Фигурнов В. Предисловие редактора // Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. М., 1998.
(обратно)54
Примечания
Макаров M.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. Тверь, 1998.
(обратно)55
Понятие коммуникативности может выражать не только структуру межличностных отношений “Я” и “Другого”; это может быть и феноменологическая трактовка, служащая для отображения когнитивной реальности, воплощенной в структурах человеческого опыта.
(обратно)56
Петров М.К. Язык. Знак, культура. М., 1993. С. 228.
(обратно)57
Бергсон А. Материя и память. // Бергсон А. Собр. соч. Т. 1. М.,
(обратно)58
Гуссерль Э. Парижские доклады. //Логос, 1991, № 2. С. 14.
(обратно)59
Jaspers K. Vernunft und Existenz Mьnchen, 1960. S. 340.
(обратно)60
Петров M.K. Цит. соч. C. 228.
(обратно)61
Jaspers K. Vernunft und Existenz Mьnchen, 1960. S. 340.
(обратно)62
Там же.
(обратно)63
Васильева Т.В. Беседа о логосе в платоновском “Теэтете”. // Платон и его эпоха. М., 1978. C. 283.
(обратно)64
Семенцов В.С. Проблема трансляции традиционной культуры на примере судьбы Бхагавадгиты. // Восток-Запад. Исследования, переводы, публикации. М. 1988. C. 44.
(обратно)65
Cм.: Husserl Е. Cartesianische Meditationen. Husserliana. Bd I.
(обратно)66
Серов Ю.М., Портнов A.H. Сознание и интерсубъективность. // Философия сознания в XX веке: проблемы и решения. Иваново, 1994.
(обратно)67
Гуссерль Э. Парижские доклады. // Логос. 1991. № 2. C. 14.
(обратно)68
Дидро Д. Собр. соч. В 10 т. Л., 1937. T. 8.
(обратно)69
Там же. C. 28.
(обратно)70
Ильенков Э.В. Соображения по вопросу об отношении мышления и языка (речи) // Вопросы философии. 1977. № 6; Сироткин С.А. Чем лучше мышлению вооружаться — жестом или словом? // Там же.
(обратно)71
Серль Дж. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Теория речевых актов. Вып. 17. М., 1986.
(обратно)72
Кубрякова Е.С. Определение основных понятий в структуре речепорождающего процесса (превербальные этапы) // Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. М., 1991. C. 47.
(обратно)73
Иванов В.А., Ласков В.Б., Шевченко Н.А. Гуманитаризация высшего образования и проблема обучения неврологии на кафедре медицины и логопедии // Человекознание: гуманистические и гуманитарные ориентиры в образовании. Курск, 1994. C. 60.
(обратно)74
Залевская А.А. Вопросы теории овладения вторым языком в психолингвистическом аспекте. Тверь. ТГУ, 1996.
(обратно)75
Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 1995. C. 336.
(обратно)76
Исследование проделано при финансовой поддержке РФФИ, грант № 99-06-80075.
(обратно)77
См.: Churchland P. Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain. Cambridge, Mass: MIT press, 1988.
(обратно)78
См., например: Sperry R.W. Hemispheric Disconnection and Unity in Conscious Awareness // American Psychologist, 1968, vol. 23, p. 723-733.
(обратно)79
См.: Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека. Т. 3, М., 1990, c. 111-114.
(обратно)80
Более подробно см.: Rumelhart, D., McClelland, J., and the PDP Research Group. Parallel Distributed Processing, vol. I, Cambridge, Mass.: MIT Press (1986); Horgan, T. and Tienson, J. Connectionism and the Philosophy of Psychology. Cambridge, Mass.: MIT Press, (1996).
(обратно)81
См., например: Raikov V.L. Hypnotic Age Regression to the Neonatal Period: Comparisons with Role Playing. — International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 1982, V. 30, p. 108-116; Raikov V.L. Creative Hypnosis. Japanese journal of hypnosis. 1994, v. 38, N. 1, p. 5-11.
(обратно)82
Lumsden C.J, Wilson E.O. Promethean Fire: Reflections on the Origin of Mind. Cambridge. 1983, P. 84.
(обратно)83
Относительно возникновения “социального” сознания см., например: Artigiani R. Societal Computation and the Emergence of Mind // Evolution and Cognition, 1996, vol. 2, № 1.
(обратно)84
Как показали эксперименты, проведенные в свое время С.Даймондом, психологом из Кардиффского университетского колледжа (г. Уэльс), “по сравнению к левым полушарием правое полушарие видит мир как значительно более неприятное, враждебное и даже омерзительное место” (Саган К. Драконы Эдема. М., 1986, с. 190).
(обратно)85
“Рубила из Европы, Южной Африки и с Индостанского полуострова являются, по существу, однотипными орудиями, и это также относится к остальному крупному и мелкому инвентарю... Отсутствие региональной специализации и всеобщая стандартизация каменных орудий предполагают универсальную модель образа жизни, который для всех заселенных районов земного шара характеризовался единым уровнем производительности”. (Кларк Дж. Д. Доисторическая Африка. М., 1977, с. 96).
(обратно)86
См.: Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989, с. 99.
(обратно)87
Работа выполнена при поддержке РГНФ проект № 98.03.04190.
(обратно)88
Примечания
Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998.
(обратно)89
Кант И. Критика чистого разума. М., 1964.
(обратно)90
В известном смысле для понимания данного различия может быть использовано традиционное различие словосочетаний-меток (an sich) и (fьr sich).
(обратно)91
“Яйность”, “ячество” не совсем удачный перевод, скорее речь идет о “самостности” или “самодостаточности”.
(обратно)92
Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. СПб., 1997.
(обратно)93
Библер В.С. Исторический факт как фрагмент действительности // Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. М., 1969.
(обратно)94
См.: Бродель Ф. Игры обмена. М., 1988.
(обратно)95
Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1998.
(обратно)96
В принципе, именно на это нам постоянно указывают феминистки.
(обратно)97
Мы сознательно не употребляем языковую конструкцию “со-бытие”, синонимичную русскому “сосуществованию”, потому что в данном контексте его употребление не прояснило бы, а скорее иллюстрировало смысл.
(обратно)98
Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991.
(обратно)99
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. М., 1992.
(обратно)100
Бродель Ф. Что такое Франция? М., 1997.
(обратно)101
Подробнее об этом см.: Блюхер Ф.Н. Антиномии исторического знания // Благо и истина: классические и неклассические регулятивы. М., 1998.
(обратно)102
Хвостова К.В., Финн В.К. Проблемы исторического познания в свете современных междисциплинарных исследований. М., 1997.
(обратно)103
Бродель Ф. Структура повседневности: возможное и невозможное. М., 1986.
(обратно)104
При этом необходимо помнить, что мобилизация может вызываться искусственно (Сталинская революция 1929 года).
(обратно)105
Бродель Ф. Что такое Франция? Люди и вещи. Кн. 2, часть 1, М., 1995.
(обратно)106
Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа “Анналов”. М., 1993.
(обратно)107
Аверроэс (Ибн Рушд). Опровержение опровержения. Киев-СПб., 1999.
(обратно)108
Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 253-268.
(обратно)109
Употребленные нами понятия указывают на наше расхождение с онтологией М.Хайдеггера, для которого “попытка обоснования metaphуsica specialis оборачивается вопросом о сущности metaphуsica generalis” (Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М., 1997. С. 7).
(обратно)110
Примечания
“Всякий исследователь, принимающий натуралистический подход, независимо от того, в какой науке он работает, исходит из того, что ему уже дан объект его рассмотрения, что он сам как исследователь противостоит этому объекту и применяет к нему определенный набор исследовательских процедур и операций, которые и дают ему, исследователю, знания об объекте. Эти знания представляют своего рода трафареты, шаблоны или схемы, которые мы накладываем на объект и таким образом получаем его изображение, а вместе с тем — вид и форму самого объекта. Исследователь-натуралист никогда не задает вопросов, откуда взялся “объект” и как он в принципе получается, ибо для него, сколь бы методологически изощренным и развитым он ни был, природа с самого начала состоит из объектов, а точнее, как писал К.Маркс, из объектов созерцания, которые и становятся затем объектами специального научного исследования” [7, с. 4].
(обратно)111
Существенно, что мы пытаемся здесь рассуждать об онтологическом мышлении вообще, то есть занимать рефлексивную метапозицию. С этим связан ряд сложных вопросов, на которых мы не будем здесь останавливаться; просто в ходе дальнейших размышлений не будем забывать, cum granum salis, что мы сами ограничены некоторым онтологическим горизонтом. Ограничены, во-первых, собственным онтологическим опытом (если таковой был), способностью реконструировать ситуации и имитировать онтологический опыт других; во-вторых, доступной нам культурно-исторической ретроспективой; в-третьих, поставленной задачей, имеющимися у нас средствами анализа, языком и т.п.
(обратно)112
Иначе говоря, если принимать столь очевидно напрашивающуюся аналогию космологической картины атомистов с практикой полисной демократии, где свободные граждане, “сталкиваясь друг с другом и всячески кружась” в спорах на агоре, которая выступает как центр этого своего рода вихревого мира-полиса, “разделяются по взаимному сходству”, образуя тем самым очередное состояние мира полиса, то пустота Левкиппа суть аналогия права, причем такого, в рамках которого все сущее обладает равноправием — изономией.
(обратно)113
Включая идею бесконечного множества возможных универсумов, из которых Бог выбирает наиболее гармоничный (11, т. 1, с. 422).
(обратно)114
Пожалуй, единственный успешный (пока) опыт реализации двукультурности представляет собой Япония. Политика Запада по навязыванию “общечеловеческих ценностей” всему человечеству, после известных событий на Балканах 1999-го года, вряд ли может быть расценена достаточно позитивно.
(обратно)115
Appetitus, по Лейбницу, который Хайдеггер указывает в качестве первого определения “воли к власти” Ницше [6].
(обратно)116
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного Фонда — грант № 99-03-19878.
(обратно)117
Исследование осуществлено по проекту РФФИ (грант 00-06-80159).
(обратно)118
Примечания
Ренан Э. Будущее науки. Т. 1. Киев, 1902. С. 29, 76.
(обратно)119
Мах Э. Анализ ощущений. М., 1908. С. 19.
(обратно)120
Мах Э. Познание и заблуждение. М., 1908. С. 18.
(обратно)121
Мах Э. Популярно-научные очерки. СПб., 1909. С. 154.
(обратно)122
Cohen H. Logik der reinen Erkenntnis. B., 1902. S. 26.
(обратно)123
Op. cit. S. 33.
(обратно)124
Op. cit. S. 39.
(обратно)125
Natorp P. Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften. Lpz.—Berlin, 1910. S. 14.
(обратно)126
Op. cit. S. 48.
(обратно)127
Именно “в логике отношений математика находит свои основные понятия и принципы; настоящая логика математики есть логика отношений” (Кутюра Л. Алгебра логики. Одесса, 1909. C. 102).
(обратно)128
Кассирер Э. Познание и действительность. СПб., 1912. C. 17.
(обратно)129
Там же. С. 23.
(обратно)130
Там же. С. 159, 162.
(обратно)131
Там же. С. 173.
(обратно)132
Там же. С. 304.
(обратно)133
Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1 // Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. С. 320-321.
(обратно)134
Там же. С. 181.
(обратно)135
Там же. С. 194.
(обратно)136
Там же. С. 198.
(обратно)137
Там же. С.334.
(обратно)138
Там же. С. 193.
(обратно)139
Там же. С. 345.
(обратно)140
Revue de Metaphysique et Morale. P., 1901. Р. 145.
(обратно)141
Дюгем П. Физическая теория, ее цель и строение. СПб., 1910. С. 137.
(обратно)142
Там же. С. 201.
(обратно)143
Пуанкаре А. О науке. М., 1983. С. 8.
(обратно)144
Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г.Г. Сочинения. М., 1989. С. 369. О философии языка Г.Г.Шпета см. статью: Гидини М.К. Слово и реальность. К вопросу о реконструкции философии языка Густава Шпета // Творческое наследие Г.Г.Шпета и современные философские проблемы, Томск, 1997. С. 51-98.
(обратно)145
Шпет Г. Сознание и его собственник. М., 1916. С. 1.
(обратно)146
Вейль Г. Математическое мышление. М., 1989. С. 70-71.
(обратно)147
Дворкин И. “Существование” в призме двух языков — Таргум. М., 1990. Вып. 1. С. 124.
(обратно)148
Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 49.
(обратно)149
Там же. С. 69.
(обратно)150
Бюлер К. Теория языка, 1934. М., 1993. С. XIX-XXII.
(обратно)151
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 99-0319838.
(обратно)152
Примечания
В Германии, по свидетельству историков философии, был переведен ряд его работ, в том числе докторская диссертация, а ее автор получил приглашение войти в состав сотрудников новой философской энциклопедии.
(обратно)153
Сам Лосский, помимо очевидных симпатий к немецкой философской школе, считал свои взгляды весьма близкими идеям англо-американского неореализма (Александер, Лэрд, Марвин, Питкин, Монтегю).
(обратно)154
Лосский Н. Обоснование интуитивизма. 2 изд. СПб., 1908. С. 97.
(обратно)155
В.Зеньковский считал Лосского едва ли не единственным русским философом, создавшим действительно философскую систему. С этим можно согласиться, если, как уже отмечалось, не отождествлять последнюю с “системой интуитивного знания”.
(обратно)156
Подробнее см.: Бердяев Н. Об онтологической гносеологии // Вопросы философии и психологии. Май-июнь 1908 г.
(обратно)157
Лосский Н. История русской философии. М., 1991. С. 372.
(обратно)158
Лосский Н. Ценность и бытие. Paris, 1931. С. 76.
(обратно)159
“Иерархический персонализм” — еще одна ипостась (иное название) интуитивизма, в котором отстаивается идея личности как особой субстанции, как центрального онтологического элемента мира. Подробно этот вопрос рассматривается автором в его концепции “субстанциального деятеля”, анализ которой не входит в задачу данной статья, ибо требует дополнительного привлечения значительного материала.
(обратно)160
Сторонником этой идеи был также другой русский философ — С.Франк.
(обратно)161
Понятие “творчество”, по убеждению автора, коррелирует лишь с образом Творца. Сужать творчество до меньшего масштаба — ошибочно. В точном смысле этого слова оно есть лишь там, где Творец привносит в реальный мир нечто принципиально новое. Иными словами, творчество имеет исключительно Божественную природу.
(обратно)162
Понятие “субъективный образ” Лосский вообще не приемлет, считая его абсолютно ложной гносеологической конструкцией субъективного идеализма и традиционного эмпиризма.
(обратно)163
Таковые можно обнаружить в уже упоминавшейся концепции “субстанциального деятеля”.
(обратно)164
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (Грант-00-03-00102).
(обратно)165
Примечания
В этой статье я не буду специально анализировать ситуацию в философии, социологии, истории науки, я буду больше опираться на результаты моих прошлых исследований в этой области, на такие свои работы как: Наука: история и историография. Наука, М., 1987; Конец века — конец науки? Наука, М., 1992; Об особенностях анализа науки социологами в конце века я писала в статье: Конструирование научного знания как социальный процесс // Философия науки. Вып. 3, 1997, с. 110-128; а также в статье: Одна наука — один мир? // Науковедение. 2000. № 1. С. 128-144. В качестве исследования, где наиболее четко и последовательно проговариваются основные идеи микросоциологии конца века, я бы рекомендовала книгу: Knorr-Cetina K.D. The Manufacture of Knowledge. An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science. N.Y., 1981, а также книгу, где отражена дискуссия сторонников и противников социологической интерпретации научного знания: Scientific Rationality: the Sociological Turn. Brown J.R., ed. — Dordrecht etc.: Reidel, 1984. Univ. of Western Ontario. Vol. 25. В русском переводе любопытна в этом отношении книга: Малкей М. Наука и социология знания. М., 1983.
(обратно)166
Интересное исследование проведено С.С.Неретиной в области соотнесения идей средневековой философии и философии постмодернизма, как ока представлена в работах: Делеза Ж., Неретина С.С. обосновывает тезис, что средневековое мышление можно рассматривать как стратагему мышления современного. См. в связи с этим ее работы: Тропы и концепты. М., 1999; Средневековое мышление как стратагема мышления современного // Вопросы философии. 1999. № 11. С. 122-150.
(обратно)167
Делез Ж. Логика смысла. М.—Екатеринбург, 1998. С. 31.
(обратно)168
Там же. С. 32.
(обратно)169
Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? СПб., 1998. С. 40.
(обратно)170
Делез Ж. Логика смысла. С. 37-38.
(обратно)171
Лакатос И. Доказательства и опровержения // Как доказываются теоремы. М., 1967.
(обратно)172
Там же. С. 59.
(обратно)173
Делез Ж. Логика смысла. С. 167.
(обратно)174
Я бы рекомендовала работы: Библера В.С. “От наукоучения к логике культуры”. М., 1991; “На гранях логики культуры”. М., 1997 и др.
(обратно)175
Делез Ж. Логика смысла. С. 144.
(обратно)176
Делез Ж. Логика смысла. С. 153-154.
(обратно)177
Там же. С. 155.
(обратно)178
Борхес Х.Л. Письмена Бога. М., 1992. С. 237.
(обратно)179
Делез Ж. Логика смысла. С. 160.
(обратно)180
Библер B.C. На гранях логики культуры. М., 1997. С. 430.
(обратно)181
Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 163.
(обратно)182
Там же. С. 163.
(обратно)183
Там же. С. 166.
(обратно)184
Делез Ж. Логика смысла. С. 15.
(обратно)185
Там же. С. 20.
(обратно)186
Там же. С. 92.
(обратно)187
Больцман. Лекции по теории газа. Bercley, Calif., 1964.
(обратно)188
Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 77-78.
(обратно)189
Brehier Е. La Theorie des incorporels dans l'ancien stoicism. Paris, 1928. Р. 11-13.
(обратно)190
Интересные соображения о динамике развития философских и социологических представлений о науке последних десятилетий предлагает И.Т.Касавин в книге “Миграция. Креативность. Текст”. СПб., 1999. См. особенно с. 171-190.
(обратно)191
Делез Ж. Логика смысла. С. 134.
(обратно)192
Там же. С. 150.
(обратно)193
Там же. С. 171.
(обратно)194
Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 57-58.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

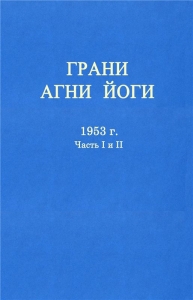
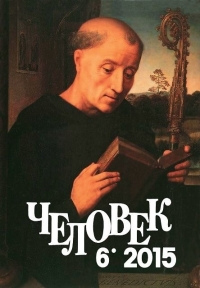
Комментарии к книге «Философия науки. Выпуск 6», Андрей Юрьевич Севальников
Всего 0 комментариев