Дмитрий Хаустов Лекции по философии постмодерна
© Хаустов Д.С., 2018
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018
Вступительное слово
Эта книга выходит в ситуации, говоря строго, in absentia: конечно, не в отсутствие текстов и слов, коих, напротив, более чем достаточно, но в отсутствие самой ситуации – именно той, которую и описывает Лиотар в своем пионерском исследовании по титульной теме. В силу того что постмодерн как реакция на Просвещение требует, следовательно, самого Просвещения – для рагу из зайца надо зайца, – мы, исторически оказавшиеся за пределами просветительского опыта, попадаем в странное межеумочное положение – у порога, будто бы перед витриной: вот товары на любой вкус, но зайти и потрогать нельзя. Бытие в досадном парадоксе: наша ситуация – отсутствие ситуации, наше событие в том, что события с нами так и не случилось. Впрочем, я полагаю, что в свете всего вышесказанного стоит не меньше, но больше думать и говорить о том, чего мы лишены, – в данном случае о постмодерне. Логика проще простого: не мириться лениво с тем, что мы, по счастью, от чего-то избавлены, но со всей интеллектуальной ответственностью прислушиваться к тому, чего нам, к несчастью, не хватает.
У текста – или текстов, – представленных ниже, есть один фиктивный исток. Несколько лет тому назад я прочитал небольшой курс лекций по философии постмодерна, рассчитанный на непрофессиональную, то есть более-менее далекую от философии аудиторию. Этот курс и служит истоком данного текста. Исток этот фиктивен, или по меньшей мере частично фиктивен, потому, что между исходными лекциями и итоговым текстом пролегает пропасть. Дав согласие на публикацию и получив затем расшифрованные записи, я успел пожалеть о своем согласии. Я убежден, что публичная лекция и печатный текст представляют собой настолько разные жанры высказывания, что перевод между ними и невозможен, и не нужен. Так или иначе, мне пришлось переписывать лекции заново, сохраняя лишь план и по возможности придерживаясь нейтральной полуразговорной стилистики. Конечно, можно было бы избежать компромиссов и создать совершенно новое произведение с нуля, но на это, увы, не было времени. От исходных лекций сохранился остов, последовательность сюжетов и размышлений, а также многие формулировки, которые мне и сегодня кажутся довольно удачными. Итоговый текст получился вполне независимым высказыванием, занимающим, опять-таки, промежуточное положение: не речь и не текст, а что-то среднее, как серая зона, в которой лишь зарождается то, что в каких-то иных формах, возможно, будет иметь уже законченный вид. В отсутствие этих готовых форм мы должны довольствоваться тем, что у нас есть: попыткой проговорить сам процесс проговаривания, как в знаменитой «Драме» Соллерса, очень созвучной всей нашей теме.
Задолго до появления этого текста, задолго до чтения этих лекций феномен философского постмодерна – в том виде, в каком мы знали его в его лучшие времена, стал достоянием истории философии. Как минимум в двух отношениях это хорошая новость. Во-первых, мы наконец-то можем изучать постмодерн с холодной головой и без лишних эмоций. Во-вторых, только таким изучением и добывается знание о том, где мы, мыслящие, оказались теперь, в современном изводе той философии, что – не без иронии – объявила себя «после современности». Трудность и непонимание ценны одним: они гарантируют, что будет не скучно.
Москва, апрель 2017Лекция 1. [Постмодерн как проблема]
Maledicta Paradisus in qua tantum cacatur!
Guillaume d’AuvergneТоварищ, беги быстрее, позади старый мир!
Граффити на стене Сорбонны, Париж, 1968 годНаша проблема называется «постмодерн». Мне хочется настоять на некой беспредпосылочности в этом вопросе и говорить максимально просто, насколько это возможно. Говорить по возможности просто об очень сложном феномене. Я хочу построить нашу беседу так, будто бы в нас самих относительно этой темы ничего еще нет. Как будто бы мы не знаем, что это такое. Как будто мы пытаемся начать с самого начала. В этом смысле я хочу оказаться примерно в том же положении, в каком оказались и вы, – насколько мне это удастся.
Для начала хочу напомнить себе и вам одну любопытную байку, которую в связи с постмодерном в одном месте приводит Александр Моисеевич Пятигорский[1]. Нам нужно – Пятигорскому и мне – признаться милой даме в любви. Просто очень хочется. И мы ломаем голову, как это сделать, потому что дама интеллигентная, образованная, а с такими всегда непросто. Как сказать что-то новое, ведь все уже было там и тут сказано, мы смотрели все эти фильмы, где все друг другу признаются в любви, читали все эти бесконечные книги… Я понимаю, что все, что я хочу сказать, – все не то. Я хочу выразить себя, свои подлинные чувства. Я хочу подобрать слова, которые бы выразили мои подлинные чувства в их полноте. Я хочу сказать даме: «Ты знаешь, я безумно тебя люблю». И тут же вспоминаю: так ведь у Дюма точно так и было написано. У Дюма стоят те же самые слова: «Я безумно тебя люблю», они в один ответственный момент были сказаны Анне Австрийской. Я это знаю, и моя образованная дама тоже, конечно, это прекрасно знает. Что мне остается? Я ничего лучше не могу придумать и говорю ей: «Знаешь, дорогая, милая, я безумно тебя люблю… как это было сказано у Дюма Анне Австрийской в „Трех мушкетерах“». Вот так я и выражаю свои подлинные чувства. И вот это и называется «постмодерн».
Кстати, чтобы усилить этот пример, скажу вот что: я не просто цитирую здесь Пятигорского, но я цитирую Пятигорского, который сам – с некоторыми вольностями – цитирует здесь Умберто Эко[2]. Хорошо, а Умберто Эко что, сам придумал этот пример? Может, он тоже у кого-то стащил эту байку, как мы с Пятигорским? Может, да, может, нет – мы все равно получаем симулякр во второй, а то и в третьей степени. Симулякр в энной степени: цитата на цитате и на цитате. A rose is a rose is a rose.
Я хочу выразить себя. Я хочу что-то сказать – настоящий, подлинный я, – но у меня нет языка для того, чтобы это сделать, потому что язык некоторым образом уже существует до меня. Уже все сказано на этом языке. Отметим эту проблему и, помня об этом, перейдем непосредственно к делу.
Тем временем мне уже хочется выражаться сильно, к примеру: никакой такой постмодернистской философии не существует. Если что и существует, то философия просто – мышление о мышлении. Однако мышление, даже такое хитрое, дано во времени, не так ли? Одно время мы именуем Античностью, отсюда получаем античную философию. То же со Средними веками, с Модерном. Ныне говорят о постмодерне, следовательно, должны говорить и о такой философии – философии во времена или в ситуации[3] постмодерна.
Согласно одному из наших будущих героев, я имею в виду Жиля Делеза, философия как таковая стоит по крайней мере на двух слонах. Во-первых, это проблема. Во-вторых, это концепт, который создается философом специально под проблему, то есть создается для решения проблемы, которую мы поставили. У меня нет никаких причин не согласиться с Делезом в этом моменте. Нам нужна проблема постмодерна. К счастью, здесь нам ничего не надо изобретать – нам повезло, потому что сам язык в данном случае дает нам искомую проблему.
Давайте вслушаемся: постмодерн. Смущает ли кого-нибудь, как это звучит? Пост означает после, модерн – это современное, новое. Мы получаем «после нового», «после современного». Современность – то есть со временем, вместе со временем. Я современен, я сейчас. Тогда что это значит – постсовременность, после сейчас?.. Я сразу должен оговорить вот что: мы, без сомнения, можем отнестись к этой языковой конструкции «постмодерн» просто как к дешевой игре слов. Мало ли, название – ну «постмодерн», можно и еще как-то назвать (и ведь называют). Вот, к примеру, тот же самый Александр Моисеевич Пятигорский временами так и поступал, относясь к этому как к игре слов без особенной мысли. Он часто так делал – особенно с тем, что ему по каким-то причинам не нравилось. Здесь и сейчас мы можем повторить его брезгливый жест. И что мы тогда сделаем? Мы откажемся от рефлексии. Мы скажем, что нам до этой игры слов дела нет, мы не будем ее проблематизировать – то есть не будем даже пытаться, откажемся от самой попытки понять, правда ли это просто игра, или это что-то более серьезное… Нет уж, бог с ним. Поговорим о буддовости Будды, которая, конечно, совсем не игра слов.
Мне, признаться, больше нравится другой вариант – не отказываться поспешно от рефлексии, задержаться на мгновение в философии, не выпадать из нее куда угодно вовне. Задумавшись, мы объективировали для себя странное содержание: пост-современность, после сейчас. Как это вообще возможно? Как возможно такое сейчас, которое, прошу прощения, после сейчас? Такое настоящее, которое после настоящего? Во всем этом заключается очень важная для понимания постмодерна проблема – это проблема времени и истории. Один английский философ выразился очень точно: он сказал, что весь постмодерн сводится к попытке написать – внимание! – историю настоящего. Историю настоящего. Вдумайтесь в эти слова. Ничего не смущает? Это готовый парадокс или хотя бы оксюморон. Ведь если настоящее, то это еще не история. История возможна только в модусе прошедшего. Мы ведь из своего настоящего объективируем некоторое прошедшее как историю и далее рассматриваем его как историю – исторически. Но если у нас возникает история настоящего, то само настоящее перестает быть настоящим, ломается основополагающий модус настоящего. Парадоксально, но наше настоящее стало историей, даже не успев уйти хоть в какое-то прошлое. Все уже история, не успев наступить. Это трудное место, но я остерегусь называть его непроходимым.
Нашу проблему можно зафиксировать как проблему временного сдвига. История настоящего – это и есть временной сдвиг. Время съезжает в прошлое, незаметно накладывается на настоящее. А статус будущего, уж простите, вообще нам здесь неясен. Мы с вами говорим обычно: «Настоящее чревато будущим». Чтобы заострить парадокс, который у нас здесь возникает, я переиначу это клише и скажу так: «Настоящее чревато прошлым». Мы хотим видеть настоящее, но оно обременено прошлым. Мы хотим нового, но всегда получаем что-то такое, что уже было. Ничего нового, потому что в романе Александра Дюма «Три мушкетера» кто-то уже признался в любви так, как я хотел признаться в любви в своем липовом настоящем. А что тогда с будущим? Если настоящее чревато прошлым и будущим, значит, то, что будет, уже было. Безвыходная, безобразная, неприятная, ужасная ситуация для мысли.
История настоящего – парадоксальный объект для нашей мысли: как вообще можно что-то знать об истории вот в таком временном сдвиге, если все что угодно оказывается сразу уже историей? Никакой истории, собственно, не остается. Это время конца истории. История в классическом смысле заканчивает свое существование – так, во всяком случае, говорят. Ближайшая проблема, однако, вот в чем: история будто бы пропадает, но сам модерн, соответственно и зависящий от него постмодерн, есть исторический термин, обозначающий именно историческое различие, водораздел эпох. Мы говорим о конце истории в связи с тем, что изначально является специфически историческим понятием.
Исторически мы выделяем в европейской культуре эпоху модерна. За ней, как нам вдруг стало известно, следует постмодерн – то, что после модерна. Постмодерн оказывается оппозиционен модерну. Однако нам мало сказать, что постмодернизм – это такая оппозиция к предшествующей культуре или к предшествующей эпохе. Да любая эпоха в культуре оппозиционна по отношению к предшествующей, поэтому она и возникает, не так ли? Раз так, то мы можем с вами хотя бы предположить, если все-таки постмодерн как-то оппозиционен модерну, что какие-то ключевые характеристики постмодерна будут в свою очередь выстраиваться как оппозиции, уже частные оппозиции, таким же ключевым характеристикам модерна. Получается, в первую очередь и до разговора о постмодерне нам надо как-то охарактеризовать сам модерн.
Выделить и, в свою очередь, проблематизировать модерн непросто. Под этим названием фигурируют разные историко-культурные целостности. Курьез ли, но даже раннехристианские теологи – неожиданно! – обозначали как модерн свою собственную эпоху. Так они противопоставляли свою новость более раннему времени, для которого характерной была иная основополагающая черта – язычество. Таким образом, раннее христианство противопоставляет себя античному язычеству через все тот же оператор модерна. Также модерном назывался период Возрождения. Снова противопоставление недавнему прошлому – феодализму, тому же христианству, которое только-только само ходило в модернах, а ныне стало постыдной архаикой. Европейские общества XVII века также самоопределяются через модерн. То есть модерн – это и Новое время в общем, и Просвещение в частности. Парад модернов[4].
Однако с историко-культурной точки зрения именно Новое время чаще и тверже ассоциируется с модерном, можно и с заглавной – Модерном. Хабермас, например, говорит: «Проект Модерн». Как глобальная европейская эпоха Разума, проект Модерн начинается именно с Нового времени, с Галилея, Бэкона, Декарта. Последнее имя, с моей точки зрения, самое важное. Я говорю: «Проект Модерн, европейский рационализм и так далее, начинается с Декарта». Разрыв во времени между Бэконом и Декартом совсем небольшой, зато огромный разрыв в исходных философских установках. Почему Бэкон не современен, а Декарт современен в своей ситуации? В отличие от Бэкона, который мыслил более чем объективистски, более чем предметно, Декарт действительно революционен тем, что в пику застарелому объективизму он вводит свой, как я это назову, оператор современности. То есть оператор, который позволяет нам четко фиксировать момент «сейчас» в нашей мысли. Речь, конечно, о cogito ergo sum. Только отталкиваясь от этого вечного и непреходящего настоящего, которое дано нам в акте cogito, можно вообще-то строго разграничивать или разносить модусы времени в стороны. Я мыслю – и это всегда сейчас. Это акт самоопределения или, скажу сильнее, самосотворения мыслящего субъекта как такового, субъекта рефлексии. Так как я мыслю сейчас, я могу спросить: а что я мыслю и как я это мыслю? Что-то я мыслю в модусе прошлого: например, вчерашний день. Я сейчас мыслю вчерашний день в модусе прошлого. Что-то я могу мыслить в модусе будущего, строить какие-то планы – я сейчас в cogito, в вечном настоящем, строю планы в модусе будущего. Я начинаю оперировать с мыслью в модусах времени. Я имею на это полное право, потому что я совершил акт cogito. Все дано в cogito, в сейчас, в вечном настоящем мышления.
Именно этот ход Декарта есть точка возникновения того, что Жак Деррида, чемпион постмодерна, как его величал Пятигорский, будет называть присутствие. Все присутствует в моем cogito, и мое cogito присутствует для самого себя. Я присутствую здесь и сейчас для самого себя в чистом акте мысли. И все объекты моей мысли присутствуют здесь и сейчас для меня в моем чистом акте мысли. Все присутствует в cogito, все дано сейчас. Так, метафизика присутствия оборачивается метафизикой одновременности – cogito и его объектов, которые объективированы сейчас в этом cogito. При этом для критики такой метафизики одновременности Деррида будет использовать все тот же ход, который мы уже проделали, – я имею в виду временной сдвиг. Жуткое дело: присутствие сдвинуто, «сейчас» отсрочено… Оно приходит будто бы с опозданием. Все дано не здесь и не сейчас, но во временном сдвиге. Все приходит после, «пост». Объекты cogito приходят после – после сейчас, после современности. Да здравствует постмодерн.
Фиксируем это: Декарт, cogito как сейчас, cogito как присутствие, и Деррида, кризис присутствия в метафизике присутствия (одновременности), временной сдвиг, след, отсрочка. Говоря емко, таковы модерн и постмодерн в их противопоставлении. И в силу этого не с ранних христианских теологов мы отсчитываем модерн в философии. Те не могли в собственном смысле слова, строго по-философски, самоопределиться через модерн, через момент модерна, потому что они не изобрели оператор современности (нам могут возразить про Августина, но тут вопрос спорный). Коль скоро это впервые делает именно Декарт, то и постмодерн как противопоставление модерну будет оппозиционен именно этому картезианскому жесту.
Углубим этот жест. Оператор современности, настоящего, модерна, как я сказал, – это cogito, но cogito одновременно есть еще и оператор субъективности, субъекта познания или мыслящего субъекта. Cogito – это я мыслю, я сознаю. Понятие «cogito» впервые концептуально задает некое «я», именно чистое «я», такого субъекта, для которого весь мир существует как объект. Объекты существуют в cogito и для него. Вместе здесь возникает сейчас и субъект. И поэтому проблема времени тянет за собой проблему субъекта, также принципиальную для философии в ситуации постмодерна. Часто по этому поводу можно встретить выражения: «кризис субъективности», «смерть субъекта», даже «смерть человека». Все умирает в постмодерне, это мрачная, трагическая эпоха. И почему же все умирает? Попробуем ответить.
Я самоопределяюсь в моменте cogito. Субъект конституирует самого себя в моменте «сейчас». Это так называемый чистый субъект, который в моменте своего самоопределения себе довлеет. Ему ничего не нужно, он сам себя определяет. Это называется «самосознание». Теперь наложим на это проблему временного сдвига. Если время сдвинуто и, как я сказал, настоящее чревато прошлым, а не будущим, то это не я определяю себя сейчас. Если время сдвинуто и нет чистого момента настоящего, то именно заложенное в сейчас прошлое, заложенное в сейчас «уже» определяет субъекта. Значит, субъект в своем возникновении уже детерминирован, определен чем-то, что не есть он сам, что не есть чистое сейчас, что есть прошлое, бывшее. Чистый субъект проваливается в следы повторения. В начале был след. Следы прошлого в сейчас вызывают субъект к его подлинной, сознательной жизни. Это временной сдвиг его определяет, а не субъект самоопределяется во времени. Он не возникает с чистого сейчас. Он сам по себе уже след прошлого. Вот это одна из ключевых тем постмодернизма – кризис субъективности. Так в качестве оппонента для философии постмодерна конституируется вся традиция европейской метафизики: картезианство, трансцендентальная философия, феноменология – традиция присутствия и субъективности, ряд философий чистого субъекта.
Какие еще оппозиции нас интересуют? Я рискну чуточку схитрить и сказать, что то, что нас интересует, это сама структура оппозиции, сама структура противопоставления. Что постмодерну не нравится в бинарных оппозициях? Ведь, казалось бы, они имманентны нашему мышлению. У нас есть черное/белое, левое/правое, просто мы так мыслим. Мы так ориентированы в мышлении. Что не устраивает этих капризных французов? В первую очередь их здесь не устраивает определенная иерархичность, скрытая в этих оппозициях. Бинарные оппозиции не равновесны, одна часть непременно больше другой, одна часть обязательно подминает под себя другую, подчиняет ее себе. Вспоминается Ницше, который эту проблему бинарных оппозиций по-настоящему поставил в философии. Для него все эти оппозиции строятся по первичному образцу – хорошего и плохого. А хорошее и плохое – это, по Ницше, не более чем прагматика власти. Кто решает, что хорошо, а что плохо? Оппозиция навязана теми, кому она выгодна, теми, кому выгодно, чтобы это считалось хорошим, а это – дурным. Идеология. На этом основании строятся все прочие аналогии европейской метафизики: Запад/Восток, мужское/женское, субъект/объект, разум/неразумие… Угадайте, кто тут хороший, а кто плохой.
На уровне дискурса, даже не кнута и не пряника, выстраивается определенная иерархия и прагматика власти. Такая власть, конечно, тяготеет к тотальности. К примеру, хорошее тяготеет к элиминации всего плохого как иного для самого себя, так оно достраивается до определенной синтетической тотальности. То же с истиной и ложью. То же, кстати, и с картезианским субъектом. Я говорил: все в cogito, все для cogito. Cogito все вбирает в себя, вот в это настоящее, в «сейчас». И уже не Декарт, но его праправнук Гегель выступает здесь чемпионом тотальности. Гегель для философов второй половины XX века, в первую очередь, конечно, французских, – это прямо как красная тряпка. Гегелевское учение о саморазвитии абсолютного духа – это апофеоз тотальности модерна. Поэтому философия постмодерна по необходимости вроде бы оказывается антигегельянской[5]. К этому тезису мы еще вернемся – правда, не скоро.
Всевозможным тотальностям и центризмам постмодерн противопоставляет, как нетрудно понять, фрагментарность, незавершенность, разорванность, недосказанность, умолчание, непрямое высказывание и так далее. А это, как видно, уже проблемы стиля. Сложно представить себе более литературную философию, чем та, о которой мы ведем речь. Литературность, впрочем, так или иначе сопутствовала философии всегда. Скажем, платоновский диалог – это все-таки художественный жанр. Своего рода литераторами были Августин, Монтень, Паскаль, Шеллинг, конечно, Ницше – крестный отец всех постмодернистов. Именно Ницше совершенно сознательно создавал этакую нетрадиционную, подчеркнуто художественную и артистичную философию. И он тоже, как мы уже отметили, противопоставлял такие стилистические ходы доминирующему в тот век тотальному систематизму Гегеля и его эпигонов. Ницше против Гегеля – это почти что Деррида против Декарта, только на ином витке исторической спирали.
Особая связь философии постмодерна с литературой и искусством не случайна, но сущностна. Литература и, более того, лингвистика определяют движение философской рефлексии во второй половине ХХ века. Новая философия литературна и по форме, и по содержанию, то есть по привилегированному своему объекту. Этим объектом чем дальше, тем вернее становится слово, письмо, текст, в общем – язык[6]. Даже сам термин «постмодерн» употреблялся сперва в литературной критике – укажу главным образом на Ихаба Хассана, – нежели в философии (проблематизация постмодерна Лиотаром появилась очень поздно, только в 1979 году). Таким образом, раньше, чем в философии, сова которой вылетает только в полночь, постмодерн как сложное явление сформировался в поле литературы, и в этом поле возникает сама оппозиция литературных модерна и постмодерна. Философия же, как водится, приходит на все готовое.
Сам модернизм в литературе и, шире, в искусстве ХХ века был предельно оппозиционен. Теоретик модернизма Хосе Ортега-и-Гассет отмечал его подчеркнутую и воинственную элитарность, направленную против восставших масс, буржуазной пошлости, сентиментального рыночного гуманизма. Обобщая, скажем, что модернизм явился на историческую сцену как критика шаблонного массового сознания своего времени. Вокруг этой критики построены произведения Джойса, Кафки, Пруста, Элиота, Музиля, отчасти Томаса Манна.
Однако вся эта повышенная критичность совсем не мешает высокому европейскому модерну двигаться к тотальности. Великий модернистский роман – это подчеркнуто тотальный роман (и не только по объемам, как может показаться на первый взгляд). Тотальный роман модернизма дерзает соперничать в своей необъятной целостности со всей вселенной, со всем миром разом. Роман смело противопоставляется всему мирозданию, оттого в модернизме так популярен мотив выстраивания новых авторских космогоний и космологий – модернисты ни много ни мало изобретают мир заново. Эта прометеевская задача одинаково восхитительна и провальна. Впрочем, одна эта заявка означает, что мерить высокий модернизм какими-то бурными антибуржуазными эскападами во всяком случае мелочно, а по сути просто неверно. Это не микрофизическое, но метафизическое искусство.
Оппозиция целому миру может иметь множество причин. Прежде всего, мир, с которым мы соотносимся в своей оппозиции, никогда не дан нам как целое. Всякий раз он подчеркнуто фрагментарен и хаотичен. Он начинается до нас и заканчивается где-то после нас – так, что мы никогда не сможем ухватить эти концы. Целый мир никогда не является нам как объект, всякий объект по определению частичен (хотя бы потому, что он предполагает некого субъекта и некий фон). Таким образом, какой бы Гегель ни взывал в нас к тотальности мироздания, эта тотальность никогда не дана нам, от нас всякий раз ускользает завершенность смысла. Мы жаждем последних вещей, но никогда до них не добираемся, потому человек, по Сартру, есть бесполезная страсть. А если вы бесполезная страсть в этом огромном, стремящемся к целостности мире, то жить становится невыносимо. Человек естественным образом, как сказал бы Арнольд Гелен, для разгрузки, протестует против такой щемящей несправедливости, а кристаллизацией этого протеста является искусство. Человек в нем стремится создать свой мир взамен отчужденного, несправедливо частичного и фрагментарного. Воображение, по мысли Сартра (и еще раньше Гегеля), негативно по отношению к наличной действительности, оно негативно в том смысле, что пытается отринуть и заменить фрагментарность воображаемой целостностью, тотальностью. Отсюда искусство высокого модерна можно охарактеризовать как практики доведения фрагментарного мира до воображаемой тотальности.
Прекрасный пример демонстрирует Марсель Пруст, который только в произведении и через произведение нашел подлинную жизнь, на его языке – потерянное время. Сама жизнь вне произведения – это и есть потерянное время. Напротив, только произведение есть время обретенное, по названию последней книги эпопеи. Чтобы обрести свое потерянное в жизни время, я должен создать произведение, в котором – и только в котором – фрагменты соберутся в тотальность, части – в целое. Нужно написать семь томов «В поисках утраченного времени», чтобы таким образом создать самого себя как тотальное произведение искусства. Сама по себе жизнь – это еще ничто. Чтобы она стала чем-то, ее необходимо написать.
Другой пример – Генри Миллер, который тоже был большим любителем написать себя и сочинить свою жизнь. Его разрыв с так называемой жизнью, которая якобы являет собой неразложимый субстрат всякого творчества, еще радикальнее. Для Миллера, в отличие от Пруста, нет проблемы потерянного времени, которое должно стать обретенным. Пруст исходит из того, что уже что-то есть – оно, увы, потерялось, но в произведении это нечто можно найти и обрести заново. Здесь много игры и тайны, но у мира все же есть прочное, хоть и ускользающее от нас, основание. Миллер запросто расправляется и с этим ускользающим основанием. Его жизнетворчество абсолютно, он начинает с чистого листа, до него и его творческого акта будто бы не было никакого мира и никакого времени – ему нечего обретать, он творит мир ex nihilo, подобно богу, которого он – Миллер – в самом начале своих парижских приключений обещает отправить куда подальше хорошим пинком под зад.
Пускай богоборчество – это, скажем, риторика, но в контексте модернизма такая риторика сублимируется до метафизики, до онтологии и космологии. Бог, автор, мир – все смешивается в тотальности произведения. Невозможно разделить Миллера-писателя и Миллера-персонажа, оба к тому же настаивают на своей неотличимости от Миллера-бога. Писатель, шире, художник – это отныне не просто профессиональный выдумщик и сочинитель, но это – по более раннему идеалу Оскара Уайльда, – художник жизни, то есть тот, кто творит самое жизнь. Сам Уайльд, влияние которого на высокий модернизм нельзя недооценивать, норовил быть этаким художником жизни – он, как мы помним, довольно поздно стал заниматься литературой, да и занимаясь ею, он более прочего сочинял собственную изящную повседневность, а не тексты (поэтому от него так мало осталось; впрочем, Уайльд как никто другой доказывает нам, что дело отнюдь не в количестве). Именно эту интенцию Уайльда поздний модернист Генри Миллер доводит до логического конца, парадоксальным образом демонстрируя этим тот факт, что Оскар Уайльд был современней и радикальнее бедного Марселя Пруста. Последний был, разумеется, гениален, но в гении этом так много от классики, так мало от авангарда.
Опыт модернизма показывает нам, что личность, подлинность, истина – это некие аватары тотальности. Явлением этой тотальности оказывается произведение искусства[7]. Немаловажным свидетельством этого выступает обращение Джеймса Джойса, Томаса Стернза Элиота и Томаса Манна к мифу, который как будто бы нашей просвещенной цивилизацией отброшен в темное прошлое. Неожиданным образом в контексте модернистского искусства миф возвращается из тьмы прошлого на самый ясный свет настоящего, прямо сюда, в наши унылые будни – об этом достославный «Улисс». Тотальность жизни, пускай даже самой примитивной, скучной и обывательской, включая мастурбацию, опорожнение кишечника и поглощение потрохов на завтрак, может быть дана только как миф – такой же, как, к примеру, странствия Одиссея по Средиземноморью, полному фантастических чудовищ. В этом смысле – чем проститутки и городские пьяницы не сирены и не циклопы?
Однако с Джойсом все не так просто, как с Томасом Манном. Если присмотреться, то Джойс конструирует очень особенный и даже парадоксальный миф, а именно миф открытый. Парадокс понятен: миф тотален, тотальность закрыта – ей просто некуда и нечему открываться, она есть все в целом. Тогда что же такое открытый миф? И тут мы в один прыжок возвращаемся к самому началу: открытый миф – это, собственно, постмодернизм и есть. В силу этого милого моему сердцу прыжка я сам для себя – никому не говорите – считаю первым постмодернистом именно Джеймса Джойса. Как модернист, он выписывал новый миф в мире Нового времени. Как постмодернист, он отрефлексировал свое мифотворчество и тем самым разомкнул якобы тотальный миф для чего-то иного.
В споре на тему «Джойс – это модерн или постмодерн?» я, таким образом, предлагаю третий вариант, органично вбирающий в себя первые два: Джойс – это мост между модерном и постмодерном, он одновременно и модернист и постмодернист в моменте перехода от одного к другому. Сам переход превосходно показан в следовании от «Улисса» к «Finnegans Wake». В последнем случае, который и произведением-то назвать язык не поворачивается, Джойс вводит такого масштаба игру интертекстуальности (текст и другие тексты) и вместе интерсубъективности (автор, текст и читатель), что свернуть эту махину обратно в компактную целостность мифа уже не получится. «FW» представляет собой текст, который непрестанно меняется и становится другим, отличным от самого себя – это обеспечивается множеством чудесных механизмов, вроде тех же каламбуров, которые можно одновременно прочитать и так и эдак. В итоге получается, что при каждом прочтении рождается новая книга. А умелая закольцованность повествования приводит к тому, что каждый отдельный читатель, перечитывая книгу, читает уже другую книгу, отличную от первой. Это расширяющаяся вселенная, размножающаяся, как фрактал, некоторым самокопированием, вот только каждая новая копия отличается от оригинала. Получается, опять-таки, симулякр в энной степени.
Тем самым Джойс на наших глазах закрывает гегельянский проект, по привычке понятый как одержимый тотальностью, проект, наиболее полной попыткой реализации которого был даже не сам Гегель, но искусство высокого модернизма, которое Гегель своим философским усилием инспирировал. Закрыв гегельянский проект тотальности, Джойс, подобно подлинному трикстеру, слишком рано умер и слишком мало объяснил, чтобы что-то стало понятным. Напротив, после него в наследие будущим гениям и безумцам остался один большой и тягостный вопрос: что теперь делать с миром, в котором полностью провалился проект его – мира – желанной тотализации? Подчеркиваю, всякой тотализации: в модернистском романе, в монотеистической религии, в картезианской науке[8], в тоталитарном государстве Муссолини, Сталина и Гитлера – и так далее.
Философия в ситуации постмодерна, как вы понимаете, и обретает себя среди подобных проблем. При этом стилистика движения от модерна к постмодерну, которая была столь характерна для упомянутой нами литературы, переходит и в философию. К примеру, Деррида, на мой взгляд, является прямым стилистическим последователем Джойса – в хирургической микроскопии текстового анализа, в открытии интертекстуальности и интерсубъективности, даже в иронии, порою убийственной. Но главным фактором, роднящим позднемодернистскую литературу и раннюю постмодернистскую философию, является прорыв смысловой тотальности произведения – и целого мира как произведения – посредством ресурсов языка. Своеобразный логоцентризм, о котором у Деррида сказано многое, характерен одинаково для литературы и философии. В этом смысле тезис самого Деррида о принципиальном логоцентризме европейской традиции, будучи очень хлестким, все-таки бьет чуть-чуть мимо цели: эта традиция, в отличие от Джойса и собственно Деррида, не осознает и не рефлексирует свой логоцентризм, а в таком случае о каком центризме здесь может идти речь? В силу собственной рефлексивной интенции именно Жак Деррида в истории европейской традиции был самым радикальным и последовательным логоцентристом, в этом смысле прямым наследником Джеймса Джойса. Логоцентризм, будучи, казалось бы, одним из прочих центризмов, парадоксальным образом выступает орудием против тотальности, прорывая ее изнутри произведения с помощью языковых средств.
Хорошо, в этом месте пора подводить промежуточные итоги. Мы видим, что постмодерн изначально возникает в поле искусства, литературы, шире – культуры[9]. До философии постмодерн, по традиции, доходит поздно. Однако, опять-таки по традиции, добравшись до философии, он оказывается в полной ее власти. Триумф этой власти, далее только усиливающийся, – это 1979 год, когда Лиотар выпускает свой эпистемологический анализ «Состояние постмодерна»[10], сделанный по заказу влиятельных господ из Квебека. Лиотар связывает постмодерн с кризисом метарассказа или метанарратива, то есть большой легитимирующей истории, претендующей на тотальность мифа. Метанарратив легитимирует status quo, как арийский миф легитимировал окончательное решение еврейского вопроса, а марксистский миф легитимировал раскулачивание. Это крайние примеры, тогда как легитимация может распространяться дальше – на науку, на религиозный ритуал, на моду. В этом смысле метанарратив есть некий аксиоматический ответ на вопрос, а что мы вообще делаем и почему мы это делаем, а также почему мы это делаем именно так, а не иначе? Скажем, почему мы ходим на выборы? Ответом послужит так называемый миф 1789 года, о нем Лиотар также не забывает упомянуть.
Так вот, Лиотар объясняет состояние постмодерна, в котором европейское общество оказалось за несколько десятилетий до его диагноза, через кризис метанарративов. Вчера они все объясняли, сегодня они не объясняют ничего. К слову, Лиотар говорит об этом как о чем-то само собой разумеющемся, тогда как это не вполне очевидно. Так, львиная доля всей продукции философского постмодерна будет посвящена именно тому, чтобы доказать и показать, что это действительно так, что метанарратив больше не вызывает доверия. Само собой это вовсе не очевидно, философия вообще исходит из полной несостоятельности какой-либо самоочевидности. Поэтому Лиотар, вводящий кризис метанарратива как аксиоматику, сам оказывается вполне мифологичным, сам выстраивает новый метанарратив – метанарратив о кризисе метанарративов. Все это должным образом необоснованно, однако сама интуиция более чем верна. Другие философы постмодерна подхватывают ее и развивают, далеко отступая от первичной, слегка наивной картины Лиотара.
Итак, мы исходим из кризиса легитимации, кризиса истинности, кризиса обоснования. Мир вокруг, как прежде, являет нам себя, однако мы перестали понимать, что, почему и как. Именно с такого непонимания, незнания, недоверия, как пишет Лиотар, и начинается движение мысли в ситуации постмодерна. Эта мысль представляет собой новое начало – во всей своей парадоксальности. Оно новое, потому что оно начало. Но именно в силу того, что оно начало, оно некоторым образом все то же, что было всегда, испокон – в самом начале. Новое – это старое, старое – это новое. И сама ситуация грандиозной растерянности, с которой начинается постмодерн, исторически нам очень знакома – не так же точно начинал Декарт, или позднеантичные скептики, или сам Сократ? Ситуация постмодерна с этой точки зрения оказывается ситуацией хорошо забытого старого, ситуацией провала в миг устаревших объяснений, ситуацией необходимого поиска новых моделей знания и понимания мира.
Флагманом этого поиска, как мы видели, является язык – не сам по себе, но повышенное к нему внимание разных интеллектуалов. Коль скоро тотальность мира-мифа прорывается именно языком, то именно на языковые в своей основе осколки эта тотальность и распадается. Конечно, здесь принципиальное значение имеют языковые игры Витгенштейна – также довольно ранняя теория, оказавшаяся чем-то вроде постмодерна до самого постмодерна. Разноголосица языковых игр указывает на то, что фрагментарный дискурсивный мир оказывается не в состоянии собраться в какую-то целостность, ибо дискурс о подобной целостности станет в конечном итоге еще одной языковой игрой наряду с другими, чем проваливается его претензия на уникальность. Дискурс принципиально ограничен – другими дискурсами. Правила игры в каждом отдельном дискурсе задают свою особую прагматику поведения, действия. Истинным оказывается то, что истинно вовсе не само по себе или вообще, а то, что истинно в данном контексте при данных условиях. Значит, истинное здесь и сейчас вовсе не обязательно будет истинным там и тогда. Вот там и тогда поговорим об истине, а здесь и сейчас надо следовать своему неповторимому контексту. Таким образом, в наш первичный постмодернистский жест органично встраивается и американский прагматизм – еще одна, наряду с Джойсом и Витгенштейном, прототеория, определяющая философскую ситуацию второй половины ХХ века. От прагматизма до чемпиона постмодерна от философии науки Пола Фейерабенда, опять-таки, один шаг. Его знаменитый девиз Anything goes! может быть прочитан как девиз прагматизма и постмодерна одновременно. В самом деле, когда вы оказываетесь в ситуации, где более ничего не понятно, сгодится решительно все, что угодно.
О том, что в этой ситуации сгодится для нас с вами, поговорим в тот раз, который нам для этого сгодится.
Лекция 2. [Структурализм и деантропологизация]
Теперь, как и прежде, и даже еще интенсивнее, нам нужно помнить, что в философии утилитарное и интересное находятся в обратно-пропорциональном отношении. Но об этом никому ни слова.
Напомню, что нам удалось выделить ряд ключевых для нашей темы проблем – это проблема времени или временного сдвига, проблема субъекта, проблема иерархии оппозиций и проблема тождества, еще ближе – тотальности. Отдельная проблема, которая отдельна именно потому, что она выступает как отмычка ко всем прочим, это проблема языка. Именно язык размывает временные модусы, язык подчиняет себе субъекта, язык выстраивает и ломает иерархии, язык изнутри прорывает тождество и тотальность. Аналитическая традиция, ставящая именно язык в центр своих рефлексий, оказывается наиболее существенной не только, как это принято считать, для англосаксонской философии, но также для философии континентальной. Философия ХХ века чем дальше, тем более лого- или лингвоцентрична. Ту одновременно антиидеологическую и идеологизирующую функцию, которую за век до того выполняла история, в ХХ веке практически полностью узурпирует язык. Язык подавляет, он же освобождает. Язык – это оружие, и все дело в том, в чьи руки он попадает. Без рефлексии о языке мы выпадаем из мышления как такового – я молчу о том, что мы, конечно, выпадаем из политики, поэтому тиран прежде всего ворует и подчиняет себе язык, мы выпадаем из этики, эстетики и так далее. Без рефлексии над языком мы выпадаем из философии. Нельзя забывать, что основополагающий философский жест – жест сократический – был вопрошанием именно о словах: что значит «справедливость», «истина» и прочее.
Язык становится на место привилегированной когда-то истории именно тогда, когда направленная на него рефлексия выявляет, что язык не прост и не прозрачен для нас, он скорее призрачен – он ускользает, он смущает, смещает и путает, он хитрый, лукавый, обманчивый. Он охотно служит многим господам сразу именно потому, что у него нет подлинного хозяина. Напротив, он охотно хозяйничает надо всеми, кто полагает, что является хозяином в доме языка. Именно поэтому подходы к языку могут пестрить и разниться до противоположности: можно приближаться к нему как Витгенштейн, а можно как Хайдеггер, а можно вообще как Сталин, известный ученый-языковед. Язык пластичен до немыслимых масштабов, однако власть его крепче титановых цепей. Философия вплоть до ХХ века почти никогда не считала проблематизацию языка своим основным занятием (и Сократ у Платона всякий раз сползает с языка в онтологию), именно поэтому теперь она вся превратилась для нас в проблему: как могли эти люди мыслить мышление, когда они не мыслили языка, в котором это мышление дано? Теперь, когда многие языковые ловушки разверзлись перед нами подобно бескрайним минным полям, отчего мы должны продолжать верить в то, что все они – аквинаты, декарты, лейбницы, канты – все они вполне понимали, о чем говорят, и все они все еще заслуживают доверия? Нам хочется верить, что – понимали, что – заслуживали, но твердой уверенности в этом нет. Поэтому чисто по-человечески, пускай не интеллектуально, понятен типаж вроде Бертрана Рассела, который с чистейшей совестью пишет огромный том о том, что до него в философии были одни, как на подбор, дегенераты. Почему? Да потому, что они не думали о главном – о логике, понятой как логика языка. Однако очень скоро и Рассел перед лицом Витгенштейна стал казаться слабоумным.
Для простоты мы назовем это кризисом однозначности, например, или кризисом прозрачности языка. Эта новая проблема очевидным образом корреспондирует со всеми теми проблемами, которые мы обозначили выше. К примеру, проблема тождества – это прежде всего проблема именно языкового тождества, проблема однозначности знака. Знак означает вот это и именно это – не знаете, посмотрите в словарь, как говорил Витгенштейн. Он, конечно, лукавил, потому что словарь не снимает проблему, если значений у знака много, а их всегда много – реально или потенциально.
Далее, проблема оппозиций: черное/белое, хорошее/ плохое. Однако и оппозиции являются функциями языка, если вспомнить Соссюра. В том-то и дело, что всякий знак определяется через сеть оппозиций, и черное – это именно что не белое, значение черного не в сущности, но в функции, в различении между одним и другим, черным и белым. Петр не потому Петр, что он Петр сущностно и сам по себе, а просто потому, что он не Павел. Петр и есть «не Павел», а собственно «Петр» есть операциональный знак для «не Павла», как субстантивированное различие. Возвращаемся к предыдущей проблеме тождества: нет, знак не тождественен сам себе, он прежде всего отличен от другого знака и получает свое функциональное тождество только в результате первичного различия. Именно так: различие раньше тождества. Пожалуй, именно это положение лингвистики ХХ века можно счесть наиболее революционным – прежде всего по последствиям, чаще всего именно внелингвистическим.
Что касается проблемы субъекта, то его с помощью языка умело деконструировал уже Ницше. Язык, по Ницше, устроен так, что в нем есть функция субъекта: Петр бьет Павла, Петр есть субъект высказывания. Субъектность не есть некая действительная сущность в мире, но только языковая функция, некритично перенесенная слабым человеком в мир вещей. Субъект вне языка есть ошибка интерпретации – ошибка спасительная и полезная, оговаривает Ницше. Онтология есть вообще такое поле переноса языковых сущностей на сущности реальные. Человек попросту онтологизирует языковые отношения и с помощью этого хитрого акта обитает в мире, который представляет собой, таким образом, этакую большую ошибку. Тогда как на самом деле, как говаривал Демокрит, есть только атомы и пустота (по Ницше, скорее, есть только силы и другие силы).
Если субъект есть функция языка, то ключевое положение европейской метафизики «я мыслю, следовательно, существую» можно смело объявлять ошибочным. Никакого Я здесь быть не может. Максимум – нечто мыслится, и все. Ницше разбивает Декарта одним ударом и даже без молота – к слову, именно в силу легкости этого удара его результаты кажутся нам сомнительными. Все же для того, чтобы запросто перенести субъектность в мир, в мире том должны существовать подходящие для этого условия. Однако высокий потенциал сугубо языкового анализа нашего сознания выявляется здесь со всей очевидностью: в самом деле, не потому ли я так считаю, что я так говорю – и все тут? Вероятно, очень часто происходит именно это – слова определяют вещи, а не наоборот. Человек обитает в языке, как, скажем, животное живет в природе, в окружающей среде.
Теперь мы будем рассматривать движение от структурализма к постструктурализму через призму того, что я за неимением лучшего варианта назову деантропологизацией, буквально и более литературно – расчеловечиванием. В этом нам поможет небольшая статья Жиля Делеза «По каким критериям узнают структурализм»[11] – довольно легкий текст, но со своими закавыками, ибо Делез без закавык обойтись совсем не мог.
Деантропологизация есть прямое и неизбежное следствие из того замеченного нами факта, что структуралистское внимание к языку перекраивает весь ландшафт наших проблем, данных в условиях парадоксальной современности – время, субъект, тождество, иерархии. Очеловечить, антропологизировать мир – значит придать ему исконно человеческую размерность, то есть человеческое чувство линейного времени, человеческую личность и все ее производные, иерархии человеческих ценностей и образы вечных истин. Но если все это оказывается последом языковых операций, то ничего человеческого в таком мире не остается – что остается, так это бесконечное движение языковых структур, управляющих человеческим поведением. В этом смысле именно логоцентричный структурализм служит для нас лучшим введением в проблематику философского постмодерна.
Сперва приведу пример из Алена Роб-Грийе. В экспозиции к раннему роману «Резинки» он дает длинное описание фрагмента мира, наполненного вещами – напомню, что его «новый роман» также известен под именем «вещизм». Он описывает бесконечные вещи, вещи, вещи и вдруг невзначай помещает среди этих вещей человека, вроде бы хозяина всех этих вещей. Однако писатель выписывает своего человека так, что он, в общем-то, не особенно отличается от вещей вокруг. Получается панорама равнозначных предметов: стол, стул, тряпка, стакан, Валерий Александрович, тапок, ручка… Человек здесь никак и ничем не выделяется из мира. Отчасти это достигается тем, что мы в литературе привыкли либо к субъективному взгляду, когда сам человек выделен из мира уже тем, что это именно он смотрит на мир, либо к объективному взгляду такого плана, в котором человек есть привилегированный объект среди прочих объектов, он этакий объект-субъект. А у Роб-Грийе, напротив, человек есть объект-объект, прямо как стул и тапок. Как эти последние не центрируют мир, так и человек его не центрирует. Если что-то и центрирует мир – причем так, чтобы в следующее мгновение его безжалостно децентрировать, – так это сам язык описания (даже не автор, потому что его совершенно не видно за языком описания, что тоже, конечно, сделано намеренно и тонко).
В этом смысле стоит подчеркнуть, что «новый роман», вещизм – это изрядно структуралистская проза, которая наглядно и отчетливо проводит в литературе линию деантропологизации, то есть последовательного вывода человека из его былого привилегированного положения в мире. Во Франции вообще, а в тот период в особенности, очень живыми и крепкими были связи литературы и философии – так, что часто философов и литераторов вообще оказывается не отличить друг от друга: Ролан Барт, Соллерс, Кристева – не разобрать, кто есть кто. Философия литературна, литература философична и вообще, и в контексте постмодерна в особенности. Это очень важная и говорящая корреляция, но к нам она ныне, увы, имеет малое отношение (поэтому сам я склонен к тому, чтобы педалировать это отношение навязчиво и несколько искусственно).
Покамест мы зафиксируем это важное понятие: вещизм. Человек видится в этом контексте вещью среди вещей, объектом среди объектов, но более не субъектом. Антропоцентризм, бывший флагманом всего мышления Нового времени с заходом из Ренессанса, в ХХ веке терпит трагическое крушение – скажем, более трагическое в экзистенциалистский, более взвешенное и холодно-научное в структуралистский период. Исторически о явном антропоцентризме имеет смысл говорить начиная где-то с XV–XVI веков. Ренессанс – это такой порог, который вводит в модерн, пока что в него не превращаясь, поэтому он – переходный период. Человек Возрождения осознал себя как центр мира, как микрокосм. Это значит, что человек отражает в себе мир, мироздание, космос, его строение и структуру. Для Античности и Средних веков эта мысль вполне безумна, а порой и крамольна, но во времена Возрождения было глупо, скорее, думать иначе (позже, однако, она снова стала крамольной – достаточно почитать «Эстетику Возрождения» Лосева). Человек и космос не то чтобы находятся в отношениях иерархии, скорее же они взаимно отражают друг друга. Для познания мира достаточно познания человека, однако чтобы познать человека, также нужно познавать мир. По сравнению с теоцентризмом Средневековья, где полнота знания была дана в Книге и существовал прямой запрет на какое-либо дальнейшее познание мира, контраст разителен – мир буквально перевернулся с одного положения на противоположное (с чего на что – это вопрос отдельный).
Человек Возрождения любуется собой, ему трудно скрыть восторга от случившегося мировоззренческого переворота. Событие смены эпох дало человеку санкцию на практически безграничное пользование миром, санкцию на огромную власть. Именно об этом событии, в хвосте которого он себя обнаружил, Фрэнсис Бэкон скажет: knowledge is power. Это безусловно так, и сила знания открылась человеку тогда, когда он открыл для себя целый мир для познания и манипуляции. Мир, отраженный в человеке, становится вполне познаваемым и открытым для манипуляции именно потому, что человек видит его в самом себе, видит мир как самого себя, как свое отражение. Человек делает мир антропоморфным, и таким мир раскрывается человеку. Ключевое событие Ренессанса – придание миру человеческого образа. Мир создан по образу и подобию человека, поэтому человек может познавать мир и управлять им по своему усмотрению. Следующий шаг – физико-математическое естествознание, в лице Галилея возникшее в тот же период Возрождения (смотри хайдеггеровскую работу «Время картины мира»).
Человек, осознавший себя субъектом (тогда как ранее у мира был другой субъект, его звали Бог), разворачивает перед собой весь мир как область применения его сил, навыков, знаний. Бесконечность миров, постулированная мучеником Ренессанса Джордано Бруно, превращает действительность в бескрайнее поле вариантов, трансформаций и превращений. Уже этим загодя дает о себе знать структура, значительно позже «открытая» Ницше под именем воли к власти. По сути же именно эта структура постулируется Бэконом, человеком Нового времени, как программа, задание, цель. Эта программа первым камнем легла в основание той идиллии, которую мы теперь знаем как классический век европейской культуры.
Все это продолжалось достаточно долго, пока в XIX веке такая идиллия не дала сбой. В интеллектуальном мире данное движение маркировано фигурами, которых порой называют философами подозрения. Именно они стали крестными отцами той философской ситуации, которую здесь и сейчас мы называем постмодерном. Одним из них был упомянутый Ницше, кроме него Карл Маркс, Зигмунд Фрейд, чуть реже упоминают Кьеркегора, а я не могу не добавить сюда Витгенштейна, самого позднего мыслителя из перечисленных. Философы подозрения начали раскачивать ту антропоцентрическую лодку, которая окончательно затонет благодаря структурализму. Раскачивали каждый по-своему. Ницше усматривал за фиктивной тождественностью субъекта слепую игру жизненных сил, чем был немало обязан своему предтече Шопенгауэру; Маркс видел в том же месте экономический интерес; Фрейд – эротическое желание; Кьеркегор – абсурдную конечность единичной жизни, стоящей перед иррациональным божеством; Витгенштейн, как мы уже поняли, всюду обнаруживал следы языка.
Пожалуй, именно Фрейд удачнее всего сформулировал инновацию свою собственную и мимоходом всех своих подозревающих коллег – он ввел непреходящий термин «бессознательное», который лучше и емче прочего выражает самую суть процесса деантропологизации, идущего от XIX века к веку ХХ. Как мы помним, Декарт описывал субъективность через самосознание – теперь именно в точке бессознательного, то есть невозможности, невероятности самосознания, формируется противоположная тенденция забвения субъективности. Субъекта нет, потому что он, собственно говоря, ничего не сознает – за него действует нечто, чего он не знает, будь то класс, эрос или ресентимент. Более никакого «ego cogito», чистое, ясное место субъективного сознания замазано густой чернотой, как у Малевича, – вот он, облик бессознательного, с которым по-прежнему неясно что делать. Субъект, полностью прозрачный для самого себя, утопический субъект Просвещения оказывается простой иллюзией, затерянным в веках хорошим мнением человека о самом себе. ХХ век постарался подпортить это мнение далеко не только с помощью философии. Как промежуточный результат – бессильный ужас экзистенциалистов, впервые со всей ясностью осознавших, что сознание ускользает во мраке абсурда.
Другой результат – это как раз структурализм, очнувшийся с холодной головой после экзистенциалистских истерик. Структурализм перебарывает изначальный ужас перед бессознательным и пытается по мере сил высветить его работу настолько, насколько хватает ненадежных ресурсов дискредитированного разума. Опять-таки странный, внутренне противоречивый проект – разумно высвечивать неразумное, – но при этом крайне плодотворный. В конце концов, ведь сама мысль о том, что за нашим сознанием стоит бессознательное, это тоже мысль, тоже сознание. Поэтому безумием будет сказать, что вместо мысли у нас сплошное пятно немыслия, ведь и это сказанное есть некая мысль. Дело, оказывается, не в том, чтобы выбрать одну из крайностей – сознание или бессознательное, – но в том, чтобы по мере сил уловить поле напряжения между ними. Сознание и бессознательное оказываются двумя полюсами одной динамичной картины, которая также имеет свои формы, особенности, черты, структуры.
Значит, есть сознание, а есть структуры сознания, при этом когда мы сознаем что-то с помощью этих структур, мы в то же время не осознаем сами структуры, как многоножка, которая ходит, только если не вполне понимает, как это у нее получается. Некий квант бессознательного просто необходим для того, чтобы было сознание; чтобы что-то понимать, нужно в то же самое время что-то не понимать. Соответственно, чтобы начать понимать структуры сознания, надо отбросить автоматизм, сделать естественным образом понятное вдруг непонятным, перенаправить внимание с цели на средство, с работы на инструмент. В одной из своих самых известных работ «Дегуманизация искусства» Ортега-и-Гассет приводит хорошую, подходящую нам метафору: человек смотрит на мир через окно, тем самым открывая для себя два варианта – просто смотреть на мир дальше или переместить свой взгляд с мира, увиденного через окно, на само это окно, стекло, то есть на медиум, на посредника взгляда. Суть метафоры в том, что всегда можно сменить точку зрения и увидеть то, что в обычных обстоятельствах невидимо: сами условия видения, его инструменты, средства, медиаторы. В этом примере стекло, через которое мы видим привычный мир, является структурой сознания, на которую мы не обращаем внимания, потому что заняты в этот момент созерцанием данного посредством стекла пейзажа. Чтобы понять новость структурализма, полезно держать в голове этот простой и наглядный образ. Это вдвойне полезно и для того, чтобы понимать, что новость структурализма на деле не такая уж новость, если вспомнить об очень похожем проекте Канта и неокантианцев – увидеть стекло, благодаря которому виден пейзаж.
Ключевой структурой, если не структурой структур, благодаря которой сознает сознание, является, конечно, язык – отсюда знаменитое «бессознательное структурировано как язык» Лакана, еще до этого «язык – дом бытия» Хайдеггера, лингвистические ориентации Леви-Строса, фантастический в те времена авторитет Якобсона, Проппа, вообще формалистов и отчасти Бахтина среди нового поколения французских философов середины ХХ века. Упомянутых Лакана и Леви-Строса, а также Ролана Барта, Мишеля Фуко и – чуть в стороне – Луи Альтюссера считали главными представителями структуралистского движения в философии, что несколько нервировало самих этих господ, потому что они редко находили друг с другом что-то общее (гуманитарное знание также движется через агон и полемику). Так или иначе, мы знаем, что эти фигуры действительно ключевые. Большинство из них, за вычетом, пожалуй, Леви-Строса и Альтюссера, также приняли самое непосредственное участие в формировании уже постструктуралистской и постмодернистской повесток в философии и не только.
Учитывая сказанное о том, что структурализм смещает внимание с объекта сознания на структуры сознания, со «что» на «как», мы имеем все основания утверждать, что структурализм является прежде всего эпистемологией, теорией познания. Как познается то, что познается? – таков его главный вопрос. В качестве разных ответов на этот вопрос структурализм и разворачивает все свои структуры, будь то структуры социальные, психические или антропологические структуры родства. Будучи общей теорией познания, структурализм по необходимости отвлекается от индивидуального сознания, от личности и классического субъекта, а значит, и от так называемого психологизма, от проблем этики, которыми в первую голову был занят экзистенциализм. Все это ясно: если «дважды два четыре», то какая тут личность, какая тут этика? Будь ты хоть Петр, хоть Павел, хоть «не убий» – а дважды два все равно четыре. Таков пафос чистого знания, купленного ценой обезличивания и деантропологизации. Поразительно, но выходит так: чтобы действительно что-то знать, надо выключить сознание. Чтобы многоножка могла понять, как она ходит, ей надо остановиться. Нельзя одновременно быть сознающим субъектом и обладать истинным знанием. От чего-то одного придется отказаться. Поэтому математика, помимо весьма математизированной лингвистики, является очень структуралистской дисциплиной, областью чистого знания, основанного как раз на том, что в ней нет места для личного или психического[12]. Вспомним, однако, что к таким утверждениям был готов уже Гуссерль.
Что касается личного сознания, то оно не просто выпадает из сферы структуралистского интереса, но оно негативным образом находит в нем место именно как структурно детерминированное. Никто не отрицает личное сознание как таковое – дело не в этом, а в том, что личное сознание детерминировано безличными структурами, данными в языке, в математике, в логике, например. Индивидуальное обусловлено надындивидуальным. Мысль как будто бы не нова, нов такой ее поворот, который находит подлинную основу сознания в чистом научном знании. Эта фокусировка структурализма на чистом научном знании делает его поразительно оптимистичным движением – мало когда человек так искренне радовался тому, что его индивидуальное бытие просачивается сквозь пальцы. Новое поколение философов оказалось вполне готовым на подобную жертву – они без сожаления обменяли устаревшую просвещенную личность на твердое научное основание. Поэтому ясно, каким ударом для такого культурного оптимизма была как раз внутринаучная новость о том, что чистое знание на деле оказывается не таким уж чистым.
События в науке ХХ века заставляли ученых ликовать чуть в меньшей степени, чем то было принято среди поклонявшихся точной науке гуманитариев. Теория относительности, квантовая физика, радикальная в своих выводах теорема Геделя и многое другое в совокупности обнаруживает, что даже самые строгие познания скорее приблизительны, чем конечны. Солидные структуры, которые якобы детерминируют индивидуальное сознание, сами детерминированы чем-то таким, о чем говорить вообще не приходится. Прочный мир вновь выскальзывает из-под ног, только теперь еще более пугающим образом, нежели в случае с экзистенциалистами: те просто страшились хаоса, тогда как структуралисты нежданно нарвались на хаос в самом сердце наукообразного порядка. Это был не то чтобы удар в спину, это был удар в цель – в самый принцип познаваемости мира. Оказалось, что дело не совсем в том, готов ты или не готов пожертвовать своими индивидуальными свойствами ради прогресса познания. Дело в том, что сам этот прогресс – индивидуальный или коллективный, без разницы – покоится на плотной основе из невообразимых черных дыр и антиматерии. Какими структурами мыслить неструктурированное – вопрос излишне ироничный.
Философия развивается посредством постановки под вопрос самой себя. Очень скоро после того, как структурализм в Европе стал по-настоящему модным, последовательная методологическая рефлексия выявила его врожденную слабость. Подобно многим предыдущим философиям, структурализм некритично онтологизировал собственную методологию, выдавая структуры сознания за этакую вещь в себе, лежащую в основе реальности. На деле очередные утверждения об основе реальности, как всегда, оказались необоснованными. Всякая теория, в особенности хорошо работающая, подобно марксизму, психоанализу, теперь структурализму, тяготеет к собственной абсолютизации. Так она постепенно превращается в идеологию, то есть в рассказ, основанный скорее на вере, чем на знании. Особенно интригует такая ситуация, в которой таковым рассказом оказывается именно что претензия на знание наиболее чистое, наиболее взвешенное и доказательное. Таким образом, подобно критике идеологии, постструктурализм появляется на философской сцене как критическое отношение структурализма к самому себе. Особенно хорошо это видно по таким фигурам, как Ролан Барт и Мишель Фуко, – структуралистам и постструктуралистам сразу.
Итак, критическое переосмысление структурализма им же самим началось уже к 1960-м годам. Этим периодом отмечено и появление – стремительно и по нарастающей – постмодернистских тенденций во французской философии. Помимо Барта и Фуко, один за одним на философской сцене появляются Жиль Делез, Жак Деррида, Жан Бодрийяр и многие другие. Говоря о философском постмодерне, мы прежде всего имеем в виду эти имена. Одновременно они интересны и важны тем, что их исходным пунктом является именно бегло рассмотренная нами структуралистская традиция.
Жиль Делез рассматривает структурализм как вполне завершенное, почти что музейное явление – на это указывает вполне словарный тон его вышеозначенной статьи. Он приводит имена ведущих структуралистов, которые уже приводили и мы. Он выписывает важный тезис, в соответствии с которым структурализм базируется на примате символического – мы уже упоминали это под именем примата языка. Пользуясь терминами Лакана, здесь символическое оказывается детерминирующим фактором в отношении воображаемого и реального. Сознание определяется языком или знаком. Как утверждал уже Ницше, нет никаких фактов, есть только интерпретации фактов – добавим, что это именно языковые, лингвистические интерпретации, а не какие-либо еще (скажем, интуитивно-пророческие, невыразимые). Получается, всякий факт есть прежде всего факт языка, а потому уже – сверху вниз – он может восприниматься как факт чего-то другого, скажем, индивидуального чувства. Чувство обозначено в языке, поэтому оно существует в реальности – не наоборот. Таков примат символического. Входя в комнату, я вижу стол – не в том смысле, что я вижу нечто смутное, что потом с помощью сложных философских операций я подвожу под понятие стола, но в том смысле, что я сначала вижу готовый знак – стол, – а потом и поэтому оказываюсь в состоянии говорить о каких-то смутных чувственных объектах, которые подведены под первичный знак. Мир всегда уже структурирован в языке.
Далее Делез говорит о топологии, которая и делает структуру структурой. Это реверанс Соссюру, который, как мы помним, определял каждый отдельный знак исходя из взаимного расположения множества знаков. В силу этого знак определяется не сам через себя (помним, никакой самотождественности), но через свое отношение к другим знакам. Отношение определяет сущности и тождество, а не наоборот. Еще одним реверансом в сторону теперь уже Канта Делез обозначает эту же мысль как «трансцендентальную топологию» – ясно, почему. Такой трансцендентальный, топологический, символический структурализм, конечно, антигуманистичен и атеистичен, о чем идет речь у Делеза и выше у нас.
Итак, проще всего определить структуру через различие отношений. Очевидный пример – геометрическая фигура, скажем, треугольник. Как таковой треугольник – это структура отношений, отличающаяся от других структур отношений. Это не одинокая сущность, ибо в таком случае неясно, какой треугольник будет более сущностным – прямоугольный или тупоугольный. Если же мы определяем треугольник как структурное отношение трех точек, то нам положительно все равно, прямоугольный он или тупоугольный. И тот и другой – треугольники, так как правильно воспроизведена структура отношений трех точек на плоскости. Не фигура сама по себе есть треугольник, так как другая, неравная ей фигура тоже оказывается треугольником, но именно соотношение элементов, то есть структура оказывается треугольником, и именно структура детерминирует фигуру, а не наоборот.
В силу того что структура детерминирует фигуру и даже множество разных фигур, имеет смысл вслед за Делезом говорить о структуралистском принципе серийности. Структура разворачивается в серию: треугольник прямоугольный, потом тупоугольный, потому еще какой-нибудь. Или структура семьи: одно и то же соотношение точек работает и в патриархальной семье, и в отношениях, скажем, человека и бога, и в отношениях короля и подданных – и так далее. Везде здесь структура разворачивается в серию, реализуясь в различных фигурах. Мы можем подставлять разные элементы и получать, казалось бы, различные фигуры, но в основании их всех будет считываться одна и та же структура как изначальное соотношение элементов, или агентов, между собой, иными словами, как некий язык (язык геометрического построения, язык семьи и прочее). Элементы, агенты структуры, как мы уже поняли, не являются субъектами структуры. Единственным субъектом структуры является сама структура, тогда как агенты ее суть ее объекты, они суть то, что ею детерминируется. Но и серийность не одинока – мы всегда имеем как минимум две серии, потому что мы имеем означающее и означаемое, вступающие в отношения друг с другом.
Учитывая все сказанное, нетрудно понять, почему Делез называет структуру виртуальной. Она, как и соотношение элементов под названием «треугольник», совершенно не зависит от своей реализации. Как мы видели, всякая реализация треугольника будет ситуативной, отличной от того, что мы можем помыслить чисто структурно. Я могу вообще не рисовать никаких треугольников, что никак не повредит чистой структуре треугольника. То же самое с «дважды два четыре» – эта мысль вообще может не приходить никому в голову, но от этого дважды два не будет пять или три. Виртуальное, чистое не зависит от реализации, от актуализации, но вот обратное как раз неверно. То же со временем: структура бытийствует (не очень правильно говорить «существует») в синхронии, некоторым образом всегда сейчас, тогда как реализации, овеществления ее существуют в диахронии, то есть во времени. Очень многое тут, как видно, отсылает к старому доброму платоновскому идеализму.
Учитывая то, что мы говорили ранее, нетрудно теперь понять, почему структурализм относится все-таки к допостмодернистскому периоду. Вот уже хотя бы потому, что продолжает метафизическую традицию присутствия, синхронического вечного настоящего тождественной себе структуры. Проблемы временного сдвига, нами бегло оговоренной в другом месте, для структурализма не существует. Поэтому, если мы начнем вводить в его проблематику временные сдвиги, структурализм посыплется у нас на глазах. Если нам удастся – а нам удастся – сместить структуру во времени, стушевать различия между синхронией и диахронией, то структурализм не выдержит таких поворотов. Что и произошло исторически.
Затруднение в том, что структурализм пытается полностью проигнорировать время и историю. Структура мыслится как платоновская идея – в вечном настоящем, тогда, теперь, всегда. Для Леви-Строса одни и те же базовые структуры родства размечают социальную жизнь во все времена, любые изменения здесь носят разве что поверхностный характер. Вместо времени мы получаем сплошное воображаемое пространство (воображаемое, ведь реальное пространство не может быть дано вне времени), этакую виртуальную топологию, расчерченную точками и линиями между ними. Однако забыть о времени не означает его преодолеть. Всякая рефлексия о структуре фактически протекает во времени мышления, квазивиртуальная структура на деле немыслима вне своих диахронических актуализаций. Сомнительно, что треугольник и «дважды два четыре» бытийствуют вне тех ситуативных актов, в которых они даны, во всяком случае такое невозможно себе помыслить, ибо «помыслить» тянет за собой время. Структура хороша как оперативная модель, но как онтологизированная сущность она не выдерживает критики. Однако критического потенциала, который сам структурализм аккумулировал в отношении предшествующей метафизической традиции, сполна хватило на то, чтобы последующий философский этап оказался значительно плодотворнее своего предшественника.
Если переформулировать одно меткое замечание, прозвучавшее когда-то по адресу кантовской вещи в себе, без структуры нельзя войти в постмодерн, но с ней в нем нельзя оставаться. Так и получилось: структурализм стремительно вышел из моды, однако его наработки в контексте постмодерна дали самые неожиданные плоды.
А раз уж мы отметили нежданную смерть структурализма от ножа истории, будет логично следующий разговор посвятить именно исторической проблематике.
Лекция 3. [История и генеалогия]
Сегодняшняя наша тема посвящена истории и генеалогии – в связи, прежде всего, с опорным текстом Мишеля Фуко под названием «Ницше, генеалогия, история»[13], богатым на интересные для нас выводы. В этой небольшой статье Фуко предстает не только ницшеанцем и историком, как это следует из заглавия, но и хорошим литератором – столь изысканно его письмо. Поэтому я позволю себе начать разговор с примера как раз из области литературы.
В одноименном романе американского писателя Джона Барта есть интересная метафора плавучей оперы. Суть ее состоит вот в чем. Представим себе, что мы стоим на берегу реки, скажем, на пирсе, и видим, как перед нашими глазами по реке проплывает паром, на котором разыгрывается какое-то оперное действие. Мы застаем, таким образом, какую-то часть этого действия, вырванную из контекста, – мы-то стоим на пирсе, а не на пароме. И вот, в опере что-то происходит – разъяренный молодой жених заносит блестящий кинжал над своею неверной возлюбленной, или мать плачет над бездыханными телами убиенных ее детей, что-нибудь в этом роде. Затем паром проплывает мимо нас и скрывается за холмом. Мы стоим дальше. Через некоторое время нашего упорного ожидания паром возвращается и вновь проплывает мимо нас, на этот раз демонстрируя какой-то другой кусок действия – на сцене совсем другие персонажи, юный сынок отчаянно спорит со своим престарелым папашей, или герой, держась за окровавленную грудь, падает оземь на поле боя, что-нибудь в этом роде. Через мгновение плавучая опера вновь скрывается за холмом.
Таким образом, смысл метафоры прозрачен. Плавучая опера – это фрагментированная история, отрывки которой не могут быть связаны в классический линейный нарратив. Это парадоксальная история без истории, действие без повествования, потому что воспринимаемые нами фрагменты по всем признакам должны быть вписаны в большой нарратив, но это только наше предположение, а вот самого большого нарратива мы по каким-то причинам не обнаруживаем. По своей культурной привычке мы пытаемся замазать цезуры, опустить лакуны и достроить целостность повествования в своем воображении. Но такая воображаемая история не в выгодную сторону отличается от истории документальной, фактической: она перестает быть знанием и превращается в произвол случайной фантазии.
Метафора плавучей оперы – это лучшее, что может предложить нам в остальном не особенно выдающийся роман Джона Барта. Эта метафора ценна для нас потому, что она предоставляет нам удивительно точный образ исторического повествования в ситуации постмодерна – как я сказал, парадоксального повествования без повествования. Когда перед нами разворачивается веер событийных фрагментов, не прошитый, впрочем, явной повествовательной канвой, мы начинаем самостоятельно достраивать хаос фрагментов до космоса истории, потому что мы привычно мыслим линейно, строго говоря, литературно – в классическом понимании этого слова. Возможные варианты: хаос без космоса (чистое безумие и бессмыслица), космос на месте хаоса (обман, идеология, миф) – или хаосмос, в котором противоположности сталкиваются в силовом поле, определяющем потенцию движения вперед?..
Плавучая опера задает непростую загадку. Между одним фрагментом – убийством любовницы – и другим фрагментом – гибелью героя на поле боя – могут быть какие угодно связи, настоящий пир для развитой фантазии. Возможно к тому же, что связей вообще нет, что мы зря их выдумываем, потому что перед нами не единая история, а два различных сюжета. Но в то же время возможно, что сюжет один. Как это понять? Ведь когда действие, как мы предполагаем, разворачивалось от фрагмента один к фрагменту два, плавучая опера пребывала где-то за холмом, а мы, оставаясь на своем пирсе, ничего не видели. В итоге у нас нет знания, а есть одни лишь догадки и домыслы.
Знакомые с большими объемами историографической продукции, мы хорошо понимаем, что очень часто историческое повествование оказывается таким вот гаданием на какой-то гуще. Сама фактичность исторических событий не дана нам в опыте, а если дана, то неизбежно фрагментированным образом, ибо мы – наблюдатели – не являемся богами или волшебниками, способными одновременно быть во всех местах сразу. Какими бы осведомленными мы ни были, мы всегда пребываем в ситуации ограниченного знания, а это значит, что любой – подчеркиваю, любой – исторический нарратив является в той или иной степени вымыслом, рассказом, литературой. К этому сводится кризис историографии, который, вообще-то, является достоянием не только нашего по преимуществу кризисного времени: историческое повествование не обладает внутренними критериями уверенного различения факта и вымысла внутри самого себя. Конечно, добросовестный историк всегда обязан, даже если его не особенно просят, каждый ход своего нарратива подкреплять ссылкой на установленный документальный факт. С другой стороны, документы тоже создают люди, и доля истины и лжи внутри самого документа также требует обоснования. А каким такое обоснование может быть? Всегда можно, конечно, ударить себя в сердце и заявить, что, мол, я там был. Был-то был, только кто же тебе поверит?..
Все это превращает историографическую методологию в настоящую головную боль. На кону стоит по меньшей мере научный престиж истории как более-менее строгой позитивной дисциплины – ведь не все историки метят в министры, поэтому многим из них искренне стыдно выдавать ложь за истину. Однако, если на время абстрагироваться от научного престижа, хорошо бы увидеть в описанной ситуации проблемы, характерные для специфически философского дискурса о постмодерне. В самом деле, ситуация эта оказывается более чем постмодернистской, если припомнить, что распадение целостности, в данном случае линейной, на жемчуг фрагментов является одной из главных его, постмодерна, отличительных черт. Соответственно, кризис историографического нарратива оказывается немаловажным примером движения от модерна к постмодерну.
Точнее сказать, что кризис целостности в историографии есть частный случай общего кризиса целостности, имевшего место в различных областях человеческого существования. Смежным с историческим в данном случае окажется литературный кризис линейных повествовательных техник. Мы прекрасно знаем, что уже модернизм с его ярко выраженным авангардным пылом активно деконструировал прежние нарративные техники, пытаясь, впрочем, выстроить некоторую новую и более полную, плотную, более истинную и подлинную, по-настоящему тотальную технику – этакую технику всех техник. Этим занимается, прежде всего, Джойс, конструирующий синтетический литературный язык, без труда вмещающий в себя множество языков, бытовавших во всей предыдущей литературной традиции. Этим занимается и Пруст, пытающийся обнаружить литературный метаязык в своеобразной феноменологии сознания самого повествователя. Даже подчеркнуто тяжеловесный, как будто бы архаический стиль Томаса Манна все же пытается обнаружить тот нейтральный повествовательный медиум, на котором с одинаковой легкостью разворачивались бы что эпическая притча, что чуть ли не водевильный мещанский диалог. В этом отношении, о чем мы уже имели возможность сказать, литература высокого модернизма является проектом гегельянства, ищущего своего завершения. Поэтому кризис нарратива в высоком модерне – кризис кажущийся: на самом деле мы имеем перед собой не разрушение повествования, но, напротив, его достраивание, его тотализацию в желательно более и более монументальных формах.
Не так обстоит дело с повествовательным кризисом в постмодерне – здесь уже кризис не кажущийся, но вполне осязаемый, если вспомнить значение самого слова «кризис»: разделение, различение – собственно, различительное суждение. Повествовательные техники постмодерна как раз разбираются, а не собираются, разносятся в стороны, а не сочленяются в статуарное единство, – в точном соответствии с нашим стартовым положением о недоверии к метанарративам. Движение центробежное, от единства к множеству, а не центростремительное, от множества к единству, как по иному поводу замечает Паоло Вирно. Литература избирает недоверие к метанарративам своим собственным флагманом. Один из ведущих писателей-постмодернистов Ален Роб-Грийе в замечательном тексте «В лабиринте» крутит-вертит романное повествование во все стороны и приходит к выводу, что описание действительности не имеет отношения ни к какой действительности, но является, скорее, описанием этого описания. Его коллега и по совместительству земляк Филипп Соллерс в квазиромане «Драма» показывает, что литературное повествование есть повествование о самом этом повествовании, а не о каком-то событии, якобы лежащем за пределами текста, что настоящая литературная коллизия – это, собственно, приключения письма, а не людей, вещей и прочей реальности. Раз за разом нам пытаются показать, что наши рассказы не отсылают к реальным референтам, но отсылают единственно к самим себе. Язык замыкается, говорить о реальности становится чуточку стыдно.
Историография – тот же язык, поэтому, конечно, замыкается на самом себе и историческое повествование. Само слово «история» имеет характерный семантический диапазон – ведь это не только и даже не столько отдельная научная дисциплина, сколько именно рассказ, простое сообщение кого угодно о чем угодно. Вот я могу рассказать вам историю, что то же самое, – байку, побасенку, и попробуйте угадать, правда это, или я ловко вас одурачил. История – «story» – по-английски это название малой литературной формы: «South of no North», a story by Charles H. Bukowski. В этом смысле об истории говорил и Геродот, ее так называемый отец: его история есть история малых сюжетов, сценок, сплетен и басен, собранная повествователем и донесенная до интересующихся в письменной форме. У Геродота вы не найдете выверенной композиции, последовательной линейности, объединяющего большого смысла. Его история – это заметки по случаю, которые не претендуют на сильное высказывание. Очерки – вот правильный перевод наименования этого жанра на современный язык.
История – это прежде всего литература, это способ повествовательного использования языка. Однако мы с юности привыкаем к другому смыслу этого слова, смыслу, конечно, гораздо более грандиозному и модернистскому. История грезится нам этакой гегельянской телеологией, как если бы сюжетом глобального (литературного) повествования был целый мир, а автором его – некий господь-бог. В целях различения мы можем обозначить этот смысловой переход в употреблении заглавной и строчной букв: История и история, большой рассказ (метанарратив) и малый рассказ (просто нарратив, частная байка). С одной стороны, История истины, История мира, История как судьба, с другой – история писателей, рассказики, изящная словесность.
Тогда переход от модерна к постмодерну – это переход от Истории к истории, или побивание первой недюжинными, как оказалось, силами второй. И не случайно, что среди этих сил мы находим нашего старого знакомца Фридриха Ницше, который, будучи выходцем из совсем другой эпохи, не без основания оказывается этаким постмодернистом среди модернистов – до всякого исторического постмодернизма, вышедшего на историческую (опять – историческую!) сцену чуть менее чем через сотню лет. Ницше – самая важная для наших французов фигура, любимый автор и учитель большинства ведущих постмодернистов, и Фуко, Делез, Деррида – все охотно признавали себя более-менее последовательными ницшеанцами. Что же такого дал миру Ницше, что интеллектуальная культура спустя век после него обращается к нему за важнейшими своими инспирациями?
Возвращение Ницше к грекам, причем не к каким угодно грекам, а к грекам досократического периода, означает в данном случае возвращение к фрагментарному пониманию истории – возвращению от христианских и гегельянских метанарративов, которые пришли ему на смену. Ницше в отношении истории маркирует возвращение от Истории к истории, и это возвращение, конечно, органично вписывается в его критику иллюзии задних миров, каковая явилась репетицией нашего глобального недоверия к мета-нарративам. Ницше, следуя своему любимому учителю Гераклиту, поднимает на щит фрагмент против всяких больших смыслов. А не менее знаменитая ницшеанская критика субъекта, в свою очередь, в плане критики историографии оборачивается подкопом под концепцию большого исторического субъекта, будь то человечество, или избранные народы, или религиозные общины. Там, где единый воображаемый субъект замыкал на себя то и дело норовящее расколоться на бусинки историческое повествование, Ницше обнаруживает этакую деревянную куклу на очень заметных шарнирах, куклу, которая оказывается местом реализации множества сил и эффектов, которые, обнаруживая себя, приводят куклу в активность, заставляют ее, несчастную деревяшку, дернуть ручкой или брыкнуть ножкой. Ницше, этот ультрапозитивист и пионер тогда еще не рожденной прагматической философии, не оставляет сомнений: субъект – это иллюзия одного животного вида, которому не посчастливилось взвалить на свои плечи чуть больше, чем он был в состоянии унести.
Это лирика, теперь добавим конкретики. В своей статье 1971 года Фуко обращается к наследию Ницше именно для того, чтобы основать свой антигегельянский подход к историческому знанию. Этот подход, вслед за Ницше, он называет генеалогией – буквально учением о происхождении. У Ницше, мы помним, речь шла о генеалогии морали – этот анализ был призван показать, что моральные категории имеют эмпирическое и историческое, а не абсолютное и религиозное происхождение, точнее, само религиозное происхождение моральных феноменов находит свое эмпирическое обоснование. Это был, говоря в общем и опуская трудности, довольно резкий выпад против представления о некоторой безусловной независимости морального чувства, ведь если можно задать вопрос, когда и в связи с чем такое чувство возникло, это означает, что оно, это чувство, не божественно и не священно, что его изобретают люди. С христианской точки зрения историзация божественной морали – большое, как теперь говорится, кощунство. И Ницше знал, в какую болевую точку бить своего религиозного врага.
Исследование Ницше вводит довольно известные понятия, задействует знакомых нам персонажей – это воин и жрец, это чувство мстительности, более известное как ресентимент, это забвение классических греческих добродетелей уже у Сократа и так далее – сейчас не это важно. Нам интересны те следствия, которыми чреват проект генеалогии для нашего кризиса историографии. Ведь генеалогия утверждает, что у всякого дискурса – хотя Ницше, конечно, не употребляет этого термина – есть эмпирическая точка зарождения, вполне материальная причина. Мы вроде бы это понимаем. Но тогда спросим: а что, и у самого дискурса об истории, у исторического повествования тоже есть эмпирическая причина? И будем вынуждены ответить, что да. И тогда мы получим нечто, что можно было бы назвать парадоксом историографического наблюдателя. Суть его вот в чем: если все в истории имеет свое происхождение, то и точка зрения историографа также имеет свое происхождение, и поэтому историческое повествование оказывается – в большей или меньшей степени – не способным объективировать то, объектом чего оно само и является. Или проще: невозможно претендовать на истину в той истории, слепым орудием которой ты сам выступаешь.
Перед нами кризис субъекта истории, данный в пандан к кризису его объекта. Поэтому в фигуре генеалога у Фуко мы узнаем довольно странного кабинетного человека, который никогда не может быть уверен в том, что его взгляд на материал по-настоящему взвешен, да и сам его материал – это хаос фрагментов, нагромождение документальных следов, из которых строго-настрого запрещено лепить какой-то метанарратив, потому что это будет не научный, а идеологический жест. Говорить об истории в контексте таких вот разрозненных документов очень трудно, потому что оригинал – само событие, которое стоит за документами, – от нас скрыт, и мы не знаем, что там было «на самом деле». Получается, что документ – это след совершенно неизвестного происхождения, такой след, который был оставлен неясно чем, причем надежда на окончательное выяснение того, что же оставило след, не то что минимальна, но находится под запретом. Безрадостная картина для человека с классическим взглядом на историографию.
Генеалогия превращается в вотчину скорее следопыта, чем ученого, – такого, который имеет дело с остатками какого-то иного и непонятного мира. Следы по своей особенности вихляют, плутают, запутывают следопыта, постоянно ломают и искажают ту линейную картину истории, которую каждый следопыт по своей старой историографической привычке пытается создать. При этом кропотливое описание таких следов все же остается историческим, это описание не противостоит истории, но, по Фуко, противостоит оно метаистории, большому историческому рассказу – классической попытке собрать весь этот хаос исторических следов в стройный космос трансцендентного смысла, то есть смысла такого, который не дан как факт, но примышляется как басня. Таково гегельянское повествование о самосознании Абсолютного Духа, таково христианское повествование о пути общины рабов божьих к спасению души. Всякий раз фактические следы организуются в соответствии с нефактическим, метафактическим принципом, не подлежащим никакой проверке. Метаистория не вычитывает историю из фактов, но вчитывает историю в факты. В этом смысле она действует как мифология или художественная литература – ведь там тоже есть авторский материал, комбинируемый в соответствии с художественным (или мифическим) замыслом.
В этом смысле Фуко, обращающийся к Ницше за помощью, действует просто как очень последовательный и очень строгий позитивист: он говорит, что нельзя, что ненаучно вчитывать в факты литературу, что необходимо держаться только самих фактов, какими бы хаотическими и разрозненными они ни были. Этот позитивизм непосредственно связан с тем, что наши факты – следы без ссылки на то, что их оставило. Генеалогия противостоит поискам первоистока, который позволил бы нам раз и навсегда объяснить все следы. И если мы присмотримся, то мы поймем, что метанарративы и метаистория работают так, что свой трансцендентный центрирующий принцип они выдвигают как первоисток, как ответ на вопрос о происхождении следов-фактов. Исток для немецких идеалистов – это чистое сознание, которое в целях самопознания противополагает себе мир, исток христиан – это божественное творение и грехопадение. Всякий раз мы сталкиваемся с ответом на вопрос, как все начиналось, потому что считается, что именно начало – первое, главное, абсолютное – делает понятным то, что происходит потом. Возвращаясь к нашей метафоре: необходимо присутствовать в самом начале плавучей оперы, чтобы затем соединить фрагменты в правильной композиции. И всякий миф – это рассказ об учредительном событии, которое, повторяясь в повествованиях и обрядах, призвано возвращать и восстанавливать абсолютный смысл существования общины. Дискурс о первоистоке выводится в трансцендентную область, он все объясняет, сам будучи лишенным всякого объяснения.
Это значит, что мы должны различать два возможных смысла генеалогии, потому что метаистория, как мы видели, это ведь тоже своеобразная генеалогия – поиск происхождения. Разница в том, что генеалогия метаистории полагает возможным обнаружение первичного источника, абсолютного смысла, тогда как генеалогия Фуко и Ницше, будучи позитивистской, вводит запрет на абсолютный смысл истока как на миф, вчитываемый в факты, а не вычитываемый из них. И тут, если угодно, можно употреблять термины так: Генеалогия и генеалогия, метаистория и история просто, миф и позитивное знание. Генеалогия как знание выступает за такую историю, которая принимает свой «грех», свое существование в следах и осколках, как факт, как данность, и которая тем самым изнутри своей фактичности избавляется от навязанного ей метасмысла и подчеркивает свою частичность не как недостаток, но как свое прямое условие. Хочется сказать, что генеалогия – это очень честная история, но звучит как-то по-детски. Это история, оказавшаяся в нашей первичной ситуации, обозначенной Лиотаром как кризис метанарративов, осмыслившая себя в этой ситуации и принявшаяся вырабатывать формы и методы существования в ней. В постмодернизме история может быть только такой – генеалогической. Генеалогия утверждает: история состоит из зазоров; затыкать зазоры рассказами – миф и обман, но не наука; наука имеет дело с позитивным фактом; основной позитивный факт – это зазор; отсутствие более значимо, чем присутствие.
Выбирая сторону фактов, историк обнаруживает, что факты как раз сопротивляются телеологии, что над ними нужно совершить дополнительное насилие, чтобы привязать их к телеологическому (звучит почти как теологическому) сверхсмыслу. Позитивизм, как мы знаем, всегда был против телеологии – уже в самом начале Нового времени, у Фрэнсиса Бэкона прослеживается отказ от телеологии a la Аристотель, и на этом отказе будет держаться вся впоследствии формирующаяся наука. Поэтому Гегель, конечно, являет собой серьезное отклонение от научного знания через восстановленную телеологию. Чуть позже родоначальник позитивизма Огюст Конт попытается вернуться к основам модернистской науки, однако очень заметно, что его модель развития знания заражена гегельянством.
Пожалуй, именно Ницше удалось предложить совершенно другую модель позитивизма и раннего прагматизма, хотя обычно его имя с этими терминами не связывается, а жаль. Ницше замыкает мир на самом себе через отказ от «иллюзии задних миров», которой, собственно, и питалась всякая телеология, ему удалось накрепко завязать субъекта на его эмпирической позитивности, и даже этический свой идеал – я говорю о сверхчеловеке – Ницше лишает какой-либо цели вне его самого, так, что сверхчеловек, танцуя на месте, ниоткуда не исходит и никуда не идет. По сути, это античный гимн состоянию «здесь и сейчас», вот этого самого следа-факта, который для счастья совсем не нуждается в первоистоках, больших исторических целях и трансцендентных сверхсмыслах. Это восторг пылинки перед лицом своей неустранимой частичности.
Такая история – единственно приличное место для той концепции субъективности, которую предлагают нам Фуко и Ницше. В малой и фрагментированной истории проживает малый и фрагментированный субъект. У него нет личности и души, потому что все это сверхсмыслы, телеологические и трансцендентные. Что у него есть, так это его фактичность, вписанность в мир малых фактов на правах одного из них. Эта субъективность изменчива и динамична, потому что она является точкой схождения множественных процессов в поле опыта. Субъективность – эффект, возникающий в результате схождения и расхождения разнообразных сил. Все мы такие, какие мы есть, не потому, что нас создал облачный старец, но потому, что мы реагировали именно на эти, а не на какие-либо другие условия нашего существования. Поэтому мы – не причина, а результат, то есть тоже своего рода след, факт среди фактов. Субъект здесь напоминает все ту же плавучую оперу, которая проплывает вот такой, а через мгновение возвращается уже совсем другой. Говорить о постоянстве человеческой личности можно только с метафизической позиции – для этого надо привязать личность к метарассказу, к телеологии, к трансценденции. Если держаться фактичности и эмпирического знания, то субъект неизбежно оборачивается ницшеанским или фукольдианским персонажем – изменчивым, случайным, танцующим.
Отсюда убежденность Фуко в том, что субъект конструируется в истории на манер многих и многих практик субъективации, которые в каком-то объеме и были им изучены в поздний период творчества. При желании эта красочная галерея субъективностей – античный эфеб, христианский затворник, просвещенный либертен – может быть нами дополнена, но на досуге. Сейчас мы должны договорить какие-то финальные вещи. Получается, что через вопрос об истории мы подходим к тому онтологическому перевороту, который осуществляется в постмодерне и в опоре на таких передовых модернистов, как Ницше. Я говорю о перевороте, потому что такая классическая онтология, которая дана нам, скажем, в христианстве, полностью зеркальна той онтологии, которую мы описываем. Если там субъект спускается сверху как создание бога – в данном случае безусловного абсолютного первопринципа, – то здесь субъект формируется снизу – как тело, как место эффектов, реакций, становлений. Если там смысл мира обнаруживается в его истоке и в соответствии с этим истоком задается весь последующий путь, то здесь смысл либо вычитывается из факта как его позитивное описание, либо навязывается извне властной волей рассказчика, и тогда это не смысл исторического события, а миф. Перевернутыми в этих онтологических моделях оказываются верх и низ, как в том описании карнавала у Бахтина, когда на время праздника все запретное становится разрешенным, а все разрешенное – запретным. Здесь также низ, тело, позитивность, эмпирия и все прочее, что в классических больших нарративах считалось вещами второго сорта (вспомним гегелевское «тем хуже для фактов»), вытесняет иллюзию верха, высокого, истинного, тотального, абсолютного, незримого, но при этом подлинного, – вытесняет так, что превращает все это в простые побасенки, исходящие снизу, от тех самых субъектов, которые существуют в поле эмпирических процессов, и эти эмпирические процессы диктуют им их сказочные повествования. Как у Ницше: одна группа населения выдумывает богов, чтобы господствовать над другой группой – и это может быть сочтено верным, потому что исторические факты полностью этому соответствуют, тогда как гипотезе божественного творения не соответствуют никакие факты, эта гипотеза строго экстрафактична, потому не проверяема, потому излишня.
Разумеется, такой переворот стал возможен только благодаря современному развитию научного знания – это, кстати, подчеркивает еще Лиотар в своем докладе о постмодерне. Поэтому философия постмодерна как минимум одной своей частью, при этом частью очень существенной, обращена именно к науке и пытается осмыслить ее положения и ее результаты на уровне мышления о мышлении. Наука – главный герой Фуко, по крайне мере первой половины его творчества. Научное знание в ХХ веке с его важнейшей проблемой наблюдателя действительно во многом отсылает к Ницше с его представлениями о перспективности истины. Ницше предлагал научиться смотреть на мир перспективно, посредством сотни глаз – именно так после него на мир стали смотреть ученые, философы, к примеру, американские прагматисты. Истина есть суждение о множественных феноменах эмпирического мира, поэтому она должна согласовываться со своим объектом – это превращает истину в множество истин, в целый павлиний хвост перспектив. Описание с одной точки зрения никогда не будет полным и всегда будет привязано к какому-то избранному аспекту объекта, поэтому описание должно продолжаться не только через углубление данного аспекта, но и через смену одного аспекта на другой. При этом разные аспекты вовсе не обязательно вступают друг с другом в спор, но, скорее, являются по отношению друг к другу дополнительными, как у Нильса Бора. Казалось бы, что может быть дальше от современной науки, чем Фридрих Ницше? На самом деле это не так, и осмысление его размышлений с точки зрения развития научного знания, возможно, может оказаться гораздо более интересным и плодотворным, нежели помещение его в одномерный контекст европейской метафизики.
Наукообразный взгляд фиксируется на телах, а не на божественных идеях, поэтому философия должна научиться мыслить тело и, как с некоторым вызовом писал Ницше, мыслить телом – что она и делает в ХХ веке. Пафос телесности пронизывает философию на всех уровнях, тело становится, безусловно, главным объектом мысли. Это неудивительно, если сказано, что мир и его история состоят из тел и их взаимодействий. Дискурсы – также своего рода тела, потому что они могут быть позитивно объективированы (в документах, в архивах), и также объектом своим они имеют тела и только тела. Мир окончательно избавляется от верхнего этажа, изгоняет фиктивных богов, располагается на плоскости, чему так радовался Делез. У мира нет глубины, он весь – сплошная поверхность, на которой сталкиваются силовые линии тел, порождая события. Такой подход может показаться бедным, но это не так, доказательством чему служат невероятно богатые, пестрые, оригинальные произведения философов постмодерна. Плоскость хранит столько всего интересного, что многие «задние миры» прошлого могли бы только позавидовать. По крайне мере мы, вступая затаив дыхание в этот восхитительно плоский мир, на каждом шагу готовы к чуду – ведь силы, сталкивающиеся на плоскости, в любой момент могут явить нам все что угодно. Познание превращается в предвосхищенный восторг. Философия превращается в приключение. Каждый шаг в неизвестное манит сокровищами, устрашает ловушками, опьяняет динамикой. Не в пример метафизическим спекуляциям с их монотонным: бытие есть, небытия нет, и пути его неисповедимы…
Лекция 4. [Дискурсивные практики]
Мы продолжаем говорить о постмодерне и философии, которая с ним связана, – правда, не особенно рассчитывая на большие результаты. А почему так? Потому что, предполагая большие результаты, мы будем вести себя как-то не по-постмодернистски, ибо нельзя навязывать вещам свою волю и свое желание. Иногда надо просто дать вещам быть – и получать от этого немалое удовольствие. Постмодернизм – это, безусловно, гедонизм: удовольствие от текста (Барт), удовольствие от мышления, удовольствие от игры.
На этот раз мы поговорим о дискурсе, или дискурсивных практиках, или дискурсивных формациях. Известно, что «дискурс» – одно из основных понятий в философии постмодерна. С первого приближения дискурс представляется и образом мышления, и системой понятий, и некоторой совокупностью высказываний. Если все это объединить: образ мышления, данный в системе понятий, выражаемой в речи. И образов этих, как мы понимаем, может быть много – выводом из постмодернистского недоверия к метанарративу, то есть к единственному привилегированному дискурсу, оказывается сосуществование в культуре потенциально бесконечного числа разнообразных дискурсов.
Раз так, то всякий отграниченный от других дискурс внутри себя формирует собственные правила, иерархии, объекты. Скажем, дискурс математики формирует собственные объекты (числа) и возможные операции с ними. Ясно, что в дискурсе, к примеру, театральном объекты и операции будут иными. Правила производства высказываний в одном дискурсе не будут работать в другом дискурсе, тогда как ранее, во времена прискорбной веры в метанарративы, всем нам казалось, что существует некий набор универсальных правил, которые, как отмычка, подходят ко всем областям жизни. Последней подобной верой была вера в универсальную науку. Теперь, когда сама наука фрагментировалась так, что два специалиста в очень близких областях знания могут совершенно не понимать друг друга, об универсальности языка науки говорить не приходится – есть много наук и много научных языков, не совместимых друг с другом.
Таким образом, модернистский процесс специализации знания в постмодернистских условиях обращается все усиливающейся фрагментацией всех областей существования. Специфические языки этих областей мы и называем дискурсами. Поэтому, если по традиции ХХ века все что угодно можно свести к языку, так же все что угодно можно свести к дискурсу. Это вновь подводит нас к мысли, что у еще одного постмодернистского понятия вполне модернистские корни. Вспомним ранний роман Джойса «Портрет художника в юности». Этот роман, как любит говорить Андрей Аствацатуров, представляет собой путешествие по семиотическим сеткам, проще говоря – по разным языкам, каждый из которых раскрывает для персонажа целый мир, существующий по собственным законам. Будучи ребенком, Стивен Дедал, герой романа, пребывает в детском мифологическом языке-мире, полном тайн, загадок, страхов и невероятных существ, которые нам, в отличие от ребенка, кажутся обычными порождениями буйного воображения. Все потому, что мы живем в другом языке, в другой сетке. Путешествие продолжается, Стивен попадает в язык-мир политики, язык-мир религии, язык-мир эстетики, и каждый язык он проживает как подлинный, собственный, истинный. Однако неизбежным оказывается событие перехода – одна истинность разменивается на другую, как знаки в экономии речи.
Задолго до радикального «Улисса» Джойс показывает нам, что наш мир соткан из множества языков, которые детерминируют наше существование. Пользуясь более поздним понятием, мы скажем, что Стивен Дедал и все мы вместе с ним путешествуем по дискурсам, каждый из которых очерчивает некое единое и неповторимое пространство, в котором возможно и истинно то, что невозможно и ложно в каком-нибудь другом. Наше бытие и сознание дискурсивны, но ни один дискурс не может претендовать на полную власть над ними. Поэтому уточню: наше бытие и сознание полидискурсивны, многоязычны и плюралистичны. Язык распадается на множество языков, каждый из которых, строго по Сепиру – Уорфу, рождает из себя целый мир.
Все это слов нет, как поэтично. Но если вдуматься – страшно. Дискурсы жадно и полностью захватывают человека, его сознание и тело, его эмоции и восприятия. Дискурсы задают человеку ту сетку координат, которую он начинает воспринимать как истину. На деле всякая истина – это лишь правила игры, по которым функционирует тот или иной язык. Истина математики не есть истина театра, и взрослый Стивен не верит в то, во что верил Стивен маленький. Поэтому вернее сказать, что человек не просто живет в дискурсе, но он живет дискурсом, одним или другим, а может, и многими сразу. Сталкиваясь с каким-то нейтральным событием, которое как таковое именно в силу свой нейтральности, читай – безъязыкости, не может быть описано, один человек прочитает его политически, другой – эстетически, и оба будут по-своему правы, и оба могут убить друг друга за свою правду. Хороший пример в данном случае – книга Терри Иглтона «Теории литературы», где автор в свойственной ему гиперироничной манере описывает различные литературоведческие теории ХХ века, каждая из которых абсолютно верна сама по себе и крайне ошибочна в сравнении с другими. Это не потому, что они и правда истинны или ложны. Это потому, что они дискурсивны и отграничены друг от друга непроходимым минным полем из имманентных правил.
Главная сложность здесь вот какая. Тот же Иглтон, любящий смеяться над другими, сам выставляет себя на посмешище, добавляя к высмеянным теориям свою собственную, в свою очередь очень смешную все по тем же указанным основаниям – в силу своей принципиальной ограниченности. Что же выходит, Иглтон прочитывал все эти дискурсы через свой собственный дискурс? Именно так: говоря о каком-то дискурсе, мы всегда уже находимся в некотором другом дискурсе, что превращает наши высказывания в ангажированные и принципиально ограниченные. Дискурс понимается также дискурсом, поэтому нам недоступно искомое чистое сознание, которое было бы дискурсивно нейтральным. Полная нейтральность оказывается сродни реальности в системе Лакана – ее главная особенность в том, что она недоступна. Всякий раз, когда мы проделываем попытку – все более, конечно, отчаянную – выбраться из мышеловки, о которой говорил Витгенштейн, мы просто попадаем в соседнюю мышеловку, которая чуть иначе устроена. Получается интересно: принципиальная ограниченность дискурсов означает также принципиальную безграничность перемещений между ними, как следствие – невозможность выйти за рамки этой бесконечной системы отсылок.
Предполагая, что есть некая истина в последней инстанции, мы тем самым располагаем ее где-то вне дискурса, который принципиально ограничен, конечен, сводим к чему-то другому. Однако само это предположение о конечной истине вне дискурса – само по себе не дискурс ли? А лиотаровское недоверие к метанарративам не есть ли очередной метанарратив? Без сомнения, все так и есть. Ловушка языка оказалась хитрее, чем мы думали. Двигаясь подобным путем, мы будто бы повторяем теоретическое движение Витгенштейна, который также начинал с уверенности в некоторой окончательности обыденного языка, чтобы через кризис и разочарование прийти в итоге к бесконечной перекличке конечных и относительных языковых игр. Поэтому дискурс – это прямой потомок витгенштейновской языковой игры, который, правда, любит рядиться в новомодные понятийные платья, желая скрыть свою все еще модернистскую суть.
Побег из мышеловки, таким образом, оказывается очередной уловкой самой нашей мышеловки. Как показывал Лиотар, одним из самых живучих и крепко сбитых метанарративов является нарратив об эмансипации, об освобождении человечества от пут лжи и заблуждения, исторически данный в идеологии Просвещения. Теперь, пройдя через Лиотара, Адорно с Хоркхаймером и многих других, мы знаем, что Просвещение под предлогом окончательной эмансипации строило свою собственную золотую клетку, не менее идеологическую, чем все прочие (от себя добавлю, что и с этой критикой все не так уж и гладко). Невозможно выйти за границы рассказа, если мы пытаемся сделать это с помощью рассказа. Невозможно выпрыгнуть из языка или мышления, если мы делаем это с помощью языка и мышления. Нельзя выйти из дискурса с помощью дискурса. Здесь важен этот момент тавтологии, характерно отсылающий к картезианскому началу новоевропейской философии: если я сомневаюсь в самом сомнении, то тем самым я утверждаю сомнение; если я дискурсивно преодолеваю дискурс, то тем самым я только утверждаю дискурс, указываю на его принципиальную неустранимость. У нас выходит, что дискурс – темница, из которой, увы, нет выхода.
В этом смысле философия оказывается также дискурсом, но дискурсом парадоксальным – таким, который всякий раз указывает на свою принципиальную ограниченность, в конечном счете ложность. Это с новой стороны проливает свет на известное положение о том, что философия – это критика, а именно критика мышления, языка или дискурса самим мышлением, языком или дискурсом. Невозможно не обнаружить во всем этом отчетливый призрак Канта с его трансцендентальной критикой: разум – вещь самозамкнутая, выход к вещи в себе невозможен, приходится довольствоваться малым (но это уже что-то). Трансцендентализм, собственно, и указывает на то, что мир дан сознанию. Трансцендентальный метод исходит из работы сознания. Он приходит к тому, что из сознания невозможно выпрыгнуть, потому что выпрыгиваем мы тоже сознанием. Внесознательное, вещь в себе – это то же витгенштейновское нечто, о котором невозможно говорить и потому следует молчать. Витгенштейн называл это мистикой. Поэтому мистическими (то есть таинственными, непонятными, непознаваемыми) будут всяческие указания на нечто вне сознания. Вполне возможно, что из этого выйдет красивая история, но претензии ее на истинность бессмысленны – это по-прежнему будет история о некотором бессознательном, рассказанная сознанием самому себе. Не более чем колыбельная. Что то же – религия: Кант так и писал, что он ограничивает разум, чтобы освободить место вере. Вера означает: не знаю и не могу знать, потому верю, а во что верю, это уже не имеет никакого значения. Как говаривал Пятигорский, хоть в черта лысого.
Однако иллюзия вещи в себе не спешит покидать бесконечные дискурсивные анфилады. Представление о Другом сознания, Другом языка неотделимо от самих сознания и языка, это представление вписано в ограниченный дискурс как указание на непреложность его границ. Если я говорю А, то я говорю не Б, поэтому Б по необходимости становится Другим моего дискурса об А. Всякая предметная область существует в своих собственных границах, которые негативно конституируются фигурой Другого. Не иначе, конечно, обстоят дела и в нашем дискурсе о дискурсах, мышлении о мышлении. У Другого здесь много имен: Единое, Бог, Природа, собственно, Вещь в себе, Воля, Дух, Бессознательное и прочие знаменитые концепты, ряд которых каждый в состоянии продолжить самостоятельно. Исторически они сменяли друг друга стремительно и часто грубо, однако неустранимой оказывалась сама потребность в Другом, задающая дискурсу негативную границу. Здесь мы начинаем немножко понимать саму нужду в мистическом, в том, что предположительно (но не доказательно) находится за гранью мысли и языка. Эта нужда негативна, ее характер чисто апофатический: мистическое в любой своей форме возникает как необходимая граница знания, языка, мысли, как то Другое, без которого непредставимо Тождественное. Как то не Я, если вспомнить Фихте, которое в силу основных законов логики моментально вытекает из Я, стоит нам только помыслить его как данное.
Дискурс ограничен, его границу задает Другое (иначе говоря, его граница задает Другое). Само слово «дискурс», как известно, означает речь, просто разговор, рассказ, некое говорение. Тем самым оно напоминает другое знакомое нам слово – «логос», также и речь, и слово, и рассказ, и разумение. Логос и дискурс очень близки. Чуть-чуть погуляв по бесконечным комнатам дискурсивного пространства, мы начинаем понимать античное положение о том, что божественный логос управляет всем. Наш современный дискурс едва ли божественный, но он точно всем управляет, в этом нет сомнений. Однако коннотации немного меняются. В Античности на логос уповали, ему верили, он обладал абсолютной ценностью, и разве что нехорошие софисты цинично делали из него жевательную резинку. Сегодняшние философы подобно своим предкам софистам не склонны сакрализировать дискурс, они относятся к нему холодно, прагматически, операционально. Если в Античности сам Логос был этаким абсолютно Другим всему сущему, то ныне Другое дискурса – это какой-нибудь другой дискурс, поэтому абсолютистские аллюзии вроде бы остались в прошлом. Логос стал тем самым метанарративом, которому мы с легкой руки Лиотара стали активно не доверять. Дискурсы же – это эффективные инструменты такого недоверия. Гегель был последним рецидивом античного абсолютизма, после которого тотальное тождество стало стремительно раскалываться на бесконечно инаковые друг к другу фрагменты.
Философы дискурса, философы постмодерна работают подчеркнуто фрагментарно. Поэтому их работа в основе своей строится на противопоставлении логоса и дискурса, которое мы задали выше. Постмодернист атакует тотальность логоса с помощью фрагментарности дискурса. Отсюда ясно, почему главное ругательное слово в вокабуляре Жака Деррида – это логоцентризм, и почему он так стремится уничтожить метафизику, которая как раз и строится на примате абсолютного и самотождественного логоса. Именно на это направлена деконструкция, о которой речь впереди, на это направлена и генеалогия в традиции Ницше – Фуко, которая стремится разрушить логоцентрическое единство большой истории, обнаруживая в ней множественность микроисторий, фрагментов, событий и столкновений единичных сил. Пожалуй, любой проект философии постмодерна – будь то деконструкция и генеалогия (археология), будь то шизоанализ, семиология, анализ симулякров и так далее – имеет свою главную цель в атаке на своего главного врага, который явлен в метафизической традиции тотального логоса. Атакованный и взорванный изнутри дискурс раскалывается на множество дискурсов, которые бесконечно фрагментируют мир языка и сознания.
Если логос – это тотальность (всегда обещанная, но никогда не реализованная), то дискурс – это сингулярность, то есть единичность, которую нельзя абсолютизировать и которая всегда ограничена Другим иных множественных единичностей. Сингулярность, таким образом, есть фрагмент, есть нечто именно такое, какое оно есть – скажем, таковость, этовость. Дискурс именно такой, это отличает его от другого дискурса, который тоже такой, какой он есть. Таким образом противопоставленные друг другу дискурсы могут вести себя по-разному. Они могут существовать, соблюдая границу, уважая их общую инаковость. Другой вариант – нарушать границу, заходить на территорию Другого, пытаться подчинить его своим имманентным правилам, делая их трансцендентными. В этом втором случае дискурс тяготеет к тому, чтобы вновь стать логосом. Сталкивающиеся дискурсы открывают в себе ницшеанскую волю к власти, волю к силе и разрастанию, волю к подчинению себе других дискурсов. К примеру, очень часто наука перестает заниматься своими дискурсивными делами и вмешивается в существование других дискурсов, указывая им на то, что вот это, мол, ненаучно, поэтому это чушь. Безусловно, внутри научного дискурса все это чушь, как и наука есть чушь внутри, скажем, религиозного дискурса. Как изнутри науки невозможно сформулировать религиозного высказывания, так и изнутри религии невозможно сформулировать высказывания научного. Понимания этого достаточно, чтобы соблюдать границу. Но получается это крайне редко.
Дискурс, тяготеющий к логосу, превращается в некую идеологию – в классическом смысле ложного сознания. Это сознание ложно потому, что оно забывает собственные правила, неразрывно связанные с собственными границами. Его ложь заключается в его инфляции. Как человек, претендующий на собственность другого, как государство, поглощающее территорию соседнего государства, – все это примеры лживого забвения правил и границ, забвения, которое чаще всего заканчивается плачевно: судом, интервенцией, увесистым подзатыльником. Идеология в этом смысле есть болезнь дискурса, его ожирение, связанное с неправильным обменом веществ – то есть неправильной регуляцией высказываний внутри дискурса. Высказывания, формулируемые в дискурсе, верны, когда они соответствуют правилам, которые задаются исходя из границ предметной области данного дискурса. Нарушение правил расшатывает границы дискурса, тем самым ставя его под вопрос. Учитывая то, что сегодня тоталитарные и абсолютистские претензии признаны провалившимися и искорененными, всякий дискурс, ограниченный Другим дискурсивным пространством, через свою инфляцию лишь движется к самоуничтожению.
Нельзя не заметить, как все это похоже на остросюжетный рассказ о похождениях дискурса – как будто бы именно высказывания сегодня стали героями, вытеснив с этой позиции человека. Такова отличительная черта глобального нарратива ХХ века: это, как правильно отметил Лиотар, более не нарратив об эмансипации человека, однако теперь это нарратив об эмансипации самого нарратива, или дискурса. И теперь самое время обратиться к Мишелю Фуко с его работой 1969 года «Археология знания»[14]. Прежде всего в этой книге обращает на себя внимание то, что она менее игровая и, возможно, более строгая и научная, чем предыдущие тексты нашего автора. Но это, конечно, иллюзия, ибо перед нами не что иное, как настоящий игровой трактат о дискурсивных играх как таковых. Собственно, опорный концепт книги – это именно дискурсивные практики, или дискурсивные формации.
Свой подход к дискурсам Фуко называет археологией, то есть логосом об истоке – мы помним, ранее он вводил термин «генеалогия», то есть логос о происхождении, генезисе. Как видно, разница несущественна. Собственно, археология или генеалогия для Фуко – это основная задача гуманитарного знания как такового: это знание представляет собой анализ дискурсов. В этом нет новости – мы здесь и сейчас занимаемся именно этим, анализом некоторого дискурса. Историки, социологи, может быть, политологи – все пытаются разобраться в своих дискурсивных практиках. Получается, что метадискурс всякого дискурса – это и есть то или иное гуманитарное знание.
Фуко пытается выделить основные характеристики анализа дискурсов. Такой характеристикой является введенная им вслед за Башляром и Кангилемом предпосылка эпистемологического разрыва. Эта предпосылка – один из ярчайших примеров атаки на идею тотальности, о чем мы уже говорили. В этой перспективе история, в том числе история некоторого знания, из тотальной и линейной картины превращается в череду разрывов, фрагментов, сингулярностей, не обеспеченных в своем единстве некоторым метафизическим (метанарративным) принципом. Это повествование без единства, части без целого. Говоря сильнее: философия без Гегеля. Если гегельянец пытался взглянуть на историю как на тотальное повествование, как на реализацию в конечном некоторого бесконечного сверхсмысла, то историк вроде Фуко, напротив, раскалывает идеологическую тотальность на части, обнаруживает цезуры там, где близорукому взгляду их XIX века все представлялось плотно сшитым, заштопанным. Интерес к эпистемологическим разрывам приходит в философию из научной методологии, в которой было отмечено, что линейного перехода от одной научной революции к другой не существует – есть невероятный скачок, но не связная история. Непрерывность в развитии знания оказывается пережитком преодоленного или преодолеваемого Модерна.
Анализирующий дискурсивные формации археолог работает с документом – с некоторой позитивной данностью, с материалом, а не, боже упаси, с какими-то сверхсмыслами или глобальными интуициями. Именно поэтому Фуко называл самого себя позитивистом: его интерес распространялся только на то, что существует реально. Археолог пытается провести имманентный анализ документа, то есть обнаружить его внутреннюю логику, а не навязать ему свою, как бы то не преминул сделать Гегель. Необходимо не говорить за документ, но позволить говорить самому документу – через исследователя. В этом заключается вполне понятная этика научного познания. Ясно, что неэтичный подход предпочитает использовать документы в каких-то своих корыстных целях – например, чтобы продемонстрировать невероятную эффективность сталинского руководства; имманентный анализ документов, напротив, покажет, что «эффективное руководство» – это совершенно невежественный размен миллионов человеческих жизней на абсолютно провальную, безграмотную, отстающую ото всего мыслящего мира «модернизацию». Здесь, как всегда в таких случаях, метанарратив идет впереди документа. Необходимо сделать так, чтобы документ вписывался в метанарратив, чтобы он пел под чужую дудку, – здесь, конечно, в очередной раз вспоминаются гегелевские слова о том, что если факты не отвечают теории, то тем хуже для фактов. Фуко не соглашается с этим тезисом и не без оснований полагает, что тем хуже для Гегеля. С точки зрения археолога-позитивиста, все обстоит с точностью до наоборот – это документ стоит впереди теории, даже гегелевской.
Ключ к описываемому нами процессу – задача освобождения события. В данной перспективе событие как некоторая элементарная историческая позитивность должно быть освобождено не только от Гегеля и от тотальной логики метанарратива, но и от примата интерпретации как такового. Да, Фуко не соболезнует герменевтам (их взаимная неприязнь с Рикером – отдельная и забавная история) и не любит интерпретаций. Собственно, интерпретация есть не более чем некая идеологическая стратегия, которой и должно противостоять подрывное имманентное описание. Впрочем, мы понимаем, что одно дело постулировать такое описание как некоторую романтическую цель, другое дело ее достигнуть. Едва ли возможно полностью имманентное описание, даже если археолог-позитивист преследует самые светлые эмансипаторские цели. Элемент идеологии будет сохраняться в любом нашем дискурсе – просто потому, что идеология и есть некоторая аксиоматика, определяющая правила игры в той или иной дискурсивной практике. Не будучи в состоянии полностью искоренить идеологию, что для нас означало бы вообще прекратить дискурсивную жизнь, мы все же должны помнить о том, что в контексте глобального недоверия к метанарративам ценность приблизительно-имманентного описания документа выше, чем откровенно идеологическая интерпретация. Идеология сегодня вызывает скепсис даже у идеологов – они, конечно, за идею, но лучше деньгами.
Итак, археология как метод, документ как объект, имманентное описание как задача – скорее этическая, чем техническая. Этика имманентного описания конституирует критическую позицию, с которой ведет свою работу археолог-позитивист. Всякая исследовательская позиция в ситуации постмодерна неизбежно оказывается критической, потому что в самом ее основании находится критический жест недоверия к метанарративам. Аналитическая и критическая тенденции в философии постмодерна фактически совпадают, противопоставляя себя синтетической и, соответственно, откровенно идеологической тенденциям классической философии. Археологический, генеалогический или какой бы то ни было еще анализ дискурсов позволяет обнаружить в самой философии именно дискурсивный элемент, укореняющий философию в определенной аксиоматике, в правилах игры, в фактах, документах, в позитивности. Это сопряжено с запретом на некритически принимаемые идеи тотальности, линейности, непрерывности, а также на поиски сверхсмыслов, данных в больших рассказах, и целостностей, центрирующих исторический нарратив на абсолютном событии, будь то фундаментальный исток (традиционализм) или предельная цель (революционный проект).
Подытоживая, повторюсь: анализ против синтеза, дискурс против логоса. Сюда хочется добавить и «факт против интерпретации», но все не так просто. По Ницше, мы знаем, чистых фактов не существует вовсе, потому что всякий факт есть всегда уже интерпретация – потому что он факт для кого-то, он факт, увиденный одной парой из сотен глаз и пропущенный через стекло языка, перекраивающее всякое содержание на лад своей формы. Фуко – ницшеанец по преимуществу – не мог бы забыть обо всем об этом, и мы должны применить ницшеанскую формулу к тексту его археологии. Тогда что означают первичные факты, с которыми работает археолог? Именно то, что сказано: факты-интерпретации, факты, не отделимые от их языка. Если подумать, именно это и утверждается в анализе дискурса: факт есть факт дискурса, определяемый его – дискурса – имманентной аксиоматикой, поэтому не существует нейтральных фактов – фактов нулевой степени. Ультрапозитивизм Ницше и Фуко означает не наивное возвращение к иллюзии чистого, атомарного факта, но преображение позитивизма на постмодернистский лад: да – факты, но – факты как факты некоторого языка. По меткому замечанию Деррида, вне текста ничего нет. Это означает, что место, в котором есть все что угодно, есть именно дискурсивное место – место, в котором реальность встречается с языком, чтобы создать тот мир, в котором мы обитаем.
Лекция 4’33. [Между словами и вещами]
Практические замечания: человек как – мыслящая, говорящая – мера всех вещей принимает существующее как существующее, несуществующее как несуществующее; пустое должно оставаться незанятым; попытка заполнить пустое – обман, миф, идеология; несовершенство, пустотность бытия – не приглашение к махинациям, но элементарная данность, допущенная к бережному охранению.
Лекция 5. [Смерть автора]
И вот, теперь нам так или иначе придется иметь дело с тем, что автор – подобно субъекту, человеку, истории, философии и много чему еще – тоже умер.
Тот факт, что в постмодерне все стремительно умирает, многое может сказать о самом постмодерне. Да, эта эпоха сводит счеты с прошлым. Но в тот же момент и еще более радикально – так может показаться – она сводит счеты с будущим, утверждая, что ничего нового больше не будет. Таким образом, не совсем ясно, что же у нас остается. Можно попытаться решить это затруднение, перенося стремление к новому в то же старое, одержимость будущим отнести к пережиткам прошлого. Модерн грезил новым, он норовил быть самым новым, ультимативно, окончательно новым – постмодерн утверждает, что новое невозможно. Его враждебность в отношении нового является, выходит, частью его враждебности в отношении старого. Однако из этого следует, что этот жест постмодерна по отношению к старому модерну оказывается, собственно, новым. На этот характерный парадокс, повторяю, в одном месте указывает Борис Гройс[15].
На самом деле постмодерн очень даже хочет быть новым, мало кто так этого хотел. Именно поэтому он объявляет войну старому понятию нового – а вместе и прочим старым понятиям, которые в контексте модерна были вполне очевидны, сами собой разумелись. Очевидно, что есть человек, субъект, личность. Очевидно, что мы живем в линейной истории. Очевидно, что у произведения есть автор. Более того, еще раньше было очевидно, что у целого мира как большого произведения есть свой автор – его называли Бог. Это очевидно, потому что откуда-то ведь все взялось, не из космического же бульона, не из взрыва же, в самом деле. Очевидно, потому что зимой природа умирает, а весной возрождается. Потому что я вот такой, и через пару минут я такой же – как подобное можно объяснить? Ясно, что нечто могущественное удерживает мир, его элементы и даже меня вместе с ними в тождественности, в единстве. Ясно, что у всех процессов есть скрытый субъект, благодаря которому все существующее существует – и будет существовать впредь.
Все это так, но мы еще со времен неистового Сократа знаем, что философия – главный враг очевидного. Поэтому не удивительно, что именно философия в эти новейшие времена открывает новый фронт по борьбе с надоевшими очевидностями модерна. Начало, впрочем, положил сам модерн: для Ницше что Бог, что субъект очевидными уже не были; то же – у Фрейда и Маркса, последний в свою очередь поставил под сомнение традиционные, изрядно теологизированные представления об истории (не сказать, правда, что он сам обошелся совсем без теологизации). Философы постмодерна, большие ницшеанцы, марксисты и фрейдисты, в данном случае лишь подхватывают мощный критический импульс своих философских патронов – если воспользоваться ницшеанской метафорой, подхватывают стрелу, запущенную предыдущими поколениями.
Точно так же, говоря об авторе, Мишель Фуко подхватывает ницшеанский вопрос «Кто говорит?». Говорю, скажем, я. Верно ли, что говорю именно я – то есть верно ли, что именно я сам являюсь истоком своей речи? Если повернуть вопрос так, то ответ уже не так очевиден. Развернув свою аргументацию, Ницше ответил был, что подлинный субъект моей речи – это биологическая воля к власти. Маркс сказал бы, что это некий экономический и классовый интерес, а Фрейд припомнил бы мой детский, безусловно травматический сексуальный опыт. Во всех случаях получается, что там, где я уверен в собственном авторстве, на деле под моей маской скрываются какие-то более могущественные, более изначальные силы. Итальянский философ Паоло Вирно указывает на то, что наша индивидуальность всегда имеет доиндивидуальный исток – так, доиндивидуальны наши видовые органы восприятия, доиндивидуален наш язык, доиндивидуальны производственные отношения, в которых мы себя обнаруживаем[16]. С этим невозможно поспорить. Учитывая подобную аргументацию, мы начнем чуть менее саркастически относиться к постмодернистским (и, как я пытаюсь показать, еще вполне модернистским) понятиям смерти автора, субъекта, человека. Все эти смерти основаны на взвешенных положениях о том, что всякий индивидуальный опыт имеет доиндивидуальную основу.
Во многом наша субъективность, наше авторство – это иллюзия или, как говорит Фуко, антропологический сон. Сон антропологический потому, что нам грезится какое-то подозрительное всесилие человеческого существа, какая-то его избыточная подлинность. Нам приятно думать о самих себе как об активных, действующих и свободных субъектах, тогда как углубленный анализ всякий раз указывает на некие более существенные истоки нашего поведения, и истоки эти не в нашей власти. Мы полагаем, что делаем то-то и то-то потому, что мы решительны и ответственны, хотя на самом деле мы это делаем потому, что нам хочется кушать или чтобы о нас хорошо думали. Тут, пожалуй, и философии никакой не требуется – мы и без нее знаем, как часто наши мотивы имеют ясный объективный исток. Для философии во всем этом интересны, скорее, следствия, способные изменить некоторые привычные для нас теоретические конфигурации.
Если речь по сути доиндивидуальна, то наши высказывания работают не совсем так, как мы об этом думаем. Мы полагаем, что речь – это выражение, осуществление некоторой нашей интенции, нашего желания сказать, по словам Деррида. Выражение, желание сказать предполагает отчетливый подлинный уровень, в котором высказывание берет свой исток. Субъект как абсолютная данность, как, скажем, бессмертная душа – такой исток управляет выражением, запускает работу высказывания. Субъект будто бы более первичен, чем речь, он ею управляет, владеет, распоряжается. На деле же мы знаем, что индивидуальное «владение» речью есть результат опытного освоения доиндивидуального языка, который предшествует субъекту. Более того, сам субъект – такой, каким мы его себе представляем, – является некоторым историческим, онтогенетическим результатом присвоения объективного языка, результатом научения речевой деятельности. А если субъект сформирован языком, то это не субъект что-то там хочет сказать, используя язык как простое орудие вроде лобзика, но именно язык что-то говорит через субъекта, который, как мы понимаем, вне этого языка вообще не существует.
Так называемый субъект – не хозяин, но только место языка, место осуществления речи. Автор – это место высказывания. Узловая точка в структуре языка, которая сама по себе безлична. Таким образом, наши речевые акты представляют собой не акты выражения какой-то подлинной интенции (какой, хорошо бы спросить?), но такие топосы, общие места, проходящие через точку субъективности. В качестве иллюстрации вспомним, по установившейся традиции, Джойса. Мы знаем, что «Улисс» чуть более чем полностью состоит из цитат, это огромный центон, построенный на больших и малых фрагментах мировой литературной традиции. Эта традиция, по иронии Джойса, прорывается там, где ее, казалось бы, меньше всего ожидаешь – в самой повседневности, в самых банальных ситуациях. К примеру, человек восседает на унитазе и обязательно мыслит свое положение какой-то цитатой из классики. Разговаривая с пьяным завсегдатаем местного паба, он использует другие цитаты. Получается, мы палец о палец не можем ударить, не вспомнив при этом Шекспира, Данте или Гомера, потому что наша культурная традиция, обобщенно выраженная в истории мировой литературы, является доиндивидуальным истоком нашего опыта, в том числе интеллектуального, в том числе перцептивного. Мы думаем священными текстами, разговариваем Пушкиным или, в худшем случае, Пелевиным, воспринимаем, к примеру, Сезанном, а то и Малевичем, если дело дрянь. Персонажи «Улисса» не являются авторами своих высказываний, они – чудесная иллюстрация того, что Фуко называет местом речи, местом дискурса. Сами они ничего из себя не порождают, но через них проходит язык, который конституирует реальность. Да и сам автор, господин Джеймс Джойс, не претендует на собственно авторскую субъектность, ведь сказано, что его произведение – не какой-то оригинальный продукт, за ниточку вытянутый из глубины его бессмертной души, но именно набор цитат, ансамбль остроумных заимствований из культурной традиции. Поэтому не только персонажи Джойса, но и сам Джойс является лишь местом работы дискурса, а вовсе не автором-субъектом-творцом с нерукотворным бронзовым апломбом.
Нет ничего приятнее, чем поверять постмодерн Джеймсом Джойсом. Но поверять можно, как мы убедились, и триумвиратом главных философов подозрения, и Витгенштейном, и структурализмом. Вывод, как правило, один: абсолютный крах всякой претензии на субъективную подлинность. Я – это функция речи, а не величественная личность. Помня об этом, не надо забывать и о том, что все эти критические положения были сформулированы вполне осязаемыми, реальными людьми, которые, будучи, конечно, топосами дискурсов, все-таки имели кое-какие интенции и индивидуальные стратегии, без чего вот эти конкретные их высказывания не могли бы состояться. Индивид коренится в доиндивидуальном, но от этого он не в меньшей степени индивид. Делая что-то, говоря что-то, он пользуется объективными ресурсами знания, языка, восприятия, но он все же делает и говорит. Когда мы читаем философию постмодерна, мы сталкиваемся с соблазном абсолютизировать некоторые ее ходы или выводы, что, надо сказать, противоречит самим антиабсолютистским установкам этого постмодерна. Не стоит полагать, что субъекта не существует, – это лишь обессмыслит наш разговор, лишит его предмета. Из вышеизложенной аргументации следует, что меняется понимание субъективности, а не то, что для нас с вами все потеряно.
Субъект, действительно, во многом подобен актеру – то же слово, что и автор (актор). Мы не можем сказать, что актер, в особенности хороший актер, это просто марионетка, ходячий дуб. У актера на сцене (или перед камерой) много свободы и много ответственности – от него зависит наиболее успешная реализация условий, которыми определяется его место в той или иной сцене. Сама сцена, условия, контекст для актера играют определяющую роль – он именно тот, кем ему предписано быть объективными рамками сценической ситуации. Однако поведение в данных рамках является проявлением свободы – от актера зависит, как он отыграет эту сцену. Он, к примеру, может сыграть ее так, что будут нарушены сценарные условия, но это будет так хорошо, что режиссер оставит именно этот вариант, отбросив сценарный. То есть в какой-то мере актер способен менять правила игры. Объективные условия и субъективная свобода их реализации вступают в непростые диалектические отношения, и это касается каждого из нас. К примеру, хотя язык как структурная, в себе различенная целостность предшествует нашим индивидуальным актам высказывания, мы остаемся свободными реализовать такое высказывание, которое будет оригинальным, необычным, новым. Подобные примеры создают целое поле поэзии – хорошей, конечно, то есть такой, которая трансформирует правила игры.
Смерть автора у Ролана Барта и Фуко означает смерть, лучше сказать, преодоление определенного понятия автора, господствовавшего в философии и просто культуре Нового времени. Субстанциальное понимание фигуры автора сменяется скорее операциональным, техническим пониманием автора-функции. Одноименная статья Барта[17] и доклад Фуко[18] подробно описывают основные черты этой функции. Мы узнаем, что основная черта функции автора в нашей культуре – это организация единств внутри того или иного дискурса, скажем, разметка пространства. Некоторое количество дискурсивных элементов буквально штампуется именем «Маркс» или именем «Фаддей Булгарин», благодаря этому штампу наши элементы могут быть отнесены к более крупным единствам, которыми могут быть художественные жанры, идеологические течения, исторические периоды и прочее, и прочее. Визуально можно представить себе этакую библиотеку с множеством полок и множеством ящиков, которые проштампованы ключевыми словами для удобства поиска необходимых элементов: мы ищем нечто по жанру «роман», по имени «Сервантес», поэтому искомое будет обнаружено очень быстро. Вся культура представляет собой такой вполне материальный архив (вспомним «Археологию знания»), который отлично систематизирован с помощью разнообразных имен – собственных и нарицательных.
Получается, функция автора – это некая связка или ячейка в общем порядке дискурса или ансамбля множественных дискурсов. Функция, как видно, вполне утилитарная, и от романтического понимания автора как суверенного творца здесь не остается и следа. Мало что выглядит смешнее романтизма в ситуации постмодерна. Если романтизм бравировал своей иронией, то суровый цинизм постмодерна превращает романтическую иронию в смехотворную наивность. Творец умирает вслед за богом, а функция автора предписывается внутренним устройством дискурсивных формаций, которые необходимым образом – исходя из структуралистского внимания к различиям – дифференцируются внутри самих себя. Автор – это механизм (не единственный, но один из) дискурсивной дифференциации. В этом смысле дискурсы структурируются как наши естественные языки, где также, конечно, существуют свои механизмы дифференциации, в целом собранные в грамматику: функция подлежащего, функция сказуемого и так далее. Поэтому можно также сказать, что автор – это элемент дискурсивной грамматики. Как и всякий элемент грамматики, он не предшествует самой по себе языковой деятельности, но соприроден ей. То есть неверно полагать, что сначала рождается автор, а потом (им) порождается дискурс. Верно другое: автор принадлежит дискурсу, как, в некотором смысле, и дискурс принадлежит автору, ибо дискурс есть система, а без автора он (в нашем случае) не систематизируется.
На этом примере хорошо видно, как тяжело на деле провести четкое различие между структурализмом и постструктурализмом – настолько второй зависит от первого. Разница разве что в том, что постструктуралисты относятся к структуре более операционально, прагматически, может быть, релятивистски, нежели ранние структуралисты, которые порою были склонны онтологизировать структуры на манер платоновских идей или субстанциальных форм. Вот эта, скажем так, онтологическая наивность, прошедшая через рубежную критику Хайдеггера (в двух смыслах: критику ее Хайдеггером и критику самого Хайдеггера последующими философами), в постструктурализме превращается в нечто неприличное, нечто, что уважающий себя философ не может себе позволить – иначе не примут за своего, не напечатают, не переведут. Наивность в этом предельно циничном, саркастическом мире вообще обретает черную ауру чуть ли не главного порока, способного обратить интеллектуала в соляной столп. Наивным может быть ученый, даже поэт, но никак не философ. Последний может быть только очень, очень циничным – и злым.
Получается, автор – не причина, но элемент дискурса. То же самое можно было бы сказать и о субъекте вообще: он не причина своих действий или состояний, то есть предикатов, но их собственный элемент. Я не являюсь тем, кто творит те или иные действия, но я впервые обнаруживаю себя как то, благодаря чему эти действия могут быть обнаружены, идентифицированы, упорядочены. Никакого такого меня в отрыве от моих проявлений и предикатов попросту не существует. Иллюзия бессмертной души осталась в сказочных мирах, населенных единорогами, орками и Ктулху. Все это может быть содержанием дискурса, но не элементом его структуры. Элементом структуры может быть только та или иная грамматическая категория, то есть элемент формы. В этом смысле так называемый формализм является не только прямым предшественником, но и постоянным инструментарием структуралистских и постструктуралистских процедур – анализ содержания уступает анализу формы, или даже так: содержание оказывается эффектом работы формы. Сказка, религиозные предания, идеологические конструкции – все это порождается теми или иными формальными механизмами, все это является некоторым языком, словами, а не вещами. А что тогда остается вещами? Если зайти в структуралистской парадигме по-настоящему далеко, то придется сказать так: единственными настоящими вещами являются… грамматические структуры, элементы формы, внутриязыковые различия. Пугающая картина, если в нее вдуматься.
Вернемся к началу. Выходит так, что название бартовской статьи «Смерть автора» сильно сбивает с толку. Ведь на деле автор никуда не уходит, более того, он впервые обретает свое поистине солидное место – он становится элементом грамматики, необходимым для существования дискурса. С тем же успехом можно было бы говорить о рождении автора, потому что здесь подразумевается, что подлинное понятие автора как функции сменяет неподлинное, ненаучное понимание автора как мифологизированного творца верхом на единороге. Если что-то и умирает, то только иллюзия, а вместо нее рождается истина – конечно, в ее структуралистском изводе, а не «вообще» (всякое «вообще» в данной перспективе окажется возвращением к мифу, к идее, к субстанциальной форме). И если Ролан Барт говорит, что смертью автора будто бы оплачивается рождение читателя, то он тоже несколько мистифицирует, конструируя здесь очередную иллюзию субъектности по имени «читатель». Как раз не смертью автора, но именно функционированием автора обеспечивается и функционирование читателя как отличного от него грамматического элемента. Вспомним Соссюра: в языке есть только различия, которые и определяют существование языковых элементов. Исходя из этого автор необходим как иное читателя, читатель – как иное автора. Эти функции определяют друг друга через различия и в этом различии вместе определяют сам дискурс, элементами которого они являются. В этом смысле Фуко, выступивший со своим докладом через год после статьи Барта, выглядит куда последовательнее – он четко выписывает грамматику формы, не скатываясь обратно в мифологию содержания, чем, по всей видимости, грешил Ролан Барт. Его читатель, в свою очередь, очень напоминает суверенного творца, этакого президента РФ, который играет в свою игру, всех разводит и все решает. Что может быть глупее, чем такая сказочная самоуверенность функции, искренне полагающей, что она – Господь Бог?
Автор, читатель, персонаж – все они не имеют субстанциальной силы, но обладают внутридискурсивным значением, определяемым посредством их взаимных различий. Смысл того или иного высказывания определяется не через какую-то невидимую его идею, но через функциональные отношения элементов, потому что именно они определяют поле возможностей для всего того, что может быть сказано в данном языке. Высказывание подчиняется совместной работе ряда операторов, которые описываются в лингвистике и в философском анализе дискурсом, во многом зависимом от той же лингвистики. Так, высказывание обретает свое место в дискурсе, если оно подчиняется ряду грамматических и формальных условий. Собственно лингвистические условия мы опустим, тогда как дискурсивными условиями и окажутся такие функции, как автор, читатель, скажем, персонаж, жанр и прочее. Не удовлетворяя этим условиям, высказыванию или даже целому тексту трудно найти в дискурсе свое место. Вполне возможно, что они его так и не найдут – можно только гадать, сколько высказываний или текстов просто не доходят до нас из-за неимения ими места в том или ином дискурсе. В крайнем случае существуют уловки, к примеру, имя «Аноним». Анонимные авторы – тоже авторы, им позволено существовать в дискурсе, хотя условия их существования несколько усложнены – так, они оказываются привязаны к интерпретациям их «псевдоавторства», ибо всякий аноним – это обязательно или «Псевдо-Аристотель», или «Псевдо-Шекспир» и так далее. Здесь функция автора немного размывается, распадается на интерпретационные ряды или уровни, однако тем настоятельнее видна сама ее необходимость. Аноним, который был бы только анонимом, то есть окончательно и беспрекословно тем, кто является «не-автором», в наших дискурсивных формациях попросту невозможен. Поэтому автор – это, конечно, не привилегия. Автор – это обязанность, которая позволяет чему-то быть сказанным, а в обратном случае обрекает на неизбывное молчание.
Лекция 6. [Мифологии]
Сегодня нам всерьез кажется, что миф остался где-то позади – там, где полулюди в тряпье и шкурах собирались у костра, чтобы потравить друг другу не очень вразумительные байки. Нам кажется, что постмодерн и мифология – слова из разных предложений. Вот и Жан-Франсуа Лиотар говорит, что постмодерн держится на недоверии к метанарративу, которым, в частности, является и миф. Однако сам выбор слова «недоверие» показывает, что, хоть мы и силимся ему не доверять, миф неким образом атакует наше внимание, взывает к чувствам, требует ему доверять.
В 1957 году Ролан Барт выпустил нашумевшую книгу под названием «Мифологии»[19], в которой показал, что современное (ему, а ныне – нам) общество ничуть не менее мифологизировано, нежели то общество, которое собиралось у костра. Пускай сегодня мы собираемся у телевизора, само содержание исходящей из него истории не многим лучше той, первобытной. И – как и тогда – сегодня чрез вычайно трудно говорить о мифологии аналитически, прежде всего потому, что все мы (вместе с Бартом) уже находимся в некоем мифе, определяющем сами условия нашего восприятия действительности. Трудность, как видно, та же, что и построение теории языка: она трудна именно потому, что мы строим ее с помощью языка – того самого, о котором нам надо теоретизировать. Мифология к тому же это ведь тоже некоторый язык – язык племени, язык цивилизации. В обоих случаях мы сталкиваемся с трудноразличимым слиянием субъекта и объекта – того, что говорит, и того, о чем оно говорит.
Чтобы как-то проанализировать миф, находясь в мифе, надо совершить невозможное и вытянуть себя за волосы из болота. Наверное, философия, наука, отчасти искусство именно этим и занимаются – вытягивают, насколько хватает сил. Как показывает история, никогда не вытягивают до конца – сила мифа так велика, что какая-то часть нашего социального тела обязательно остается в болоте. Так, философия мыслит мыслимое, наука познает знаемое, искусство воспринимает воспринятое, и сама тавтологичность этих формулировок указывает на то, что обязательно остается какое-то слепое пятно, которое не удается помыслить, узнать, воспринять – как глазу невозможно увидеть сам глаз, видя при этом все прочее.
Будучи в мифе, попробуем теперь спросить у самих себя: а что такое, собственно, миф? Уже было сказано, что это рассказ – о чем, пока не важно. Важно то, что структурно этот рассказ направлен сразу в две стороны – в прошлое и в будущее. Миф рассказывает о том, что было – таковы самые известные мифы, знакомые нам еще с детства, как то: греческий миф о рождении мира, библейский миф и прочие. Но вместе с тем миф рассказывает о том, что будет: в греческих мифах боги устраивают космос так, что это наиболее разумное и гармоническое устройство его должно вечно пребывать и всегда воспроизводиться, тогда как нарушение разумного божественного порядка является злом и подлежит суровому наказанию; в Библии все повествование изначально дано в эсхатологической и мессианской перспективе – как этакая стрела, запущенная вперед, в будущее, которое со всей божественной необходимостью свершится таким, каким оно и описано. Поэтому миф неразрывно связан с ритуалом: ритуал, как театральное действо, проигрывает мифологический рассказ, тем самым раз за разом вновь воспроизводя прошлое в настоящем и намереваясь воспроизводить его в будущем. Греки знали и помнили, какие ритуалы им надо совершить в течение года, в течение месяца, дня. Мы тоже вроде бы знаем, что и в новом году нас ожидают все те же действа – Рождество, например, или Пасха. Даже если мы не причисляем себя к рядам верующих, мы все же знаем, что все это существует совсем рядом с нами, что все это и нас каким-то образом касается. Итак, миф воспроизводит себя в ритуале, он по необходимости повторяется. Это, если угодно, сценарий, который должен быть реализован. В обратном случае, как чувствуют носители мифа, случится что-то нехорошее.
Миф цикличен, и это свойство мифологического мира всем нам более-менее известно. Будучи цикличным, миф закрыт – он не пропускает в себя какие-то инородные элементы, которые не согласуются с внутренней логикой данного мифа, а в некоторых случаях инородные элементы принимаются в миф, но только будучи преобразованными по логике мифа. Целостный и циклический миф оказывается крайне враждебным к Другому, он, скажем так, сущностно шовинистичен – не просто так национал-социалисты в недавнем германском прошлом всю свою деятельность сопровождали форсированным возрождением так называемого арийского мифа (и ключевая для них книга Розенберга носила название «Миф ХХ века»). И по сей день шовинизм самых разных народов и самых разных индивидов по необходимости указывает на мифологические элементы их мировоззрения: Другой ненавистен потому, что он не такой как мы; значит, есть некая идентичность таких как мы; идентичность эта конструируется в мифе. Известные мифологи – одни из них называют себя конспирологами, другие называют себя футурологами, я называю их болтологами и шарлатанами – и сейчас не жалея сил трудятся в нашей стране над тем, чтобы посильнее разжечь в людях ненависть ко всему Другому.
Если миф – это не просто какой-то необязательный рассказ, но рассказ такой, который определяет, формирует наше понимание мира, то выходит, что миф – это прежде всего структура сознания, концептуальная рамка, создающая условия мировидения. Миф – это структура сознания, но, очевидно, не любая. Вспомнив Канта, мы скажем, что пространство и время также являются структурами нашего сознания, но назвать их мифологическими почему-то язык не поворачивается. Почему так – в этом необходимо разобраться. Во всяком случае на первых этапах мы можем сказать, что миф – не любая структура сознания, не то же самое, что пространство и время, потому что миф есть как раз искаженная, ошибочная структура сознания. На это нас наталкивает привычное словоупотребление, в котором термин «миф» теряет флер научной нейтральности и прямо указывает на некую выдумку, на ложь, на сказку или байку. Если человек или какая-то группа людей мифологизируют, то, на наш слух, ничего хорошего это не предвещает – наверное, эти люди нам просто врут.
Рассказ и сказка близки, в обоих случаях это все тот же сказ. И тем же сказом в вольном переводе с греческого окажется слово «миф». Тем более интересно, что синонимом его является слово «логос» – слово «слово», слово «рассказ», слово «речь». Миф и логос почти что близнецы-братья, однако философская и филологическая традиции уверяют нас, что они скорее противоположны, нежели сходны: миф – это слово искажающее, не осознающее самого себя, тогда как логос – это тоже слово, но на этот раз рефлексивное, будто бы данное сразу дважды – один раз как слово просто (в этом смысле – миф) и другой раз как слово о слове, как постановка первого слова под вопрос и поверка того слова новым словом. Логос лучше мифа потому, что он – тот же миф, только осознающий и понимающий самого себя. Рассказ логоса, в отличие от рассказа мифа, это уже наука, это уже философия – понимающий и самокритичный сказ, а не сказ какой угодно. Однако вспомним еще раз о недоверии к метанарративам, в том числе о недоверии к логосу, понятому как метафизический логоцентризм, недоверии, которое оказывается конститутивным для постмодерна. В цепочке миф – логос мы, таким образом, открываем еще один, третий виток: миф что-то высказывает, логос ставит миф под сомнение, но еще один третий шаг ставит под сомнение сам логос, выражает ему свое недоверие. Как логос к мифу, постмодерн относится к логосу, тем самым отбрасывая и его в область мифа – сказания нерефлексивного, непроверенного, может быть, даже лживого. Архаичные греки могли бездумно приносить жертвы, в том числе и человеческие, своим богам, и ранние философы смотрели на них как на дикарей, не понимающих разумного устроения космоса и подменяющих свое непонимание варварскими ритуалами по мотивам воображаемых историй. Теперь постмодернисты возвращают этот упрек, пускай не в такой жесткой форме, самим метафизикам – те, оказывается, также строят свои повествования на сплошных темных местах, как то вполне мифологический рассказ об эмансипации субъекта или о хождении Абсолютного Духа по мукам истории. Какой наукой можно поверить этот, с позволения сказать, Дух? Ведь сам Гегель, мы помним, сказал: «тем хуже для фактов»… Значит, над фактами он ставит убедительную силу своего повествования, то есть вымысла. Метафизика превращается в новую мифологию перед лицом состояния знания, лежащего в основе ситуации постмодерна.
Поразительно, но теперь и критика мифа стала для нас мифологией. Не означает ли это, что на каком-то последующем этапе и это наше недоверие, в свою очередь, запишут в мифы? Очень может быть, и постмодерн, похоже, всегда был к этому готов. Во всяком случае на это указывают концепты бесконечного желания или бесконечной работы дифференции, введенные, соответственно, Делезом и Деррида: ни на чем нельзя остановиться, всякая остановка окажется мифом, даже если это будет постмодерн на пике его интеллектуальной моды. Критика мифа, вновь возникающая в контексте постмодерна, радикальна именно тем, что она в том числе имманентна, то есть направлена не только на некий свой объект, но и на сам субъект, осуществляющий эту критику. Так мы с еще большей настоятельностью должны вернуться в самое начало и вновь задать этот трудный вопрос: как можно говорить о мифе, если ты знаешь, что миф – это ты сам?
Этот вопрос, скажем прямо, является вопросом о возможности философии как таковой. Философия рождается из мифа как – одновременно – внутренний процесс демифологизации, что особенно хорошо видно на примере Платона, одной рукой мифологизирующего, другой рукой философствующего, то есть критикующего мифы. Амбивалентность – пожалуй, неискоренимая – философии и состоит в том, что она несет в себе миф и орудие его разрушения. В этом смысле всякая философия есть исключительно процесс, а не статическое состояние – как процессом является самый переход из точки А в точку Б, процесс, который не равен отдельно точке А или отдельно точке Б, но который некоторым образом объемлет обе точки, не сводясь к каждой из них. Вся философия – в процессе перехода. Это историческое наблюдение, между прочим, способно дать нам значительную подсказку относительно нашей проблемы постмодерна – ведь и постмодерн, если мы акцентируем ключевую здесь приставку «пост», представляет собой процесс преодоления, перехода – от модерна куда-то далее, куда – мы не можем сказать. В указанном смысле всякая философия и есть постмодерн, потому что ее бытие есть ее становление – в преодолевающем современность и данность движении к чему-то, чего еще нет, но что уже предполагается в этом переходном состоянии. Философия и есть постмодерн, а постмодерн и есть философия. К тому же из сказанного следует, что и философия, и постмодерн в чем-то сходны с утопией: форсированным предвосхищением места, которого (сейчас, в современности) нет.
Итак, мы готовы упростить ситуацию и сказать, что, во-первых, миф и философия, модерн и постмодерн являются исторически воспроизводящимися структурами и, во-вторых, миф с модерном приравниваются к остановке, стазису мышления, тогда как философия и постмодерн оказываются, напротив, динамикой, становлением, преодолением этого стазиса. Все так, но этого мало, потому что с такой невесомой схематикой проще всего оказаться в старом-новом мифе – мифе о двух противоположных процессах в существовании мира, мифе о борьбе противоположностей, о конфликте любви и ненависти, добра и зла, инь и ян. Чтобы не скатиться в подобную – безусловно, очень удобную – сказку, нам необходимо продолжать анализ.
Пока что мы выяснили, что миф – это рассказ, который не поддается эмпирической проверке, но принимается на веру; это рассказ о происхождении и одновременно об идентификации, где идентификация и происхождение определяют друг друга (мы такие, потому что таков наш исток, но исток наш таков, потому что мы такие); в качестве идентифицирующего рассказа миф исключает Другое, определяя враждебность к Другому тех, кто идентифицируется в этом рассказе; далее, идентифицируя целое сообщество и вместе с тем отделяя его от Другого, мифологический рассказ идентифицирует и каждого индивида как члена данного сообщества, соответственно, и на личном уровне противопоставляет его Другому (чтобы любить Родину, надо ненавидеть Врага, а чтобы ненавидеть Врага, надо любить Родину); включая индивидов в сообщество, идентифицированное рассказом, миф расчерчивает внутреннюю структуру этого сообщества, распределяет роли, места, статусы; наконец, как видно по всем этим кольцевым структурам, мифологический рассказ цикличен и тавтологичен – сразу в двух отношениях: он цикличен внутри, потому что рассказывает о бегающих по кругу событиях, и он цикличен снаружи, потому что его повторение соответствует циклам праздников, ритуалов, представлений, телеэфиров и так далее. Если упростить, скажем следующее: миф консервативен, потому что он собирает и сохраняет данность сообщества, и агрессивен, потому что его консервация держится на вражде в отношении Другого. Исторические примеры каждый подберет сам, благо их тьма. Далее, как консервативный и агрессивный, миф тяготеет к тотальности – через собирание и охранение данного целого и через исключение из целого (в пределе – из мира как целого) всего Другого. В этом, как видно, очень много от Гегеля, понятого преимущественно «справа».
Антигегельянская философия постмодерна отрицает тотальность, отрицает консервативную агрессию и, следовательно, отрицает миф – о чем и говорит Лиотар, указывая на кризис метанарративов. В своем (теоретическом) отрицании мифа философия постмодерна обращается к концептам, которые сами по себе имеют взрывную антитоталитарную силу. Некоторые из них мы уже выделили и бегло рассмотрели, некоторые у нас на очереди. Такими концептами, как мы помним, выступают языковые игры в понимании Лиотара, генеалогия и археология у Фуко. Подчеркнуто антимифологическим и антитоталитарным является центральное для постмодерна понятие дискурса – такой языковой практики, которая собственной структурой подчеркивает свою нецелостность, частичность, отдельность от других языковых практик и структур. Также против мифологического и метанарративного тоталитаризма направлены все те знаменитые «смерти», о которых на разных этапах возвещал философский постмодерн: смерть субъекта, смерть автора, смерть человека, смерть (конец) истории и так далее. Если что-то в них и умирает по-настоящему, так это претензия мифа на целостное схватывание действительности.
Между прочим, философия постмодерна часто именует мифологическую тотальность и куда более сильным словом – это слово «фашизм». Конечно, ныне это слово употребляется по случаю и без, в ходе полемики любого уровня приравниваясь к словам вроде «подлец» или «сволочь». Однако подобное бытовое размывание термина не должно приводить к его теоретическому размыванию. Строго говоря, фашизм и есть мифологическое движение к тотализации, этакое гегельянство, взятое государством на вооружение; фашизм и есть консервативно-агрессивная тотальность сообщества, в котором, по словам политического отца фашизма Муссолини, «все для государства, ничего вне государства, ничего против государства». Вот эти «все для» и «ничего вне» как раз и отсылают нас к первичной сцене мифологического рассказа, призванного удержать сообщество в целостности и исключить из него все Другое. Фашизм есть политический синоним теоретической тотальности, брат-близнец теологического Абсолюта. Фашизм со всей необходимостью возникает в тотальных слияниях государства и религии, где эмпирическая земная власть получает абсолютную санкцию в вечности, в слияниях общества и идеологии, где принципиальное разнообразие составляющих общество индивидов насильственно заслоняется сконструированным единством некоторых убеждений, наконец, общества и индивида, где собственное право на отличие и базовые свободы, прежде всего свобода слова и свобода совести, отдаются на откуп нарративной иллюзии единения с Левиафаном, узурпировавшим политическую субъектность и юридические права посредством монополии на насилие. Отсюда ясно, почему Мишель Фуко в предисловии к «Анти-Эдипу» Делеза и Гваттари пишет, что эта книга – прежде всего пособие по борьбе с фашистом, в первую очередь с фашизмом внутри самого себя. В этом смысле «Анти-Эдип» не одинок и не оригинален, потому что в той же степени глобальным пособием по борьбе с внутренним фашизмом, читай – с внутренним мифологом, является вся философия постмодерна, от ранних литературоведческих статей Ролана Барта до поздних этических сочинений Жака Деррида.
Дело, правда, осложняется тем, что склонность к тотализации – не частная черта одного Гегеля. При желании в такой тотализации, в стремлении к наиболее целостному осознанию действительности можно обвинить любого философа, от Платона до, кстати сказать, того же Деррида (не он ли говорил, что деконструировать можно все что угодно, кроме самой деконструкции?..). Классиков философии почтенный профессор Карл Поппер в своем «Открытом обществе» почти что приравнял к фашистам, да и сам Поппер для несколько более левых своих коллег – в общем-то, практически готовый фашист, разве что с либеральным флером. Делеза можно без труда обвинить в фашизме аффекта, Фуко – в тоталитарном структуралистском историцизме, и так далее. Здесь мы вновь сталкиваемся с амбивалентностью философии, которая совсем не устраняется в гордом освободительном движении постмодерна, но, напротив, этим движением внутренне управляет. Некоторым образом философия, будучи одновременно мифом и демифологизацией, оказывается также одновременно тоталитаризмом и антитоталитаризмом, порывом к целому и страстью к частному вместе. Вся философия оказывается этаким Ницше, который как мало кто до и после него воспел эгоистическое свободолюбие, как мало кто ненавидел тотальность государства, но также как мало кто подвергся последующей глубинной мифологизации – так, что он до сих пор во многих кругах считается теоретическим предтечей Третьего рейха (правда, кто больше всего хотел такого образа Ницше и кто больше всего поработал над его созданием, так это сами идеологи Третьего рейха, за которыми сегодня повторяют многие левые и многие либералы). Трагедия Ницше, трагедия Платона, который в «Законах» воспел совсем уже неприличное фашистское государство, это трагедия всякой философии, всякой предельной мысли, которая в своем стремлении зайти по-настоящему далеко не может миновать двух теоретических крайностей – Целого, репрессирующего всякое частное, и Частного, изнутри взрывающего всякое целое. Но я должен сказать вот что: опасность не в том, чтобы помыслить подобный окостенелый фашизм или подобный радикальный анархизм; опасность – и этому учит вся история философии, в которой Поппер оказывается неожиданно для себя близок к Платону, – в том, чтобы остановить на этом мысль и перейти к действию по лекалам этой вставшей, как неисправный скоростной состав, мысли.
После всех этих увещеваний время перейти к статье Барта «Миф сегодня», которая представляет собой ключевой текст книги «Мифологии». Если основной корпус «Мифологий» – это что-то вроде коллекционирования и последующего описания реальных случаев явления современных мифов, то статья «Миф сегодня» – это теоретическая конструкция, собирающая весь этот разрозненный материал в целостный (опять – целостный!) структурированный рисунок. Коллекционируя современные (ему) мифы, Барт создает достаточно выпуклый мир французского буржуа, который, конечно, не совсем фашист, но в своей чисто мифологический страсти, на чем Барт недвусмысленно настаивает, явно находится на полпути к фашизму (а некоторые из героев «Мифологий» уже прошли весь этот путь целиком). Послевоенная европейская буржуазия, казалось бы, только что победившая фашизм, сама испытывает непреодолимую тягу к целостности, к идентичности, к тотальной картине мира с собственным ярким портретом, вписанным в нее на общих правах, вот только условия тотализации теперь другие. Это не арийский миф, не нордические сказки, не суверенный фюрер, который лучше всех знает, что делать и куда идти, – нет, отныне это… общество потребления, консюмеризм, массмедиа и поп-культура, которые тоже, несмотря на их структурную фрагментированность, работают на тотальный образ общества, как пишет Джеймисон, позднего капитализма. Этот поздний капитализм не менее мифологичен, нежели еще вчерашний националистический фашизм Италии и Германии, и эта новая мифология носит характер такой спаянности эстетики и экономики, что анализ ее, конечно, должен вестись именно по этим двум направлениям (как и Джеймисон, Барт стоит на марксистской платформе).
Поэтому в своем красочном портрете этого счастливого послевоенного мира Барт смешивает эстетические и экономические ритуалы, рассказы и образы, не без сарказма описывая браки и свадьбы, рекламные и агитационные публикации, буржуазных писателей и их милое тщеславие. Перечислять мифологемы одно удовольствие. Сложнее – со структурой мифа. Миф, по Барту, это слово, тогда как слово – это сообщение. Миф оказывается некоторой системой коммуникации или коммуникативной функцией. Его задача – что-то сообщать. Так как сообщение, коммуникацию, слова и знаки изучает семиология, Барт формулирует и так: миф есть семиологическая система. Здесь, чтобы не запутаться, нам нужно разделить семиологическую функцию мифа на две составляющие – на то, что, и то, о чем. Мифология, по Барту, двойственна: это и объект изучения некоторой семиологической субдисциплины, и сама эта субдисциплина. То есть наука, изучающая мифологию, тоже будет называться мифологией (тут та же путаница, которая может возникнуть в случае идеологии Дестют де Траси). Впрочем, избежать путаницы можно, зарезервировав название «мифология» только за объектом изучения науки, которую, в свою очередь, можно называть просто семиологией, без дальнейших подразделений.
Далее: не всякое слово и не всякий знак есть миф. Миф – это особенный знак, особенность которого заключается в том, что это знак второго уровня или второго порядка. Когда я рассказываю вам историю про то, как я, скажем, в темноте налетел на стол, после чего мне было очень больно, после чего мне было очень смешно, все это еще не миф – потому что это сообщение первого порядка. Это сообщение имеет целью просто сообщить некоторые сведения о своем референте, под которым понимается сложившаяся в реальности ситуация. Сообщение хочет что-то сообщить – и не более того. Другое дело, если над этим первичным сообщением надстроится другое сообщение, когда семиологическая система первого уровня достроится до семиологической системы второго уровня. Другое дело, если сообщение будет иметь своей целью не просто сообщить что-то, но, сообщая что-то, добиться этим чего-то еще, что не сводится к простому сообщению. Другое дело, если я своим сообщением подразумеваю, что этот стол мне на пути поставили коварные евреи, потому что им очень хочется таким вот образом истребить всех честных русских людей…
Итак, знаки как таковые являются знаками первого порядка. Чтобы знак превратился в миф, нужно знак первого порядка подвергнуть вторичной обработке и превратить его в элемент новой системы. Работает это очень просто. Всякий знак, как нам известно из Соссюра, может быть разделен на означающее и означаемое. А если этот знак сделать частью структуры второго порядка, то в ней он сам превратится только в означающее. То есть изначальный знак, сам по себе обладающий означающим и означаемым, во вторичной семиологической системе сам становится означаемым для чего-то другого, чего-то, с чем он естественным образом не связан. Так поставленный на проходе стол связывается с нехорошими евреями. Казалось бы, при чем тут стол, при чем тут евреи? Однако именно их принципиальная несвязность на первичном уровне словоупотребления оказывается возможностью их связи на вторичном уровне – на уровне мифа. Миф заставляет некий знак означать не то, что он сам по себе означает. Скажем, Ленин сам по себе означает отдельного индивида с такой-то биографией. Но Ленин, помещенный во вторичные семиологические условия мавзолея, означает что-то другое – он становится мифом, он означает не самого себя, но весь проект социализма в целом, и теперь с его помощью можно осуществлять идентификацию сообщества, основанного на специфической тотальности советского красного фашизма.
На первом семиологическом уровне мы имеем дело со знаком-объектом, на втором семиологическом уровне – с метаязыком, что то же самое – со смыслом в первом случае и с формой во втором. Миф оказывается некоторой формой, в нем форма подчиняет смысл и начинает говорить за него, вертеть им на разные лады, выговаривать не то, о чем сказывался смысл. То есть миф – это еще и некая подмена, по сути фальшивка. Именно это мы и имеем в виду, когда в бытовой ситуации, минуя академические условности, произносим слово «миф». Оказывается, что и на языке академических условностей получается что-то очень похожее: миф врет, выдавая одно за другое, привязывая знак к несвойственной ему интенции. В мифе происходит отчуждение смысла от самого себя и вторичное присвоение смысла какой-то чуждой ему системой значений. Пример – свастика. Все мы знаем, что у этого символа есть древние индоевропейские корни, в которых в общем нет ничего пугающего или воинственного. Но отныне, глядя на свастику, мы видим только нацизм и не можем увидеть ничего другого. Арийский миф в его нацистском изводе присвоил символ свастики и ввел его в чуждый ему контекст, навсегда извратив смысл изначально нейтрального символа, сделав из него пугающую мифологему. Есть примеры более безобидные, связанные скорее с обществом потребления, которое и анализирует Барт. Скажем, автомобиль – сам по себе он означает, собственно, автомобиль как нейтральное средство передвижения, но, будучи мифологизированным, будучи отчужденным и присвоенным семиологической системой второго уровня, автомобиль превращается в знак социального престижа, а другой автомобиль, напротив, в знак социального позора – и все это тоже самая банальная мифология, потому что автомобиль – это просто автомобиль, техническое устройство.
Миф стремится натурализовать, сделать естественными отношения, которые изначально естественными не являются – как не является естественной связь еврейства и жадности, тогда как многие имперские и националистические мифы пытаются убедить нас в обратном. Всячески постулируя свою естественность и натуральность, миф пытается избежать различения и критики, потому что, как правило, не подвергается критике то, что само собой разумеется: ах, еврей, ну значит, жадный… Напротив, критиковать – это всегда денатурализовать, это разоблачать претензию мифа на естественность, последовательно различая те метаморфозы, которым подвергся знак в его насильственном путешествии с первого уровня смысла на второй уровень формы. Мифологизация – это всегда насилие над смыслом, поэтому критика также является ответным насилием, задача которого – разорвать, разъединить то, что было умышленно сшито в самом неподходящем месте. Собственно, слово «критика» и означает разделение, разъятие, проведение границ. Границы должны проводиться прежде всего в языке, потому что язык – это пространство мифологии, именно слова оказываются самыми уязвимыми объектами идеологического насилия. В первую очередь меняются слова, а уже потом сами эти слова запросто поменяют вещи и события – это будет делаться вполне автоматически.
Миф, по Барту, делает историю природой, то есть он натурализует то, что исторично, следовательно, не абсолютно, не тотально. Об этом уже было достаточно сказано: натурализация есть орудие тотализации, инструмент, позволяющий сказать, что так было и будет всегда, и иначе никак. Другая формулировка для этого явления: миф есть система ценностей, которая выдает себя за систему фактов. Относительное в мифе становится абсолютным – как мы видели, не само по себе, но всегда путем подмены, фабрикации и фальсификации, которую необходимо выявить и обнажить, подвергнув критике. Впрочем, и с критикой все не так просто – миф умеет сопротивляться ей, включая свою критику внутрь самого себя. К примеру, так работают идеологизированные (мифологизированные) марксизм и фрейдизм. Известно, что марксизм включает в себя свою критику на правах частного случая марксистской системы, то же самое происходит в рамках фрейдизма. Критика марксизма оказывается замечательным примером мелкобуржуазной реакционности, а тот, что критикует фрейдизм, очевидно, латентный гей. Этот оборонительный механизм можно распространить на всякую мифологию: тот, кто критикует национализм, совершенно точно подкуплен евреями или американцами, а тот, кто критикует концепцию black power, просто стоит на позиции белых работорговцев, желающих реанимировать былую сегрегацию, чтобы не простаивали южные хлопковые плантации. Миф всегда знает, что ответить на критику, вот только ответ на критику всегда будет исходить именно из того, что, собственно, и критикуется, но никак не из нейтральных фактов или логических аргументов. Оно и понятно – миф, как мы знаем, замкнут, цикличен, закрыт.
Единственный инструмент, который может предложить Барт в той ситуации, когда миф искусно сопротивляется своей критике, – это все та же семиология, кропотливая работа с языком и знаками. Семиолог подобно хирургу разделяет то, что в мифе слито и натурализовано. Включить семиологическую работу в сам миф уже невозможно, потому что работа семиолога – это работа с формой, сама по себе она не имеет содержания и поэтому не может быть включена в мифологическую историю. Семиология неуловима для мифа потому, что она, в свою очередь, надстраивает над мифологической постройкой еще один уровень анализа, сама становится метаязыком в отношении мифологического языка-объекта. Если метаязык описывает язык-объект, то обратное неверно. Формальный анализ противостоит мифологическому содержанию тем, что производится на другом языковом уровне. Анализ – это третий порядок, способный включить в себя первые два, не будучи затронутым ими в ответ.
И не только научный анализ, к слову, но и литература в сильном смысле слова выполняет, по Барту, ту же функцию. Включенный в литературу, миф оказывается денатурализованным, он теряет иллюзорную силу природы. Так, включающий в литературный текст громоздкую мифологию Закона, Кафка выступает как агент демифологизации, он денатурализует Закон и обнаруживает в его истоке произвол, весь держащийся на внутренней ошибке несчастного индивида, вынужденного клеветать против самого себя[20]. Также и Джойс, включающий в «Улисс» целый калейдоскоп всевозможных мифологических и идеологических дискурсов – от ирландского национализма до католической аскетики, – показывает, что все они являются не вещами, но словами, не смыслами, но формами, не событиями, но интерпретациями, которые сходятся и расходятся в огромном плавильном котле языка, силы которого так велики, что ими питается как мифологизирующее усилие, так и демифологизирующая критика. Джойс показывает нам одну очень важную и одновременно очень постмодернистскую вещь – ту самую, что единственной человеческой реальностью является реальность языка, что реальность эта чревата подменами, ошибками и фальсификациями и что, наконец, именно эта реальность всегда оставляет возможность спасения, потому что именно вниманием к нашему языку покупается точность и незамутненность взгляда, так же как именно языковой неряшливостью объясняются самые жуткие и непростительные поступки.
Лекция 7. [Общество потребления]
Нашего нового героя зовут Жан Бодрийяр, наша новая тема называется «общество потребления». Одноименная книга[21] – не самая главная, как принято считать, у Бодрийяра, но, на мой взгляд, во многом образцовая – это весьма показательное для всего философского постмодерна совпадение стиля и смысла, формы и содержания, совпадение столь удачное, что его элементы просто невозможно рассматривать по отдельности.
Книга вышла в 1970 году – относительно поздно, потому что все уже знали Барта и Фуко, Делеза и даже Деррида. В этом смысле Бодрийяр пришел в поле, которое уже до него было довольно неплохо вспахано, то есть разработано. Впрочем, его анализу это ни в коем разе не вредит. До этого Бодрийяр выпустил только одну книгу, она называлась «Система вещей», и по сравнению с ней «Общество потребления» выглядит почти триумфально (хотя и в ней еще сохраняются черты вполне заурядной социологии).
Что ж, не секрет, что мы живем в обществе потребления. Или – если с нами, как всегда, не все так просто – не секрет, что в обществе потребления жил Жан Бодрийяр. И дело не совсем в том, или совсем не в том, что в этом обществе прилавки магазинов ломились от съестной и прочей продукции, так что потребляй не хочу. Дело в том, что это было общество, в котором потребление перешло с уровня удовлетворения базовых потребностей на уровень потребления знака. Понять эту метаморфозу – наша основная задача, потому что именно она стоит в центре рассуждений Бодрийяра. В этом смысле и используя уже употребленные нами понятия, мы можем сказать, что естественное потребление, понятое как удовлетворение потребностей, будет иметь отношение к модерну с его логикой тождества, тотальности, присутствия, тогда как потребление знака окажется явлением постмодерна, как мы знаем, переводящего тождество в различие, разбивающего тотальность на фрагменты, теряющего присутствие во временном и языковом сдвиге.
Итак, общество потребления есть общество потребления знаков, есть общество победившего постмодерна. Как к этому относиться? Казалось, человек всегда потребляет и всегда что-то потреблял, в этом смысле потребление куда ближе к нашей человеческой сущности, нежели вот эта наша философия, тем более что и философию вполне можно потреблять, как котлеты. Говоря о потреблении, мы по необходимости упремся в проблему желания. Человек что-то потребляет, потому что человек что-то хочет, поэтому потребление может сойти за некий ответ на желание, потребление в этом случае станет удовлетворением желания. Сильно ли это отличает нас от животных? Не сильно: животное также желает, скажем, есть, поэтому оно потребляет другое животное – или траву, если это более этичный животный вид. При этом бессмысленно отрицать, что животное – а также человек как животное – имеет ряд неотчуждаемых естественных потребностей, естественных желаний, которые ему необходимо удовлетворять, чтобы выжить. Потребление приходит на место того отсутствия и зияния, которым и является желание, такого отсутствия, незаполнение которого чревато смертью данного существа. И вот именно эту очень ясную и очень верную логику желания-потребности и удовлетворения-потребления Жан Бодрийяр, называя ее наивной, почти что сразу отбрасывает. Речь у него пойдет совсем не о том, с чего мы начали.
Не удовлетворение потребности Бодрийяр называет потреблением. Пожалуй, для этого базового зоологического уровня необходимо придумать какое-то другое слово – скажем, из тех, которые мы уже употребили: нужда и удовлетворение, желание и утоление или как-то иначе. Дело в том, что на этом витальном, животном уровне мы стоим покамест вне общества, которое не может быть определено иначе, как через язык и коммуникацию, то есть через знак. Именно поэтому такое потребление, которое будет связано не с голой жизнью, но с обществом, с жизнью-вместе, должно быть потреблением знака, а не естественным потреблением продуктов питания. Разрыв здесь проходит по уровню антропологии, границей которой, отличающей человека от животного, и является язык, за которым следует и возможность человеческого общества – такого, которое и превращает само потребление в нечто принципиально отличное от животного пиршества во имя самосохранения.
Этот момент вполне понятен. Общественное потребление, опосредованное языком, есть по необходимости знаковое потребление. То есть человек не просто ест еду – к своей еде он добавляет еще что-то, что интегрирует приемы и виды питания в общественную структуру. С социальной точки зрения, как мы догадываемся, отнюдь не все равно, что именно мы едим, потому еда в нашей общественной жизни значит нечто большее помимо того, что это способ сохранения жизни. Знак скрадывает вещь и движется за пределы вещей, поэтому потребление знаков выходит за пределы потребления продуктов. Точнее, продукт – это уже не просто голая вещь, но вещь значащая. Не одно и то же, к примеру, потреблять макароны за 50 и макароны за 500 рублей. Хотя на уровне вещи это одни и те же макароны, на уровне общественной структуры эти значащие вещи весьма четко различаются, расходясь по совершенно разным социальным уровням и вовлекая в игру различий многие другие вещи, как, скажем, машина, на которой приезжают за макаронами ценой 500 рублей, да и сам магазин, в который за ними приезжают, и с другой стороны – прогулка трусцой и соседняя палатка в случае макарон за 50. Эти разные макароны включены в совершенно разные социальные миры, поэтому с этой точки зрения мы никак не можем сказать, что это-де одна и та же вещь, призванная попросту удовлетворять наши базовые животные потребности.
Выявление преимущественно знакового характера социальных отношений, который теперь нам кажется банальностью, но не так уж давно был новостью, ведет ко множеству интересных следствий, хотя бы некоторые из которых мы должны обозначить. Прежде всего, как уже неоднократно упоминалось, Соссюр определяет знак не через тождество, но через различие: знак – это некоторое место в системе различий, а не субстанциальная (то есть самодостаточная и независимая) форма. Распространив эту базовую структуру на общество, мы придем к выводу, что и общество также структурируется через различия, а не через тождества. Само по себе это понятно: богатый отличается от бедного, школьник отличается от полицейского и так далее. Это слабое следствие. Но, напротив, сильное следствие будет состоять в том, что такая система различий не просто исторична и ситуативна для общества, но именно что конститутивна, необходима. Помимо прочего это означает, что с революционной романтикой пора покончить: пока есть общество, будет сохраняться и структура неравенства, в том числе имущественного, в том числе иерархического, построенного на неравномерной дистрибуции власти. Этот вывод, скажем так, от семиотики к социологии выдает в Бодрийяре довольно циничного реалиста, успешно покончившего со своим марксистским бэкграундом, столь обязательным для рядового французского интеллектуала. Революция свершилась, а теперь… потребление.
Равенство элементов внутри социальной системы – это миф, даже глупость, потому что единственным равенством элементов внутри социальной системы может быть их различие, то есть неравенство, и все потому, что это знаковая система и никакая другая. Миф об обществе изобилия или о конце истории, когда социальный антагонизм будет наконец преодолен, – это, надо согласиться с Бодрийяром, очень наивный миф, выдающий желаемое за действительное. Действительное – это как раз определение через различие, то есть конститутивный момент неравенства. Общество вовсе не стремится к освобождению, как это представляется страдающим и обездоленным – вспомним Лиотара, который особо выделял среди метанарративов рассказ об эмансипации. Общество стремится к самосохранению, к воспроизводству самого себя, а это означает – к воспроизводству различий, к сохранению неравенства. Кем бы ни были нищий и богатый – вполне допустимо, что сами агенты этих функций могут меняться местами, – но сама структура различий «нищий – богатый» должна сохраняться, сохраняя тем самым и сложную социальную систему. Напротив, мифическое стремление к равенству внутри системы привело бы систему к неизбежному коллапсу, к исчезновению, потому что исчезли бы различия и, следовательно, исчезло бы распределение функций, которое обеспечивает жизнь системы. Поэтому известное утверждение о том, что в современном капиталистическом обществе богатые становятся еще богаче, а бедные становятся еще беднее, более чем справедливо и логично: конечно, чтобы усложнившаяся система сохраняла равновесие своих различий, на еще более богатых должны приходиться и еще более бедные. Оптимистичного в этом, конечно, мало, зато очень много определенного.
В данном случае можно вспомнить и Мишеля Фуко, который ближе к концу замечательной книги «Надзирать и наказывать» утверждает, что полиция отнюдь не борется с преступностью, потому что преступность и полиция – это пара различий, взаимно определяющих друг друга. Бороться с преступностью для полиции означало бы трудиться ради собственного исчезновения, ибо в отсутствие преступности полиция не нужна. Совсем напротив, строго для самосохранения полиция должна хранить, оберегать и воспроизводить преступность, что она с успехом и делает, имея очень эффективные фабрики по производству уголовников под названием «тюрьмы». То же самое можно сказать о врачах и больных – врач заинтересован в существовании больных, потому что ими обеспечивается существование самого врача. Такие бинарные различия можно формулировать не без праздного удовольствия: пожарные и пожары, скажем, или учителя и неучи, бойцы экологического фронта и браконьеры, ортодоксы и еретики – и так далее. Смысл, стоящий за всеми этими примерами, полагаю, совершенно прозрачен.
Вернемся к более ранней точке: общество потребления как семиотическая система разрушает мифы общества изобилия, благоденствия, справедливости, свободы, равенства и братства. Последние, разумеется, тоже следуют знаковой логике, но только не как имя собственное для всей системы, но как название какого-либо ее элемента, по необходимости имеющего для себя различенную пару. Поэтому общество в целом будет в той же мере обществом нищеты, несчастья, преступности, рабства, социального расслоения и взаимной ненависти. В обществе потребления, которое предложено Бодрийяром как концепт для понимания современного общества как такового, осуществляется потребление знаков, так или иначе связанных со всеми этими категориями: знаки благополучия, знаки несчастья и так далее. Поэтому в обществе потребления сама вещность вещей, их базовая функциональность, естественность – все это отходит на второй план, на первый же выходит знаковый, различительный характер вещи. Запомним это: вещь – прежде всего не функция, но знак.
Мой автомобиль (гипотетический, никакого автомобиля у меня нет) – это место различия, которое записывает меня в определенную социальную страту. Если мне вообразить очень, очень хороший (то есть дорогой) автомобиль, то я окажусь в страте условных богачей, что откроет для меня одни двери и закроет другие, что притянет за собой целую галактику прочих вещей, которые я теперь обязан потреблять – ибо с такой машиной нельзя ходить вот в таких ботинках, какие у меня сейчас, нельзя жить в таком маленьком помещении, книжные полки надо выпотрошить и занять их наградным золотым оружием, фотографиями со знаменитостями, квазихудожественным китчем. Так как потребление различено и стратифицировано, оно комплексно, или серийно – одно тянет за собой все остальное. Автомобиль – это прежде всего статус, а статус обязывает. Кстати сказать, обратное тоже работает – очень, очень плохой (копеечный) автомобиль не сочетается с остроносыми ботинками из крокодиловой кожи, так вас просто не поймут, возможно, обидятся. Так или иначе, главное здесь вот что: в обществе потребления функциональность вещи – в нашем примере то, что автомобиль является, вообще-то, средством передвижения, что на нем надо прежде всего ездить, а все прочее блажь – эта воображаемая функциональность отступает перед функционированием системы различий, системы распределения статусов и заполнения социальных страт. В обществе потребления мы потребляем не то, что вещь для чего-то служит, что машина ездит, а ручка пишет, но мы потребляем социальный статус самой вещи – с тем, чтобы обозначить социальный статус самих себя.
Я говорю все это с такой искренней интонацией, как будто все оно так и есть, когда как только что мы обсудили важную тему мифа и теперь не можем делать вид, что две эти темы не пересекаются друг с другом самым непосредственным образом. Нам необходимо держать в памяти все сказанное Бартом о мифе, чтобы не впасть в очередной миф. Да, мы можем встать на сторону системы и обвинить в мифологичности функционализм или, к примеру, представление об удовольствии от простого использования вещей, мы можем назвать мифом представление о естественных потребностях и их удовлетворении (и Барт ведь говорил о мифологической натурализации). Однако, с другой точки зрения, не натурализуем ли мы, не мифологизируем ли таким образом саму систему? Ведь когда мы критикуем естественность и натуральность, то есть сущностную необходимость отдельных ее элементов, мы тем самым утверждаем натуральность самой системы. Именно такой может быть апология капитализма, вышедшего на современный уровень потребления знаков: общество потребления истинно, потому что оно натурально – оно как природа с ее законами, которые не обманешь. Тогда как на марксистском языке, который и в контексте постмодерна не потерял своей актуальности, все это – идеологическая рационализация, оправдывающая эксплуатацию человека человеком.
Общество потребления натурализуется в дискурсе Бодрийяра, что, по Барту, является первым признаком его мифологизации: вместо истории нам подсовывают природу, вместо живых человеческих отношений – какие-то фантастические эффекты языка. Если что здесь и является эффектом языка, так это риторика семиотического фундаментализма: языковая логика есть истина в последней инстанции – в том числе применительно к общественным отношениям. Подчиняйся или проваливай, а так как тебе некуда проваливать, просто подчиняйся. Однако дело обстоит не так, что Жан Бодрийяр пытается нас обмануть, а Ролан Барт задним числом разоблачает его старания. Бодрийяр выучил уроки Барта лучше многих. Он и не пропагандирует миф об обществе потребления – более того, такой миф вовсе не нуждается в подобной пропаганде, у него с этим все в порядке. Бодрийяр не конструирует, но описывает миф об обществе потребления, который уже был сконструирован как раз-таки в ходе исторических перипетий человеческих отношений, то есть в диахронии, а не в синхронии.
И мы хорошо усвоили эти уроки: первое, что запрещает критический постмодерн, это всякие апелляции к природе, которая понимается здесь как старая, вполне теологическая эссенциалистская данность, как тождество и тотальность. Фуко, сам с трудом избежавший соблазнов фундаменталистского структурализма, научил нас все поверять историей, в которой непрестанно происходит работа различий – и даже не тех различий, которые действуют внутри системы, но именно тех различий, которые извне определяют саму систему, и прежде всего систему общества потребления. Помня об этом, мы можем описывать ее, не рискуя впасть в мифологическую натурализацию своего объекта.
Вооруженные, продолжим. Одним из лучших примеров работы различий в обществе потребления является реклама. Рекламное сообщение работает на систему, потому что рекламное сообщение работает на меня – именно на меня. Реклама обращается ко мне, она говорит со мной на «ты», тем самым подчеркивая личную, конкретную адресность своего сообщения. Из рекламного сообщения я узнаю, что данный автомобиль предназначен именно для меня, он лучше всего подчеркивает, выражает и украшает именно мою личность, мой характер, мое подлинное и неповторимое Я. Этот автомобиль как ничто другое меня индивидуализирует. Как, впрочем, и этот фильм – он тоже только для меня. И вот эти ботинки – для меня. Вот эта будка с фастфудом – и она для меня. Целый мир безудержного потребления – для меня. Для меня – и миллионов таких же, как я. И вот здесь мы натыкаемся на существенное затруднение. Как нам перепрыгнуть через этот зазор между конкретно мной, к которому на интимном субъект-субъектном уровне обращается реклама, и миллионами других, к которым она обращается совершенно точно так же? Здесь под маской индивидуального скрывается коллективное, под маской подлинного Я – общественная система. В рекламном сообщении, таким образом, одновременно осуществляется очень тонкая игра с моим нарциссизмом и сразу же проводится различие как между социальной единицей и социальным целым, так и между отдельными стратами этого целого. Вот почему обществу потребления даром не нужна пропаганда от Бодрийяра: у него есть своя, и она лучше – это реклама.
Реклама обращена ко мне, она призывает меня потреблять свое сообщение. Тем самым она встраивает меня в общество потребления. Но не только во все общество потребления в целом, но и в отдельную, определенную его страту, которая характеризуется как раз тем, что я распознаю сообщение в рекламе как свое или не свое. Если реклама приписывает моему Я несвойственный мне предмет потребления (он мне не по карману или, напротив, он ниже моего достоинства), я игнорирую это сообщение и без сомнений полагаю, что подразумеваемое в рекламе Я – это не мое, но чье-то другое Я. Когда в следующей рекламе я оказываюсь в состоянии проидентифицировать свое Я с предметом потребления, я опять-таки без сомнения принимаю сообщение как обращенное именно ко мне – теперь уже без ошибок. Реклама оказывается универсальна, ей удается делать все сразу: она действительно обращена именно ко мне, но вместе с тем она действительно обращена к другому, она обращена ко всем, потому что она структурирует общество потребления через сложную сетку различий, заданных знаками-предметами потребления.
Другой пример подобной работы различия – мода, которую удобно рассмотреть со стороны всевозможных субкультур. Моя принадлежность к той или иной субкультуре есть манифестация моего подлинного Я – в этом смысле субкультура, как и реклама, повернута именно ко мне, а не к кому-то другому. Следовательно, и все модные элементы моей субкультуры – как кожаная куртка, или широкие штаны, или длинные волосы, или зеленые волосы, или отсутствие волос, штанов и куртки – являются манифестацией моего Я. Однако толпы других людей, которые предпочитают такие же куртки и такие же волосы, все-таки не являются мною, они – другие, к которым модная субкультура (или субкультурная мода) повернута точно так же в анфас, она тоже обращается к их подлинному Я. С этой точки зрения она уже не обращается ко мне, она обращается к другому. Противоречие? Вовсе нет, тут понятный синтез: мода обращена одновременно ко мне и не ко мне – так, чтобы через индивидуальную идентификацию коллектива получить наибольшую прибыль (издержками будут все те, кто по тем или иным причинам не клюнет на удочку и не узнает в обращении самого себя). Мода производит индивидуальное, но именно через производство индивидуального она производит массу. Если мы пройдем мимо места, где привычно собираются представители какой-нибудь субкультуры, мы обнаружим перед собой толпу ничем не отличимых друг от друга людей. При этом каждый из них, безусловно, искренне верит в то, что он-то как раз и выражает свое подлинное и неповторимое Я.
Можно длить список подобных потребительских уловок без устали – к примеру, в него войдет национальность (смотри Бенедикта Андерсона), в него войдет очень многое из того, что наивный взгляд привык считать чем-то аутентичным и что на самом деле является сконструированным эффектом социальных различий. Мы можем выделить в этой различительной работе все тот же знакомый нам принцип мифологии, которая формирует тождественную идентичность на основании отрицания и исключения иного, Другого. Потребление работает в точности как миф, но и миф работает в точности как потребление – это означает, что в мифе не просто существуют, но в нем непрестанно потребляют знаки, а именно знаки своей идентификации и своего отличия от Другого; очевидно, когда потребление мифологических знаков по какой-то причине заканчивается, умирает сам миф. Стоит нарушить работу различий, которые здесь и сейчас формируют воинственного, имперского, православного русского националиста, как завтра утром миллионы граждан проснутся не такими уж русскими, не такими уж православными – они проснутся теми, кем определит их работа различия, основанная на знаках, которые будут предложены им к потреблению.
Мы должны сделать вывод, что потребление всегда носит массовый, коллективный и никогда не носит индивидуальный, личностный характер – уже потому, что потребляющий индивид прежде всего вписан в потребляющий коллектив, заданный стратификацией в поле различий. Индивидуальное потребление является субъективным, воображаемым эффектом объективного (то есть соответствующего объекту – именно знаку) потребления. Я должен думать, что мое потребление – подлинно мое, мое собственное, с тем чтобы лучше и точнее осуществлялся процесс коллективного потребления. То же и с мифом: я искренне верю, что таково мое мнение, хотя на самом деле это мнение толпы, моей стратифицированной стаи. Мифология и потребление массовы уже потому, что они социальны, потому, что они знаковы (знак, мы помним, не бывает один – он всегда предполагает различие, то есть предполагает другие знаки).
Оказывается, процесс потребления основан на множестве подмен, на регулярной чехарде объектов. Там, где мы ожидаем обнаружить вещь, мы находим знак; там, где мы ожидаем обнаружить функцию, мы находим статус; там, где мы ожидаем обнаружить индивида, мы находим коллектив. Череда означающих, как на конвейерной ленте, стремительно бежит вперед – так, что на месте одного тут же оказывается другой, и у нас просто не хватает сил уловить скорость этой подмены. Так работают СМИ – принцип их функционирования строго конвейерный, когда разнокалиберные, казалось бы, сообщения, оказавшись на одной скороспешной ленте и очень быстро подменяя друг друга, оказываются в конечном итоге равнозначными. СМИ – это глобальная и хорошо отлаженная система подмен, смысл которой сводится к тому, чтобы уничтожить саму суть новости: быть новой. Нечто новое становится старым в ту же секунду, потому что внезапно на его месте появляется что-то другое, отныне претендующее на статус абсолютно нового. Его, впрочем, тут же ждет та же судьба. Тогда единственной новостью оказывается сама лента, сам принцип расположений и подмен в скоростном потоке сообщений. На знаковой ленте сменяют друг друга реклама стеклоочистителя, сообщение о газовой атаке, информация о поп-концерте, сообщение о свадьбе какого-то шалопая, имя которого я почему-то должен знать, потом снова минометный обстрел – и так до бесконечности. Мы понимаем минимум две вещи: первая – это никогда не прекратится, и вторая – все знаки на этой ленте равнозначны по интенсивности своего стремительного устаревания. Поразительно, но различие сообщений, благодаря которому существует сам принцип ленты, напрямую ведет к безразличию этих сообщений, потому что перед лицом очередного различия все предыдущие знаки становятся одинаково старыми, прошедшими, сгинувшими в небытии. В подобной системе все обменивается на все, каждое на каждое, одно на другое – поэтому все в конечном итоге оказывается безразличным. Многие склонны именно в этом видеть сущность той социальной системы, которая до сих пор называется капитализмом.
В СМИ мы потребляем не конкретную новость, но саму форму новости как таковую, не продукт, а саму конвейерную ленту – здесь уже угадано знаменитое выражение Мак люэна «the medium is the message». Из вышеизложенного оно нам вполне понятно. Самая суть общества потребления – в потреблении самого потребления, в конечном итоге, в потреблении различия как такового, следовательно, в голом воспроизводстве системы различий, в социальном гомеостазе. Это не очень обнадеживает, если мы дерзнули поверить в прогресс или в преобразование человеческого сообщества в соответствии с идеей справедливости. Не Царство Божие на Земле есть цель сообщества, но… оно само, воспроизведенное каждый последующий миг в полноте своих различий. Впрочем, не стоит забывать, что само толкование общества на подобный лад возможно только в дифференцированной системе толкований, то есть через различие, предполагающее справедливость множества других толкований. Позитивность системы различий заключается в той негативности, с которой она подходит к самой себе. Да, бунт и отрицание вписаны в саму структуру, но это также означает, что сама структура может быть принципиально подвергнута отрицанию, превратиться в ненавистный объект бунта. Если мы ставим во главу угла отрицание и различие, мы уходим в спасительную неопределенность и признаем, что может быть все что угодно, потому что какой бы ни установилась данность этого момента, она должна быть различена и отвергнута в пользу чего-то другого. Отрицание в пользу иного делает нестабильной ту систему, которая кичится своей повышенной стабильностью. Она сама пропустила вирус в свое основание – вирус различия. Отныне он не даст ей покоя, потому что у различия есть только один закон – это закон отрицания: если А, то не А. Именно это позволяет Жану Бодрийяру описывать общество потребления, что предполагает создание некоторого метаязыка, отличного от своего объекта – выходит, в жесте описания его мы должны выйти за пределы общества потребления, на миг перестать потреблять. Как и в случае с мифологией, спасение обретается в языке: построение все новых и новых метаязыков позволяет трансцендировать узкие рамки того же самого, выбираясь к иному – на свет новой возможности. Объективация и описание разрушают миф, каким и является общество потребления, но разрушение мифа, будучи языком, всякий раз рискует превратиться в новый миф, выпадая в осадок языка-объекта. Конечно, в этом круге есть что-то порочное. Но и всякий порок излечим – силами отрицания.
Лекция 8. [Симулякры и симуляции]
Мы продолжим разговор о Жане Бодрийяре, у него еще есть что нам сообщить. Мы поменяем аспект и от общества потребления перейдем к теме одноименной книги – «Симулякры и симуляции»[22]. Пожалуй, концепт симулякра – это главный, или самый известный, концепт Бодрийяра. Многие люди, никогда не слышавшие слова «Бодрийяр», охотно употребляют в повседневной речи слово «симулякр». При этом под симулякром понимается что-то вроде обмана, фальшивки, чистой видимости, что сближает этот концепт с мифом, разобранным нами ранее. Попробуем разобраться, в чем тут на самом деле вымысел, а в чем хотя бы намек на истину.
Книга «Симулякры и симуляции», небольшая по объему, вышла в 1981 году. Насколько я помню, в «Обществе потребления» слово «симулякр» не встречается – там Бодрийяр говорит исключительно о знаках и знаковом потреблении. Между тем концепт симулякра основывается на концепте знака, понятого как постмодернистская апроприация Соссюра, и неотделим от него. Это означает, что какую-то часть работы понимания мы уже проделали, нужно теперь держать ее результаты наготове. На основе этой работы поставим ключевой вопрос сегодняшнего разговора: что такое симулякр?
Латинское слово «simulacrum», как водится, имеет много значений: это и образ, и подобие, и тень, и привидение, и просто видение (в двух смыслах: как акт видения и как обманчивое видение). Симуляцией мы называем обман, притворство, ложное знание или ложный вид, пыль в глаза. Впрочем, в понятии симуляции сохраняется оттенок активности – мы привычно полагаем, что симулянт знает, что он симулирует, следовательно, он способен отличить правду от вымысла, и именно на этой способности, на этом знании он строит свой, безусловно предосудительный с моральной точки зрения, обман. Я думаю, такое толкование значительно сужает объем понятия симуляции и заведомо устраняет многие полезные выводы, которые мы можем на его основании сделать. Позволим себе считать, что в симуляции нет ничего подчеркнуто активного, что симуляция – это симуляция как таковая, будь она активной или пассивной, имей она под собой знание о различии правды и вымысла или нет. Положим, что симулянт может оказаться в столь незавидной ситуации, когда он сам не знает, что он – симулянт. Итак, симуляция как некая одержимость – а ведь именно на это наталкивает та рассмотренная нами концепция знака, которая подчиняет субъекта означивания безличному семиотическому процессу, а не наоборот. Знак играет нами, как хвост собакой – по названию одного известного фильма, также синонимичного термину «симуляция».
Попробуем двинуться апофатически, сперва указав на то, чем симулякр точно являться не может. Словарное значение этого слова прежде всего указывает на то, что симулякр не является реальностью – понятое как объективный мир воспринимаемых вещей. Симулякр – это не вещь, не предмет, он не пройдет эмпирическую проверку и окажется чем-то вроде миража. Как и мираж, он успешно подделывается под реальность – до того момента, пока нам не удастся его разоблачить. Следовательно, нам надо сразу связать симулякр с реальностью, от которой он отличен и которой он не является, и с какой-то процедурой верификации, которая и вскрывает его отличие от реальности. Структура различий, которая вот уже которую лекцию пьет нашу кровь, находит себя и здесь: чтобы говорить о симулякре, необходимо сразу же говорить о различии симулякра и реальности. А это означает, что хорошо бы знать, что такое реальность – вопрос, который пьет человеческую кровь уже много тысячелетий. Впрочем, некоторый конвенциональный ответ на этот вопрос у нас все-таки есть.
Теперь: если симулякр отличается от реальности, но в то же время обладает таинственной способностью выдавать себя за оную, мы можем попытаться отождествить симулякр с понятием воображения или воображаемого. Со словарной точки зрения это отождествление или просто сближение имеет свою выгоду: как мы помним, симулякр – это тоже образ, корень слова «воображение». В этом смысле воображение означает созидание образа, его, образа, полагание (здесь опять несколько путающий оттенок субъективной активности). Можно предположить, что в результате работы воображения – активной или пассивной – мы получаем остаток, который и называется симулякром. И все бы хорошо, но игра Бодрийяра немного сложнее. Образ, действительно, возвращает нас к различию реального и воображаемого, между которыми существует однозначное отношение причинности, следования: образ есть именно образ реального, это воображенное, переведенное в образ реальное, то есть реальное, несколько обедненное и лишенное своего конкретного существования, реальное, выпавшее в осадок остаточного образа. Де-реализованное реальное – не-до-реальное. Мы оказываемся в классическом платоническом топосе, делящем мир на два порядка: порядок истины и порядок видимости, где второй является неполноценным порождением первого. Не так в топосе постмодерна, который представлен Бодрийяром. Здесь однозначная связка реального и воображаемого разрывается самым решительным образом.
По Бодрийяру, симулякр вовсе не отсылает к порядку реального, симулякр не имеет истинного референта, он не связан с некоторым реальным объектом, которым он, собственно, и порождается. Симулякр располагается в сложно представимом ареференциальном порядке, он по сути своей ни к чему не отсылает, он ни с чем не связан и ничем (подобным) не порождается. У симулякра нет корней, он оторван от традиционного порядка репрезентации. Он обращен только к самому себе и зациклен на самом себе, он оторван от внешнего измерения и крутится в себе самом, как этакий безумный волчок, выпавший из реальности. Представить это, конечно, непросто, но некоторые примеры могут нам с этим помочь. Подумаем о серийном производстве, в котором оригинал оказывается стертым, ибо серийная продукция представляет собой нагромождение ничем не отличимых копий, где каждая копия не более оригинальна, нежели другая. В рамках серийной продукции у предмета не существует достаточного основания, очевидных отличий для того, чтобы считаться более оригинальным, нежели всякий иной серийный предмет (говоря на языке Беньямина, ни у какого предмета из серии нет ауры, которая указывала бы на подлинность и первородность).
Впрочем, серия – это только пример. Он проблематизирует для нас привычное представление об оригинальности, о генетическом следовании одной вещи за другой, одного порядка действительности за другим порядком – так, как образ следует за восприятием реальной вещи. На первом уровне мы представляем себе вещественный оригинал. На втором уровне мы получаем то, что в самом общем виде можно назвать привычным нам термином «знак». Знак отсылает к некоторому референту, он является знаком чего-то. При этом иерархия дублируется и внутри самого знакового отношения: в знаке означающее отсылает к означаемому, форма отсылает к концепту. И только на третьем уровне нам удастся преодолеть этот классический топос иерархической, неравновесной репрезентации, удастся опрокинуть порядок следования и порядок реальности. Третьим уровнем и будет порядок симуляции, особый топос симулякра.
На третьем уровне происходит полный разрыв с порядком реального. Именно поэтому Бодрийяр может говорить, что симулякр является копией без оригинала, то есть копией (более чем парадоксальной) без реальности, к которой она отсылала бы. У симулякра нет референта, он не связан с каким-то предданным событием, фактом, вещью. Симулякр – он сам по себе. Но тогда почему он – копия? На данном этапе это, само собой, главный вопрос. Если мы вспомним хороший американский фильм «Матрица», полный отсылок к Бодрийяру, то там речь тоже идет о симуляции реальности, о симуляторе, в котором создается иллюзия реального мира. Несмотря на все реверансы постмодерну, «Матрица» все-таки остается классическим произведением, исследующим отношения не далее второго порядка – отношения копии и оригинала, отношения мимезиса и репрезентации. Симуляционная реальность в матрице отсылает к реальности как таковой, в которой посредством специальных программ симулируется матричная иллюзия. Есть подлинный мир и есть воображаемый мир, есть реальность и есть иллюзия. Задача героя – понять это, отличить одно от другого и предпочесть реальность иллюзии. По существу, так устроены многие самые традиционные литературные тексты, чаще всего волшебные сказки.
Если «Матрица» сохраняет строгую референцию, то Бодрийяр, к которому пытается обратиться этот фильм, напротив, ищет возможности порвать с отношением референции в пользу отношений симуляции. Наш пример с конвейерной лентой, хоть он и очень красочен, все-таки не способен нас полностью удовлетворить: множественная конвейерная продукция все же отсылает к оригиналу, которым является первичный проект, макет того или иного продукта. В отношении друг друга, конечно, конвейерные продукты не являются копией или оригиналом – они копируют друг друга, значит, строго говоря, ни один из них не оригинальнее другого. Однако всегда есть единственный изначальный макет или образец продукции, который, будучи одобрен, кладется в основу всей последующей конвейерной продукции. Все кроссовки одинаковые, но сперва кто-то наспех слепил оригинальные кроссовки, которые понравились большим боссам, благодаря чему была запущена серия. Порядок референции остается в силе.
Если бы мы могли представить себе такую ситуацию, где без всякого перво-кроссовка запускалась лента бесконечных копий, ситуацию, где герой «Матрицы» путешествовал бы из одной иллюзии в другую, и никакая таблетка не смогла бы ему объяснить, какая иллюзия более реальна, вот тогда мы бы оказались в пространстве симуляции, которое предлагает нам Бодрийяр. Это пространство, таким образом, довольно легко охарактеризовать: ни один уровень в нем не является более реальным, более подлинным и первичным, чем другой. Это пространство, где существуют лишь копии копий, где нет никаких оригиналов. Тогда на место реальности приходит то, что Бодрийяр называет гиперреальностью – собственно, симуляционное пространство как таковое. Гиперреальность есть преодоление реальности, выход на такой уровень значения, где отсылки к реальности перестают быть релевантными, где они перестают работать и означать хоть что-то осмысленное. Таковым могло бы быть киберпространство – такое, из которого уже нельзя было бы выбраться в привычный нам вещественный мир.
В гиперреальности реальное заменяется знаками реального. В знаменитой и скандальной статье «Войны в заливе не было»[23] Бодрийяр пытается описать реальность, конструируемую СМИ, именно как гиперреальность – как пространство симуляции по преимуществу. В репортажах с так называемой войны нет отсылки к реальности, потому что нет никакой войны – американские солдаты вошли в Ирак для того, чтобы войти туда, и не просто так, но на камеру. Это было колоссальное реалити-шоу о внешнеполитической жизни США, шоу с фантастическими рейтингами, невероятными эффектами и очень, очень большим бюджетом. Главный эффект: американцы выиграли войну именно потому, что самой войны не было, была ее телевизионная инсценировка. Следовательно, и выигрыш можно признать никак не отсылкой к реальному положению дел, но именно копией копии, следствием не из реальности, но из иллюзии. Отчасти это подтверждается исторически: почти что никаких потерь, очень условные и опять-таки весьма голливудские боевые действия, немыслимое информационное освещение и повсеместное присутствие СМИ, а также практически полное отсутствие реального результата – не зря за Саддамом пришлось возвращаться спустя десять лет. Так что же это было – игра или серьезное дело?
В наше время, хотя прошло менее тридцати лет, отличить одно от другого еще сложнее. Те несчастные среди нас, которым приходится время от времени натыкаться на телевизионную продукцию, отмечают, должно быть, тотальную шизофрению всего там происходящего. С поистине конвейерной скоростью в нас летят сообщения, полностью противоречащие друг другу, одинаково страстно и обстоятельно аргументируемые, доказываемые, обосновываемые. На блестяще выполненных картинках с мест событий мы видим боевые действия, спецоперации, гуманитарные катастрофы, такие, что ни об одном из них нельзя до конца быть уверенным, что это не симуляция, что все это на самом деле. Каждая новость усиленно педалируется с одной стороны и еще агрессивнее фальсифицируется с другой. Бомбили гражданских или не бомбили? Обстреливали колонны с гуманитарной помощью или нет? Откуда нам взять ту реальность, которую мы ожидаем увидеть за играми информационной симуляции? Как можем мы быть уверены, что все это не является круглосуточным телешоу, созданным для того, чтобы моделировать нашу собственную матрицу – мир, в котором нам надо жить, потому что кто-то незримый так решил? Может статься, что сегодня все мы живем в глобальном шоу Трумэна.
В условиях современной идеологической информационной войны мы наконец-то воочию сталкиваемся с тем, что такое симулякры и симуляция. Мы сталкиваемся с этим на опыте, потому что именно опыт оказывается не в состоянии предложить нам никакого решающего критерия, позволяющего отделить правду ото лжи. В конце концов, каждый новый сегмент информационного потока, претендующий на окончательную истинность, принципиально может быть поставлен под сомнение в том, что он – не симулякр. Реальность окончательно размывается, критерий ее отличия утерян. Чем больше мы погружаемся в мир глобальных информационных технологий, тем меньше шансов остается у привычной реальности в борьбе с повсеместно вытесняющей ее гиперреальностью. По сути, тотальная гиперреальность начинается там, где целый вагон в метро погружен в мобильные телефоны; и дело не в том, что телефон – это симуляция, но ведь вагон – это все еще реальность; дело в том, что знание об этой «реальности», включая в нее и данный вагон поезда, эти люди получают именно из гиперреальности, транслируемой через их телефоны. В конечном итоге, вопрос о симуляции – это всегда вопрос о знании. Там, где теряются солидные критерии конечного и очевидного знания – как это и происходит в ситуации постмодерна, – там побеждает гиперреальность, порядок симуляции.
Выходит, победа симуляции – не победа в плане онтологии, как если бы машины из «Матрицы» смогли навечно погрузить нас в забвение моделируемой иллюзии. Победа симуляции – это победа в плане эпистемологии, потому что симуляция вытесняет реальность тогда, когда от нас ускользает знание о реальности, сам критерий ее отличия от ее иного. Реального нет не потому, что что-то его разрушило, сломало или вытеснило. Реального нет потому, что мы разучились узнавать реальное как реальное, сама реальность реального для нас более не очевидна. Мы можем, конечно, наивно ссылаться на порядок нашей телесности как на подлинный уровень существования, однако почему бы не предположить, что телесность есть иллюзия и симуляция телесности? Особенно сейчас, когда телесность меняется и модифицируется по прихоти заказчика, а уже завтра в плоть будут вживляться все новые и новые информационно-технологические изыски. Вот тогда реальность, и так хорошенько потасканная за наш век, размоется, видимо, окончательно.
Другой термин для описания процесса симуляции, который вводит Бодрийяр, это прецессия модели. Понять это легко: вот моя жизнь, она представляется мне реальной и подлинной, оригинальной и свободной, тогда как скорее всего я проживаю не что-то вроде «своего собственного пути», но некоторую модель, некоторый социальный образ или тип, который предшествовал его фактической реализации в моей жизни. То, как мне жить, я не придумываю сам, но черпаю это из окружающей общественной среды, которая в изобилии предоставляет мне модели и образцы, на основании которых я выстраиваю свой якобы подлинный путь. Как мы уже говорили, субъект – это место дискурса, момент реализации тех или иных структурных отношений в социальной системе, а не бессмертная сущность, данная седовласым небесным старцем. Это значит, что субъект подчиняется правилу прецессии модели. Выходит, что я, будучи субъектом, именно симулирую свою жизнь, а не проживаю ее как реальный оригинал, о чем так меланхолично мечтали экзистенциалисты. В этом смысле состарившимся европейским романтизмом окажется желание выпрыгнуть из сетей симуляции, разорвать путы предшествующих моделей, спастись от сизифовой кары копировать копии бесконечных копий. Не имея возможности отличить реальность от вымысла, мы теряем саму возможность бунта, ибо всякий наш бунт окажется копией копии, прецессией модели, симуляцией какого-нибудь культурного или литературного образца. Бодрийяр оказывается, пожалуй, самым суровым критиком подлинности, которого знала философия постмодерна, а она, надо сказать, плодила суровых философов в поистине конвейерных масштабах.
Эпистемологическое, я настаиваю, понятие симулякра ставит под сомнение правомерность суждений о реальности. В том мире, где множество информационных уровней постоянно сталкиваются между собой, подобное суждение опровергается примерно одинаковым качеством претензий этих уровней на оригинальность. Как на конвейерной ленте, никакой из них не реальнее, не оригинальнее другого. Впрочем, существует критический взгляд на конвейерную ленту, который тем самым располагает себя вне ее, то есть вне порядка симуляции. Это взгляд самого Бодрийяра и всех тех, кто решается посмотреть на ситуацию его глазами, продумать его концепты, пройти ходом его мысли. Этот критический взгляд оказывается единственной привилегированной позицией, возможной в дискурсе о симуляции: если все является симуляцией, то утверждение о том, что все является симуляцией, само оказывается не симуляцией, но истиной – реальностью, оригинальностью, подлинностью. В этом смысле Бодрийяр по-своему воспроизводит знаменитый парадокс лжеца: когда он говорит, что все лгут, почему мы должны ему верить?
Мы вновь сталкиваемся с такой ситуацией, в которой критический дискурс высказывается обо всем, кроме самого себя – значит, он высказывается не обо всем. Серая зона, в которой оказывается критический дискурс по отношении к своему собственному содержанию, вселяет надежду на преодоление нового тоталитаризма – на этот раз тотальности симуляции, установленной через репрессию реального уровня. Реальность всякий раз прорывается через критику именно в том месте, где критика пытается звучать правдоподобно. Высказывание об истине, конечно, запрещено, но только при условии истинности самого этого запрета. Следовательно, в определенных случаях высказывание об истине вполне допустимо. Если мы присмотримся, то заметим, что оно допустимо в подобных серых зонах любого критического дискурса, будь то археология Фуко или мифология Барта, как и симуляция Бодрийяра. Всякий раз критик выстраивает такой метаязык, которому удается ускользнуть от правил своего языка-объекта. Если объектом выступает симуляция, если объектом выступает мифология или идеология, то тот дискурс, в котором формулируются высказывания об этом объекте, сам не должен быть симуляционным, мифологическим или идеологическим. Как всегда, мы спасаемся в ковчеге критического дискурса, в ковчеге самого языка: будучи принципиально пластичным и многоуровневым, он позволяет нам сохранять реальность и истину там, где это выглядит наименее наивным – в языке философии, который обладает удивительной способностью выстраивать метаязык в отношении любого языка-объекта, тем самым резервируя себе место за плотной стеной, которую не пробьет ни одна симуляционная логика.
Лекция 9. [Деконструкция]
Говоря деконструкция, мы говорим Деррида. Философ, конечно, становится заложником своих идей – но деконструкция и сама по себе работает так, что не стать – и не будучи ее непосредственным автором – заложником ее очень непросто. Открытость философского жеста, предполагаемая деконструкцией, такова, что она пьянит и затягивает – так, что мы попадаем в действительность бесконечного сдвига: каждый шаг вперед уже предполагает следующий шаг, и из этой теоретической гонки практически невозможно выбраться.
Наш главный вопрос: что такое деконструкция? Сразу скажу, что никакого окончательного ответа на этот вопрос Деррида не дает, более того, сама претензия на окончательность некоторого ответа деконструкцией вымарывается из философского поля. Это, безусловно, усложняет работу, но тем интереснее. Когда мы оставляем претензию на окончательность и покидаем, тем самым, область больших (окончательных, целостных, террористических) нарративов, мы оказываемся в пространстве философского микроанализа, где главным оказывается фрагмент, деталь – вплоть до малейшего знака препинания. Такая аналитическая микроскопия не всем придется по вкусу. Однако возможности ее невероятны.
Переходя от больших нарративов, которыми порой занимается философия – общество, мир, человек, – к микроанализам, коренящимся в работе с самим языком философии, мы сталкиваемся с необходимостью такой критической рецепции истории философии, которая предполагает очень обширные познания. Хороший писатель (философ) – это прежде всего хороший, очень хороший читатель. Жак Деррида был одним из лучших читателей философии в ее долгой истории, поэтому за ним практически невозможно угнаться. Но это не страшно: оставив претензию на окончательность, мы также решили, что угоняться за кем-либо, в общем-то, незачем – можно, как говорил Деррида, взять какой-нибудь крохотный параграф, отрывочек и копаться в нем до скончания дней. Пафос деконструкции заключается в том, что найти там можно целый мир. Более того, это честнее – прорабатывать деталь, держаться текста и буквы, а не подменять их громоздкими смыслами, выуженными из болотистого ниоткуда.
Хорошими вступительными текстами в подходе к проблематике деконструкции являются «Позиции»[24] и «Письмо к японскому другу»[25]. Их характер ознакомительный, но уже из них отчетливо видно, с чем мы имеем дело в том числе в случае больших текстов Деррида. Ознакомление – и демонстрацию метода – лучше всего начинать с самого термина: де-кон-струкция. Вслушаемся в его композицию. В корне этого слова слышится то же, что и в структуре, в строении, в постройке. Struo: строить, сооружать, складывать, располагать, а вместе с тем планировать и задумывать. Еще важнее то, что у нас тут сразу две приставки, и вся ирония заключается в том, что они обладают прямо противоположными значениями. Во-первых, это отрицательная приставка «де» – ее можно перевести как «раз» в смысле «раз-рушения». Если оставить только ее, то мы получаем деструкцию, то самое разрушение – как процесс, обратный строению и построению, как разбор чего-то построенного, его разнесение на исходные части. В истории философии был этот термин – деструкцией метафизики занимался Хайдеггер, наиболее важный предшественник для Деррида. Однако теперь мы должны сделать еще один шаг, удаляясь от Хайдеггера с его деструкцией, и добавить, во-вторых, положительную уже приставку «кон» – в этом случае мы получаем привычную нашему уху «кон-струкцию». Это уже составление и совместность – конструирование частей в единое целое. Синтезируя эти противоположные значения, мы получим нечто вроде «раз-со-положения», «раз-со-ставления», то есть некоторую работу или деятельность, направленную сразу на сборку и разбор данной целостности. Нам нужно представить единый жест, в котором нечто сразу собирается и разбирается, конструируется и разрушается – этакий психотический и параноидальный жест, который – как парадокс – заключен и в названии известной немецкой группы Einstürzende Neubauten, то есть «новостройки, которые вместе с тем разрушаются» – жуткое зрелище для склонной к порядку европейской ментальности. Такова и деконструкция: в одном жесте – утверждение и отрицание, да и нет.
Целое, которое в самом жесте своего полагания в то же время и распадается, разрушается – это уже не целое. Таким образом, первое, что мы можем сказать о деконструкции, – она направлена на устранение целостности целого. Отметим, однако: не просто на разрушение (тогда была бы деструкция), но именно на устранение целостности – через такое прочтение, которое в каждом моменте своего вкрадчивого и кропотливого полагания предмета обнаруживало бы – не то что специально подстраивала – его собственное ускользание от бытия-целым. Напряжение между противоположными приставками означает, что мы, в общем-то, не разрушаем объект, но сам объект рушится в акте его конструирования, или полагания. Философ, может быть, и хотел бы, чтобы его предмет – а это все-таки история философии – сохранился в целости, претендовал на крепость, устойчивость. Поэтому он конструирует, собирает отрывки (слова, предложения) в целом своей работы. Но тут открывается, что объект не складывается, он разрушается в ходе работы – поэтому, теряя свой якобы целостный объект, и сама работа перестает быть целой, она постоянно членится и отсрочивается, бежит куда-то вперед, где обещан искомый объект, но и там его нет – и так далее, далее, далее.
Хайдеггер мог позволить себе пафос деструкции, потому что история философии для него – это более или менее ошибка, забвение изначального (досократического) вопрошания о бытии. Задача философа, таким образом, вернуться в этот исток, туда, где еще не видна работа забвения онтологического вопрошания. Что касается Деррида, то для него все это в высшей степени сомнительное предприятие. Откуда мы взяли этот исток, это чистое вопрошание, если не из остатков, следов той самой истории философии, которую при этом почему-то решили назвать заблуждением? Что нам известно о подлинном истоке, если все, что у нас есть, это только неподлинные, ошибочные следы? Как нам дойти до того, чего нет, если все, что есть, это – не то, все не то? Хайдеггер совершает головокружительный прыжок через бездну, смысл которого как раз-таки ясен из противоположности наших исходных приставок: он хочет допрыгнуть – от деструкции (полного отрицания) прямо к конструкции (полного полагания), от заблуждения сразу же к смыслу, к первоистоку, к целому как философскому вопрошанию о бытии. Конечно, я сильно огрубляю суть дела – Хайдеггер совсем не об этом. Однако забвение парадоксального и неустранимого разрыва между смыслами «де» и «кон», безусловно, чревато тем метафизическим фантазерством, которого – в виде таких вот прыжков через бездну – в истории философии было с избытком.
Закончить работу деконструкции означало бы выйти к истоку, добраться до целости. Но напряжение между деструкцией и конструкцией, данными в одном жесте, не позволяет надеяться на результат – работа, вызванная подобным напряжением, не может быть доведена до конца. Как с близкой для Деррида проблемой перевода: нельзя с окончательной адекватностью перевести что-то с одного языка на другой; можно сколько угодно приближаться к этому, но разрыв все равно будет неустраним. Точно так же дела обстоят с онтологическим вопрошанием: перевод с языка бытия на язык философии невозможен. Он невозможен уже потому, что язык бытия – это только эффект языка философии, поэтому некое подлинное слово бытия может быть нами только предположено – как исток, который теряется за бесконечностью следов. Как вещь, которая чаема, но недостижима. Слово, по Гегелю, это негация, это отсутствие вещи. Также и философский дискурс о бытии есть отсутствие, есть отрицание самого бытия. Поэтому бытие остается с нами лишь в апофатическом модусе: как отрицаемое, как то, чего нет, как то, что не может быть названо. Но этот апофатический модус – он все-таки есть, поэтому возникает желание ускользающего, отсутствующего, невозможного. Если есть след, то мы знаем – или мы хотим знать, – что должен быть шаг, который этот след оставил. Как пел один полный гегельянского романтизма рок-исполнитель: «Если есть тело, должен быть дух». Мы грезим о нем и всеми силами призываем тот первый шаг, мы жаждем его отыскать. Но все, что находим – только следы. Вещь ускользает в длинных траншеях из бесконечных слов, и сам горизонт тут теряется в отрицании.
Во всяком случае, нам понятна метафизическая тоска по объекту, по целостности, по бытию. Эта тоска неустранима, но оттого не меньше порочна, фальшива авантюра прыжка – от «нет» к «да», от неданного к данному. В этом смысле Хайдеггер для Деррида, несмотря на его деструкцию метафизики, оказывается все еще метафизиком – как и для Хайдеггера, вспомним, все еще метафизиком оставался Ницше, несмотря на его разрушительный антиплатонизм. Он, говаривал Хайдеггер, есть перевернутый платонизм – а значит, по-прежнему платонизм, хоть и с обратным знаком. Тогда и Хайдеггер – это все то же, но только перевернутое метафизическое забвение бытия. Во всяком случае и Ницше, и Хайдеггер находятся в поле работы философского языка, который, скрывая всякую вещь в отрицании, не позволяет сделать прыжок из него к бытию – точнее, сделать такой прыжок можно, но с точки зрении философии он будет самоубийственным.
Если деконструкция – это, собственно, сам философский язык, взятый в его подчеркнутой парадоксальности, то ее оказывается очень сложно определить – ведь это означало бы соотнести ее с отсутствующим объектом через определение границ, то есть в этом акте еще раз претендовать на окончательность работы. Если ускользает объект, то ускользают границы – выходит, определение деконструкции – такая же бесконечная гонка, как и погоня за бытием. У нас, как и прежде, нет ничего убедительней апофатики: деконструкция – не критика, не анализ, не метод… Она убегает от собственных определений, как не добегает она до своего чаемого объекта. Деконструкция – не отдельный метод, потому что сам наш язык – уже деконструкция, ведь где, как не в нем, с такой точностью задано парадоксальное разнесение репрезентированной вещи и вместе отсутствия, отрицания презентации, самой этой вещи: «стол» не есть стол, слово не вещь, слово отрицает вещественность вещи, однако оно как-то связано с вещью, оно умудряется удержать ее через ее отсутствие – вот вам чистейший пример той а-топии, в которой деструкция (отрицание) и конструкция (утверждение) сцеплены вместе, да так, что не разорвать.
Деконструкция – не метод работы, но сама работа философского языка-мышления. Работа, вся состоящая из разрывов, осуществляемая в зазоре: между словами и вещами, языком и миром, логосом и бытием, дискурсом и знанием. Так как зазор непреодолим, работа не может закончиться. Все, что нам остается, – блюсти разрыв. Но это ответственная задача – когда разорванное норовит смешаться, космос и хаос сливаются до неразличимости, на свет выползают чудовища – те, о которых у Гойи. Работа деконструкции, работа различия – вся в пристальном внимании к знаку, к слову и тексту. Это чтение и перечитывание, которое в конечном итоге становится не чем иным, как письмом. Если выйти за пределы знака мы не в состоянии, если нам запрещено, невозможно прыгнуть от знаков к вещам, все, что нам остается, – предельно серьезная знаковая игра. Не имея внешнего (ничего, кроме текста, скажет Деррида), знаковая игра самодостаточна – она сама себе цель, сама себе средство. Однако незримый предел и непреодолимое отставание от предполагаемого истока обращает самодостаточность в вечную нехватку, в отсутствие желаемого объекта. То есть внешнего нет, но неизбывна тяга вовне – тоже противоречие, значимое, как ничто иное.
Деконструкция – не метод, но и не анализ. Анализ – это работа расчленения, рассечения и раздела сложного целого с целью добраться до самых простых элементов – до элементарных частиц. Это мания атомизма – найти простейшее, которое, будучи далее не разложимым, все бы смогло объяснить. Здесь, таким образом, снова заявляет о себе лихорадка по истоку, желание добраться до последних вещей. Но если работа различия, зазор между следом и шагом неизбывна, значит, ностальгия по неуловимому истоку – имя все той же иллюзии, заставляющей нас с преступной оплошностью выдавать слова за вещи. Смешивающая хаос и космос, ностальгия по истокам – на атомистский манер или на какой-то иной – служит источником всякого зла, коренящегося в неразличении, в истерическом неприятии зазоров, расколов в существе мира, невосполнимой неполноценности существования. Залатать дыру – значит совершить преступление, солгать, объявить не-сущее сущим. Сказать, что завтра настанет социализм, сегодня убив ради этого миллионы людей. Сказать, что страна, не раз изнасилованная и разграбленная, пышет здоровьем и величием. Сказать, что у человека в кармане билет в Царство Небесное.
Для деконструкции нет ничего простейшего, первородного, неделимого, однако всегда есть разрыв в филиации первому следу, чаемому, но недоступному. Такая работа – настоящий сизифов труд, конечно, без всяких отсылок к Камю, мыслителю, что уж там, очень наивному. Правда в том, что сизифов труд едва выносим, но и в том, что, храня различение между логосом и миром, эта работа хранит мир от хаоса. Не будучи методом и анализом, деконструкция также не критика. Сама философская критика создана в русле метафизической традиции и несет на себе ее отпечаток – Кант не меньше Платона толкует о последних вещах, так, что невыносимый зазор между явлениями и вещами в себе был устранен уже первым поколением его учеников (про них Кант говорил: Боже, защити нас от наших друзей, а со своими врагами мы как-нибудь сами справимся). Критика заблаговременно полагает, что истина у нее в кармане – ведь она вправе разоблачать заблуждения, а как это сделать, если не знать настоящее? Сказанное, впрочем, вполне может быть обращено – и не раз обращалось – к самому Деррида (к примеру, у Гройса или у Жижека).
Пройдя через все эти апофатические препятствия, главное, что мы сохранили, – это оппозицию деконструкции и метафизики, смысл которой в том, что первая охраняет разрыв, через который последняя всегда норовит перепрыгнуть. Имея дело со словами, метафизика ведет себя так, как будто бы у нее в руках сами вещи. Деконструкция ловит ее за руку и демонстрирует, что – вот же, не вещи совсем, но слова. Такие слова, которые, постоянно цепляясь друг за друга, вихрясь и отталкиваясь, на каждом шагу отдаляют искомую встречу с вещами в невидимую бесконечность. Метафизика – имя традиции, которая держится на центральной ошибке, имя которому, собственно, метафизический прыжок. Смысл его мы вполне уловили. Примерами полнится западная традиция (о восточной не говорю по незнанию). Недоверие к метафизике, впрочем, сопровождало саму метафизику почти что на каждом этапе ее существования. Рядом с платониками были киники и скептики, рядом со схоластами – номиналисты, новые скептики вроде Юма встали и рядом с рационалистами Нового времени, Кант умудрялся в себе совмещать самые противоречивые линии, а позже был Ницше, за ним Хайдеггер, за ним Деррида – множество иных примеров я, конечно, опускаю. Различение между метафизикой и условной, широко понятой деконструкцией, следовательно, нельзя понимать внешним образом – как границу, скажем, между полицейскими и ворами (пример тоже так себе, потому что…). Это различие внутреннее, оно принадлежит самой философии и осуществляется в ее работе как разница тезиса и антитезиса – в их напряжении и происходит движение. Деконструкция – не приговор, не судья метафизики, но ее имманентная самокритика, потому что нельзя охранять разрыв между логосом и миром, не искушаясь одновременно ее устранить. Поэтому проект преодоления метафизики – это (только) риторика. На деле и тут есть разрыв, который по сути непреодолим.
К тому же сама метафизика существует в подвижных границах, которые задаются работой ее антитезиса – деконструкции. Метафизика для Ницше – это нигилизм платонического ресентимента. Метафизика для Хайдеггера – это забвение онтологического различия. Что тогда метафизика для Деррида? Это по преимуществу метафизика присутствия. Присутствие – это то, что есть, что присутствует перед нами здесь и сейчас, в настоящем. В этом смысле присутствие – истина. Истина, в свою очередь, предполагает тождество, идентичность: не может быть истины, которая одновременно есть ложь – во всяком случае на этом настаивает логика, да и наша мыслительная привычка туда же. Вещи присутствуют: они нам даны, они сами по себе истинны, они самотождественны и внутренне не противоречивы. Мы узнаем во всем этом картезианский проект знания. Этот проект прочно стоит на присутствии. Он утверждает, что вещи – это настоящее, сразу в двух смыслах: настоящие – потому что они даны в настоящем времени cogito; настоящие, потому что они «всамделишные», истинные, не ложные. То, что присутствует здесь и сейчас, есть то, что присутствует на самом деле.
Основные понятия западной метафизики пристегнуты, таким образом, к концепту присутствия: истина, тождество, cogito, субъект/объект, бытие, идея, благо и прочее. Претендуя на истину, присутствие оказывается оператором метафизического прыжка – оно устраняет разрыв между словами и вещами, представляет дело так, что мир у него в кармане. Мы много раз видели и еще не раз увидим – что нет, не в кармане, что это обман, аберрация зрения. Следовательно, деконструкция должна устранить заблуждение присутствия, показать, что то, что нам кажется данным в своей окончательной истине, есть только иллюзия, только дефект нашей мысли. Для этого надо пересмотреть результаты – конечно, всегда промежуточные – традиции, представляющей собой якобы непрерывную линию филиации: Платон – Декарт – Кант – Гуссерль, линию, которую можно с рядом натяжек назвать трансцендентальной, а проще – линией метафизики присутствия. Критику в ее отношении разрабатывали Ницше и Хайдеггер, за ними – уже с обобщенным и модернизированным аппаратом – идет Деррида.
Работа деконструкции, проводимая – здесь подходит авторская метафора подрыва шахты – в самом сердце тождеств и идентичностей метафизики присутствия, призвана показать, что иллюзия целостности – только иллюзия. Что она существует благодаря ряду недомолвок, сокрытий и опасений идти до конца, что все это – намеренно или же, чаще, неумышленно – маскирует разрыв в основании целостности, лепит из частных фрагментов чучело тотального смысла. Нужно читать тексты Деррида, чтобы увидеть на опыте, как происходит эта работа. Конечно, она каждый раз ситуативна, привязана к тексту, с которым работает в данный момент. Все дело в том, что каждый такой текст, относящийся к метафизической традиции, через медленное и въедливое прочтение демонстрирует искусственную непрочность своей конструкции. Если это – плохо, тогда, напротив, хорошим будет такой текст, который достаточно смел, чтобы самостоятельно, без всякого внешнего Деррида, показывать собственные несовершенства. Поэтому здесь я вступлюсь за некоторых метафизиков, которые – после усиленного чтения Деррида – могут показаться сущими монстрами. По-настоящему хорошая философия никогда не замазывала своих разрывов. Напротив, на их демонстрации – более чем эксгибиционистской – построен платоновский «Парменид», построена критика Канта, много этого и у Гуссерля, который никогда не скрывал принципиальную незавершенность своего проекта. Думаю, Деррида ничего бы не смог с ними поделать, если б они ему не помогли – не показали в свое время и в своих местах, что их построения проблематичны и противоречивы. Тем выше их ценность сейчас, когда мы, закаленные деконструкцией, к ним возвращаемся.
Логоцентризм, обличаемый Деррида, таким образом, отнюдь не всегда был центризмом, и метафизиков винить не в чем. В этом смысле мне нравится думать, что Деррида не устраивает на них охоту – ради, конечно, собственного тщеславия, – но скорее помогает им лучше – потому что со стороны больше видно – доделать их собственную работу, а именно продемонстрировать невосполнимый зазор между логосом и миром, который настоящий и вероломный логоцентризм хотел бы замазать. Деррида стоит на стороне Платона против платонизма, на стороне Канта против трансцендентализма, на стороне Гуссерля против излишне идеализированной феноменологии. Рискну сказать: на стороне Деррида против адептов софистицированной деконструкции, которой так просто до неразличимости смешаться с собственным врагом – метафизикой присутствия самого дурного пошиба, – стоит ей только представить, что пестуемый ей разрыв – это и есть истина в последней инстанции, это финальное знание о мире и бытии, которым отныне владеют избранные служители премудрой церкви всея деконструкции. Такого сектантства, конечно, навалом, и наша задача не в последнюю очередь не позволять деконструкции превращаться в свое иное. Это касается между тем всего постмодерна. Пафос его соблазнителен и притягивает множество паразитов. Достаточно выдать нехватку и неуверенность за самодостаточную и горделивую истину, за высшее знание о последних вещах, как ты уже в дамках, в лекториях, в университетах. Этого слишком много, и это все слишком неряшливо, криво, бесплодно – нам надо, напротив, давать себе труд читать лучше, внимательнее, больше – одним словом, не позволять себе поспешной победы, неправомерного окончания бесконечной работы, гордыни универсальных истин в кармане. Нельзя забывать: карман дырявый, универсальные истины сделаны в Китае. Никто не поможет нам лучше понять это, чем Жак Деррида – деконструктор и метафизик, а третьего не дано.
Лекция 10. [Различание]
Мы продолжаем говорить о Деррида и деконструкции, на этот раз ближе к текстам. Мы уже выяснили, что понятие деконструкции оппозиционно понятию метафизики: деконструкция – чего? – метафизики. В свою очередь, метафизика – это метафизика присутствия. Это не философия или мышление вообще, но философия и мышление, понятые определенным образом, – как такие, в которых манифестируется тождественная данность объекта для субъекта. Солидные вещи присутствуют в мире для нас, солидных господ. Мерой мира является познающий субъект. Cogito ergo sum. Деконструкция пытается продемонстрировать, что – и как – все это проваливается в мистификацию.
Присутствовать, конечно, может все что угодно: стол, стул, человек. Но есть и привилегированный элемент присутствия – такой, в отсутствие которого все прочее присутствовать не может. Я говорю о самом субъекте познания, который, как нам много раз объясняли, вполне присутствует для самого себя. Присутствовать может что угодно, но только при условии присутствия эго для самого себя. Сначала я мыслю самого себя, затем уже все прочее – включая, кстати, свое собственное существование, потому что оно в метафизической традиции выводится из тавтологического факта самоданности субъекта мышления. Тождество бытия и мышления, идущее от отца европейской метафизики Парменида, оказывается неравновесным: мышление важнее бытия, потому что бытие выводится из первичного акта мышления, а не наоборот. И квазиматериалистические выверты какого-нибудь марксизма нам здесь не помогут: бытие предшествует мышлению, скажет марксист, но это ведь тоже мысль – то есть сам тезис о первичности бытия должен быть сначала помыслен, значит, первично все же мышление. Материализм во всех своих – не только марксистских, это просто наиболее яркий пример – изводах не преодолевает тезис о безусловной первичности мышления по отношению к бытию, потому что материализм и сам является мышлением, теоретизированием, словами и пропозициями, которые, к общему смеху, силятся доказать, что они вторичны по отношению к какому-то там заявленному бытию. Это значит: что так называемый идеализм, что так называемый материализм – все это варианты единой метафизики присутствия, отличные друг от друга только по содержанию. Материя – такой же мыслимый объект, как и идея, тело – как и душа.
Метафизика присутствия – это мышление посредством субъект-объектной дихотомии, в которой одна ее часть – субъект – важнее другой – объекта. Поэтому критика метафизики присутствия начинается там, где появляется критика субъект-объектной дихотомии – исторически уже у Ницше, если не раньше, а в наиболее заметном виде – у Хайдеггера. Он, как мы помним, старается избегать понятий субъекта и объекта, потому что они для него – уже результат историко-философской ошибки, осадок забвения бытия. Однако, как бы Хайдеггер ни старался, он работает с понятиями, которые могут быть прочитаны как все та же метафизика присутствия со слегка подретушированным фасадом: бытие и сущее, язык как место бытия и прочее. Деррида, подхвативший философскую стрелу как раз после Хайдеггера, обращает внимание на этот момент – что критика метафизика в данном случае оказывается вариацией самой метафизики.
А что бы могло и в самом деле поколебать метафизику присутствия, что могло бы противостоять ей действительно, а не фиктивно? Очевидно, надо показать не то, что присутствуют какие-то другие объекты вместо ранее полагавшихся (тело вместо души, материя вместо идеи), но то, что само по себе присутствие – невозможно. Показать, что проблематична сама моя данность в мышлении самому себе, откуда по нарастающей двинется проблематизация всех прочих объектов, якобы данных мне в чистом мышлении, или сознании. Показать, что субъект сам для себя не прозрачен, что он ускользает от самого себя. В этом повороте мы узнаем традицию философии подозрения, наследником которой во многом и является Жак Деррида. Разница в том, что философия подозрения исходила из модернистской идеи, в соответствии с которой должна быть такая инстанция в мире, из которой все прочие метафизические построения окажутся раз и навсегда фальсифицированными, преодоленными. Это, по сути, гегельянский тезис: вполне представимо – в будущем или как-то еще – некое Абсолютное Знание, в свете которого все предыдущие этапы познания окажутся снятыми, как бы растворенными (не в том смысле, что они просто исчезнут, но в том, что крупица истины, в них заключенная, станет частью конечного знания, тогда как вся ложь будет окончательно устранена). Маркс, Ницше, Фрейд, Кьеркегор во всяком случае предполагают, что они знают, как оно есть на самом деле: на самом деле оно есть исторический праксис, воля к власти, либидо, абсурдное авраамическое божество. Тогда, если знаешь, как оно есть на самом деле, становится ясно, как оно на самом деле не есть – ты получаешь удобную позицию для того, чтобы критиковать все и вся, по каким-то причинам не вписывающееся в твое знание.
Но привилегированная позиция в мире-мышлении – это метафизика присутствия и есть. Мы видели, что такой исходной точкой для всех точек выступает субъект. В философии подозрения ничего не меняется, потому что в ней есть тот субъект критики, вот этого самого подозрения, для которого все дано в своей истине или не-истине. Маркс, Ницше, Фрейд – такие же картезианские субъекты мышления (как бы они ни хотели иного), для которых присутствует мир в свете их субъективного знания, кажущегося им абсолютным. Хотя философия подозрения выступает с первой в истории основательной критикой субъективности, это лишь критика неправильного субъекта догматики правильным субъектом критики, что выдает в наших подозревающих более-менее кантианцев. Метафизика присутствия, с ором и грохотом выгоняемая через дверь, не то чтобы вернулась через окно – она вообще не покидала комнаты, потому что это она же сама себя и выгоняла – этакий моноспектакль, разыгранный перед уважаемой публикой для отвода глаз от того, чтоб одно абсолютное знание сменилось другим, как тасуются в широком рукаве крапленые карты. Поэтому ясно, почему это Ницше все тот же Платон, только наоборот: он предлагает нам быть перспективными и прагматичными, но это его предложение исходит из знающего субъекта, который – единственный – понял, что надо смотреть на мир именно так, а не иначе.
Итак, метафизика присутствия, длящаяся от Парменида и Платона через теологию до Нового времени, в разные времена одевалась в одежды трансцендентализма, абсолютного идеализма, критицизма, потом и феноменологии. Здесь и застает ее Деррида, поэтому феноменология, имея в виду Гуссерля с Хайдеггером, это главный предмет его (во всяком случае ранних) размышлений. Программный текст, лучше прочего отражающий работу Деррида с феноменологией, вышел в 1967 году под названием «Голос и феномен»[26].
Прежде всего – почему голос? Метафизика, как мы помним, это логоцентризм. Но логоцентризм – это прежде всего фоноцентризм. Логос маркирован как фонэ, как речь или живой голос. Фонэ противопоставляется графэ, то есть письму – последнее, по традиции неравновесных бинарных оппозиций, оказывается хуже, неполноценнее первого. А почему письмо хуже речи? Именно потому, что речь полнее представляет присутствие субъекта, нежели это делает (если вообще делает) письмо. Поэтому греки повсеместно возвышали речь над письмом, их философствование было звучащим, говорящим, присутствующим. Голос есть непосредственное присутствие субъекта в акте речи-мышления, это надежная привязка логоса к субъекту. Письмо преимущественно анонимно – даже если мы знаем, что это вот написал вон тот-то и тот-то, эта информация все же вторична, потому что само письмо как таковое не представляет здесь и сейчас своего субъекта, напротив, оно от него отделено, субъект в нем скрыт, поэтому логос может быть сфальсифицирован (можно украсть текст и выдать за свой, но звучащую речь не украсть и не присвоить). Все это говорит о том, что голос изначально является неким опорным пунктом метафизики присутствия, этой метафизики привилегированным понятием, репрезентирующим субъекта метафизического присутствия во всей его полноте: самотождественным, прозрачным для самого себя, четко фиксированным в пространстве, данным в настоящем мо менте времени. Многое ли изменилось за долгие века истории философии? Как показывает Деррида, не очень.
Когда я пишу вам письмо, вы не наблюдаете меня непосредственно – вы имеете дело с объектом-письмом, за которым вы только предполагаете наличие субъекта, выступающего по отношению к этому письму в роли автора. Напротив, когда вы слышите мою речь, вы наблюдаете субъекта в его непосредственном – здесь и сейчас – присутствии. В своей теории знака, открывающей второй и главный том «Логических исследований», Гуссерль сразу исключает из рассмотрения письмо, чтобы сконцентрироваться только на голосе. Знак связывается именно с голосом, феноменология пристегивается к присутствию. У знака есть функция: он репрезентирует данность, еще дальше – сущность. Поэтому для Гуссерля разделение на значение и смысл, о котором речь еще впереди, оказывается излишним: данность, имеющая для сознания смысл, и есть значение знака – референт. Все, повторяю, дано сознающему субъекту – в данности этой спаяны смысл и значение репрезентативного знака.
Голос, таким образом, есть непосредственная данность субъекта сознания. Голос – это живое настоящее, субъективное здесь и сейчас. Голос тавтологичен, он отсылает к говорящему субъекту, тем самым удостоверяя: я говорю – значит я есть, и я есть именно этот говорящий. Письмо уже не позволит замкнуть это тождество – в письме само оно и его субъект разнесены во времени и в пространстве, так, что письмо всегда отделено от своего (предполагаемого, потому что теперь не непосредственного) субъекта. Дело письма – работа разнесения: отдельно акт, отдельно его продукт. Голос же собирает все это обратно: в акте неразличимы субъект и его произведение. Речь как произведение речевого акта есть, таким образом, место, где производится сам субъект – как у Декарта, в акте сомнения производящего самого субъекта сомнения. Гуссерль растворяет инстанцию сомнения в инстанции голоса – здесь ничего не меняется, потому что без изменения сохраняется самое форма тавтологиии: я говорю (сомневаюсь) = я есть (существую). В голосе, как и в сомнении, как, впрочем, и в любом сознательном акте (поэтому, собственно, значение и смысл равны) субъект выходит в прозрачность присутствия для самого себя.
Поэтому, если ранее мы определяли cogito как оператор присутствия, теперь таким оператором мы назовем голос, фонэ. Присутствующее сознание существует как голос. Здесь, обратите внимание, происходит спайка эмпирического и идеального – в речевом акте, в котором звучание голоса как данное в опыте полагается манифестацией чистого субъекта сознания. Эмпирическое отныне не может претендовать на самостоятельность, ведь его привязка к идеальному (трансцендентальному) субъекту есть условие его существования: я существую (эмпирическое «я», голос) как присутствующее для самого себя (трансцендентальное «я», сознание). Это самое само оказывается тем субъектом, который дает существующему санкцию на его существование. Такое возможно только потому, что голос наделяется смыслом живого присутствия (кого? – субъекта сознания). С письмом такой ход не пройдет – там субъект и «его» эмпирия так разнесены во времени и пространстве, что отождествление их окажется невозможным.
Выходит, корень нашего зла – данность в пространстве и времени. Голос, как кажется, удостоверяет эту данность, письмо, напротив, проблематизирует – данность отсрочивается, тождественность, тем самым, ломается. Письмо выступает на стороне различия, голос же – на стороне тождества. Тождество это, по-видимому, достигается тем, что голос мой для меня самого не вынесен вовне, он от меня не оторван, изначально не объективирован перед моим взором – он сохраняет все признаки имманентности, мне присущей, тем самым указывая на очевидность моего присутствия для самого себя в момент говорения. Если чужой голос для меня – объект среди объектов, мой собственный голос от меня не оторван, я знаю, что он и есть я. Ход моей мысли, акт моей воли – все дано вместе с эмпирическим моментом явления моего голоса. Это, как кажется, та искомая точка, в которой смыкаются тело и дух – тот таинственный эпифиз, которым бредил Декарт.
Поэтому мой голос, по Гуссерлю, это именно внутренний голос – звучит он вовне или нет, все равно он имманентно мой, а не чужой. Между мною и голосом нет разрыва, но есть совпадение. Такому голосу ничего не нужно, он вполне самодостаточен. Его задача – не указывать на что-то, но только манифестировать субъекта сознания. Вне этой манифестации – только объекты того же сознания, также, к слову, манифестирующие субъекта – как присутствующие перед его сознающим взором. Такая концепция знака интересна прежде всего тем, чего в ней нет: другого, коммуникации, внешней реальности. Я присутствую для себя, для меня же присутствуют все объекты – я единственный зритель того спектакля, которым оборачивается реальный мир, и мир этот имеет смысл только потому, что есть наблюдающий его субъект – я сам, точка схождения эго и голоса. Предположить другого субъекта проблематично, ибо для меня он всегда будет только объектом, данным мне в мысленном акте. Я ни с кем не общаюсь, не вхожу в коммуникацию, ибо для этого ведь нужен другой субъект. Коммуникация предполагает субъект-субъектные отношения, но для меня есть только субъект-объектные – я могу верить, конечно, что говорю с субъектом, но фактически он для меня лишь объект. Мир и другие люди теряют самостоятельное значение. Они – персонажи спектакля, единственным зрителем которого являюсь я сам. Внешнее завернуто внутрь. Голос сознания звучит не в пространстве реального мира, но – так у Гуссерля – в одиночестве душевной жизни, от меня – для меня, и только. Обвинения в солипсизме, которыми была богата критика феноменологии Гуссерля, имеют, как видно, основу. Выйти к Другому, к миру и к вещи, к людям-субъектам из уютного одиночества душевной жизни, завоеванной самотождественностью субъекта, нельзя. Эго обречено быть одиноким. Знак обречен быть смыслом-значением как манифестацией данности объекта для присутствующего субъекта. Знак – не указание, скажет Гуссерль. Для указания требовался бы внешний мир – такой, в котором эмпирическое могло бы иметь собственный смысл вне статуса простой субъективной данности. Голос не может указывать, он только манифестирует. Указывать зато может письмо.
С указанием знак привносит различие (что указывает, на что указывает) в тождество, что, конечно, опасно для тождества присутствующего субъекта. Различие грозится порушить наш стройный идеализм – так, Платон уже спускал всех собак на реальные вещи, считая их ложью, тенями извечных идей. Вещи суть ложь потому, что они привносят различие, отделяясь от присутствующих перед субъектом чистых идей. Вещи – это Другое, это внешнее, эмпирическое, независимое, не сводимое к смыслу как к отношению между идеей и субъектом, не редуцируемое к субъективной воле, словом, опасное, трудное, непрозрачное. Вещи должны быть устранены, чтобы трансцендентальный субъект оставался чистым. Если, однако, есть вещь, которая непрозрачна для субъекта – такая, которая не сводима к чистому знаку, такая, в остатке означивания которой остается непроницаемая плотность материи, понятой как Другое сознания – если все так, то объекты уже не присутствуют в самосознании. Присутствует – след, как знак, оставленный чем-то, о чем мы ничего не можем сказать с абсолютной уверенностью. Что-то: само существование вещи, ее этовость, такость, не переводимая в голый знак. То самое существование, которое, будучи по Сартру раньше сущности (смысла-значения, эйдоса), своей темнотою и неподатливостью вызывает приступы тошноты. Феноменолога, конечно, тошнит от вещей – Другое способно порушить сам принцип данности-познаваемости феноменального мира. Вещь кружит голову, потому что неясно, что с ней делать – ее, в общем, можно воспринимать и познать, но нам ведь известно заведомо, что между вещью как таковой и познанной вещью будет существовать неустранимый зазор, данный различием сознания и бытия. Если быть не равняется только быть мыслимым, значит, бытие в самом остатке сопротивляется познаваемости и экспансии чистого сознания. Не такое уж оно и чистое: если в вещах есть что-то, что скрыто от мыслимой данности, то, может быть, и я сам для себя не прозрачен, и я не сводим к само-присутствию, и я не тождествен, но сам для себя – Другой?..
Что разрушает гуссерлевскую претензию на самозамкнутость сознания, так это сам язык, из которого Гуссерль как будто бы исходит. На деле его прямая задача – редуцировать язык к внутреннему монологу, предать забвению завязанную на Другом коммуникативность и подменить указание выражением, манифестацией. Гуссерль замыкает язык в самосознании, тогда как у Деррида именно язык, напротив, прорывает замкнутость по направлению к Другому – ко внешнему, к вещи, к миру. Насилуя язык, Гуссерль все равно не может оторвать его от указательной функции: язык сперва приходит к субъекту извне, и только потом субъект, будь он хоть трижды феноменологом, может присвоить язык и заставить его служить внутреннему монологу. Язык другой для сознания, потому что оно его не порождает, потому что сознание всегда имеет дело с уже готовым языком – следовательно, непрозрачным в своем бытии и в своем генезисе, заимствованным из того мира, который мы стремимся редуцировать, плюралистичным, меняющимся, полисемичным. Приходя к нам извне, язык приносит с собой различие, разрыв и отсрочку, в которой всякое тождество взрезается изнутри разнесением смысла (то, что для субъекта) и значения (то, что само по себе, – объективно). Язык – другой, потому что он порождает другое – в каждый момент, в каждом акте высказывания. Я отличаюсь от языка, потому что не я его порождаю; язык отличается от объектов, потому что он только на них указывает; я, таким образом, отличаюсь от объектов, потому что между нами язык; в конечном итоге и я от себя, и объекты от себя также отличаются, потому что язык манифестирует их через полисемию, изначальное богатство значений и смыслов… Язык различает – как плохо, оказывается, приходится тому, кто дерзнет обосновывать тождество с помощью языка. Совсем наоборот, язык – это лучшее средство сломать всякое тождество, наиболее эффективное оружие против тотальности и единства. Поразительно, но, начав с языка, Гуссерль им и закончил, потому что не смог – через тысячи и тысячи рукописных страниц – одолеть его внутреннюю дифференцированность[27].
Получается, что язык функционирует скорее как письмо, нежели как голос: он указывает и разносит, он артикулирует, различает и связывает речевой акт с отсутствующим в языке Другим, нежели с присутствующим в нем тем же самым, данным как трасцендентальная субъективность[28]. Язык сопротивляется метафизике присутствия в том самом месте, где последняя стремится присвоить его, им же оправдывая свою экспансивность. Голос есть то же письмо, потому что он вовсе не утверждает тождественность, но вносит различие: между сознанием и другим для него языком, между мыслимым знаком и референтом его, отсутствующим в акте выражения. Следовательно, показать, как на самом деле письмо вытесняет голос – первичная задача деконструкции, понятой как критика метафизики присутствия. Необходимо увидеть, как за тождеством спрятано различие, как внешнее, отличное, иное не может быть до конца сведено к романтическому «одиночеству душевной жизни». Нужно прорвать солипсизм, увидев в самом языке возможность и вместе необходимость Другого – вещи, сознания, субъекта. В этом смысле у деконструкции есть легко различимая этическая функция – дать миру быть миром, другому – другим, а не только объектом для абсолютного эго. Дать место тому, что было его лишено – будучи подавленным и объявленным «всего лишь тенями» извечных идей, которые на поверку оказываются гипостазированными элементами языка, в самом себе дифференцированного и ускользающего от тождества. Проблема метафизики в том, что ее не существует вне языка, тогда как именно язык оказывается главным могильщиком всех ее тоталитарных претензий. Как будто бы здесь от меча гибнет тот, кто с мечом и приходит.
Итак, невозможно свести весь язык к выражению и следом к сознанию, потому что язык – как письмо – неустранимо указателен и коммуникативен. Если метафизика пытается, по необходимости пользуясь языком, проскочить рефлексию самого языка и попасть сразу в данность абсолютных сущностей, то деконструкция как раз-таки приостанавливает этот метафизический порыв, концентрируется на языке и детально показывает, как – в силу его специфики – всякий метафизический проект получения чистых сущностей тонет в языковых различиях. Так, концентрируясь на языке как на письме, деконструкция демонстрирует, что объект языка, отсутствуя в самом языке, оказывается вынесенным вовне. Здесь, поэтому, конституируется это неустранимое вовне, о котором хотела забыть метафизика (существование вовне – покушение на самотождественность внутри). Для того чтобы показать существенность работы с языком как с письмом, Деррида вводит неографизм – различание (différаnce), то есть пишет известное слово подчеркнуто неверно, с ошибкой. На что эта ошибка указывает? Именно что на это различие между голосом и письмом: то, что не слышно в звучании, видно на письме (указанное французское слово – с ошибкой и без – звучит одинаково, поэтому только написание показывает, правильно оно или ошибочно). Неографизм этот призван продемонстрировать преимущество письма над голосом – последний скрывает различие, которое обнажает первое. Именно так, по Деррида, работает сам язык: понятый как голос, он скрывает за мнимым тождеством говорящего субъекта внутриязыковое различие, всплывающее на письме как разрыв между манифестацией и указанием.
Этот жест Деррида, возводящий ошибку в статус концепта, сыскал свою славу, кого-то обрадовав, кого-то возмутив. Сейчас этот неографизм можно встретить в солидных словарях, тогда это воспринималось чуть ли не как покушение на чистоту языка (особенно если учесть, что алжирский еврей Деррида и сам по себе представлялся чем-то чужим для инстанции чистого французского языка, что он сам никогда не уставал подчеркивать). Но концепт – вопреки возмущениям, а может быть, и благодаря им – оказался более чем рабочим. Он успешно указывает на то, что не может быть чисто фонетического письма, потому и не может быть первенства голоса. Фонетическое письмо скрывает в себе неустранимые трудности, которые может вскрыть разве только письмо графическое. Это второе письмо как исток деконструкции, понятой как грамматология – логос о письме, есть различание как таковое, то есть отсрочивание во времени и разведение в пространстве того, что на первый (выражаясь парадоксально, фонетический) взгляд выглядит спаянным – а именно тождество вещи, знака, субъекта. Таким образом, работа деконструкции оказывается наиболее чистым примером того события, которое мы полагаем парадигмальным для постмодерна: пристальное внимание к языку, подготовленное успехами лингвистики и структурализма, предоставило философии тот инструментарий, благодаря которому удалось развязать самые спутанные и закосневшие узлы метафизической традиции. Язык перекраивает все философское поле, меняя самое аксиоматику. Философия тождества сменяется философией различия. Не так, что первая во всем ошибочна, вторая во всем верна – это все еще был бы перевернутый платонизм. Но так, что первая не может отныне считаться тотальной и самодостаточной – ей необходима прививка различия, чтоб оставаться осмысленной.
Лекция 11. [Ризома]
Прежде всего хорошо бы нам подумать о дереве. Что мы можем о нем сказать? Чем древовидная структура отличается от всех прочих? Как минимум древовидная структура центрирована на стволе. Ствол – это ось для всего того, что является элементом дерева. Среди элементов дерева, центрированных на оси ствола, мы можем выделить ветви и листья. Эти элементы – уже дифференциация ствола, различие как разветвление. Ветви обозначают отход от единства ствола, однако этот отход обусловлен центральным положением ствола и без него немыслим. Это делает дифференциацию дерева весьма относительной. Ствол порождает ветви и листья, их существование не самостоятельно. Центр древовидной структуры определяет ее периферию. В древовидной структуре наблюдается генетическая иерархия элементов: ствол первичен, он главный.
Теперь подумаем о том же дереве, но обратим внимание на его корневую систему. Первое, что можно тут сказать: корень скрыт. Мы не видим корня, и это позволяет нам (или заставляет нас) всякий раз грезить о тайне корня – что там, под землей, что сокрыто, чего мы не видим?.. Корень является основанием, об основании мы и грезим. Интересно: ведь только что мы готовы были согласиться, что основание – это ствол. Оказалось, что видимый ствол, выдающий себя за основание, на деле и сам вторичен, потому что истинным основанием – подчеркиваю, сокрытым, таинственным – является корень. В бытовом общении мы говорим: корень проблемы, корень зла, корень всего, чего угодно. В качестве абстрактной древовидной структуры мы можем представить себе очень многое: родословную, разбор художественного произведения, состав и взаимосвязь должностей в фирме. И всякий раз мы должны будем представлять себе скрытое основание, истину-загадку – корень: первого легендарного предка, авторский замысел, серого кардинала. Наше подозрение в том, что суть дела не лежит на поверхности, что истина всех вещей скрыта от нашего взора, – неустранимо, постоянно, сильно. Без преувеличения можно сказать, что именно это подозрение является истинным двигателем классической метафизики. Добраться до корня, до скрытого смысла всех вещей – вот что нам нужно. Мир в его видимости, конечно, хорош и интересен, но куда интереснее то невидимое, которое основывает мир и удерживает его в единстве.
Мы можем, конечно, взбунтоваться против подобного порядка вещей, отвратиться от власти невидимого и перевернуть древовидную структуру. Тогда корень окажется на виду, он будет разоблачен, тогда как внизу окажутся ветви и листья. Казалось бы, произошло многое, но на самом деле сама иерархическая структура осталась прежней: снова что-то на виду, а что-то сокрыто. Меняется содержание, но форма остается прежней. Это, наверное, главная проблема любой революции (буквально – переворота) – меняются акторы, но остаются функции. Вчера карал король, сегодня карает мещанин. И в том и в другом случае один карает другого. И в мыслях мы можем устраивать нешуточные революции, к примеру, выставляя телесность и инстинкт выше разума и идей. Это кажется дерзким, но суть остается прежней: что-то в нас властвует, что-то подчиняется; второстепенное видимо, оно подчиняется, первичное сокрыто, оно командует. Поэтому Хайдеггер всерьез говорит, что Ницше – это просто платонизм наоборот. Ветви командуют корнем.
Обратимся, наконец, к третьему образу. Это – ризома: корневище, пучок, клубок, клубень. По звучанию кажется, что немногое изменится от замены корня корневищем, но это не так. Самое важное отличие – это полное отсутствие центра. Причем любого – как явного, так и скрытого. Ризома, в отличие от дерева со стволом или с корнем, устроена так, что ни один ее элемент не может быть назван центром по отношению к другим. А если у ризомы нет центра, то нет и периферии, если нет главного элемента, то нет и второстепенных. Иерархия оказывается по-настоящему опрокинутой, а не просто перевернутой. В случае корневища мы перестаем мыслить в понятиях власти и подчинения, первородства и детерминированности. Нельзя не отметить, что не найти лучшей иллюстрации для постмодернистского образа мысли.
Эту иллюстрацию использовали Жиль Делез и Феликс Гваттари в тексте 1976 года, который так и называется – «Ризома». Чуть позже, в 1980 году, этот текст в качестве введения вошел в книгу «Тысяча плато», второй том «Капитализма и шизофрении»[29] (первый том – «Анти-Эдип»). Нам, в принципе, ничто не мешает видеть в ризоме, давшей название важному тексту Делеза и Гваттари, только метафору. Эта метафора будет отсылать нас к нелинейному, децентрированному способу мыслить и философствовать. Все так, но авторы настаивают, что ризома – это не просто метафора, но полноценный философский концепт. Тогда нам надо разобраться, что такое концепт и чем он отличается от метафоры. Концепт, утверждает Делез, это то, что философ создает в процессе своей работы. Специфика философской работы и состоит в том, что философ производит концепты. Художник рисует картины, писатель пишет романы, режиссер снимает фильм, математик решает уравнения, плотник колотит мебель, а философ создает концепты. Важно отметить, что концепт создается специально, он не витает в воздухе подобно хорошим идеям, его нельзя, просто протянув руку, взять с потолка. Хорошо бы покончить с романтическим представлением о божественной инспирации, о пьянящем вдохновении и о прочей белиберде. Концепт – это работа, его надо делать, формовать. Концепт не предшествует философской работе. Он ею создается.
Таким образом, концепт есть некая форма, которая упорядочивает что-то, что до него не было упорядочено. Как и картина, которая упорядочивает фигуры и цвета, как и роман, который упорядочивает образы и события, как и уравнения, которые упорядочивают числа. Концепт есть порядок в некоторой области, которую и нужно обозначить. Обозначить ее легко: это мышление. Таково специальное поле философии – мышление. Мы скажем, ну как же, ведь и литература это мышление, ведь и математика это мышление. И да и нет. Без мышления нет литературы и математики, однако их объекты – не мышление как таковое, но скорее предметы, данные в мышлении, такие как образы или числа. Литература и математика не изучают мышление само по себе, они изучают мыслимые данности. Математика изучает числовые операции, но она не ставит вопрос о том, как устроено человеческое мышление, в котором возможны операции с числами. Математике довольно, что такие операции как-то возможны, а потому можно сразу переходить к этим операциям. Философу нет дела до этих операций как таковых, ему нет дела до романа как такового или картины как таковой. Все, что его интересует, это: как устроена мысль, если мыслимы числа, если мыслим роман, если мыслима картина. Вот и все: условия мыслимости объектов мысли.
Тогда концепт – форма мышления, в которой затем может быть дано все что угодно: уравнение, роман, картина. Они, к примеру, никогда не могут быть даны, если нет формы мысли или концепта тождества, ибо они даны как тождественные самим себе (если роман «Анна Каренина» не есть он сам, то его вообще нет). Они не могут быть даны без концепта различия, потому что, будучи самотождественными, они отличаются как минимум друг от друга. Уравнение не может быть дано без концепта числа, а картина – без концепта цвета. Одним словом, все должно быть мыслимо, чтобы быть. Философия, создающая концепты, ставит перед человеком формы его мысли, тем самым делая возможными объекты этих мыслей. Дикари, не знающие числа, не могут считать. Люди, не знающие цвета, вполне могут видеть звуки. Мало ли что может происходить с людьми, которые не имеют форм мысли, которые есть у нас. И еще интереснее представить себе обратное – сколь многих форм мысли мы лишены, пока или вообще.
Концепт собирает порядок из хаоса мыслимого. Концепт – это сборка мыслимых данностей. Данности при этом могут быть любыми. К примеру, из нескольких палок и досок, предположим, образуется концепт стола. Из нескольких чисел – уравнение. Это простейшие концепты, они состоят из небольшого количества элементов. Есть значительно более сложные и богатые концепты. Например, концепт априори у Канта. Чтобы создать этот концепт, нужно уже обладать некоторыми другими концептами: опыт, чистое, чувственное, интеллигибельное; кроме того – эмпиризм и идеализм; затем – форма и содержание. Все это должно быть промыслено, собрано, понято, чтобы возможным стал концепт априори. Если все эти концепты оставить бессвязными, получится хаос сложных слов. Если умело их собрать, провести между ними хитрые связи, получится концепт априори. Впрочем, при других связях между теми же элементами может получиться другой концепт. Простор для творчества огромен.
Более-менее выяснив, что такое концепт, мы можем перейти к тому, что такое концепт ризомы. Спрашивать это означает спрашивать, как работает этот концепт, что он собирает в форму. Ризома, по указанию авторов, есть форма мысли или книги, то есть книга может быть ризоматической по форме. Мы можем представить себе любой пример так называемого гипертекста в литературе ХХ века – к примеру, работы Милорада Павича, – поняв тем самым, что такое ризоматическая книга: это книга с отсутствующей иерархией, в которой ни одна ее часть не важнее других. Большинство философских текстов Ницше представляют собой гипертекст, ризому (напомню, что Ницше для Делеза – важнейший исток). Афоризмы Ницше можно читать в любом порядке, ни один из них не важнее для общего замысла, чем другой. Последний текст Джеймса Джойса тоже представляет собой ризому.
С книгой все довольно прозрачно, сложнее дело обстоит с ризоматическим мышлением – потому, видимо, что для нас куда привычнее мышление древовидное, желательно со скрытым корнем. Древовидное мышление привязано к какому-то месту, оно в собственном смысле слова укоренено. Корень древовидного мышления зарыт в некоторой традиции, в некоторой идеологии. Любые мифологические структуры, любые метанарративы представляют собой такое общее место, большой топос, к которому накрепко привязывается тот или иной стиль мышления: марксистское мышление, националистическое мышление, либеральное мышление, тотемическое мышление, платоническое мышление. Корень скрыт, но мы-то его хорошо видим. Укорененность древовидного мышления делает его ригидным, неповоротливым и крайне, крайне враждебным к таким мыслительным ходам, которые коренятся в других общих местах. Марксист готов убить за утверждение, что социальная агрессия коренится в ранней эротической травме, потому что это мыслительный ход из другого топоса, корень которого вступает в противоречие с марксистским корнем (звучит это экстравагантно, но смысл ясен).
В таком случае верно, что ризоматическое мышление не будет укорененным, следовательно, оно обретет способность совмещать мысли из разных топосов. Суметь соединить производственные отношения и эротическую травму – значит осуществить ризоматический мыслительный акт, вот только придется потрудиться создать оригинальный концепт для данного синтеза. Ризоматическое мышление ни к чему не привязано, оно не пускает корни и путешествует, как номад (еще один делезианский концепт, чуть менее популярный). Согласимся, что это как минимум интересно, потому что ризоматическое мышление в любой момент норовит выкинуть какое-нибудь коленце. Его неукорененность означает, что от него никогда не знаешь, что ожидать. Таким образом, с ним весело.
С этической точки зрения к тому же ризоматическое мышление выглядит гораздо лучше древовидного. Древовидное мышление движимо волей к центру – скрытому или явному, а воля к центру и составляет основу того, что станет главным ругательством второй половины ХХ века: я имею в виду фашизм. В таком случае ризоматическое мышление, лишенное воли к центру, автоматически оказывается антифашистским. Однако это же делает его подозрительным с точки зрения государства и общества. Мы помним по одному из наших разговоров, что общество структурируется дискурсивно, оно распадается на множество дискурсов, обладающих собственными правилами игры; эти дискурсы и образуют те самые топосы, общие места, в которых укореняется древовидное мышление, – имея корень в каком-то одном месте, оно включается в общественную стратификацию, оказывается социально апроприированным. А как тогда быть с ризоматическим мышлением? Оно нигде не укоренено, не вписано в тот или иной дискурс, поэтому для него, собственно говоря, нет места в обществе. Таким образом, ризома еще и антисоциальна, что, впрочем, добавляет ей шарма, ибо бунтарство по-прежнему в моде.
Внутреннее устройство ризомы поистине плюралистично и свободолюбиво. Любая ее точка может быть присоединена к любой другой ее точке. Любой элемент вступает в коммуникацию с любым другим элементом, и никакие иерархические препоны не могут служить этому помехой. Элементы ризомы гетерогенны, неоднородны, однако при этом они свободно вступают в связи. Назовем это союзом непохожего. Фашизоидные и центростремительные структуры, напротив, не терпят связи гетерогенного – таких как, к примеру, связи между разными расами и разными классами. На каждом уровне центростремительной структуры гомогенные связи подчеркнуто крепки, а все гетерогенное либо помещено на какой-нибудь другой уровень (к примеру, господа/рабы), либо выброшено за пределы структуры (арийцы/евреи). Ризома же, в свою очередь, нарушает гомогенные связи и заново связывает разнородные элементы (бесклассовое общество, свободная любовь и прочее).
Исходя из гетерогенного, ризома образует не единство, а множественность (однако множественность, концептуально взятую как единство, – как в теории множеств). Она стремится не центрировать, а децентрировать, не отождествлять, а различать. Именно это и имеется в виду, когда говорится, что ризома лишена корня – она не возводит свои элементы к единому центру. Отсюда сделаем еще один шаг и скажем, что ризома не предполагает субъект-объектного деления и вообще стремится обходиться без устаревших концептов субъекта и объекта. Понять это нетрудно, ведь субъект и объект – это одни из основных механизмов центрации и единения в европейской интеллектуальной культуре. Под рубрику субъекта мы подводим множественность индивидуальных аффектов, под рубрику объекта – множественность эффектов окружающего мира. Ризоматическое мышление предлагает рассматривать их именно с точки зрения множественности, не производя над ними насилие центрации на абстрактном принципе личности или вещи. Пускай индивид будет разным, пускай разной будет вещь – главное не в том, чтобы завладеть их бытием через систему жестких абстракций, главное в том, чтобы увидеть нечто во всей пестроте его ракурсов, увидеть нечто сотней глаз, как учил Ницше.
Следующий шаг: ризома строится не на точках, но на линиях. Что бы это значило? Не более, чем то, что точка есть абстрагированное тождество: тождество потому, что точка самодостаточна и равна самой себе, абстрагированное потому, что точка есть плод особой интеллектуальной операции, ибо в природе никаких точек не встречается. И если точка, таким образом, есть математическая модель бытия (того самого, которое впервые описал Парменид), то линия есть, напротив, математическая модель становления (восходящего, в свою очередь, к Гераклиту, хотя и не столь точно эксплицированным образом). Линия не ограничивается тождеством, потому что она есть движение – от одной точки к другой и далее, не равняясь, таким образом, ни одной из отдельных точек, через которые она проходит. Поэтому древовидная структура строится на точках, тогда как ризома строится на линиях: конечно, и в ризоматической структуре можно выделить отдельные точки, но они будут вторичны по сравнению с движением, которое их обусловливает.
У нас вырисовывается, как видно, своеобразная этика ризомы: дерево, корень, центр, фашизм, тождество, точка дают нам негативный пример, корневище, множественность, различие, линия дают нам пример позитивный – если упростить все это до наивной наглядности. Если же не упрощать, то за концептом ризомы стоит рефлексия над запутанными событиями в области естественных наук ХХ века, событиями, которые через парадокс наблюдателя, квантовую механику, теорию относительности заставили нас усомниться в примате тождества над различием, расшатали универсальную субъективность, реабилитировали становление перед лицом бытия. Сочинения Делеза демонстрируют очень хорошую ориентацию автора в современном ему научном знании. Его концепты не возникают на пустом месте и не отсылают нас исключительно к истории философии – они, что вполне привычно для философии постмодерна, предпочтительно позитивны и тем менее абстрактны, метафизичны, логоцентричны.
Концепты Делеза и время от времени присоединяющегося к нему Гваттари претендуют на то, чтобы упорядочивать мышление о естественных и научно наблюдаемых объектах. Возьмем осу и орхидею – вместе они создают ризому. Во взаимодействии осы и орхидеи не наблюдается никакой древовидной иерархии – никто не властвует и никто не подчиняется, никто не субъект и никто не объект. Событие их соединения одинаково важно для каждого. У этого события нет единой и общей цели, напротив, цель цветка, отдающего пыльцу, и цель насекомого, собирающего ее, различны. В нужный момент они разъединяются и оставляют друг друга в своих совершенно разных мирах, и на предмет их краткосрочного союза не останется никакого значимого следа. Чтобы описать структуру соединения осы и орхидеи, концепт ризомы подходит идеально, тогда как концепт дерева совсем не годится – ему больше приличествует что-то вроде господина и раба.
Далее, описывая ризоматическое мышление, Делез и Гваттари вводят дополнительные концепты карты и кальки. Они взаимосвязаны и описывают противоположное. Калька – это, очевидно, копия. А копия, как мы знаем, связана с оригиналом, со все тем же центростремительным принципом первородства, истока, причины и детерминации. Калька – это репрезентация, отсылающая к некоторому тождеству. Логика дерева построена на калькировании, потому что в древовидной структуре все вторичное репрезентирует тождество истока – скрытого или явного корня. В этом смысле и человек создан по образу и подобию некоторого бога, он – только репрезентация божественного оригинала, поэтому религиозный человек находится со своим божеством в, прямо скажем, древовидных (я не говорю – деревянных) отношениях. Если у мира есть исток и высший смысл, то все прочие внутренности такого мира окажутся не более чем калькой.
Что же ризома? Она не калька, но карта. Ее смысл в том, что она не воспроизводит, но производит – создает, творит, экспериментирует. Конечно, нам такой ход немного непонятен, потому что мы привыкли под картой мыслить кальку, как схему метрополитена, к примеру. Не об этом идет речь у Делеза и Гваттари. Под картой они понимают то, что создается самим путешествием путника. Карта есть карта опыта, а не схема заранее данного маршрута. В этом смысле литературное произведение является картой, а географические зарисовки, силящиеся изобразить какие-то оригинальные естественные маршруты, являются лишь кальками, копиями с физического оригинала. Картографировать – значит экспериментировать с данностями, причем делая это так, чтобы в результате прорисовывались новые связи, открывались неожиданные ракурсы, становились возможными новые пути и повороты. Карта – это приключение, а не деловая поездка. Философ картографирует, когда изобретает концепты. Он только калькирует, когда в сотый раз повторяет за Платоном или за Ницше.
Ризоматическое мышление картографирует – оно изобретает, становится, движется, меняется. Древовидное мышление калькирует – оно всякий раз репрезентирует все ту же самую логику тождества и исходящих из него иерархий. Если в данном случае воспользоваться довольно простыми примерами, то ризоматический мыслитель окажется путешественником там, где древовидный мыслитель окажется туристом. Разница нам интуитивно понятна: путешественник открывает мир как рожденный здесь и сейчас в опыте его собственного движения, тогда как турист двигается по заранее заданной схеме, поэтому он, в общем-то, и не движется, но за большие деньги остается на месте – все равно он увидит и узнает не больше, чем мог бы усвоить из туристической программки на сайте фирмы. Турист потому – настоящий консерватор: он заранее знает, что ему нужно, и он хочет получить именно это, чтобы еще раз подтвердить свое представление о мире (в мире есть пирамиды, Лувр и шведский стол, все прочее не в счет). Точно так же многие люди ходят по художественным галереям – они скорее читают таблички, нежели рассматривают живопись, и время от времени фотографируют некоторые экспонаты, которые, как им объяснили сведущие, «надо знать». Напротив, путешественник сторонится туристических мест (тождеств) и прокладывает тропы собственного опыта, как и путешественник в области искусств идет в галерею за встречей, которая перевернет все его представления об живописи, а вовсе не за повторением того же самого. Все очень просто: один детерминирован, другой свободен; один повторяет, другой творит. Ризоме, как оказалось, не чужда романтика.
Излюбленная стратегия Делеза, хорошо понятная по нашим примерам, заключается в том, чтобы всякое имя обращать в глагол. Мы говорили, что ризома, в отличие от дерева, не статична, но динамична. Карта, в отличие от кальки, не репрезентирует данное имя, но творит свой собственный путь – то есть действует. Философия – не родовое имя некоторой данности, но только акт – философствование, созидание концептов. Это философия активная и деловая, глагольная, становящаяся. Она не довольствуется тем, что апеллирует к вековым авторитетам, она не фантазирует на манер феноменологии, что ее задача – только правильно видеть, репрезентировать в своем видении присутствие самих вещей, под которыми понимаются вечные первозданные сущности, пребывающие будто бы в божественном уме целыми и неизменными. Подобный образ мысли, называемый отныне метафизикой (не без ругательного оттенка), отбрасывается ризоматическим мышлением не просто как устаревший, но как пагубный и – даже – фашизоидный. Философия не репрезентирует вечные идеи, но даже само понятие идеи оказывается в ее акте созданным, сработанным концептом: о примате идей заговорили только после того, как Платон смастерил концепт идеи, а до того момента и в страшном сне о подобном никто не помышлял. Можно неистово поклоняться своему богу, но это стало возможно только после того, как кто-то создал концепт бога – неважно, в корыстных ли, как у Ницше, или во вполне искренних целях. Все дело в том, что сущности не предшествуют существованию, да и само существование – не какая-то персоналистская данность, но активное поле взаимодействия сил, становление, приключение. Начиная мыслить безлично и вне-сущностно, мы открываем перед собой невообразимый простор для бесконечных метаморфоз.
Конечно, все это имеет скорее программный, нежели фактический характер. Неверно, что все только и ждали откровения от Делеза, чтобы перейти от точек к линиям, от бытия к становлению, от кальки к карте. И до Делеза, и после него можно мыслить объекты как сущности, можно мыслить объекты как процессы. Как раз-таки такой диапазон возможностей больше отвечает делезианскому замыслу, нежели вполне фашизоидный запрет на всякую метафизику. Наивно предполагать, что Делез со товарищи открывают истину в последней инстанции: мир множественен и гетерогенен… Все это, в общем-то, и так ясно. Завоевание Делеза в другом: он строит, и небезуспешно, новый образ самой философии – образ, соответствующий духу времени, когда параллельные линии могут и не пересечься, романы можно писать совсем без сюжета, а «Секс Пистолз», похоже, куда актуальнее Рихарда Вагнера. Философия a la Deleuze – это, что уж там, стильная штучка: она оставляет поиск истины тем, кому глубоко за сорок, она предпочитает творчество и оригинальность, она не сторонится запретных тем и с одинаковым интересом рассуждает как о субстанции, так и о солнечном анусе судьи Шребера, она провокативна, свободолюбива, дерзка и склонна к ярким краскам. Философия Жиля Делеза – это прежде всего молодая философия, и лучший способ составить о ней аутентичное впечатление – это представить себе десятки и даже сотни юных французов, сидящих на лекциях Делеза почти что на головах друг у друга, курящих и пьющих, громко смеющихся, грозно ругающихся. Сам же Делез был в восторге от этого антуража – конечно, ведь это не калька, но карта. Философия и есть, в некотором смысле, сам дух времени, выраженный в сетке понятий. Дух времени, очень талантливо уловленный Жилем Делезом, поносит Платона и Гегеля, носит черные очки и взлохмаченную шевелюру, предпочитает непрестанно меняться и никогда не стоять на месте. Но что еще важнее, этот дух времени задает в философии удивительно свежий тон. Философия, сказано им, есть не вечная мудрость, но мастерская, где всякий желающий, будь он умелец, мастерит себе кое-что важное: мысль, понимание, знание. Философия – это не поиск истины, но жанр и вид интеллектуального творчества, какими являются и кино, и живопись, и наука. Философ работает над продуктом, и верх его притязаний – это, выражаясь словами Шкловского, хорошо сделанная вещь, а не титул степенного мудреца, тем более не профессорское кресло (отходную по эре профессора пел между делом и Лиотар). Философия: жанр, стиль, мастерство. Задумаемся об этом. Такой подход к делу скажет о постмодерне больше, чем сырой пересказ философских текстов, выданных, как в XIX веке, за бестиарий доктрин, которые спорят друг с другом, скорее, за то, какая из них эффективнее усыпляет несчастного скучающего школяра, втайне мечтающего о настоящем приключении своей завалявшейся мысли.
Лекция 12. [Желающие машины]
Соглашусь: выражение «желающие машины» может и смутить. Прошлый раз нас также смущали все эти деревья, стволы и корневища. Смущаться, однако, нечего – за странными образами таится строгая мысль. Спешу заверить, что с желающими машинами все обстоит точно так же.
Что касается машин, то с ними мы сталкивались еще в прошлый раз, когда разбирали пример осы и орхидеи – их соединение и образует машину. Орхидея предоставляет некоторый поток, оса осуществляет срез этого потока. Мы можем говорить о машине потому, что в данном случае осуществляется работа, подразумевающая результат. Тела – это машины, потому что они работают. Вспомним Декарта – по принципу машины он мыслил весь протяженный мир. Мы похожи на ходячие фабрики – стоит только задуматься, какой сложный и выверенный процесс лежит в основе нашей телесности. Столь же машинно все вокруг нас. Маленькие машины – такие, как щелчок пальцев, входят в состав больших машин – таких, как человеческое тело, которые, в свою очередь, входят в состав еще больших машин – и так до тех пор, пока не закончится воображение. Мир состоит из бесчисленных машинных сборок.
Понятно, что концепты вроде машины нужны философам для того, чтобы мыслить предельно материально, чтобы по возможности очистить мысль от всякой мистики или метафизики. Наука предоставляет нам язык описания мира, выражения которого, в отличие от всех прочих выражений, могут быть проверены и доказаны. Это значит, что на научный дискурс можно положиться. Раз так, то не должна ли философия идти в ногу со временем и держаться проверенных данных научного знания? По Делезу, должна. Поэтому он выбирает язык, наиболее близкий к познаваемому, воспринимаемому, материальному миру: машины, срезы, потоки, сборки, ризомы и корни. Слыша эти слова, мы готовы растеряться. С одной стороны, они совершенно нетипичны для философии, которая, казалось бы, бредит идеями, духами и богами. С другой стороны, слова из делезианского языка нам очень ясны, они сразу же отсылают нас к образам реального мира, ко всему тому, что можно увидеть и потрогать. То есть в одном месте мы сталкиваемся с чем-то очень странным и очень привычным. Если нам удастся миновать эту сложность, мы сможем ощутить удобство и работоспособность делезианского «материального» словаря.
Материальный мир состоит из процессов, вокруг нас одни машины, непрестанно осуществляющие ту или иную работу. Машины, лежащие на поверхности (воспринимаемые тела), скрывают машины, лежащие за пределами чувственного восприятия (символические формы). Надо признать, что язык – не менее машина, чем тело. Наш мир не ограничивается телами, он наполнен машинами-представлениями, машинами-грезами, машинами-снами. Все, что работает и производит, является машиной. Теперь, когда мы это себе уяснили, выражение «машины желания» не кажется очень уж странным. Конечно, желания – это машины, в этом может убедиться каждый из нас по многу раз на дню. Желание совершает работу и производит продукт. Желание есть динамическое соединение множественных элементов, это, как выражается Делез, конъюнктивный синтез, то есть синтез не разделительный (или), но соединительный (и). Желание собирает множественные явления воедино, рождая новые миры. Разве не так?
Конечно, говоря о желании в ХХ веке, тем более во Франции, мы автоматически говорим о психоанализе. О нем же говорят и Делез с Гваттари – потому их книга, пожалуй, самая известная книга, называется «Анти-Эдип»[30]. Заявка ясна: речь пойдет об Эдипе, то есть о фрейдовском психоанализе, однако разговор этот будет обличительным. Роль Феликса Гваттари – психоаналитика, последователя и одновременно критика Жака Лакана – в данном случае возрастает. В соответствии с этим и нам придется оживить наши воспоминания о психоанализе и постараться сопоставить концепцию желания, нашедшую свои классические формулировки у Фрейда, с новой концепцией желания, предлагаемой Делезом и Гваттари – тем более учитывая то, что эти авторы пишут так, что от читателя требуется совершать большую часть работы самому и не ждать, что каждую мысль и всякую ссылку ему будут разжевывать с услужливым пиететом.
Под желанием мы обычно понимаем стремление, потребность, нехватку. Мы хотим чего-то, чего нам недостает. Предполагается, что мы осведомлены о том, чего мы желаем: поесть, поспать, много чего прочего. В этом смысле человек, конечно, соткан из желаний. Вся человеческая жизнь может быть схематизирована как последовательность желаний и ответная последовательность удовлетворений или неудовлетворений. Человек – желающее существо, и этим он мало отличается от любого другого животного. Разве что животное чуть лучше оснащено в вопросе удовлетворения своих желаний (инстинкт точнее большинства человеческих талантов), к тому же желаний у животного несколько меньше, чем у человека. Но различие, как видно, только количественное. Строго говоря, зная человеческие желания, человеком очень легко манипулировать – он как на ладони, и на нужный стимул он выдаст искомую реакцию.
Таков обыденный, школьный взгляд на вещи. Однако господин Фрейд пошел значительно дальше обыденности. Психоанализ говорит о желании такое, о чем в школах помалкивают. И прежде всяких сальностей – очень важный оборот дела: мое желание – это не мое желание. Имеется в виду, что сам я своего желания не знаю, потому что оно открывается мне не напрямую, а косвенно – через намеки и символы, как будто бы я был не носителем этого желания, а каким-нибудь сторонним наблюдателем. Только что мы думали, что желание по сути своей прозрачно, что мы знаем о нем и в принципе в состоянии им манипулировать, а теперь специалист в этом вопросе говорит, и не без доказательств, что желание непрозрачно, что оно непрестанно искажается и ускользает от понимания. Поэтому наиболее ценные в познавательном плане символы желания – это наиболее мутные и неясные вещи вроде снов, наваждений, оговорок. Искаженное указывает на желание лучше всего прочего, потому что само желание искажено, а подобное поверяется подобным.
Желание мне не принадлежит, скорее уж я сам принадлежу желанию. Мне казалось, что желание в принципе проницаемо моим сознанием, тогда как на самом деле желание исходит из бессознательного, которое детерминирует мое сознание и по отношению к которому мое несчастное сознание оказывается чем-то вроде маленького золотистого островка в необозримом океане густой черноты. Это банально, но там, где царит бессознательное, нет сознания, а бессознательное, согласно Фрейду, царит практически надо всем в нас. Мы знаем, что бессознательное – это основной концепт Фрейда, но нам он нужен для того, чтобы пролить свет (как бы наивно это ни звучало) на желание, а не наоборот. Тем более что у нас есть такой хороший свидетель – ведь Фрейд, в отличие от нас, кое-что знает и о бессознательном, и о желании, и лучше не спрашивать, как это у него получается.
Как минимум Фрейд знает, что желание – это еще и либидо. Всякое желание – это прежде всего эротическое, сексуальное желание. Нам это покажется несколько диким, потому что мы привыкли вычитывать из своих желаний не только эрос – ну мало ли чего нам еще хочется… Однако желание, по Фрейду, умеет обманывать, оно рядится во всякие разные тряпки, но под ними оно – именно эротическое желание, а не какое-нибудь еще. Бедная буржуазия начала века – от этого венского доктора ей пришлось узнать о себе такие дурные новости, узнать, что единственное, о чем она на самом деле помышляет – это секс, и не более… Многие, конечно, сопротивлялись, но Фрейд и здесь не растерялся – он умело объяснил своим оппонентам, что в них сопротивляется их эротическая болезнь, ибо она не хочет быть разоблаченной. Всякую критику своей доктрины Фрейд любил обращать в дополнительное ее подтверждение. Так или иначе, оказалось, что нельзя просто так хотеть пирожное с кремом, не желая при этом овладеть своей матерью и убить своего отца. Желающая машина по имени человек всегда виновна в том, что помыслы ее весьма и весьма греховны. Невинного желания не существует, потому что оно – любое, каким бы оно ни было – пропитано эротическими импульсами, которые часто подогреваются небезобидной агрессией.
Все то, что я сейчас описал, имеет название: Эдип. О нем нам надо поговорить подробнее, ведь это именно к нему Делез и Гваттари попытаются приписать свое «анти». Эдип, как мы знаем, является очень древним героем драматурга Софокла. Коллизию знают даже те, кто Софокла никогда не читал: благодаря недюжинной смекалке, некто Эдип становится царем Фив; к несчастью, в Фивы приходит беда, и Эдип вынужден расследовать причины происходящего; оказывается, что причина – это он сам; дело в том, что ребенком Эдип получил предсказание, в котором говорилось, что он, возмужав, убьет своего отца и возляжет со своей матерью; во избежание этого чудовищного приговора отец Эдипа отправил ребенка на верную смерть; чудом спасшись, Эдип, действительно, вырос, а потом убил случайного встречного, который и был его отцом, а потом обручился с царицей Фив, которая и была его матерью, – в таких случаях говорят, что от судьбы не уйдешь. Фрейд, большой любитель классики, использовал этот сюжет для того, чтобы схематизировать самый базовый эротический невроз: ребенок, рано испытывающий первые призывы своей сексуальности, ощущает желание к своей матери, а в отце видит естественного конкурента, поэтому хочет его смерти (конечно, испытывая при этом муки совести). Сейчас это общее место, но когда-то то был грандиозный скандал, сделавший Фрейда настоящим врагом благопристойного общества, видимо, ходящего по нужде радугой.
В сухом остатке мы получили эдипальный треугольник, или эдипальную триангуляцию: вот Эдип, вот Лай – его отец, вот Иокаста – его мать. Отношения между вершинами треугольника нам ясны. Собственно, Эдип – это и есть главный невротик психоанализа. Как правило, психоаналитик – особенно плохой психоаналитик – будет стараться редуцировать все сложные психические структуры к базовой эдипальной схеме, поэтому получается, как я сказал выше: чего бы мы ни хотели, хотим все равно Иокасту и убить Лая. В подобной теоретической манере нас может смутить не только то, что задето наше с вами благочестие, но и кое-что еще: к примеру, что перед нами апелляция к мифу, хотя речь вроде бы должна идти о позитивном знании. Это не может не настораживать: зачем позитивному знанию рядиться в тогу и вставать на котурны, зачем ему превращаться в метанарратив, если оно – позитивное? Психоанализ, как мы знаем, не является признанной наукой. Психоанализ – это, говоря строго, философия. Но какая философия – такая, которая могла возникнуть разве что до Лиотара, до мая 1968-го, даже до структурализма. Это философия, работающая в жанре метанарратива, философия, которую мы сейчас учимся не любить.
Мифологическая драматургия психоаналитического метанарратива раздражает и Делеза с Гваттари. У них к Фрейду – учитывая все его заслуги, конечно, – очень много претензий. Прежде всего: Фрейд выстраивает тотальную доктрину, целостное повествование, а мы помним, какими резкими словами наши авторы клеймят подобные тенденции. Фигура Эдипа – это механизм тотализации. Эдип оказывается инвариантом для множества вариантов, он – тождественное, к которому психоанализ стремится свести всякое иное. Какими бы ни были ваши личные проблемы, какой бы ни была ваша индивидуальная история – в вас сидит Эдип, и точка. В такой доктрине у вас нет прав на различие, нет возможности отстоять свою особость. Всякое сопротивление (тоже психоаналитический термин) будет расценено как очередной симптом вашего эдипального заболевания. Одним словом, вы всегда уже приговорены: либо у вас Эдип, либо одно из двух.
Фрейд пытается свести множественное к Одному, поэтому такие поборники различия, как Делез и Гваттари, не подадут ему руки. Эта неудержимая театрализация бессознательного, в интерьерах которого разыгрываются одни и те же сценки фрейдистских постановок, кажутся им как минимум архаичными, как максимум – фашистскими. Тотальность одной-единственной схемы производит поистине удушающий эффект, и классический психоанализ не признает за психикой никакого развития, он отрицает (лучше сказать – запрещает) всякое новое и стремится возвести каждый данный случай к готовой картине: Эдип, папа, мама, Эдип, папа, мама… Такая теория, претендуя на адекватное объяснение всего универсума возможных случаев, элиминирует всякое творчество, на деле оказываясь просто-напросто неспособной к производству – разве что к воспроизводству, к репрезентации, как и всякое сценическое действо.
Такое бессознательное не устраивает Делеза и Гваттари. Они настаивают на обратном: бессознательное инновационно, оно производит, а не воспроизводит. Иначе говоря, бессознательное – это не театр, а фабрика. Если театральная сцена – это пространство воспроизводства и репрезентации, производящее редукцию многого к единому, то фабрика – это пространство, соответственно, производства и презентации, производящее различия и множественность. Если вернуться к пройденному материалу, то можно сказать, что в пространстве театра реализуется древовидное мышление, а в пространстве фабрики – ризоматическое; также первое пространство отсылает к абстракции, второе – к материальному миру. При этом ясно, что Делез и Гваттари понимают фабрику не так, как Бодрийяр понимает конвейер: на этой – несколько идеализированной – фабрике происходит не бесконечная штамповка одного и того же (симулякров, копий без оригинала), но производство нового. В этом смысле мы должны представить себе не реальную фабрику, на которой штампуют однотипные товары, но фабрику как мастерскую, где каждый предмет оригинален, ибо он хранит основополагающее различие, произведшее его на свет.
Подчеркнем это: желание есть производство, а не репрезентация. Желание активно, оно обладает творческой потенцией. В таком случае желание у Фрейда негативно, оно отрицает производство чего-то нового и отсылает к уже известному, к тождеству, данному в абстрагированной первичной сцене. Желание Фрейда скрадывает энергию, отвлекает ее от созидания и привязывает ее к тождественности неврозов и комплексов, тогда как желание Делеза и Гваттари скорее революционно – оно завладевает средствами производства, возвращает себе свои силы и инвестирует их в созидание. Фрейд пытается патологизировать и денатурализовать желание, превратить желание в болезнь и тем самым оторвать его от его активных возможностей. Делез и Гваттари, напротив, пытаются натурализовать, даже материализовать желание, связать его с актом, с действием, увидеть в нем не патологию (условно говоря, плохое), но возможности (хорошее). Борьба за желание есть борьба за возможности и действия, а вовсе не за пациента на кушетке и за его тугой кошелек.
Назвать желание фабрикой означает, как мы понимаем, сделать новую ставку в игре различия против тождества, множественности против единства, нового против старого, означает сделать ход в борьбе за образ мира, в котором все возможно, потому что он материален, динамичен и не завершен. Это мир, который может быть другим, и производящее желание дает ему орудие перемен. Если вспомнить, что книга «Анти-Эдип» вышла в 1972 году, по горячим следам майских событий 1968 года, ее революционный потенциал станет понятнее. Это были времена действительного подъема свободомыслия и бунта против авторитетов – показательно уже то, что волнения были вызваны прежде всего студенчеством, то есть молодыми, готовыми бороться за новость своей молодости против постылых тождеств вчерашнего дня. Поэтому философия «Анти-Эдипа», как и много других философий того замечательного времени, была прежде всего философией молодежи, философией утверждения нового и ниспровержения старого. Вся интеллектуальная традиция во Франции, а порой и не только во Франции, которую мы привязываем ко второй половине ХХ века и называем постмодерном, постструктурализмом и как-то еще, пропитана этим новаторским духом бунтующей молодости. Современные тем событиям интеллектуалы, конечно, выражали подобные тенденции на своем собственном языке – теоретически. Их задачей, которая единственно соответствовала бы духу времени, было построение такой теории (или таких теорий), которая могла бы эксплицировать условия возможности этого нового революционного мышления. Наверное, все, что делали Делез и Гваттари, было попыткой держаться на уровне этой задачи – когда более удачно, когда менее. Но «Анти-Эдип», безусловно, со своей задачей справляется, ведь не просто так этот непростой текст стал гимном молодежи – и далеко не только высокоинтеллектуальной – того времени и в том месте. Это, к слову, вступает в явное противоречие с одним исходным мифом о постмодерне, которого мы уже касались, – мифом о том, что теперь-де невозможно ничего нового, что все было и отныне останутся одни только цитаты. Не знаю, как все прочие, но Делез – такой философ, которому эта мысль совсем не близка. Напротив, «одни цитаты» – это логика репрезентации, логика театра, тогда как противостоящая ей логика фабрики настаивает на примате нового, на производстве, различии, множественности. Выходит, Делез особенный постмодернист: будучи, безусловно, человеком своего времени и своей интеллектуальной традиции, будучи во всем сообщником Фуко, Бодрийяра и Деррида, он все-таки и сам постмодерн с его догмами готов подвергнуть разрушительной критике изнутри. Цитатность, взятая широко понятым постмодерном (или постмодернизмом) в качестве основополагающей идеи и лозунга, оказывается досадным пережитком прошлых онтологических театрализаций, которые крали у желания его творческие силы. Если вернуть эти силы обратно, то постмодерн предстанет совсем с другой стороны – уже без этих бесконечных супов Энди Уорхола, но с ризомой, номадизмом и конъюнктивными синтезами.
Как видно, постмодерн сам по себе не так уж и однороден. К примеру, две трактовки различия, представленные у Деррида и у Делеза, с трудом уживаются друг с другом: различие у Деррида разбивает иллюзию оригинальности и уводит презентацию во фрактальное копирование утерянного следа, тогда как различие у Делеза, напротив, взрывает это исконное тождество изнутри и заявляет права желания на постоянное производство нового. Конечно, при определенных условиях эти линии можно было бы соединить, представив их чем-то вроде двух разнонаправленных, но схожих процессов: Деррида нарушает логику тождества и идет от нее назад к многослойной иерархии стирающихся текстуальностей, Делез также нарушает логику тождества и идет от нее вперед – к неостановимой работе производящего желания. Деррида ретроспективен, Делез перспективен, но оба одинаково безжалостно порывают с авторитетной метафизической традицией Бытия. Деррида вчитывается и деконструирует, Делез конструирует, бессовестно и с немалым задором вчитывая в разбираемые им тексты именно то, что он хочет (ведь желание продуктивно, поэтому даже стоицизм может грешным делом выглядеть как радикальный постмодерн). Однако нам ничто не мешает подчеркивать между Делезом и Деррида не сходства, а различия – на досуге этим может заняться каждый желающий (стало быть, производящий).
А пока что вернемся к «Анти-Эдипу». По существу предтечей той концепции желания, которую развивают Делез и Гваттари, является Жак Лакан. Несмотря на то что сам он упорствовал в том, что называл самого себя простым продолжателем дела Фрейда, от настоящего Фрейда он оказывается более чем далек. Несмотря на всю критику, Феликс Гваттари был учеником Лакана и во многом оставался ему верен. И верен, прежде всего, в той знаменитой лакановской формуле, о которую было сломано немало копий: желание – это всегда желание другого. Звучит загадочно. Вроде бы я желаю чего-то, это мое желание, причем тут другой. Подумаем над этой фразой. Даже если мы понимаем желание как простую нехватку, все же оказывается, что желание не распространяется на то, что у меня и так есть – желать уже данного мне не нужно, оно ведь уже дано, мне его не недостает. Если я чего-то хочу, то это нечто – всегда другое, не то, что у меня есть. Желаю другого: того, чего нет. Трактовка, как видно, очень проста. Не поменяет картину и то, что мы начнем говорить не об объекте (другой предмет желания), но о субъекте (тот, кто желает). В каком-то смысле, желая, я желаю другого себя – того, кем я в данный момент не являюсь, потому что сейчас мне чего-то не хватает, и я хочу стать другим – тем, кто уже получил желаемое. Очевидно, я такой, который получил в обладание желаемый объект, являюсь другим по отношению к такому себе, который лишен желаемого объекта. Нас различает время, нас различают атрибуты, которыми мы (один я и другой я) владеем или не владеем. Желание моего становления-другим предполагает, что это желание не того же, а другого. Само желание всегда исходит из таинственной точки другого субъекта, который – не я.
Здесь подчеркивается момент различия, принципиальный для нашей концепции желания. Оно различается в самом себе и вносит различие в своего субъекта. Желание оказывается принципиально нетождественным, всегда иным по отношению к самому себе. Здесь же содержится и прояснение положения о производительности желания: желание производит различие, производя тем самым другого субъекта и другие объекты. Так как желание – это всегда желание другого (во всех смыслах), мы можем предполагать, что оно всегда будет производить различие, следовательно, создавать что-то новое. Силы непроизводительности – консерватизм, фашизм, идеология, косная глупость – должны захватывать желание, присваивать его, привязывать его к тождественным образам и знакам (кодировать, или сверхкодировать, как сказано у наших авторов). Напротив, освободить желание – значит освободить возможности, новое, завтрашний день. И прежде всего это значит, что желание освобождает другое: другие возможности и возможность быть другим, а не тем же самым.
Желание меняет нас, желающие, мы постоянно другие, мы находимся в становлении-другими, и только это позволяет нам ускользать от власти – в сущности, от любой власти, потому что вся она осуществляет господство тождественного над иным, единого над многим. Желание субверсивно. Оно различает меня-подвластного и меня-становящегося-свободным, потому что таково мое желание. Еще более подчеркивая этот революционный посыл, Лакан говорил: никогда не отступай в своем желании. Отступить означает предать желание и отдать его на откуп власти, означает привязать желание к тождеству и отказаться от своих собственных, творимых в желании производительных потенций. Здесь мы сталкиваемся, строго говоря, с наброском этакой этики желания: если желание раскрывает мир и человека в нем во всей полноте их динамических возможностей, значит, быть человеком означает хранить желание и не отступать в его производительности, обратное окажется предательством и отступничеством от человеческого лица. Отказаться от желания – значит отказаться от собственной человечности в той мере, в какой эта человечность полнотой своих возможностей обязана именно желанию, а не соблазну Единого.
И раз уж мы заговорили об этике желания, нельзя не коснуться этого замечательного термина, который вводят Делез и Гваттари – шизоанализ. Что такое шизо, мы догадываемся интуитивно. Если психо-анализ изучает психику, то есть классическое единство субъекта (и даже акцент на бессознательном не может существенно поколебать это единство, потому что, по Фрейду, «где было Оно, должно стать Я»), то шизо-анализ изучает обратную динамику десубъективации, расщепления (так «шизо» и переводится) по видимости единой личности на множественные части. Нам уже приходилось говорить о роли десубъективации в философии постмодерна, здесь же нам достаточно упомянуть, какую роль в этой десубъективации, в этом превращении «психо» в «шизо» играет желание. Роль понятную: желание, будучи желанием другого, расщепляет единство субъективности на части, каждая из которых оказывается иной по отношению к исходному единству, друг к другу, наконец, к самой себе. Желание непрестанно смещает элементы субъективности друг по отношению к другу – так, что классическое представление о единстве субъекта более не кажется возможным. Если желание постоянно делает меня другим, я более не являюсь классическим картезианским субъектом – неверно, что cogito ergo sum, потому что мое мышление вместе с моим бытием расщепляются и смещаются в работе желания. Лучше уж вспомнить слова не Декарта, но Рембо: я – другой для самого себя. Это, пожалуй, подходящий девиз для всякого «шизо». Впрочем, не стоит принимать это слово совсем уж буквально. Дело обстоит не так, что Делез и Гваттари поют гимн клиническому шизофренику (что до Гваттари, то он имел богатый опыт работы с шизофрениками и знал, что ничего романтического в них нет). «Шизо» не отсылает, конечно, к клинической практике, которая держится на тождестве и авторитете. «Шизо» – это новый, на наших глазах созданный концепт, который упорядочивает разобранные нами представления о субъекте – таком, который возникает в плоскости «Анти-Эдипа», то есть о субъекте без субъективности, субъекта множественного и переменчивого, скажем так, субъекта или актора процесса десубъективации, становления-другим, а не метафизического субъекта, созданного в целях редукции иного к тождественному (личность, душа и прочее).
Шизоанализ возникает как теория такого расщепленного субъекта, центральным моментом в функционировании которого является расщепляющее желание. Таким образом, субъект десубъективации – это субъект желания, тот самый, который никогда не отступает в своем желании и становится другим. Теперь, если мы от субъекта перейдем к объекту, нам станет ясно, почему Делез настаивает: мы никогда не желаем что-то отдельное, мы всегда желаем целый мир. Понятно, что мир – это множественность, тогда как обыкновенно под объектом понимается что-то одно, какая-то данность, тождественность. В силу того что желание расщепляет субъект и объект, мы никогда не желаем тождества и единства, но всегда некую множественность – сборку, целый мир. Именно это имеется в виду: нам кажется – вся наша культура заставляет нас так считать, – что мы желаем объект, к примеру, вот эту девушку или вот эту книжку, но желание производит различия, поэтому кажущийся объект распадается на множество объектов, на объект-сборку. Я не хочу, к примеру, просто выпить (Делез, как известно, на этот счет был не промах), я хочу сконструировать целый мир, в котором выпивка выступала бы одним из элементов: вонючий сигаретный дым, сине-красные огни, размытый антураж кабака, отдаленная музыка, шумные голоса и пронзительный смех, очертания лиц вот этих людей, легкое головокружение, жар, жажда… Разве можно сказать, что что-то в этом мире является в большей степени объектом, чем все прочее? Скорее, все здесь объект, потому что входит в состав большого объекта-сборки, который и желается нами в нашем желании. Это сборка, которая создана различиями и сама, в свою очередь, без устали производит различия, поэтому мы никогда не знаем, что еще прибавится к этой сборке или убавится от нее – знаем только, что она, не являясь сценой, никогда не будет воспроизведена в самотождественном виде. Сборка находится в движении, она всегда оказывается иной, чем прежде.
Итак, я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что мы узнали о желании чуточку больше. Мы узнали как минимум, что желание можно понимать по-разному – до противоположности. И также мы узнали, какое понимание желания предпочитают Делез и Гваттари, какое понимание желания в большей степени соответствует ситуации постмодерна. Исходя из концепта желания, центрального для книги «Анти-Эдип», мы последовательно открываем для себя и другие концепты, которые вместе с желанием создают эту новую причудливую картину мира: ризома, машины, производство, различие, сборка, шизоанализ, срезы и потоки, материальное, даже знаменитое тело-без-органов, о котором я предпочитаю умолчать, чтобы сохранить хотя бы какую-нибудь интригу. Мы видим, что все эти концепты умело пригнаны друг к другу и сами образуют некую сборку, которую интересно вертеть в руках. В иные периоды творчества наших авторов к этой сборке подлаживались иные элементы, о которых можно узнать из иных книг. Книг, подчеркиваю, любых – ведь замечательная особенность всякой сборки, и это наш главный урок на сегодня, состоит в том, что она никогда не остается такой же, какой она была, – бытие ее есть становление, а в предложении ей соответствует не существительное, а глагол. Поэтому – будем же философствовать, а не заниматься философией. Последнее чревато неврозами.
Лекция 13. [Логика смысла]
Еще один раз мы позволим себе наше маленькое постыдное удовольствие – поговорить о Делезе, – на этот раз без Гваттари и по теме, которая, может быть, не играет в его философии ключевой роли, но является, однако, весьма интересной и соблазнительной. Речь пойдет о работе «Логика смысла»[31], появившейся точно в незабвенном 1968 году. Зададимся вопросом: о чем же писал Жиль Делез в тот момент, когда многие коллеги его кидали в полицию камни и устилали Париж баррикадами? Он писал о парадоксах.
Вообще же, если речь в самом деле пойдет о логике смысла, не бесполезно начать с вопроса, что же такое смысл. Вопрос непростой, потому что ведь и сам он должен иметь смысл, чтобы мы могли на него ответить, то есть мы должны предполагать наличие смысла и уже как-то знать, что это такое, еще до того, как мы это, собственно, выясним. Это примерно как мыслить мышление – ведь не чем иным, как самим мышлением, мы его мыслим, – что дела ет вопрос о смысле сугубо философским. Науки не работают со смыслом, они работают со строго определенными внутри системы значениями: спрашивать, какое у того или иного явления значение с точки зрения науки глупо, потому что какое ты ему припишешь, такое и будет – смотри в учебнике. Не так со смыслом: в учебниках его не определяют, его надо конструировать самостоятельно. Смысл, таким образом, не бывает исключительно объективным, каковым стремится быть значение. Смысл есть то отношение, в котором значение состоит вместе с субъектом. Поэтому смысл не может быть строго научным – он всегда в большей степени наше дело, нежели объективная картина мира.
Этот заход, кстати говоря, проливает кое-какой свет и на проблему бессмыслицы. Когда мы уверенно говорим, что нечто – такой-то фильм, такая-то книга, чье-то высказывание – бессмысленно, мы совершаем логическую ошибку, а именно путаем смысл и значение. Нам приятно думать, что бессмысленность – это объективная характеристика вещи, что это не мы чего-то недодумали, а это вещь сама по себе такая – дурная, бессмысленная. Если бы речь шла о значении, все было бы так. Если нечто ничего не значит, то не значит само по себе – к примеру, переменная в математике, которой не приписали никакого значения; вот пока не приписали, она ничего не значит (кроме того, конечно, что она означает свой собственный статус – быть переменной). Но если в чем-то, как мы говорим, нету смысла, то это значит лишь, что мы не потрудились вступить с этим чем-то в отношение. Выходит, бессмысленность – это не вина вещи самой по себе, но в какой-то мере и наша вина, в силу которой мы, не вступив с вещью в отношение, поспешили спустить на нее собак нашего невежества. На самом деле выражение «это бессмысленно» означает, хотим мы того или нет, что-то вроде «я не хочу в этом разбираться», или «да какое мне дело, о чем это, лучше уж я пройду мимо и просто назову это чушью». Определенная леность ума – вот что такое бессмыслица.
Когда я говорю, что смысл – это само отношение субъекта к объекту, вот этот вот очень богатый, если вдуматься, промежуток между ними, промежуток, могущий быть заполненным мириадами вещей, я говорю тем самым о прагматике. Это важное слово, хотя оно, как и многие слова, нынче затерлось – сказывается нехватка интеллектуалов, профессионально оберегающих значимость терминов, нехватка с тем связанная, что ими сегодня быть не особенно выгодно. Строго говоря, прагматика с точки зрения семиотики есть как раз это отношение говорящего к тому, что он говорит. Когда-то об этом не принято было распространяться – считалось, что отношение субъекта к языку в общем-то не очень существенно, всем казалось, что язык и вообще мышление чисты и несубъективны. Но ближе к нашему времени, проходя через многие барьеры в виде всевозможных философий подозрения, это наивное или излишне оптимистическое представление утратило силу. В лингвистике произошло что-то вроде известного научного кризиса, связанного с фигурой наблюдателя – оказалось, что субъект наблюдения очень даже значим и для самого процесса наблюдения, и для его объекта, потому что для разных наблюдателей и объекты, может статься, будут совсем разными. В лингвистике это и выразилось в том, что прагматика значительно выросла в цене – стало привычно считать, что отношение говорящего к факту говорения играет очень большую роль в теории языка.
Теперь слегка упорядочим то, что только что было сказано. Мы имеем знак, который распадается на смысл и значение. По Фреге, знак и есть то, что выражает смысл и обозначает значение – под значением здесь понимается референт знака, конкретная вещь, а под смыслом – то сообщение, которое знак сообщает, прошу прощения за тавтологию, о референте. В самых простых примерах знак сообщает о референте какую-нибудь тавтологию: собака – это собака. В чуть более сложных примерах смысл распространяется: знак «вонючая собака» указывает вот на этого бродячего пса, а смысл его сообщает, что от этого пса пахнет так, что хоть вешайся. Еще сложнее: если я скажу «вонючая собака» не об этом псе, а моем приятеле Вите, который не возвращает мне долг, то знак будет отсылать уже к Вите, а смысл сообщит, что Витя – не очень порядочный человек. Однако, заметьте, знать это будем только мы с Витей, – если на нас кто-то взглянет со стороны, он едва ли поймет, что собакой я называю своего приятеля, ибо для рядового гражданина собака указывает именно на собаку, а не на человека. Праздный прохожий будет уверен, что я все еще говорю о том бродячем псе, тогда как я говорю не о нем, я говорю о непорядочном Вите. Здесь, как мы видим, имеет место прагматический сдвиг: один и тот же знак означает и сообщает для одного человека не то же самое, что для другого. Меняется позиция наблюдателя, меняется самая суть коммуникации.
Значение – то, на что указано, смысл – то, что о нем сказано. Знак вмещает в себя два уровня – уровень референта и уровень сообщения. Фреге, как видно, здравомыслящий человек, совсем не метафизик, скорее материалист, человек науки, поэтому для него принципиально сохранить отсылку знака к реальному миру, к некоторой позитивности – вот собака указывает на реальную собаку, или на реального человека. Даже если речь идет о чем-то вымышленном, скажем, о гомеровском Одиссее, все равно знак указывает на позитивность – в данном случае на эту конкретную книгу, в которой описывается наш Одиссей. Художественное произведение – тоже реальный мир, оно существует в архивах материальной культуры и может изучаться предметно и строго, поэтому филология – не гадания на бычьих кишках, но наука.
Дело, однако, несколько усложнится, если мы перейдем от Фреге к Соссюру. Последний, как мы знаем, вводит новые понятия: означающее и означаемое. Мы ошибемся, если решим, что под означаемым у Соссюра будет мыслиться то же самое, что значение у Фреге, а под означающим – то же самое, что смысл. Означаемое – это не вещь, но понятие. То есть Соссюр уже не такой честный материалист, как Фреге, ибо он разрывает связь с объективной физической реальностью вне знака. Оказывается, для процесса означивания не важно, есть ли за пределами языка какой-то мир или нет. Напротив, язык – замкнутая система, и элементы ее вступают в отношения не с чем-то вне них, но только друг с другом. Такой вот солипсизм языка. Означающее, далее, это не смысл, но форма понятия – его звуковая или письменная оболочка (а вот это уже, не правда ли, может сойти за некую зыбкую, остаточную связь с внешним миром).
Первое, что нам необходимо отметить здесь по поводу Делеза, это то, что он переходит от знака к пропозиции. Делается это не случайно, но преднамеренно – с тем, чтобы решить кое-какие проблемы, возникающие с нашим пониманием смысла. Мы рассматривали знак «собака» и говорили, что, мол, вот референт – блохастый песик, а вот смысл… Какой смысл? Мы сказали, что он тавтологичен: собака есть собака. Но какой же это смысл? Как таковой он избыточен, ведь то, что собака – это собака, уже указано в значении. Зачем же тогда нам еще какой-то смысл? Мы все уже знаем и так. Оказывается, что говорить о смысле отдельного знака проблематично. Другое дело – если мы рассмотрим пропозицию. Мы говорили «вонючая собака», ну или «багровый стол». Здесь я добавляю кое-что к пустой тавтологии, я не просто указываю на вещь, но и сообщаю о ней что-то новое, указываю на ее характеристики. Смысл этого знака будет такой: «стол есть багровый». А это уже пропозиция: подлежащее, сказуемое и связка.
Запомним это: смысл действует не на уровне знака, но на уровне пропозиции. Или иначе: имя называет вещь, но ничего не сообщает нам о том, что же происходит, что случается. С голым именем не происходит ровным счетом ничего: собака… Другое дело: собака бежит, собака лает, линяет, жрет тапок. Собственно, смысл и призван сообщать то, что происходит в пропозиции. Смысл выражает событие. В этой усложненной схеме, в этом переходе от имени к пропозиции нам уже не обойтись одними только Фреге с Соссюром. Расширим наш инструментарий еще одной схемой, взятой на этот раз у Эмиля Бенвениста. В соответствии с этой схемой пропозиция работает на трех уровнях. Первый уровень – это десигнация. Пока что ничего нового: десигнация – это уже знакомое нам обозначение, указание на референт (десигнат). Второй уровень сложнее – это манифестация. Что манифестируется в пропозиции? Ответ: мы, то есть сам субъект пропозиции. Она – пропозиция – оказывается возможной только потому, что есть некоторое говорящее «я» – не конкретное «я», но формальное, подразумевающее субъекта высказывания как такового. Третий уровень пропозиции – сигнификация. Это отношение не с реальными вещами и не с формальными субъектами высказывания, но с понятиями.
Вот наша новая схема, она богаче предыдущих. Нам более-менее понятно, где здесь искать значение. Вопрос: где здесь смысл? По Делезу, выходит так, что смысл не может быть равен ни одному из этих трех уровней пропозиции. Ничто здесь не выражает главного – того, что происходит, события. Все здесь статично. Получается, что проблема смысла не решена даже тем, что мы так запросто перескочили с уровня знака на уровень пропозиции. Нам вроде бы ясно, что пропозиция ближе к выражению смысла, нежели знак или имя, однако введенная нами авторитетная схема работы пропозиции снова оставляет измерение смысла за бортом. Формализовав пропозицию, мы не обнаружили в нашей формализации смысла, хотя мы уверены, что смысл где-то неподалеку, он, во всяком случае, не отделен от пропозиции как-то принципиально.
Смысл существует, но его существование обнаруживается лишь где-то на границе пропозиции, а не внутри ее – существование это неуловимо и призрачно, но нам придется иметь с ним дело. Впрочем, главное мы уже проговорили. Смысл – это событие. То есть именно само событие, а не голая форма его выражения – вот почему на уровне формального анализа пропозиции мы никакого смысла не видим. Вот почему он на границе – это граница слов и вещей, таких вещей, с которыми что-то происходит. Пребывая на границе слов и вещей, смысл, неуловимый для формализации, оказывается главным виновником соединения слов и вещей, главным агентом сигнификации. Будучи связкой, смысл не может быть только в словах (формализация) или только в вещах (референт). Смысл не субъективен и не объективен. Он возникает – если, конечно, вообще возникает – лишь на пересечении одного и другого.
Это непросто, и в этом надо разбираться. Граница, как мы понимаем, есть отношение между чем-то и чем-то, их связь, одна часть которой есть часть объекта А, другая часть – это часть объекта Б. Сама по себе граница нигде не локализуется, она представляет собой исключительно вот это отношение частей друг к другу, в котором мы можем провести между ними различие. Граница – это различие и есть, но ведь невозможно указать на само различие, оно не присутствует как отдельный объект восприятия. Вот что я имею в виду, когда говорю о призрачном бытии смысла-границы, смысла-различия: все это есть, но показать это нельзя. Можно показать различающееся, но нельзя показать различие; относящееся, но не само отношение. Так, отношение – это и есть событие, со-бытие, бытие вместе. Имея различие или отношение, мы имеем событие, следовательно, мы имеем смысл. Событие, скажем теперь, по необходимости требует множества. Нет события, происходящего с чем-то одним, именно поэтому нас не устраивало голое имя, поэтому мы усомнились в осмысленности тавтологии, поэтому, конечно, парменидовское Бытие совершенно бессобытийно – потому и бессмысленно. Чтобы было событие, нужно как минимум два элемента, нужно множество, а не единство. Поэтому формализация, стремящаяся свести событие к неподвижным самотождественным единичностям, на самом деле пролетает мимо события. С тождеством вообще ничего не происходит – оно недвижимо, покойно, неинтересно.
Зафиксируем это: смысл-событие-множественность-различие. Термины эти спаяны так, что не разорвать. Смысл есть там, где есть событие, событие там, где есть множественность, множественность там, где есть различие – следовательно, различие определяет смысл. Поэтому, если мы на секунду позволим себе выражаться онтологически, для полноты мира нам недостаточно одних тел, зримых или незримых, таких, о которых сказываются имена, таких, на которые указывают значения. Тела – это мало, потому что есть еще и события, которые приключаются с телами, а для событий, еще раз, нужны отношения и различия, нужны вот эти вот таинственные незримые границы, которые мы можем обозначить мысленно, но не можем указать чувственно. К телам, таким образом, надо добавить еще что-то – события, или эффекты, как выражается Делез, поднимая на щит физику-логику стоиков (вот, казалось бы, нашел где копать). События-эффекты, оказывается, бестелесны, уже потому, что они должны отличаться от тел, которые сами по себе бессобытийны и, не побоюсь сказать, безграничны, беспредельны. Эффекты – это не тела, но логические атрибуты тел. А что такое логический атрибут? Это, по Делезу, глагол (должен предупредить, что в своем позднем творчестве он несколько переиначит свое понимание атрибута, однако сейчас это не принципиально). Мы уже успели сказать, что событие, смысл – это то, что происходит. Теперь уточним: оператором событийности и смысла является глагольная форма. Как интересно: глагол не наблюдается, это не тело, но то, что происходит с телами. Нам это странно – как же так, мы видим действия, видим события… Не совсем: мы видим тела, но сами события – едва ли. Пускай человек машет рукой. Мы видим тела, видим руку, но видим ли мы сам взмах? Рука, о которой сказывается событие взмаха, это все та же рука. Все та же рука – как тело, как имя – покоится, та же рука машет, та же – кидается тухлыми помидорами. В чем же тогда состоит различие между рукой в покое и рукой во взмахе? Можем ли мы указать на это различие в пространстве – как на тело? Оказывается, не можем. Мы знаем, что человек машет рукой, и было бы странно это отрицать. Мы знаем, мы мыслим это – но мы не видим самого события, той границы или отличия, которое отделяет бытие покоящейся руки от бытия руки машущей. Точнее сказать, бытие-то мы видим, и это – тела, но мы не видим становления, силой которого с бытием-телом происходит нечто, о чем можно говорить, но на что нельзя показать пальцем. Вот вам коан: покажите мне сам взмах руки.
Итак, глагол в пропозиции соответствует логическому атрибуту тела, этому оператору событийности. События, таким образом, бестелесны – не в том смысле, что мы здесь возвращаемся к какой-то сомнительной мистике – напротив, мы держимся строгой логики, – но в том смысле, что события, отличающиеся от непосредственного бытия тел, суть то, что происходит с телами. Мы можем, если нам так удобнее, называть события процессами – тогда мы окажемся ближе к физической картине мира. Однако в порядке рассуждения это ничего не меняет. Отношения тел, о которых сказывается событие, по необходимости отличаются от тел, отношениями которых они являются, и, следовательно, должны полагаться бестелесными. Если вдуматься, то здесь мы наталкиваемся на старый добрый парадокс Зенона, существующий во многих версиях, но суть его проста: если исходить только из тел-имен, то в мире ничего не может произойти. Ахиллес никогда не догонит черепаху, а стрела никогда не полетит, потому что они взяты нами как только тела, с которыми, соответственно, ничего не происходит – ибо то, что происходит с телом, не является телом. Нам это покажется (все еще кажется!) странным, но логика здесь безупречная: если стрела – это просто тело, взятое как таковое, тогда в каждом отрезке пространства она должна покоиться, то есть быть равной самой себе. А если стрела покоится в каждом отрезке пространства, тогда она покоится в принципе – никакого движения, по наивности складываемого нами из отрезков пространства, у нас не получается. Оно может получиться только тогда, когда мы признаем, что есть не только тела, но и то, что с этими телами происходит – бестелесные эффекты, события, глаголы. Другими словами, к статичному пространству мы должны добавить динамичное время, оператором которого и выступает глагол-событие. Добавив бестелесное время, мы получим движение: стрела полетит, Ахиллес без труда догонит несчастную черепаху. Произойдет событие, существующее во времени и выражаемое глаголом. Таково решение этой старой задачи – мы помним, что один мудрец в ответ на нее встал и принялся просто ходить по кругу. Это то же самое, что показать сам взмах руки.
Если где-то и существует подлинное место для метафизики, так это здесь, в разговоре о глаголах-событиях. Вот и еще один ответ Делеза на одно общее место относительно постмодерна: мы привыкли считать, что метафизика наконец-то преодолена – ну или усиленно преодолевается, – но нет, Делез демонстрирует метафизику такой классической чистоты, что у нас просто не остается возможности не признать: да, предрассудки обманывают нас, как детей. Хотя сам Делез, возможно, обиделся бы на мою реплику и сказал, что у него нет ничего, кроме физики. Конечно, соглашусь я, вот только физики стоиков, которая есть самая настоящая метафизика. На этом нам можно было бы и разойтись. Такая метафизика претендует на по-настоящему широкий охват – она не уходит ни в одну из крайностей и гармонично соотносит тела-имена и события-глаголы, сохраняя тем самым напряжение между тождеством и различием. Это, как мы понимаем, скорее соответствует канону платоновского «Парменида», нежели в чем-то выходит за пределы его проблематики.
Воспроизводить эту логику платоновского «Парменида» я, пожалуй, не стану – все интересующиеся философией так или иначе припоминают этот священный текст. Мы должны, храня о нем память, также хранить неустранимое напряжение между тождеством и различием, не уходя в ту или иную крайность, что приводит к ошибкам. Иными словами, если мы взялись исследовать пропозицию, то мы должны понимать, что складывается она как из имен, так и из глаголов – из этой песни слов не выкинешь. Исследуя пропозиции, мы, по Делезу, оказываемся на довольно древней и хоженой территории, на которой мы можем обнаружить стоическую диалектику (здесь – собственно дискурс о смыслах-событиях) и некоторые экзерсисы Льюиса Кэрролла, известного сказочника, фотографа, абсурдиста и логика. Как ни странно, именно Кэрролл претендует на то, чтобы быть главным героем «Логики смысла», что тоже, как вы понимаете, есть ход, обреченный на оригинальность. Собственно, Кэрролл, во всяком случае по Делезу, только и занимался что логикой смысла, понятой так, как мы до сих пор ее описывали. А раз так, нам придется признать, что логика смысла непосредственно связана с абсурдом, с парадоксами, с нонсенсом, с юмором – словом, со всеми этими путешествиями по кроличьим норам. Логика смысла вскрывает неразрывную связь смысла с бессмыслицей, как и связь тождественного с иным. Связь эта заключается в том, что смысл – который, безусловно, существует – на всяком этапе норовит соскользнуть в морок бессмыслицы, обернуться своим собственным Другим.
Вот пример такого регресса к бессмыслице: всякий смысл может быть выражен пропозицией; но так как, однако, и эта новая пропозиция будет иметь некий смысл, его тоже можно будет выразить пропозицией – и так далее. Мы получаем этакий фрактал, в котором принципиально неуловимым оказывается предполагаемый последний элемент, некоторый финальный и наиболее полный смысл. Каждый смысл в своем выражении неполон, потому что он может стать элементом какого-то другого выраженного смысла. Аналогом этого регресса в обыкновенной логике окажется символ кавычек, а именно, когда мы приписываем некоторому термину мета-языковой смысл, мы берем этот термин в кавычки: Москва означает город, «Москва» означает термин, означающий город. Очевидно, процедуру взятия термина в кавычки можно продолжать до бесконечности, выходя на новые и новые уровни абстрагирования: Москва это город, «Москва» – это термин, которым называется город, «„Москва“» – это термин, который обозначает тот термин, которым называется город, и дальше, и дальше. Все дело в том, что относительно любого термина-объекта (языка-объекта) можно построить метатермин (метаязык). Это означает, что процесс смыслопорождения принципиально не замкнут. Парадокс, собственно, заключается в том, что смысл пропозиции должен быть выражен пропозицией, также имеющей смысл – и так далее (подобное можно найти и у Фреге).
Другой парадокс, в артикуляции которого мы уже вполне можем обратиться к Кэрроллу, заключается в том, что оппозиции, которыми переполнено наше смыслопостроение, в логике смысла оказываются, строго говоря, немыслимыми. Возьмем Алису: она постоянно употребляет какие-то сомнительные субстанции, в результате чего становится то больше, то меньше – одним словом, она меняется. Относительного этого изменения мы, казалось бы, без труда можем сформулировать бинарную оппозицию: больше/меньше. А теперь спросим: больше или меньше – чего? Больше – в отношении к меньше, а меньше – в отношении к больше. Когда Алиса становится больше, она именно становится – то есть она одновременно становится и больше (того, какой она была) и меньше (того, какой она вот-вот станет). Удивительно: девочка в один и тот же момент оказывается и большой, и маленькой. На самом деле это рассуждение можно встретить уже у Сократа. В силу относительности ее сторон, саму работу оппозиции никак нельзя изолировать, остановить – остановленная (Алиса есть больше – кого? – или есть меньше – по отношению к чему?), она потеряет всякий смысл, который мы обретем назад, если вновь запустим динамику становления (Алиса становится – поэтому она и больше, и меньше). Легко понять, что парадокс возникает из путаницы: мы норовим выдать различие за тождество и наоборот, в результате только теряем одну из частей оппозиции и получаем, что бедная девочка должна быть больше или меньше того, не знаю чего – что абсурдно. Эта ситуация также напоминает регресс смысла – он ускользает потому, что мы стремимся всеми силами его зафиксировать и выдать за окончательный, тогда как работа оппозиций не может быть остановлена, она событийна, глагольна и длительна.
Парадоксальным образом смысл оказывается сильнее оппозиций – в том же смысле, в котором мы говорили, что событие или отношение заключается не в вещах, но пролегает на границе между вещами. Также и смысл: не он подчинен оппозициям, но они подчинены смыслу, то есть получают свое осмысление лишь в чем-то третьем, объединяющем их пару (объединяющем, конечно, в динамике становления). Это справедливо относительно любых оппозиций, но прежде всего – основной, как кажется, логической оппозиции частного и общего. Ссылаясь здесь на Авиценну (право, какой экстравагантный вкус к непопулярным персоналиям), Делез демонстрирует, как общее и частное сливаются друг с другом в их динамическом смысловом единстве. И в самом деле, всякий объект высказывания не является только частным или только общим, он – и частное и общее вместе, как Алиса оказывается и больше и меньше в один и тот же момент. К примеру, собака – это и вот эта собака, и собака вообще (она ведь именно собака, а не кошка). Это очень похоже на то, как Джорджо Агамбен трактует сущность примера: пример по сути своей парадоксален, потому что он – частный случай, который, однако, претендует на то, чтобы выступать в качестве всеобщего, в качестве парадигмы[32]. Это означает, что четкое разделение на частное и общее возможно только в абстракции, подобной статическому пространству Зенона или грамматике чистых имен. Но с точки зрения смысла-события оппозиции сталкиваются друг с другом в работе различия.
Еще один презабавный парадокс заключается в том, что абсурд, как ни странно, тоже имеет смысл. Когда мы осмысляем абсурд в качестве абсурда, мы, ничего не поделаешь, наделяем его смыслом – уже потому, что вносим событийное различие, призванное отделить его от всего того, что, по нашему разумению, не является абсурдом. Это, конечно, тоже не новость: либо мы вообще ничего не понимаем и, следовательно, ничего не высказываем, либо, если уж понимаем и тем более высказываем, это имеет какой-то смысл. Поэтому смысл имеет и то, что, как нам кажется, не может существовать, – кентавр, к примеру, или круглый квадрат. Вот круглый квадрат – это явный абсурд, однако мы прекрасно понимаем, что означают эти слова, значит, мы наделяем этот абсурд смыслом. То, о чем мы говорим, совершенно невозможно, потому что две части пропозиции отрицают друг друга: если круглый, то круг, если квадрат, то квадратный. Но нет: говоря «круглый квадрат», мы выражаем смысл, заключенный в событии парадоксального становления квадрата круглым. Какая в конечном итоге разница, представимо это как объект наших чувств или нет, – главное, что это выразимо, поэтому это осмысленно.
Этого достаточно, чтобы понять главное: смысл парадоксален, своей динамической границей он имеет бессмыслицу, которой и норовит обернуться в любой неподходящий момент, словно лента Мебиуса. Мысля что-нибудь как осмысленное, мы всегда должны помнить, что у этой, условно говоря, полоски всегда есть и обратная сторона, которая оказывается регрессом в бессмыслицу – которая тоже, конечно, имеет свой смысл. Это подводит нас к следующей формулировке: смысл никогда не бывает окончательным – к примеру, «есть бог», или «параллельные линии не пересекаются», или «один народ, один фюрер», – потому что всегда существует избыток смысла. Это то же самое, что сказать: избыток означающего – по сравнению с означаемым. Если мы представим себе работу смысла в качестве динамического пересечения двух серий – серии А, или означающего, и серии Б, или означаемого, – то мы убедимся, что означающие всегда на один шаг впереди, их всегда больше, ведь, как уже было сказано, каждая новая пропозиция, возникающая на границе серии А и серии Б, получает свой собственный смысл, попадает в еще одни кавычки логического метаязыка. Каждой пропозиции может быть приписана еще одна пропозиция, еще одно означающее, высказывающее смысл предыдущего означающего. Именно поэтому смысл всякий раз оборачивается бессмыслицей – все дело в том, что он опережает сам себя и на каждом шаге заступает в ту область, где между избыточным означающим и еще не существующим означаемым зияет пропасть абсурда. Пустое место между словами и вещами, глаголами и именами, которое никогда не заполнить, потому что никогда не остановить, – это и есть место бессмыслицы, которое, с другого конца ленты Мебиуса, оказывается неизбывной возможностью нового смысла.
Логика смысла предоставляет хорошо формализованные основания для постмодернистского недоверия к мета-нарративам. Это недоверие базируется на невозможности конечного и самотождественного смысла – по причинам регрессии и избыточности, которые были описаны выше. Динамическая событийность, работающая в различии, не позволяет остановить процесс смыслополагания в каком-то месте, которое, как нам кажется, замкнуло тотальность мира в едином тождестве – не позволяет достичь, наконец, окончательной Мудрости, к которой стремился гегелевский Философ. Этот проект закрывается, будучи признан провальным, и все потому, что необходимым условием для существования смысла является нонсенс, бессмыслица – а именно то слепое пятно, которое в силу своей неустранимости не может быть включено в Абсолютное Знание, образуя тем самым неизбывный остаток, который и разрушает претензии этого знания на абсолютность. Жаль, но мы ничего не поймем – и именно потому, что только и делаем, что понимаем. Сам Гегель однажды сказал, что зашитый носок лучше рваного, но в сфере сознания дела обстоят как раз-таки наоборот. Возможно, в этой немного грустной и, безусловно, иронической форме он всем нам признался, что знал: его грандиозный проект по починке дырявого носка сознания с самого начала был обречен на грандиозный провал. Или, возможно, мы просто все это время совершенно неверно понимали Гегеля. Он не был абсолютным идеалистом. Он был парадоксалистом.
Лекция 14. [Понимание медиа]
Пришло время задать нашим скромным беседам немного хай-тека и понять наконец, что же такое медиа. В этом нам поможет – во всяком случае, постарается помочь – специалист по этому вопросу Маршалл Маклюэн. Обратимся к его одноименному тексту («Понимание медиа»[33], 1964 год) и, может быть, будем дополнительно заглядывать в другой, чуть более ранний («Галактика Гутенберга»[34], 1962). Пожалуй, не преувеличением будет сказать, что Маклюэн и по сей день остается самым известным теоретиком медиа, поэтому к кому, как не к нему, нам обращаться за вводными комментариями по данному вопросу.
В обыденном языке мы устойчиво понимаем медиа как посредник, как средство передачи информации. Это довольно широкое толкование: в этом случае медиа – это и всевозможные СМИ, и технические носители, такие как компьютер, телефон, телевизор, а если копать глубже, то, конечно, и книга, и свиток, и папирус. К слову, есть и такие специально обученные индивиды, которых также называют медиумами, – они осуществляют связь не особенно образованных граждан с таинственным миром духов, призраков и прочих почивших родственников; интересно, что смысл термина «медиум» здесь остается прежним – посредник между чем-то и чем-то, в данном случае между живыми и мертвыми. Дословно медиум – это середина, она же среда и средство, то есть то пространство, которое, будучи само по себе, как нам кажется, нейтральным, служит пунктом перехода из одной территории на другую. Середина – это что-то вроде ничьей земли, пропускная зона, пройдя сквозь которую, гражданин одного государства становится, скажем так, гостем другого, а может быть, даже политическим беженцем.
Во всем этом уже существует некая базовая онтология. Мы имеем какую-то динамическую переменную, которую называем информацией, смысл ее заключается в том, чтоб непрерывно курсировать из одного места в другое, из другого в третье; далее, следовательно, есть эти самые места, которые представляются нам куда более статичными, скажем, константными – это пункты, из которых исходят и в которые пребывают текучие информационные потоки; есть, наконец, очень важное место – среда, промежуток, собственно, медиум, благодаря которому наше течение информационных потоков и осуществляется; стоит предположить, что без этого места-посредника поток, вероятно, остановился бы. Вот эту очень приблизительную и по-своему наивную картинку нам предлагает наше обыденное (пред)понимание медиа. А теперь попробуем расширить ее, что-то добавив, а что-то убавив.
Если мы попробуем, далее, конкретизировать, о каких статичных местах мы только что вели речь, то нам придется признать, что одним из них точно является человек. Говорить о медиумах вне человеческой жизни, вне его мира, вне его дискурса попросту невозможно. Медиум – это пространство, которое осуществляет циркуляцию информации между чем-то и человеком. Между человеком – и чем? Думаю, мы не ошибемся, если скажем, что – чем угодно. Пускай будет миром: медиум связывает человека и целый мир. Человек – это такое существо, которое не может существовать без медиумов. Скорее, медиум – это способ человека жить в мире. Нам известно такое определение человека: homo faber. Это человек, производящий орудия труда. Не без веского основания нам заявляют, что, не производя орудий труда, человек так и останется обезьяной. В таком случае орудия – это прежде всего двигатели антропогенеза, становления человека человеком. Такие орудия – это и есть медиа, посредством них человек общается и взаимодействует с целым миром, будь то другой человек, другая страна или, пусть будет так, мир загробного существования – скажем короче: Другое. Медиа или орудия (труда) осуществляют связь между человеком и Другим, и в то же самое время эта связь имеет характер антропогенеза, то есть именно в этой связи человек превращается в человека. Получается, нельзя посмотреть на медиа как на нечто наносное и в сущности не принципиальное – мол, телевизоры, без них было бы лучше. В каком-то смысле может и было бы, однако в куда более существенном смысле было бы хуже, потому что без медиа человек так и не смог бы стать человеком.
Продолжим этот важный сюжет. С антропологической точки зрения человек – это такое существо, которое буквально расширяется в мир, распространяет себя вовне – в Другое. И в этом смысле медиа выступают условиями возможности, носителями и одновременно самим содержанием этого расширения человека в мир. Очевидно, что если медиа есть средства контакта человека и Другого, то никакой экспансии (возьмем этот термин с заведомо двусмысленным окрасом) человека в мир без медиа не могло бы произойти. Животное, в отличие от человека, жестко вписано в окружающую среду – в то, что ученым языком именуется Umwelt. Среда детерминирует животное существо и служит ему непоколебимой внешней границей, пределом его возможной экспансии (которая именно поэтому и становится невозможной). В том-то и состоит основное отличие человека от животного, что человек, напротив, не имеет столь жесткой привязки к окружающей среде, он вписан в нее совсем не так, как вписано животное. Если животное биологически вписано в свою среду так, что в определенном смысле и является своей средой, – так, что какова среда, таково и животное, – то человек способен обитать в разных средах, смена которых немыслима для животных, при этом оставаясь человеком, ибо оставаясь, конечно, homo faber. Здесь вспоминается притча, рассказанная Платоном, о том как Эпиметей раздавал живым существам качества, а на человека качеств не хватило, поэтому животное, добавим мы от себя, будучи наделено определенными качествами, ими же было детерминировано (здесь качества привязывают животное к среде), а человек, оставшись совсем без качеств, оказывается максимально свободен от условий среды, – или теорию Пико делла Мирандолы о том, что Бог сотворил человека без особенных свойств, чтобы человек был свободен и сам мог создавать у себя такие свойства, которые посчитает нужным. Смысл во всем этом один: человек – существо, в определенном (изначальном) изводе куда более бедное, нежели любое животное, но именно в силу этой, прошу прощения за оксюморон, слабости, в силу этой бедности и этих лишений человек оказывается мощнее и экспансивнее любого животного – ибо пластичнее и способнее к трансформациям, метаморфозам и, главное, созиданию своего мира собственными руками. В таком случае мы не ошибемся, если скажем: человек есть медийное существо.
Получается так, что человек преобразует любую (или почти любую) среду и тем самым адаптируется к ней, и все это благодаря посредникам, которые и представляют собой средства расширения человека в мир – расширения, невозможного для животных. Поэтому жить в мире для человека – это то же самое, что жить в медиумах. Подчеркнем это: сказать, что у человека нет своей специфической среды обитания, – это то же самое, что сказать, что специфической средой обитания человека являются медиа, которые способны превратить любую среду в человеческую. Можно сказать и иначе: человек живет не в окружающей среде, но в культуре. А что такое культура? Это и есть специ фически человеческое средство превращения всякой среды в человеческий мир. Культура – это, буквально, нечто возделанное, сделанное, произведенное, поэтому культура синонимична медиа, она есть такое условное пространство, в котором осуществляется работа всех без исключения человеческих медиа. Культура – это и есть собственный мир homo faber.
Теперь хорошо бы понять, как работают медиа – что и каким образом они расширяют, распространяют. Введем для этого новое слово: медиа – это амплификатор. Это значит: усилитель, расширитель. Что амплифицируют медиа? Очевидно, то, что уже как-то дано, а именно самого человека в его исходной телесной определенности, в определенном устройстве его органов. Собственно, медиа и амплифицируют органы человеческого тела, которые в данном случае оказываются исходной предпосылкой для всей культуры. Нам, утонченным, воспитанным на Бахе и Жорж Санд, это может показаться странным или отталкивающим, однако все так – вся культура есть дальнейшее расширение и усиление работы органов человеческого тела. Это нетрудно продемонстрировать. Бах возможен только благодаря органу слуха, который, расширяясь в мир, осуществляется в нем на специально созданных человеческим трудом медиумах, на музыкальных инструментах; Жорж Санд и все ее коллеги возможны тогда, когда способность к языку и к речи распространяется в мир на средства письма и передачи письменной информации. В этом смысле полезно порой побыть строгими материалистами – пожалуй, мы больше узнаем о самих себе, чем нам кажется.
Человек амплифицирует свою силу посредством дубины, с ее помощью он забивает медведя и, облачаясь в его шкуру, амплифицирует свой скудный волосяной покров, защищаясь от холода – а позже и шкуру можно хорошенько амплифицировать в хижину, а хижину – в квартиру с центральным отоплением. Куда бы мы ни посмотрели и что бы ни увидели – все может послужить нам примером медийного расширения человеческого тела. Все, на чем держится наш человеческий мир, является, таким образом, амплификатором. По всему видно, что у нас пока что получается очень благостная картина: человек, мир и культура, которая превращает – с помощью разнообразных медиа – Другой мир в мир человеческий. Но все это уже сейчас обращает к нам, если задуматься, один непростой вопрос.
Если весь человеческий мир – это только преображенный мир культуры, то о каком тогда Другом мире мы все еще в состоянии говорить? Или – если медиа и культура для нас выступают своеобразными формами нашего пребывания в мире – что же является содержанием медиа, той информацией, которую медиа сообщают? Это вопрос, как видно, о различении медиа и самого сообщения. И вот здесь мы готовы открыть Маклюэна, который с порога нам скажет: the medium is the message. Ни больше ни меньше – медиум и есть то сообщение, которое он, казалось бы, передает. То есть медиум парадоксальным образом транслирует нам самого себя. На деле в этой знаменитой маклюэновской формуле нет ничего сверхъестественного – мы уже сказали достаточно, чтобы иметь к ней удовлетворительный комментарий. Ведь если человек может жить только в медиально преобразованном мире, если его специфический мир – это мир культуры и медиа, тогда, разумеется, ни о каком Другом мире для него не может быть и речи. Другой мир оказывается здесь чем-то вроде границы, предела, подобием вещи в себе у Канта или бессознательного в психоанализе. Мир без медиа – это черная ширма, за которым нам ничего не увидеть (конечно, ведь мы видим с помощью медиа). А раз так, то и нет никакого специфического сообщения, которое, будучи отличным от самих медиа, передавалось бы нам в их работе, служило бы отдельным содержанием для культуры как чистой формы. Есть различие между медиумом и медиумом, но неуловимо различие между медиа и миром, ибо сам мир всегда уже преображен работой медиа. Если нет содержания, кроме медиа, значит, действительно – медиа передают сами себя, транслируют сам принцип своей работы. Таким образом, придраться к Маклюэну решительно не в чем: indeed the medium is the message itself.
Средство и есть сообщение. Выражаясь словами Канта, мы познаем в этом мире лишь то, что сами в него вложили. Наш вклад в него и одновременно средство его познания – это медиа. В музыке нам сообщается аудиальность, то есть сам медиум восприятия звука, в видео – визуальность, то есть сам взгляд и сам вид, и так далее. Мы видим именно то, как устроен наш глаз, конституирующий видимый объект. Никакого мира самого по себе: каков глаз, таков и мир. Этот мир, чтобы существовать для нас, а не просто в себе, был изначально закодирован нашими способами его воспринимать. Теперь, обращаясь к этому миру, мы прежде всего считываем сам код, в который мир был переведен, и только посредством этого кода мы можем, далее, перейти к тому, что мы называем содержанием. Форма главенствует над содержанием, потому что всякое содержание возможно только благодаря некоторой форме – форма дает содержание, которое, оставшись бесформенным, просто исчезло бы. Получаем нечто вроде формализма, хотя изначально это ругательное словцо, а я ничего такого не имею в виду. Как раз напротив, ругать формализм бессмысленно – форма, хотим мы того или нет, дает нам любое содержание, и без нее ни ругать, ни хвалить нам будет нечего. Формализм – не оценочное суждение, но сам порядок вещей: форма дает содержание, форма первична, более того, форма и есть свое главное сообщение.
Мы сами не заметили, как перевели наш разговор о медиа на онтологический уровень. Казалось, что медиа – только средства, на деле это сами условия человеческого существования, форма, переходящая в само содержание человеческого бытия. Поэтому – если мы будем говорить о видах и свойствах медиа, мы, неожиданно для себя, будем говорить о видах и свойствах нашего бытия, ведь никакого другого – внемедийного – бытия у нас нет и быть не может, если мы не куницы. А раз выбора нет, тем и займемся. Основа классификации Маклюэна – это различение горячих и холодных медиа. Данное различение берет за основу степень интенсивности работы различаемых медиа – так, что степень эта способна изменить медиум до неузнаваемости. Итак: горячие медиа – такие, которые работают с каким-то одним чувством, холодные медиа, соответственно, – такие, которые задействуют множество разных чувств, то есть предполагают относительную свободу участия тех или иных чувств в передаче сообщения. Значит, ставка в различии – доля активности или пассивности субъекта восприятия. Горячие медиа предполагают пассивного субъекта, такого, восприятие которого жестко детерминировано медиумом. Холодные медиа мягче, они оставляют нам долю активности и свободного выбора. Вместе с тем надо сказать, что горячие медиа усиленно дифференцируют наши чувства, строго отделяя одно от другого, тогда как холодные медиа скорее придерживаются примата чувственного целого над четким разделением частей. Примеры: кино – это горячие медиа, речь – холодные.
Момент с разделением чувств нам нужно выделить особо. По Маклюэну, именно этот процесс разделения, дифференциации или, скажем так, специализации чувств маркирует важный этап эволюции человеческого существа, эволюции, направляемой развитием нашего восприятия. Как и во всем остальном, в чувственности роль специализации сильно возросла в Новое время (для Маклюэна эта эпоха маркирована прежде всего изобретением Гутенберга). Тот основополагающий процесс, которым отмечен этот исторический рубеж, заключается в отделении и усилении визуальной компоненты нашей чувственности. По Маклюэну, выходит, что чем дальше назад мы уходим в человеческую историю, тем холоднее были медиа и тем, соответственно, более целостной была наша чувственность. Напротив, в галактике Гутенберга, то есть в Новое время, непомерное усиление визуального чувства разрушает первозданную целостность восприятия. Началось это, впрочем, довольно давно, еще до всякого Гутенберга – уже фонетическое письмо ориентировалось прежде всего на зрение, тем самым усиливая визуальность. Через многие метаморфозы, растянутые в большом времени истории, западный человек к нашему дню стал тем, кем он стал: человеком по преимуществу визуальным. Этот момент я хочу заострить и, хотя у нас нет возможности подробно развернуть всю сетку напрашивающихся сюда ассоциаций, отметить ряд сопутствующих сюжетов: примат физико-математического естествознания, время картины мира (Хайдеггер), власть пространства над временем (Бергсон) и так далее. На досуге мы можем позволить себе сопоставить все эти сюжеты и прийти, наверное, к весьма интересным выводам.
Итак, эволюция визуальности: от фонетического алфавита к печатному станку и далее, в наш дигитальный век. Основной тезис, который мы пристегнем к этой эволюции, гласит: метаморфозы восприятия сопряжены с метаморфозами исторического существования человека. Нас это уже не удивит – конечно, раз мир нам дан как медиальное пространство, то есть как реальность наших (усиленных) органов чувств, значит и все наше историческое приключение со всеми его победами и поражениями, радостями и горестями не может быть отделено от развития медиальной сферы. Усиленный, тезис будет гласить: история человечества есть история медиа (что можно сравнить с тезисом Арнольда Гелена, который звучал бы приблизительно так: история человечества есть история институтов; очевидно, институты и медиа могут быть запросто сопоставлены, если не прямо отождествлены). Все дело в том, что медиа, изменяясь, также изменяют сам характер нашего восприятия, но мы, обитая в том мире, который мы как раз-таки воспринимаем, тем самым меняем и самый наш мир. Упростив, мы скажем не без иронии: да, бытие определяет сознание – будучи само сперва определено формами восприятия. Не будем смешивать, таким образом, сознание и восприятие – вполне можно не осознавать того, что воспринимаешь, и очень большой процент работы нашего воспринимающего аппарата мы осознать не в состоянии. Это возвращает нас, добавлю, к старой традиции дискурса о неосознаваемых малых восприятиях – к примеру, у Лейбница, но вслед за ним и у Делеза; к тому же мы можем, пожалуй что на удачу, завязать это рассуждение на проблеме бессознательного. Но здесь об этом – молчок.
Приведем несколько примеров. Вот миф – это, конечно, холодные медиа, они вовлекают в свою работу целостного человека, сами будучи нацелены, как мы помним, именно на целостность, на тотальность образа мира. По модели целостного, плохо дифференцированного человеческого восприятия, и само общество, построенное на холодной работе мифа, было плохо дифференцированным и очень сплоченным – так, что отдельные индивиды были не очень-то и отдельным, они не были склонны – не в пример нам с вами – радикально отличать себя от своей социальной группы. Субъект получал свой статус по принципу вписанности его субъективности в субъективность группы, поэтому, строго говоря, настоящий субъект был только один – это целая группа, племя как Большой Субъект. Того же хотел, как мы помним, добиться от человека раннего Модерна и Томас Гоббс, выдумавший специально для этого новый миф о суверене, – там тоже индивид мыслился как маленькая частичка огромного общественного тела по имени Левиафан; однако проект не удался, а все потому, что резко возросшая роль горячих медиа, дифференцируя чувственность, начала разводить, соответственно, индивида и общество, проводя между ними множественные границы и различия.
Куда-то пропала та старая добрая ситуация, в которой целое племя собиралось у костра и слушало метарассказ, в котором осуществлялась работа объединения членов группы в единую тотальность. Изобретение Гутенберга медленно, но верно приносило книгу в каждый дом, тем самым отчуждая семьи и каждого индивида от всего остального коллектива. Если мне больше не нужно разделять с другими свою чувственность, то мне, в сущности, особенно нечего с ними делить. Отныне каждый сам по себе, ибо жизнь каждого основывается на его собственном – дифференцированном – восприятии. Ничто не эмансипирует так, как присвоение себе своих чувств, следовательно, своего тела. Печатный станок оказал европейскому обществу услугу – как знать, медвежью или, напротив, неоценимую: он разделил группу и создал индивидов. Именно поэтому – и тут Маклюэн не выделяется из большой историко-философской традиции – само понятие «индивид» в строгом смысле применимо только к эпохе, начатой европейским Модерном. Индивид – очень позднее изобретение, которым мы обязаны разделению наших чувств.
Мы говорим: Новое время, прогресс, Просвещение, даже цивилизация – мало отдавая себе отчет, что все это накрепко спаяно с усилением визуального чувства. Сформулируем это так: цивилизация – это феномен визуальной культуры. В той мере, в какой визуальность исторически связана с очень горячими печатными медиа, также и цивилизация как таковая имеет эту горячую отметину – она формирует такого субъекта, чувства которого пассивно и жестко привязаны к объекту, который, как мы помним, является самим медиумом. Горячие медиа не оставляют простора для интерпретации, они требуют точности, объективности. Таков и характер наук, расцвет которых не отделим от становления цивилизации. Мир приобретает очень четкие очертания, он становится горячим, как математика – строгим, дифференцированным, определенным. Не такими были холодные медиа мифа, основанные на аудиальности. Миф был расплывчат и оставлял очень большой простор для интерпретации, для фантазии – чем объясняется такая поразительная художественная пестрота мифологических представлений и основанных на них произведений искусства. Сравним это с новоевропейским романом, сменившим в эпоху модерна давно устаревший мифологический эпос. Роман имеет дело с четкой картиной мира, основанной на так называемом здравом смысле и данных естественных наук. Мир романа гораздо более универсален, тотален, нежели мир эпоса или сказки. Десять различных сказок будут различаться между собой несоизмеримо больше, чем сотня романов какого-нибудь XIX века. Впрочем, и в том веке были рецидивы мифологических форм – возьмем хотя бы очень размытые, весьма вольные сказки Гофмана. Но ведь и Гофман, мы помним, подобно многим романтикам был помешан на музыке, – то есть был, в сущности, архаично аудиальным человеком.
Играя с другими теориями и всякий раз, как это бывает у всякого нормального исследователя, пытаясь встроить их в свою собственную, Маклюэн так и пишет, ссылаясь на Мирчу Элиаде: священное – это холодное, аудиальное, а профанное – это горячее, визуальное. Теперь, введя различие между мифологической сценой у костра и цивилизованным обществом с учеными книгами в домашней библиотеке, мы можем понять, о чем речь. Нам это ясно также интуитивно: если я слышу звук, но не вижу, откуда он исходит, то я волей-неволей начинаю городить богатую разветвленную мифологию, гадая, что же это такое звучит – у меня без труда возникают и бородатые боги, и рогатые кони со змеиными хвостами и петушиными гребнями, и всякие пенсионеры на метлах. Но если я вижу объект, данный моему зрению в пространстве, мне уже все равно, какие он звуки там издает, – мне ясно, что передо мной белка или транзистор, потому что я вижу это и верю своим глазам. И в то же время это не значит, подчеркиваю, что древний человек-де такой дурной, что верит в богов, а мы такие умные, что верим в транзисторы, – нет, все не так. Мы не лучше и не хуже, мы просто разные, потому что кардинально различны парадигмы нашего восприятия, следовательно, мы – буквально – живем в разных мирах. Нет, мифология – это не ложь, во всяком случае не такая ложь, за которую мы все это принимаем. Это не ложное, но просто Другое – такое, которое нам, увы, не удается воспринять, если мы, конечно, не Гофман.
Работая с базовым различением горячего и холодного, визуального и аудиального, мы по примеру Маклюэна можем пристегнуть сюда всякие прочие различения, как мы уже сделали это с мирским и священным: сознательное и бессознательное, рациональное и иррациональное, разум и воля… Мы можем, при желании, все доступные нам философии последовательно свести к схеме Маклюэна, если нам это зачем-то надо. Результат будет один: чувственность определяет сознание и управляет ходом истории. Это значит, что у всякой философии, которая игнорирует тезис Маклюэна, не совсем чистая совесть: задним числом эксплицируя те или иные категории мышления и, далее, объективируя их в плоскости онтологии, такая философия игнорирует первичный уровень образования этих категорий, который располагается в области восприятия. Отделяя мышление от восприятия, философия получает возможность онтологизировать первое, но, подвергая забвению его основополагающую связь с последним, она обрекает такую мошенническую онтологизацию на фиктивность. Во всяком случае, именно так приходится рассуждать, принимая тезисы Маклюэна как само собой разумеющиеся.
Пожалуй, именно в этом пункте – более, чем в каком-либо другом, – Маклюэн оказывается плотью от плоти постмодерна. Материалистическое, чувственное, эффективно-аффективное фундирование мышления, бытия и истории – все это характерно, мы видели, и для Фуко, и для Делеза, и для многих других. Дифференцированный, со временем лишь усложняющийся дискурс телесности, на разные лады управляющей сознанием, есть то философское основание, которое вписывает – через Ницше, но не в меньшей мере и через просветителей – постмодерн и Маклюэна вместе с ним в историко-философскую традицию. Мы видим также, что само по себе это не то что сказать «бытие определяет сознание» – этот тезис слишком наивен и очень неполон, чтобы относиться к нему всерьез. Поистине материалистический подход должен быть проработанным, и не в последнюю очередь методами, отшлифованными веками труда так называемой идеалистической мысли. Бытие определяет сознание – но чем в свою очередь определяется само бытие, которое к тому же мы как-то мыслим? Пытаясь ответить на этот непростой вопрос, мы получаем в итоге довольно объемные концепты делезианского аффекта или маклюэновского восприятия, которые синтезируют идеалистическую и материалистическую подходы в плотной сетке различий и дериваций.
Вернемся назад и смоделируем образ человеческого существа из галактики Гутенберга. Это личность, отделенная от общества, сполна ощутившая свою самостоятельность, фиксированная на визуальном восприятии, следовательно, на строго определенном (научном) объекте, связанном с другими объектами не хаотическими и размытыми, но четкими и линейными связями. В итоге то линейное мышление, которое лежит в основании нашей логики, математики и позитивных наук, является прямым результатом линейного восприятия, располагающего определенные объекты в пространстве. Мышление догутенберговского человека, таким образом, окажется нелинейным, хаотичным, преимущественно эстетическим (в узком значении этого термина), подчиненным законам фантазии и художественного вкуса. Художник, по сути, принадлежит архаической эпохе, здесь и сейчас он умеет преодолеть жесткую дифференциацию своего восприятия, запуская в своем сознании мифологическую работу. Человек Модерна, напротив, скорее ученый, прагматик, житель позитивного мира, которому свойственно – и это общее место Нового времени – смотреть на художника то ли с опаской, то ли слегка свысока – как на чудного, больного, а может, немного дурного гостя из доисторического прошлого.
Наиболее общие схемы нашего мышления – дедукция и индукция, анализ и синтез и многое прочее – можно, как видно, связать с преобладающим в нашу эпоху медийным каноном или способом чувственности. Наука познает то, что человек способен воспринять, поэтому ее данные, методы и результаты по необходимости связаны с образом восприятия. Когда мы говорим, что наука познает объективный мир, мы одновременно правы и неправы: мы не правы, имея в виду, что наука познает мир таким, какой он якобы есть вне всякой зависимости от воспринимающего его субъекта; мы правы, имея в виду, что наука познает мир, данный нам в качестве объекта нашего восприятия. Однако, так как мы воспринимаем именно то, что воспринимаем, и ничего другого воспринимать не можем, переживать не нужно – другого мира, помимо мира наших чувств, для нас не существует. Впрочем, пример с художником заставляет задуматься: что, если определенные манипуляции с восприятием способны менять объективный мир наших чувств? Подумать здесь есть о чем, но здесь лучше этим не увлекаться.
Для тех же, кто по тем или иным причинам, а то и просто из вредности хочет оспорить магическое умение художника путешествовать по перцептивным сеткам, есть к тому подходящие аргументы. Неверно, что художественная культура модерна в чем-то существенном отличается от науки или индивидуализированного мышления. Литература Нового времени, как мы уже упоминали, столь же линейна и объектно-ориентирована, как и все прочее. То же и с музыкой. К примеру, наличие мелодии и линейной композиции выделяет европейскую музыку среди многих прочих – скажем, в африканской музыке нет мелодии, потому что там аудиальное не подчинено визуальному. В этом смысле интересно проследить тенденции современности, которые со всей очевидностью вступают – давно уже вступили – в противоречие с постулатами модернистской перцептивности. Уже венская школа ожесточенно напала на классическую мелодику и линейную композицию, а затем именно африканская музыкальная традиция стала набирать все больше и больше популярности для европейского уха. Сейчас это очень заметно. Не надо ли предполагать, что мы стоим у порога новых перцептивных метаморфоз?
Конечно, так оно и есть. Один из важнейших выводов из теории Маклюэна, которую мы рассмотрели в самых ее общих чертах, формулируется так: формы восприятия историчны, они изменчивы и не стоят на месте, поэтому та перцептивная парадигма, которая преобладает сейчас, ни в коем случае не пребудет с нами навечно. Это превращает человеческое бытие в истории в очень интересное предприятие с заранее не известными перспективами.
Метаморфозы, в которых мы обитаем, эксплицированы Маклюэном в концепте электричества. Собственно, век электричества – та наша реальность, которая поет отходную по человеку Гутенберга. Что амплифицируют электронные медиа? По Маклюэну, всю нервную систему разом. Раз так, то впереди нас ждет процесс, обратный модернистской дифференциации чувств, – наши чувства опять соберутся в некую целостность, только на неведанных ранее основаниях. Поэтому глобализация равна электрификации (в чем-то и Ленин оказался прав). Человек в ней перестает быть отдельной личностью, он на новых правах включается в человечество как огромную электронную систему.
Мир превращается в глобальную деревню – будто бы та деревня, которая некогда собиралась у костра, конструируя с тем свою общность, нынче распространилась – снова посредством медиа – на целый мир, который теперь конструирует общность у мониторов. Новые медиа запросто преодолевают пространство и время, вместе с границами личности они размывают границы национальных государств. Такие перемены переживаются травматически, и мы видим, к чему все это приводит. Забавно, но сам Маклюэн смотрел в наше будущее с большим оптимизмом. Возможно, он слишком рано умер и слишком мало знал. Теперь у нас меньше причин для излишних надежд. Кто знает, что будет, но ясно одно: в ближайшее время скучать человечеству не придется.
Лекция 15. [Модерн – незавершенный проект]
Мы находимся на завершающем этапе наших бесед, поэтому самое время добавить к ним ложку дегтя. Под ложкой дегтя я подразумеваю ныне живущего философа Юргена Хабермаса, который усиленно сопротивляется постмодернистской экспансии – настолько, насколько это ему по силам. Это значит, что его тезисы будут нам как минимум небезынтересны. Истоки этих тезисов мы найдем в двух текстах – маленьком под названием «Модерн – незавершенный проект»[35] и большом под названием «Философский дискурс о модерне»[36].
Сразу же выскажем самое главное: если модерн – это незавершенный проект, то никакого постмодерна, который наступает после модерна, не существует. Если что, таким образом, и существует, так это кое-какие комментарии, которые модерн приписывает к самому себе. Учитывая то, что мы долгое время занимались тем, что проводили всевозможные линии демаркации между модерном и постмодерном, нас это может немножко шокировать. Если проект модерна и правда не завершен, то нам придется как минимум дать всем этим демаркациям новую характеристику, а от некоторых, по всей видимости, вообще избавиться. Во всяком случае, ясно, что всерьез говорить с позиции постмодерна, что мы и пытались по мере сил делать, означает считать модернизм очевидно закрытой темой. А что значит закрыть тему в философии? Видимо, это значит решить – или полагать, что решил – все привязанные к данной теме проблемы. А теперь задумаемся: допускает ли сам постмодерн такую вещь, как окончательное решение каких-либо проблем, или он сам настаивает на бесконечной интерпретации? Похоже, сам постмодерн в каком-то смысле настаивает на том, что проект модерн не может быть закрытым.
Вспомним, напротив, что главным – если и не эксплицитным, то имплицитным – тезисом модерна была уверенность в том, что возможен такой метанарратив, который смог бы адекватно представить полноту истинного положения вещей. Ключевая мысль модернизма, далее расходящаяся в полифонию вариаций, выражена в проекте Гегеля: мир познаваем в конечной своей истине, более того, сам процесс познания есть необходимый момент становления этой истины, потому что мир есть дух, субстанция есть субъект. Модерн, таким образом, верит, что истина мира конечна и достижима, что не только возможно, но необходимо абсолютное знание, что, таким образом, модерн – это принципиально завершимый проект. Вот эту хитрую диалектику нам обязательно надо запомнить: модерн настаивает на завершимости модерна, а постмодерн убежден в его – модерна – принципиальной незавершимости. Очередной парадокс, да какой – он и Хабермаса способен перевернуть с ног на голову.
Хабермас, как и мы, в вопросе о модерне сразу же упирается в Гегеля. По сути, именно Гегель для Хабермаса является родоначальником всего философского дискурса о модерне: внимание, родоначальником не самого по себе модерна, но именно дискурса о модерне. То есть именно Гегель первым начал проблематизировать модерн как модерн, именно он впервые увидел в модерне проблему и поставил модерн под вопрос. Гегелевская философия – не просто наивное продолжение модерна как историко-философского проекта, но это саморефлексия модерна, принципиально новый этап, когда модерн в себе как бы раздваивается: на то, что мыслит (субъект), и на то, что мыслится (объект). У Гегеля мы, таким образом, обнаруживаем два модерна: философскую рефлексию и ее предмет. Именно Гегель впервые ограничил модерн рамками Нового времени – времени принципиально новаторских движений во всех областях человеческой жизни. Эти движения, конечно, лучше, сильнее, важнее всех старых. Здесь к месту вспомнить о собственно гегелевской истории философии, которая, как мы знаем, отличается своей вопиющей (как нам сейчас кажется) линейностью и тем подчеркнуто завершающим, подводящим итог характером, который свойствен для всего гегелевского проекта. Гегель подходит к истории философии с позиции завершителя, он претендует на то, что его собственная мысль окончательно закрывает философию как таковую, снимает ее в свете мудрости, окончательного и абсолютного знания. Гегель – уже не философ, Гегель – мудрец. Следовательно, философия больше не нужна, ибо она достигла того, к чему стремилась – она достигла софии. Спасибо Гегелю – все это значит, что модерн и правда взирает на самого себя исключительно в перспективе конечности и завершения, он очень хочет закрыть все пути, которые ранее были открыты. Гегель претендует на титул мудреца, Наполеон претендует на титул императора вообще всего, физико-математическое естествознание претендует на абсолютно адекватное познание реального мира, искусство претендует на достижение мифологической полноты эстетической интуиции – и так далее. В модерне все все завершают, это эпоха, одержимая манией всюду и везде поставить жирную точку.
Теперь возвращаемся к гегелевскому раздвоению личности. Да, он тщится завершить модерн – как объект. Но как субъект он сам рефлексирует эту страсть к завершению, он сам же ее проблематизирует и ставит под вопрос. Отсюда следующий тезис Хабермаса: философский дискурс о модерне, начавшийся в пределах гегелевской философии, так и не покидает этих пределов. То есть вся послегегелевская философия, ведущая дискурс о модерне, на самом деле не покидает рамок гегелевской мысли, потому что в этой мысли именно через ее раздвоение задана вся полнота вопроса: стремление к объективной завершенности знания и одновременное субъективное сомнение, данное как проблема. И если все обстоит действительно так, то модерн – это незавершенный проект, хотя вместе с тем и проект, одержимый своим завершением. Тогда постмодерн – это попросту блеф, пытающийся всеми силами (как правило, чисто языковыми и софистическими) скрыть свое врожденное гегельянство. Это не более чем очередной бунт детей Гегеля против самого Гегеля – причем самыми что ни на есть гегелевскими средствами.
В самом деле, основные черты философии Гегеля позволяют нам хотя бы помыслить эту ее оригинальную двойственность. Именно Гегель в поисках абсолютного знания – а искали его и Бэкон, и Декарт, и Спиноза, и многие прочие – основополагающим моментом в этих поисках выделил противоречие, диалектику тезиса и антитезиса. Это значит, что Гегель в основу своей философии положил несогласие, спор, разноголосицу, которая и выступает поистине движущей силой всякого знания. Выходит, нет ничего странного в том, что сам Гегель всюду и везде себе же противоречит – таков самый принцип его философии. Двойственность Гегеля – не прискорбный результат его непоследовательности, но, напротив, высшая манифестация его интеллектуальной честности и аккуратности. Это гораздо больше, чем базовое картезианское сомнение. Декарт сомневался, прекрасно зная, чем все это кончится – усиленным утверждением несомненного тождества, ибо я это я, а Бог не обманщик. Для Гегеля это нечистый трюк: сомнение ничего не стоит, если оно не вскрывает в действительности новые и новые узлы противоречий. Иначе говоря, остановить сомнение – значит перестать философствовать. При этом, конечно, сам дух сомневающейся субъективности был угадан Декартом более чем верно – это, по Гегелю (в хабермасовском платье), основополагающий принцип модерна. Однако – не просто субъективность, но субъективность, понятая как субстанция, что для Декарта, как мы понимаем, какой-то нонсенс. Субстанция, разумеется, абсолютна и завершена в самой себе, субъективность, напротив, отрицательна, рефлексивна и принципиально не завершена.
Исходя из ориентации на субъективность, которая лежит в основании модернистского проекта, мы можем вывести следствия, уже нам известные: это индивидуализм, характерный для человека Нового времени, это важнейшее право на критику (на сомнение), которой пропитана философия модерна, – словом, мы получаем проект Просвещения, составляющий самую сердцевину модерна. Свобода субъективной рефлексии открывает нам ценнейшую возможность критиковать (то есть подвергать отрицанию) все и вся, тем самым эмансипироваться от лживости непродуманных мнений. Это и значит, в соответствии с проектом Просвещения и, в частности, с Кантом, становиться совершеннолетними – выходить из состояния рабского неумения пользоваться своим собственным умом. Субъект просвещения и критики становится, стало быть, автономным субъектом – таким, который основывает свое поведение только на себе самом. Такая субъективная автономия – еще одно важное завоевание модерна, чище всего эксплицированная в этике Канта, где речь идет, собственно, о свободе поступка, понятой как абсолютная непривязанность актора к каким-либо внешним условиям (свобода есть независимость от материи). Все перечисленное составляет предмет и одновременно следствие из философии идеализма – или абсолютного идеализма в версии Гегеля, – которая и представляет собой модернистский проект, данный в своем отношении к мышлению (а без отношения к мышлению, как видно, этот проект невозможен).
С этого момента мы оказываемся на знакомой и хоженой территории, потому что мы помним, что именно основополагающая категория модернистского субъекта – это главная мишень постмодернистской критики. Настолько подробно, насколько могли, мы разобрали атаки на классического субъекта у Барта, Фуко, у Бодрийяра и Деррида, у Делеза и даже у Маршалла Маклюэна. Мы выучили как мантру, что субъект умирает, автор умирает, человек умирает. Все линии этой атаки могут быть, весьма условно, сведены к тому тезису, что прозрачность субъекта для самого себя, служащая необходимым условием для его рефлексивности, критики и автономии, является иллюзией – эффектом структуры, эффектом языка, или определенных социальных систем, или работы желания, тела и восприятия. Главное – то, что субъект не покоится на самом себе как на твердом своем основании, он зависит от множества сил, которые для него не прозрачны, которые вертят и крутят его, как игрушку. Задача философов постмодерна, таким образом, и состоит в том, чтобы вскрыть эти механизмы не-подлинности и не-прозрачности, работающие в самом основании классической субъективности и обрекающие великие чаянья высокого модерна на разве что идеологический, мифологический, в общем, на метанарративный статус. Дело обстоит не так, что автономный субъект силой критики деконструирует идеологию как фальшивку, миф как ложь. Дело обстоит как раз так, что автономия сильного критикой субъекта – это идеология как таковая, это, пусть будет так, модернистский миф мифа, самый большой рассказ из всех, которые можно было придумать в истории человечества.
Итак, субъективность – это не субстанция, но только эффект. Здесь постмодернисты вооружаются Хайдеггером, который задолго до них, еще в 1927 году, пытался не оставить от классической субъективности камня на камне, однако и Хайдеггер для того же Деррида – еще метафизик, еще классический модернист, не доводящий свое саморазоблачение до конца, читай – не достраивающий деструкцию до деконструкции. Надо быть еще строже, еще критичнее – так, чтобы само основание критики было разнесено в щепки, и по тому, как Хайдеггер видит в Ницше последнего метафизика, а Деррида видит последнего метафизика в Хайдеггере, а кто-то сейчас, очевидно, разоблачает и Деррида как последнего метафизика, насмехаясь над его неотесанным тезисом о не-деконструируемости самой деконструкции, – по всему этому видно, куда заводит эта агрессивная игра. Она заводит, ясно, в бесконечность – и никакого тебе абсолютного знания. Работа дифференции бесконечна, потоки желания бесконечны, пределом капитализма является только он сам, тем более беспредельным является необузданное потребление – и так далее, пока мы не устанем (но ведь и тогда ничего нельзя будет прекратить).
В этом месте мы можем со всей ответственностью сказать, что – да, во всем этом будто бы два Гегеля, равновеликих и равносильных, столкнулись в одной историко-философской парадигме. Один Гегель – как законченный модернист – настаивает на принципиальной завершенности абсолютного знания в Духе, другой Гегель – как завзятый постмодернистский enfant terrible – утверждает неутомимую бесконечность работы отрицания, данной по разным поводам то как дифференция, то как желание, то как потребление[37]. Но тут же мы должны ужаснуться, поняв: а ведь у самого Гегеля две эти линии как-то уживались друг с другом! Гегелю удавалось – если, конечно, прав Хабермас – то, что не удалось никому: совместить модерн и постмодерн так, что они станут необходимыми и равнозначными частями одной философской системы. Поэтому мы и можем сказать, что постмодерн – это бунт Гегеля против Гегеля, вписанный со всей органичности в единую философскую парадигму. Здесь вспоминаются как пророческие слова Фуко в одном едва ли заметном месте – слова о том, что к Гегелю стоило бы относиться очень осторожно, ибо мы и сами не знаем, чем на самом деле ему обязаны. Получается, что Фуко все знал до всякого Хабермаса.
Субъект Гегеля был изначально отмечен некоторой существенной неполноценностью, он не являлся тотальностью, но оказывался только частью игры тезиса и антитезиса. В той мере, в какой всякое содержание претендует на истину, только будучи снято следующим, более полным актом рефлексии, субъект на всяком данном этапе пребывает во лжи о действительном положении дел и, обреченный на отрицание, снимается в акте последующей самокритики. Таким образом, диалектика модерна и постмодерна может быть без труда описана гегелевским языком. Не постмодернисты, наследуя в этом структуралистам, придумывают философскую десубъективацию – она уже содержится там, где, казалось бы, субъект получает максимум прав – на территории так называемого абсолютного идеализма.
Субъект расколот в себе, он обречен на то, чтобы исчезать и появляться вновь – как охотник у тела подбитой дичи. Такое состояние – я говорю о постоянном покушении на собственные основания, – конечно, невыносимо. Мы не ошибемся, если рассудим, что идеология – этот воображаемый целостный мир без трещинки, без сколов – возникает именно в тот момент, когда для субъекта невыносимым становится его сущностное несовершенство. В тот момент, когда он отшатывается от разбитого зеркала в неистовом желании как-то залатать дыры в своем существе, и возникает идеологический фантазм – как обман, выдающий разбитое за целое, маскирующий трудности и противоречия за пестрым фасадом рекламы или за подлым радушием сталинского фильма про очередных трактористов, фасадом по принципу потемкинских деревень, которые призваны за ярким картоном скрыть разруху и уныние. Идеология – это слои замазки, скрывающие трещины в самом субъекте, попытка – при этом всегда удачная, ибо желанная – выдать несовершенство за целостность и полноту, роковое незнание за истину, положенную в карман (который, конечно, остается дырявым, поэтому все в конечном итоге из него сыплется – такова катастрофа, которая по необходимости поджидает любую идеологию, ибо нельзя без последствий выдавать сущее за не-сущее).
От всякого идеолога Гегеля отличает то, что он прекрасно осознавал неизбежность и, более того, положительность повсеместного несовершенства субъекта. Расколотый мир – это залог его, мира, развития и поступательного движения к истине. Раскол организует работу противоречий, которой живет все живое, продолжается все длящееся. Не нужно искусственно латать раскол – раскол сам о себе позаботится, когда на грядущем шаге снимет ошибку в синтетической истине, и так дальше. Работа противоречий, в которой становится истина, является, кроме того, залогом неизбывной актуальности философской работы, понятой как критика. По существу, на высшем – познавательном – уровне работа противоречий осуществляется именно в критической работе философа. Поэтому мечтать о прекращении работы философа – значит призывать царство идеологии, кликать беду. Философию, конечно, можно не понимать, можно ее не любить, но искать ее конца, искусственно формулировать мнимые причины ее окончания – значит быть идеологом и служить иллюзии, фабрикующей несуществующую целостность мира. Хуже дурака только фальсификатор.
Философы постмодернизма, как бы кто к ним ни относился, в этом смысле любовно хранят заветы Гегеля, форсированно обращая философию в сверхмощный механизм по производству критики и самокритики, бесконечной неостановимой рефлексии, которая спешит левой рукою разрушить все то, что только что написала правая. Организуя работу различий, постмодернисты создают (а на деле – хранят) истинно гегелевский образ субъекта, занятый снятием самого себя в новых и новых рефлексивных актах и мыслительных содержаниях. Субъект, меняющийся в дифференции, в бесконечном потоке желания, в подвижных дискурсивных практиках – все это гегелевский субъект диалектики, умеющий к каждому тезису подобрать убедительный (и разрушительный) антитезис.
Теперь очевидно, что мы, если захотим, можем подвести под гегелевский дискурс о модерне и все содержание, лежащее в основе так называемого постмодерна. Возможно, именно зная об этом, философы постмодерна так интенсивно отрицали всякую свою связь с Гегелем – разоблачая его как логоцентриста, стравливая его с почти что священной фигурой Ницше, конечно же не в пользу Гегеля, и так далее. Постмодернисты хотели замести следы, спрятать все, чем они обязаны философской классике, так сказать, убить отца, чтобы скрыть свое тождество с ним. Однако, как мы знаем из психоанализа, убийство отца чревато травмой, следы которой в процессе анализа выведут к истоку истины. По Хабермасу, конечно, без ссылок на психоанализ, так и выходит: постмодернизм есть дальнейшее движение философской критики и диалектической десубъективации, известной под именем модерна. Значит, модерн – незавершенный проект, а так называемый постмодерн – это очередной его шаг, новый виток, ставящий под вопрос вчерашнюю истину в еще одном синтезе (который и можно назвать собственно постмодернистским), в качестве части которого она сохраняется в философской работе. Поэтому постмодерн и немыслим отдельно от философской классики, которую он всякий раз должен критиковать и деконструировать, нет Деррида без Хайдеггера и даже Платона, нет Фуко без Канта, нет, страшно сказать, Делеза без Гегеля. Все дело в том, что их труд – не отрицание в сильном смысле слова, но, скорее, отрицание в слабом смысле – как диалог, в котором возможны вопрос и ответ, аргумент и контраргумент, порой даже словесная перепалка. Это извечный диалог философии с самой собой, от века известный под именем диалектики, когда на новом этапе понадобился аргумент «Делез» или аргумент «Деррида», как когда-то вступали в игру аргументы «Кант», «Декарт» и «Боэций». Поэтому, к слову, сам термин «пост-модерн» отдает такой невыносимой вторичностью: да, он, конечно, «пост», но он, как ни бейся, все-таки «модерн». И тогда все встает на свои места.
* * *
На правах последнего разговора добавим к нашим размышлениям еще несколько тезисов и пару сюжетов, чтобы с тем большей уверенностью закрепить полученные результаты.
Ключевое противоречие, лежащее в основании всего нашего предприятия, противоречие, затрудняющее понимание и одновременно подвигающее мысль вперед, состоит в том, что, по Гегелю, работа критической рефлексии и познания фактически бесконечна (плюралистический момент постмодерна), но в то же время для ее осуществления необходимо предположить конечный проект Абсолютного Знания (тотальный момент модерна). Сам Гегель стремится только описывать работу этого противоречия как процесс, хотя подчас срывается в декларативную претензию на Мудрость (как знание, уже достигнутое). Постмодернисты, с которыми мы познакомились, продолжают, по Хабермасу, работу Гегеля, выставляя вперед, однако, момент различия и противоречия, тогда как на деле – в метадис-курсах дифференции, бесконечного желания, потребления, археологии – они сохраняют тотальный проект критического знания, вне которого и без которого их теоретические модели не могли бы возникнуть. Даже если мы конструируем теорию, максимально плюралистическую, противоречивую и различительную, мы все равно не можем избежать скрытого – хорошо или плохо – момента тотальности, данного как проект, ибо сколь бы подчеркнуто противоречивой наша теория не стремилась быть, она все равно имплицирует предположение, что она верна и осмысленна, а это претензия на обладание истиной. Несмотря на выбранный тон и неплохую игру, теории постмодернистов принципиально могут быть описаны как ренессанс тотального проекта модерна.
Раз так, то философия постмодерна, как до нее философия модерна, может – и должна – быть подвергнута новому отрицанию, должна получить свою порцию критики, чтобы философское «знание» продолжало движение вперед – что, как ожидалось, сейчас и происходит (попытка отката Алена Бадью от современной софистики – имеются в виду наши постмодернисты – к платонической проблематике, совсем свежее движение спекулятивных реалистов, изобретательно реабилитирующих онтологию, и так далее). Постмодерн, вполне тотально претендовавший на окончательность своей метакритической позиции, сегодня сам оказывается тезисом, к которому все и всюду стремятся – и часто удачно – подобрать работающий антитезис. Это означает, что постмодерн – открытый проект, как и незавершенный модерн.
И теперь, чтобы подчеркнуть это важное сходство проектов модерна и постмодерна (которые в сильном тезисе Хабермаса представляют собой один и тот же проект), я приведу последний пример – это концепт итальянского человека-и-парохода Умберто Эко, который, к несчастью, совсем недавно нас покинул, под названием открытое произведение – так называется книга[38], вышедшая в далеком 1962 году, то есть еще до эксплицитной формулировки всей нашей постмодернистской проблематики. Тезис простой: главное сходство модерна и постмодерна заключается в том, что и то и другое – открытое произведение. Мы уже поняли, что Гегель противоречил себе, претендуя на Абсолютное Знание и вместе с тем основывая его на бесконечной, то есть уже не абсолютной, не окончательной, работе отрицания; также противоречили себе французские философы второй половины ХХ века, утверждая плюрализм и различие дискурсов на фундаменте абсолютной истины о том, что истина сущностно плюралистична и различительна. Их противоречия составляют, как видно, две стороны одной медали, и именно эти противоречия, вопреки частным желаниям их носителей, оказываются не слабым, но сильным местом всех этих теорий: именно благодаря серьезным противоречиям эти теории и работают. Иными словами, противоречия – здесь уже строго по Гегелю – суть то, что превращает эти теории в открытое произведение.
Используя этот тезис, мы – безусловно, лишь с относительной убедительностью – пытаемся увидеть в теориях наших философов эстетический, художественный объект. Приятно, что сами философы нам в этом благоволят: общее место новейшей французской философии – ее форсированная поэтизация. Концепты сочиняются как художественные произведения, скажет Делез, – и окажется к нам очень близок. Так вот, с эстетической точки зрения мы различаем модерн (в идеологическом, нехабермасовском смысле) как стремление произведения к закрытости и, напротив, постмодерн как стремление произведения к открытости. Классицистская нормативность – лучший пример стремления формы к закрытости. С этой точки зрения произведение исчерпывается строго обозначенным набором канонов и правил, грамотное применение которых участвует в успехе всего эстетического предприятия. Единство действия, места и времени закрывает произведение, делает его исчерпанным; гармония, которая, будучи где-то нарушенной, всенепременно должна восстановиться, также закрывает музыкальную форму; требование придерживаться следования завязки, развития и развязки закрывает форму повествования. Форма закрыта потому, что конечна и исчерпана: мы знаем, из чего она должна складываться, все прочее объявляется лишним и вредным. По существу, классическое произведение – это и есть Абсолютное Знание, данное в эстетической наглядности, а не в сухом теоретическом остатке. В конечном итоге осуществленный идеологический (нехабермасовский) Гегель – это драмы Расина, комедии Мольера. Это Гегель как главный герой своих собственных ночных кошмаров: Гегель – переведенный таки, вопреки своим чаяниям, на французский язык. Гегель канона и нормы, Гегель трех или более единств, Гегель жестких критериев и строгих оценок – Гегель, не выходящий из дома и дышащий смрадом.
Только что мы, однако, наблюдали совсем не такого Гегеля. Его подлинный модернизм, всюду и везде насмехаясь над чопорным классицизмом, призывает субверсивный дух противоречия, который уничтожает иллюзию единств и канонов формы. В произведение проникает бесформенное, неправильное и некрасивое, частное и неважное, грубое и смехотворное, всякий раз очень, очень издевательское – как будто, и правда, перед нами ренессанс какого-нибудь барокко. Открытый дух гегелевского модернизма прекрасно передан Джойсом, по всем барочным канонам, представляющим собой отрицание всякого канона, издевающимся над мифом, над эпосом и над романом, центрирующим грандиозную махину повествования на том, что герой мастурбирует или ходит по-большому. Подобные жесты, полные иронии, размыкают закрытую форму: тот факт, что можно то, чего было нельзя, лучше всего свидетельствует о безграничных возможностях художественной формы. Когда Делез и Гваттари начинают серьезный философский трактат с описания ануса судьи Шребера, мы сталкиваемся с тем же жестом, с одной стороны, эстетизирующим философию, с другой – сразу же делающим ее форму открытой.
Мир произведения, организованный работой противоречий, всегда находится в движении, он и есть незавершенный проект, всегда могущий измениться. Открытое – как и живое в известной дефиниции Мераба Мамардашвили – есть то, что может стать другим; открытое есть становление, закрытое есть бытие. Поднимая на щит концепт становления и отрицая бытие как данность, тотальность, присутствие, философы постмодерна, действительно, реабилитируют античную софистику, которая, в описании Барбары Кассен, разоблачала элеатскую онтологию как иллюзию бытия, на деле производимую эффектами языка. В этой характеристике мы без труда узнаем пафос Делеза, Фуко, Деррида. Эффекты языка, производимые бесконечными дифференциями, – вот что открывает мир смыслов, вот что превращает идеологическое бытие в становление. Напротив, если мы хотим подороже продать людям иллюзию, нам достаточно только остановить язык и представить его эффекты как истинный мир готовых солидных смыслов, которые никогда не изменятся: Бог, раса, класс, великая Россия.
Открытое произведение отрицает видимые границы формы, оно разрушает предполагаемое единство замысла, якобы данное в самом сердце произведения – теперь-то мы знаем, что автор умер, и мертвый автор ничего не хотел нам сказать. Форма не несет в себе ничего необходимого, элементы ее случайны и ситуативны, они – вовсе не следствия логических построений, но эффекты внутриязыковых различий. Нет однозначного и конечного смысла, но смысл дается в бесконечных вариациях, притом, как мы знаем теперь, на каждом этапе соскальзывая в бессмыслицу. И в этом смысле, как ни жаль, никакого по-настоящему закрытого произведения никогда и не было – потому что любую, даже самую наиклассичную драму мы можем теперь читать так, что в ней не будет автора, замысла и центрального смысла, не будет декларативных границ формы и отрабатываемых канонов нормативной эстетики. Всякий Расин, если мы захотим, на наших глазах превратится в безумца – то есть покажет нам по-настоящему открытое произведение, сам о том, конечно, не помышляя.
Открытость произведения есть честность в обращении со временем. Во времени все происходит, меняется и течет, одно отрицает другое, и кто его знает, что будет дальше. Классический разум, как заметил Бергсон, работает на едва уловимой подмене времени пространством: там, где все меняется, нам выгодно представлять, что все остается неизменным. Так рафинированное бытие вытесняет неуютное становление. Во времени всякое нечто – сегодня растение, завтра удобрение, тогда как в пространстве мы представляем себе изолированные и неизменные формы – скажем, идеи: растение есть растение, кошка есть кошка, тапок есть тапок. Так – у Платона: во времени, как во грехе, пребывает несовершенный видимый мир, где все – лишь подобие, неполноценное и становящееся. Подобие – того не воспринимаемого, но только мыслимого мира (потому что воспринимаем, да и в общем живем, мы только во времени, но в мысли способны изолировать предметы от времени, сообразив, так сказать, этакое чистое пространство неизменных сущностей) – мира Идей, пребывающих и самотождественных. Отказ от восприятия, от жизни, от очевидности, сопровождаемый конструированием иллюзии неизменного – иллюзии, которая принципиально не может быть обоснована эмпирически. Протомодель для любой идеологии, чистая работа мифа, эксплицированная в философии. Учебник для юного политтехнолога: делай все так, чтобы живое сходило за мертвое.
Конечно, научное знание, которое в конечном итоге и умертвило богов, способствовало тому, чтобы данные опыта взяли верх над мифологическими иллюзиями, время освободилось от гнета пространства. Проект модерна прежде всего обязан самой своей возможностью именно научному знанию. Но и наука грешила мифологичностью, то и дело изолируя свои результаты и представляя их чем-то вроде вневременного бытия – многие околонаучные пачкуны отличаются этим и по сей день. Наука ХХ века умнее и тоньше, она (вспомним Башляра) решительно утверждает свой динамизм и ставит проблему времени в основание собственных построений. Наука сегодня наследует не Пармениду, но Гераклиту, что делает постмодерн, как ни странно, вписанным в современную научную парадигму. Эта парадигма, как мы видим, является в то же время эстетической: наука, понятая художественно, творит свой образ мира как открытое произведение, где время не подчиняется, но изменяет пространство. В центре этого образа – работа противоречий, текущий процесс самокритики. Всякая данность может быть принята только в той мере, в какой она может быть вместе с тем подвергнута отрицанию – в этом смысл методологии фальсификационизма (фаллибилизма), ставшей общим местом современной научной работы. Тезис есть тезис только в той мере, в какой к нему может быть подобран антитезис. Значит, если у произведения есть смысл, всегда возможен еще один смысл, который разрушит первый (вспомним «Логику смысла»). Если мир представляется нам тотальной системой, то мыслим такой образ мира, который отрицает тотальность – и если такой образ вообще-то возможен, значит, у всякой тотальности есть антитезис, превращающий тотальность в иллюзию, в эффект остановки языка. Истина может быть увидена сотней глаз. Роман может быть прочитан сотней читателей. Мир может быть интерпретирован сотнями разных способов.
Все это означает, что в состоянии постмодерна нет ничего эпатажного, странного и особенно сложного. Напротив, это состояние нам изначально ближе, чем иллюзия задних миров – ведь все мы живем в мире, который непрестанно меняется во времени. Значит, именно постмодерн – или, если угодно, модерн как незавершенный проект – лучше всего описывает тот мир, в котором мы живем. Для адекватного описания меняющегося мира сам язык описания должен меняться, он должен быть открыт новому. Нет окончательной истины, отменяющей время. Мертвое не меняется, тупое не мыслит. Язык описания открытого мира называется открытым произведением. Открытость его не существует сама по себе, она создается в работе мышления. Следовательно, время – мыслить. Время изобретать концепты.
* * *
Мы начали с Лиотара. Им же я предлагаю закончить – тем более что его слово обладает редчайшим отличием первосвидетельства – слово родоначальника постмодернистского дискурса о постмодерне. Итак: «Постмодерном оказывается то, что внутри модерна подает намек на непредставимое в самом представлении; что отказывается от утешения хороших форм, от консенсуса вкуса, который позволил бы сообща испытать ностальгию по невозможному; что находится в непрестанном поиске новых представлений – не для того чтобы насладиться ими, но для того чтобы дать лучше почувствовать, что имеется и нечто непредставимое. Постмодернистский художник или писатель находятся в ситуации философа[39]: текст, который он пишет, творение, которое создает, не управляются никакими предустановленными правилами, и о них невозможно судить посредством определяющего суждения, путем приложения к этому тексту или этому творению каких-то уже известных категорий. Эти правила и эти категории есть то, поиском чего и заняты творение и текст, о которых идет речь. Значит, художник и писатель работают без каких бы то ни было правил, работают для того, чтобы установить правила того, что будет создано: еще только будет, но уже созданным. Поэтому творению и тексту присущи свойства события, поэтому также они случаются слишком поздно для их автора или, что сводится к тому же, осуществление их начинается всегда слишком рано. Постмодерн следует, очевидно, понимать как этот парадокс предшествующего будущего (post-modo)»[40].
Приложение
Такое: метафизический маньеризм Джорджо Агамбена
Голая жизнь есть жизнь без одежды, которая – не только вещи, но и слова. Вопрос: во что по привычке рядится жизнь, чтобы не показывать свою пугающую наготу – и почему эта нагота пугает?
Что такое жизнь, как известно, не знают даже биологи – подобно математикам, которые, увы, не знают, что такое число. Это в конечном итоге проблема аксиоматики, и пока она не мешает нормальной и эффективной научной работе, о ней можно не вспоминать (собственно, ее можно не проблематизировать). Другое дело, если сознание направлено не на рабочий объект, но на самое себя. Аристотель спокойно заметил, что в полной мере такому сознанию соответствует только божественный разум, и тогда получается, что усилия человека на этом пути всегда будут оставаться неполноценными. Иными словами, в процессе самопознания (или, что то же, самосознания) человек будет проходить через нескончаемое число шагов. Хорошая новость: философия никогда не закончится. Плохая: она не закончится потому, что ее цель никогда не будет достигнута. Познай самого себя – только помни, что это тебе никогда не удастся. Или, возможно, излишнее здесь – само понятие цели?
Шаги в бесконечном пути к недостижимому суть вереница определений, в которых сознающая себя жизнь себя же объективирует. И в той же мере, в какой процесс создания, удержания и трансляции этих определений может быть понят как основополагающий для всей человеческой истории и культуры, также основополагающим является процесс критики и ниспровержения одних определений другими. В той или иной степени данное противодвижение существовало всегда, однако довольно редко оно достигало поистине радикальных масштабов. Пожалуй, одним из самых радикальных жестов ниспровержения определений может быть признан теоретически-иронический демарш очень оригинального автора из середины XIX века по имени Иоганн Каспар Шмидт, более известного под звучным псевдонимом Макс Штирнер.
Демарш Штирнера заходит так далеко, что ни сам этот демарш, ни его бедный автор так и не смогли вернуться обратно из заданной ими непроходимой теоретической дали. К ужасу и отчасти к стыду своих современников, среди которых были не последние люди Фейербах и Маркс, Штирнер довел развитие центральных интенций своей эпохи до такого абсурда, что был той эпохой отвергнут с малоскрываемым раздражением (величина списка гневных реакций на штирнеровский труд прямо пропорциональна степени перевирания ходов его мысли). Так отшатываются только от зеркала. Подхватив витающий в воздухе импульс к критической эмансипации, Штирнер показал, что последняя не знает предела во всей своей яростной логике. Сказав А, то есть то, что человек выдумал бога, чтобы воображаемо компенсировать собственную конечность, или что человек выдумал идеологию, чтобы оправдать свой шкурный экономический интерес, нельзя затем не сказать Б, то есть то, что абстракции фейербаховского человечества или Марксова пролетариата ничем не вернее фантазий вчерашнего поповства, идеализма, феодализма. Одна абстракция стоит другой просто потому, что она абстракция, то есть слово, ошибочно принятое за вещь, но не сама эта вещь. Разоблачить какую-то одну ложь мало, в пределе надо разоблачить лживость вообще – как таковую. Для этого надо начать с себя, надо разоблачить работу всех тех роковых определений, которые норовят подчинить мою жизнь каким-то абстрактным принципам.
Такова де(кон)струкция метафизики задолго до Хайдеггера и Деррида. Задавшись простым вопросом «кто я такой?», Штирнер пускается в апофатическое приключение по ступеням последовательных отрицаний. Разве можно сказать, что я – человек? Ведь мой сосед Петр якобы тоже человек, но тогда получается, что я – это Петр. Тогда получается, что человек – это некая сущность помимо нас с Петром, данных в своей фактической конкретности. Именно потому, что я не могу быть отождествлен с Петром, я не могу быть отождествлен с человеком – пускай каждый из нас имеет что-то общее, всегда остается и что-то такое, что уходит в остаток, что делает нас не просто людьми, но меня – именно мною, а его – именно им. Понятию человека, тем самым, недостает конкретности, чтобы ответить на изначальный вопрос о моем определении. Раз так, подобные же рассуждения можно провести относительно прочих абстракций: почему я мужчина или женщина, юный или пожилой, русский или французский, если всеми этими терминами определяются тысячи лиц, но никто из них не является мною – мною в моей действительной данности?
Значит, корень проблемы – не в обобщениях, которые можно длить пока хватит слов, но в различиях, которые сводят абстракции к абсурду, вскрывая в них зоны неразличимости. Кто же он – я, если ни одно обобщение в конечном итоге не может ответить на этот вопрос? Если любое из них оказывается не открытием, но забвением моего «я»? Ответа и нет, потому что всякий ответ будет еще одним обобщением, ведь из абстракций и состоит наш язык. Я – ничто из указанного, я – Единственный, я такой, что ни один термин не в состоянии меня описать и ни один понятийный класс не может присвоить мое бытие. Единственный – я не сводим к языку и теориям, потому что они неспособны схватить то основополагающее различие, которое отделяет меня ото всех людей, всех мужчин и всех русских. Это различие – конкретность моего существования, моя нередуцируемая свобода, данная самим фактом моего бытия, моя неустранимая неукорененность ни в чем, несвязанность ни с кем и ни с чем, ни с богом, ни с чертом. Быть не человеком, не лысым, не низким, но самим собой – это и значит стоять на своем, зависеть от себя, распоряжаться собою – в общем, поставить свою жизнь на Ничто, ибо, во-первых, ничто из всего сущего меня не детерминирует и, во-вторых, я сам себе ничто – как то отверстие в кольце из известного примера Кожева, я сам себе значимое отсутствие, ибо я есть, но я не есть нечто из прочего сущего. Что тут сказать, конечно, с такой высоты и земля убежит из-под ног, и разум, весь загнанный от головокружения, в страхе отдернется от разверстого перед ним обрыва.
Но дело было сделано. В своем отрицании всяких абстрактных порядков, хватало ему взвешенности или нет, Макс Штирнер не мог быть не кем иным, как строго последовательным материалистом. Этим пропитан дух времени – в позитивизме искали спасения от железной гегелевской пяты с ее издевательским «тем хуже для фактов». Но быть материалистом – не то чтобы запросто умыть руки. Как минимум бросишь себе прежний упрек: какой же я материалист, если вот Карл и Фридрих ведь тоже вполне себе материалисты… Как максимум встанешь в тупик, попытавшись найти свое место в этом многообразном материальном мире, где не на чем прочно стоять, ведь за телами сокрыты частицы, а там за частицами – волны. Ведь в конечном итоге и все это – не я, а что же есть я, если не это самое место – рамка в пространстве, дырка в кольце, которое – только мое и ничье больше. Тело: не ткань под ланцетом анатома, который ведь лучше всех знает, что на уровне печени все люди мясо, но место существования, живая материя, умеющая сказать о себе «я».
Такое тело не сводится к «человеку», но и не распадается на окровавленные запчасти. Напротив, оно – конкретное единство материального, феноменального, идеального, сборка деталей, не данная более никому, кроме меня самого. И пусть язык врет – он никогда не сумеет сказать, что же такое на самом деле это мое «я», – однако не врет моя плоть, мое ощущение, чувство, всегда заранее и до всякой мысли дающее мне последнее основание бытия в самой интуиции жизни – моей, конкретной, самодостаточной. В этом сложном клубке из материалистических предчувствий, феноменологических различений и идеалистических вопрошаний нам нужно теперь распознать по меньшей мере одну непростую проблему.
В поисках самого себя Штирнер воспроизводит – не может ее обойти – классическую дихотомию частного/общего, в напряжении между частями которой искрится вся сила его рассуждений. Частное/общее: где среди них мое место? На первый взгляд кажется очевидным, что Единственный Штирнера – псевдоним частного, тогда как всякое общее отбрасывается в сторону как, говоря условно, уловка языка, призванная подчинить Единственного власти внешних ему сил. Благое сияние частного – этой путеводной звезды на пути к радикально конкретному – ведет мыслителя в сторону от любых обобщений, которые может предложить язык, ведет так отчаянно, что заставляет забыть о потерях в пути. Однако потери существеннее с каждым шагом: вот мы отказались от пола, от возраста, от национальности, от социального положения, от принадлежности к виду, даже от имени… Что остается, если все-таки верно, что пол и возраст, как и все прочее, все же участвует в становлении данной моей конкретности, что все это ей не совсем чуждо? Да, я Единственный, я такой, какой есть, но ведь в то, какой я есть, входят мой пол и мой возраст, иначе в чем состоит само бытие моей единичности, если я все-таки есть? Ведь даже дырка в кольце требует все же кольца – такой именно формы, такого металла – чтобы вообще-то существовать. Ничто единичного человека должно иметь форму, в негативном отношении к которой оно и находится. Пытаясь порвать со всякой формой, Штирнер не открывает Ничто – он остается ни с чем, потому что теряет все то, что хочет и может отрицать. Ни пола, ни возраста, ни расы, ни вида – как можно, и можно ли, вообразить такой остаток, скорее пугающий, чем манящий? Мы не ошибемся, назвав его голой жизнью – жизнью без статуса, без определений, без имени. Доля ее еще хуже, чем у животного, которое все же до самого конца держит связь со своими характеристиками, отлитыми в твердый инстинкт. Голая жизнь ничего не значит, поэтому ничего не стоит. Голая – никакая – она будет тем, с чем можно поступать как угодно.
Именно здесь обнаруживает себя досадная – тем более, чем сильней был замах – ошибка философа Макса Штирнера. Он шел от абстракций к Единственному, данному во всей славе своей конкретности, но что он нашел, счищая слои-словеса как с капусты, в итоге – так это голую жизнь: без сущности и без имени – самое абстрактное и всеобщее из всего, что можно помыслить, пустое и индифферентное, как дыра от кольца – без самого кольца, как чистое бытие в «Логике» Гегеля. Голая жизнь – результат радикальной редукции, когда снято все, включая кожу. Совсем не Единственный, но то, что останется, если сорвать с него данные формы его интимнейшего существования. В итоге – не то, что искали, но прямо противоположное: не последнее утверждение человеческой свободы в существовании здесь и сейчас, но грубая элиминация всякого существования – редукция милого эгоиста до чистой ничтожности, пока у него не останется даже простейшего образа, чтобы можно было признать за ним хотя бы наличие здесь, перед взором. Голая жизнь – ее даже не видно, о чем тут еще говорить…
Ошибка старателя Штирнера: если искать нечто в ничто, останешься ни с чем. Стоило ли затевать всю ту игру, чтобы в конце концов было так больно падать?
* * *
Голая жизнь тоже статус, но статус, скорей, отрицательный – его специфика в том, что он подвергает негации всякий иной статус. Но есть у этого понятия и положительное определение – это, собственно, жизнь, само бытие живым, данное в чистом виде – за отсутствием всех остальных определений. Живое: в этом есть что-то неловкое, вроде наготы, потому что живое – это атрибут животного, которое и определяется именно тем, что просто живет – и все. Конечно же можно сказать, что и человек – живое существо, вид животного, однако не только: животное не в состоянии держать дискурс о самом себе – дискурс, через который, в котором и становятся возможными все известные нам определения. Поэтому я и сравнил живое с наготой, указав на момент неловкости: отнять у человека его дискурс – тот самый, что делает его человеком, – отнять со всеми его определениями и значит, сорвать все одежды, оставить как есть, возможно, даже без кожи. Ужас скрывается там, где отчужденный от дискурса человек встречается со своей прирожденной наготой, как с черным своим двойником, предвестником смерти – голым животным существованием.
Однако, какой бы ужасной ни была эта встреча, ясно одно – человек и животное связаны так, что в этой связи взаимно определяют друг друга: животное – это почти человек, а человек, по сути, простое животное, у них так много общего, и только один еле заметный зазор, которым порой так легко пренебречь, отделяет одно от другого. Но, как бы ни был он мал, этот зазор раскрывается в пропасть, которую при большом желании можно назвать антропогенезом. Ясно, что где-то на дне этой пропасти масса загадок. Ясно также, что без того – животного – края и сам человек оказывается немыслимым.
Джорджо Агамбен называет это антропологической машиной – работа ее заключается в том, что, отделяя человека от животного, она впервые и производит самого человека. Дискурс о человеке весь в этом различии, а стало быть он определяется – во всяком случае с одного конца – тем, что, лишенное дискурса, пребывает в немоте и негации. Это немое существо, презренное, но необходимое, есть то, что должно преодолеть – отрицанием: «В лекции Кожева о Гегеле человек фактически не представляет собой ни биологически детерминированный род, ни раз и навсегда определенную субстанцию; скорее, это поле диалектических напряжений, которое, будучи пронизанным цезурами, постоянно – по меньшей мере виртуально – делится на «антропоморфную» животность и на воплощающуюся в ней человечность. Исторически человек существует только в таком напряжении: он может быть человечным лишь постольку, поскольку трансцендирует и преображает несущее его «антропоморфное» животное, лишь постольку, поскольку как раз посредством своей отрицающей деятельности он способен преодолеть и – при необходимости – уничтожить собственную животность (в этом смысле Кожев прав, что «человек – это смертельная болезнь животного»)[41].
Все это значит, что человек, действительно, тварь, которая фабрикуется в некотором основополагающем акте, однако исток этой тварности – вовсе не божья работа, но движение дискурса, сила различия, которое, буквально, режет по живому, уверенно разделяя человека и его животный субстрат. В этом разрезе и этим сечением рождается человеческое существо – сам акт неизменен, однако границы разреза вариабельны: «Стало быть, представляется, что определение границы между человеческим и животным является не одним среди многих вопросов, о которых спорят философы и теологи, ученые и политики, но, скорее, основополагающей метафизико-политической операцией, посредством коей только и возможно определить и произвести то, что называется „человеком“»[42]. И далее: «Если это различие стирается, и понятия человека и животного совпадают между собой, как это вроде бы происходит сегодня, то исчезают различия также и между бытием и ничто, допустимым и недопустимым, божественным и демоническим, а на их месте выступает нечто, чему едва ли можно подобрать имя»[43].
С тем проясняется роковая ошибка Макса Штирнера: он счел возможным проигнорировать основополагающее различие, решил обойти стороной работу антропологической машины – и поплатился за это тем, что потерял своего Единственного в зоне неразличимости между человеческим и животным. Штирнер лишил человека дискурса, который и производит решающее антропологическое различие. Когда основополагающее антропологическое различие предается забвению, то, что возникает в остатке, является монстром – голая жизнь, не человек и не животное, но жуткая помесь, какими бывают лишь жертвы чудовищных евгенических экспериментов. Голая жизнь, подчиненная целям экспериментатора.
И дело тут не только в характерной ошибке отдельно взятого мыслителя – бог бы с ним, человечество это стерпело и пережило. Дело в том, что любая анимализация человека, по определению пренебрегающая основополагающим различием, производит на свет бестию – монстра, будто работая на сломанном механизме, как если бы антропологическая машина была – в соответствии то ли со злым умыслом, то ли просто по глупости – откалибрована критически неверно.
Сейчас мы знакомы со многими историческими результатами неверной работы этой машины – мы знаем, чем может закончиться неразличение в самом существе человека. Жестокий ХХ век научился производить голую жизнь, как гвозди. Однако и раньше – у Ницше, у позитивистов, все у того же Штирнера – при правильной оптике можно было бы разглядеть перспективы этого (не?)преднамеренного заблуждения: что будет, если стереть ту границу, благодаря которой становится возможным собственно человеческое существование.
* * *
Теперь мы можем сделать сильный вывод: история человека, а значит, история как таковая, есть прежде всего история основополагающего антропологического различия. Поэтому не случайно, что, пройдя через критическую точку неразличимости и анимализации, когда-то вошедших в моду, ХХ век пришел к известному тезису о конце истории. Чем еще может быть этот конец, если не констатацией, что антропологическая машина – по износу ли, или по сговору – остановилась? В конце истории неразличимость и анимализация достигли такого предела, когда, как кому-то мечталось, лицо человека и правда стирается прибоем с прибрежного песка. Что остается теперь – так это глобальный, в размерах планеты, менеджмент, производимый над самой человеческой животностью, данной как голый факт. Иными словами: биополитика[44]. Она, как теперь очевидно, противоположна старой доброй метафизике, которая, наоборот, стремилась преодолеть голый животный фюзис по направлению к самой возможности человеческой истории[45]. Поэтому неудивительно, что вместе с торжественным шествием биополитики и вместе с желанным концом истории сама метафизика – на словах – считается преодоленной. Выходит, преодоление метафизики – не более чем забвение антропологического различия и возвращение вытесненного – возвращение преодоленного человека в лоно торжествующей животной натуры. Как говорят в таких случаях, incipit Zarathustra. Разве что сверхчеловек оказался на деле обыкновенным зверем.
Биополитика является сквозной темой Агамбена. Связь ее с голой жизнью неустранима: биополитика вступает в игру там и тогда, где и когда предметом политики становится голая жизнь. Кажется, что так было не всегда. К примеру, греки, к которым – опять-таки на словах – по-прежнему модно возвращаться, исключали подобие голой жизни из политической сферы, проводя другое ос новополагающее различие – между дзоэ и биос, где биос означает жизнь политическую, общественную и публичную (скажем, жизнь вовне), тогда как дзоэ означает прямое подобие голой жизни – существование как таковое, данное вне его общественного положения (жизнь внутри – буквально внутри своего дома, в частном пространстве). Данное различение, таким образом, конституирует поле политики и вместе с тем исключает из него саму возможность биополитики, ибо политика здесь формализуется именно как исключение голой жизни из публичного пространства. При этом нет никакого сомнения, что эта картина чрезмерно абстрактна и идиллична, и в греческой практике, безусловно, можно бы было найти ситуации, в которых дзоэ попадала бы в поле политики, смешиваясь с биос. Однако положим на время, что это, скорей, исключения. Добавим сюда и Средневековье, где голая жизнь, по видимости, исключалась из поля политики уже потому, что была признана божьим творением, следовательно, его вотчиной. Новое время, как в разных местах демонстрирует Мишель Фуко, стирает различие частного и публичного, создавая тем самым условия для рождения биополитики.
Отныне сам факт человеческого существования, голый, лишенный опознавательных признаков (само собой, социальных), становится объектом глобального политического процесса. Одновременно с этим Новое время в лице своих главных политических теоретиков усматривает необходимость – определенно несвойственную иным временам – обосновывать политический порядок, внешний и внутренний, посредством понятия суверенитета, сделавшего с тех давних пор весьма впечатляющую карьеру. Первое предположение о том, что все это неслучайно и что голая жизнь состоит с суверенитетом в неразрывных отношениях, вполне подтверждается дальнейшими рассуждениями Агамбена. Если принять, что суверен есть фигура, принимающая решение о чрезвычайном положении – ЧП (Карл Шмитт), и что, соответственно, суверен состоит в амбивалентных отношениях с правовым порядком – так, что он стоит вне правового порядка, но именно поэтому он и делает право возможным, включаясь в него на правах инициатора, – тогда на другом конце политического поля находится голая жизнь – homo sacer, который включен в правовой порядок также через свое исключение из него[46].
Нетрудно заметить, что homo sacer и суверен, различаясь по содержанию, структурно сливаются до неразличимости: оба они задают границу правовому порядку, как раз-таки этим его и конституируя. Выходит, границы порядка – это включенные исключения, более значимые, чем то, что остается в границах. Нам кажется, что суверен (или гоббсовский Левиафан) преодолевает естественное состояние (=ЧП) тем, что он просто-напросто его узурпирует (=монополия на насилие), по счастью, спасая от его разрушительного воздействия целое общество. На деле же тем, что суверен инициирует это общество, собирает его на себе и собою его удерживает, создается нечто прямо противоположное: в парадоксальной фигуре суверена ЧП находит самое надежное, самое всеохватное и неустранимое свое место в самом сердце общественных отношений, в центре политического поля. Суверен – это бессрочная прописка насилия, данная обществом самому себе[47]. Дав соглашение на существование в регулярном ЧП, человек при суверенной власти превращается в голую жизнь, которая в любой момент и по любому поводу может стать жертвой насилия – именно потому, что право (и в том числе – и прежде всего – право на жизнь) может быть запросто отменено или проигнорировано сувереном. Уповая на суверенитет, человек утверждает: отныне со мной можно сделать все что угодно. В конечном итоге Гоббс обманул нас: естественное состояние не исчезает при Левиафане – оно лишь меняет характер различий между своими агентами: «Право суверена на насилие в действительности основано вовсе не на договоре, а на исключающем включении голой жизни в структуру государства»[48], и далее: «Великую метафору Левиафана, тело которого состоит из множества отдельных тел, следует понимать именно в таком свете. Тела подданных, которых разрешено убивать, образуют новое политическое тело Запада»[49].
Фигура суверена тем самым, – если не прямая реализация, то прямая предтеча недавнего тоталитарного опыта, сотрясшего западное политическое пространство. Тоталитаризм стоит на биополитике как на прочнейшем своем основании[50]. И если Агамбен все-таки называет национал-социалистический режим первым государством, полностью основанным на биополитике, и если мы, без сомнения, можем добавить сюда СССР, КНР и множество прочих акронимов, это не значит, что чаша сия миновала заповедное политическое пространство свободного демократического мира. Напротив, мы без труда распознаем одно и то же решение, организующее политические порядки как демократий, так и диктатур: решение о включении голой жизни в поле политики[51].
Демократическое устройство, которое шагало в истории за суверенным абсолютизмом, основывается на суверенитете народа, противопоставленном суверенитету монарха, как – на уровне политической теории – Руссо противопоставлен Гоббсу. В обоих случаях, как бы ни менялись – то увеличиваясь, то сжимаясь – ее очертания, фигура суверена остается краеугольным камнем политики, снова и снова притягивая за собой свое иное – голую жизнь. Поэтому нет ничего странного в том, что комплекс решений под названием «1789 год» включает в себя ядро новой биополитики – политизацию самого факта человеческого рождения – в новом революционном общественном устройстве. Рождение, этот неотъемлемый атрибут голой жизни, становится, таким образом, ставкой в политической игре и вместе с тем привилегированным объектом для управления, заботы и манипуляции. Рок, сопровождающий западную политику с момента забвения основополагающего различия, не устраняется силами так называемой эмансипации, напротив, он составляет основу отныне главенствующего порядка, который при случае может – и с невероятной легкостью – обернуться диктатурой, упорствуя все в том же неизбывном биополитическом решении.
Поэтому лагерь – эта, по словам Агамбена, биополитическая парадигма Запада[52] – возник именно в демократических условиях (видимо, первенство здесь у англичан), и он же отнюдь не исчез из политического пространства и после того, как пали диктаторские режимы, во многом стоявшие именно на прочном лагерном фундаменте. Не только современные лагеря для беженцев, но и любые места – от территорий военных конфликтов до рядовых полицейских участков, – в которых осуществляются условия фактического ЧП, напоминают о том, что ставка в политике – это (голая) жизнь.
* * *
О чем зачастую умалчивает в остальном довольно подробный анализ Агамбена, так это о первостепенной роли научного знания в этой смертельно опасной игре границ и различий, в которой конституируется биополитическое поле Нового времени. Между тем именно наука, раньше всего обозначившая необратимость самого перехода от Темных веков к чаемому миражу Просвещения, а также сами условия этого перехода, с только ей свойственной точностью и регулярностью выработала в себе приемы и методы, техники и механизмы производства того, что на уровне знания полностью соответствует понятию голой жизни: я говорю об объекте. Подобное стало возможным лишь в силу того, что наука значительно лучше иных областей человеческой практики усвоила пользу от манипуляций с границами частного и общего, которые, как оказалось, и отвечают за многообразие объективного мира.
Наука – это целый мир, или мир в целом, в котором абстрактное и конкретное в умело организованном напряжении порождают самое главное – знание, которое, как было известно уже лорду Бэкону, и есть в своем основании власть. Начавшись как максимально абстрактный проект, в соответствии с которым объекты должны отвечать на запросы активного субъекта опыта, физико-математическое естествознание, далее, выработало механизмы объективации – такие, только в пределах которых может считаться осмысленным впредь любой дискурс о существовании – о реальных, конкретных вещах. Ни один бог и ни один демон не выдержал столь хитроумной атаки. Отныне всякая вещь – конкретное – есть только то, что соответствует эмпирическим и математическим правилам организации чувственно воспринимаемой материи – абстрактному. Так наука работает с дихотомией частного/общего: частное изымается из чистой данности своего существования и, подчиняясь далее общим-абстрактным целям, превращается в объект – то есть, говоря просто, объективируется. Цена объективации – бытие вещи такой, какая она есть – вне целей, абстракций и обобщений.
В пределе этот виток одиссеи духа вполне подпадает под вопрошание Штирнера: каждая вещь – в той мере, в какой она есть вот это данное и неповторимое нечто – есть по сути Единственное, есть, таким образом, то ничто, которое отрицает отчужденные (читай – абстрагированные) определения: класс, размер, цвет, очертания. Как и в случае с человеком, вещь тут сопротивляется последовательной объективации, в которой стирается вся ее конкретность, вещь ускользает в экзистенциальное отрицание Идеи. Вещь: бунтарь-анархист, знание о котором, произведенное в лаборатории абстрагирующей мысли, не соответствует его подлинно единичному существованию – его, скажем прямо, такости, этовости (haecceitas). Отсюда – и наоборот: человек теперь понят как вещь – ведь под взглядом врача и ученого все мы не более чем материальный объект, один из бесчисленных образцов абстрактного вида, с которым и связано знание. Исходя из абстрактного знания и выводя из него индивида, наука отныне производит голую жизнь – подобно суверенной политике. Режим безостановочного ЧП – это научная парадигма, взятая в ее чистоте и отделенная от социального бремени: планетарная лаборатория, объективирующая на операционном столе всякое существование, ныне сведенное к голым биологическим характеристикам, подлежащим последующим опытным манипуляциям. В этой пугающей перспективе, в общем, закономерным выглядит образ безумного ученого, возникший в поп-культуре, – образ ученого, работающего на тоталитарную систему и проводящего эксперименты над подопытными людьми, как раз-таки в этих экспериментах деантропологизированными. Нужно только отметить, что этот ученый – на деле никакой не безумец, напротив, он истинный эмиссар Просвещения. Наука его – отнюдь не предавшая здравый смысл ради выгодной службы у князя мира сего, но самая регулярная и ординарная, самая верная бэконовским и картезианским заветам – словом, такая, которая знает: мир есть протяженная материя, данная в опыте. А значит: человек – это голая жизнь, полностью редуцируемая к своим абстрагированным биологическим характеристикам.
* * *
Диалектика общего и частного, правила и включенного исключения – вот тот интеллектуальный контекст, в котором проблема голой жизни становится мыслимой. Для мысли открыта подвижность различий, которая производит реальность. Всякий разговор о возможном разрешении проблемы произведения голой жизни будет звучать неизбежно наивно – в самом деле, нельзя просто так, исходя из какой-то гуманистической прихоти, отказаться от наиболее фундаментальных форм человеческого мышления. Имея в виду эти формы, можно сказать: однажды случившееся в истории отныне и впредь необратимо.
Также нет речи о том, чтобы вновь запустить, хорошенько ее откалибровав, машину различения биос и дзоэ. Эта старая мечта пресыщенных интеллектуалов, мечта о возвращении к грекам все так же сомнительна, если не прямо постыдна. Ведь и сами греки, жившие в данном различении, не избежали биополитического капкана – об этом свидетельствуют включенные исключения сведенных к голой жизни рабов, дегуманизация так называемых варваров (то есть попросту других) и политических (религиозных) отступников вроде Сократа. Не лучшим образом дела обстояли при безраздельном христианстве: биополитика инквизиции и Крестовых походов, гонения еретиков, бесправие сервов и прочее. Все выглядит так, что биополитика – это судьба.
Агамбен не предлагает решения этой проблемы – он предлагает новый контекст, иную интеллектуальную перспективу, в которой вещи могут быть увидены по-другому, не с точки зрения бессознательного фатума. Перспектива эта нова, конечно, в весьма относительной степени. Сделать к ней первое приближение, на мой взгляд, удобней всего со стороны феноменологии, но с той существенной оговоркой, что мы рискнем помыслить феноменологию без перехода к так называемой эйдетической редукции. Переход от феномена к эйдосу, понятому в рамках платонической традиции, то есть переход от явления к его предполагаемо чистому интеллигибельному бытию всегда оказывается метафизическим прыжком – как в случае с наблюдаемым кубом, который никогда не дан в опыте как целое, со всех сторон сразу – в «идее». Наблюдаемый куб в силу своей ежемоментной неполноценности, принципиальной незавершенности в самом наблюдении – куб этот сопротивляется всякой редукции к сущности, которая окажется насилием над феноменом. Тогда противоположным насилию всяких редукций будет простое допущение, что куб действительно является – видится – неполноценным, незавершенным, частичным – попытка дать кубу возможность быть именно таким, какой он есть: не сущностным, но существующим – в недостатке.
Наследие модернистского объективизма, понимающее познание как силу/насилие, в том числе и прежде всего над самими феноменами, не устраивало, как известно, и самого Гуссерля, который, впрочем, так и не смог ничего с этим поделать, оставив проблему наследникам и вместе отступникам – Хайдеггеру и Мерло-Понти. Смысл проблемы сводился к тому, как можно остаться в рамках феноменологии, не совершая объективистского прыжка к сущности – как держаться феноменального, не подчиняя его власти унаследованных от традиции абстракций. Определенно, здесь мы имеем не менее чем состязание эйдоса с… эйдосом, если не забывать, что этот греческий термин означает не что иное, как вид, то есть то, что видно, что показывает себя, иными словами, именно что феномен. Эйдос как вид сопротивляется редукции к эйдосу как сущности. Эйдос как вид: видимый треугольник – этот, такой, а не какой-то другой – вовсе не треугольник вообще. Это «вообще» мы без раздумий примысливаем к такому, данному в опыте, – примысливаем, находясь в плену у традиции, тогда как остановить слепую механику этого процесса и как раз поместить размышление в самый зазор между частным и общим – значит суметь посмотреть на проблему иначе. Эйдос не редуцируем к эйдосу – такое не есть вообще, вид неподвластен насилию сущности.
Из этого места снова понятна ошибка Штирнера: он пытался освободить Единственного от власти абстракций, но так и не смог миновать самой оппозиции частного/общего – так и не смог приостановить работу традиции, хотя именно этого больше всего и хотел. В конечном итоге освободиться от платонизма – значит освободить вид от вида, феномен от абстрагированной родовой сущности. Это, конечно, историко-философский конфликт интерпретаций, однако такой, который меняет формы и очертания реального. Сменить парадигму: видеть в вещах то, что видно – такое, а не таблицу классификаций. Насилие начинается не с кулака, не с дубинки и даже не с грубого слова, но прежде всего со взгляда, когда дурная привычка, эта вековая оскомина, заставляет нас видеть не то, что мы видим на самом деле, но то, что нам подсказывает наш платонический культурный код. В том и трагедия феноменологии: мечтая увидеть как раз-таки то, что действительно видно, она не смогла оторваться от зеркала, где – галерея портретов: Платон, Декарт, Кант.
Мы, стало быть, все еще в предстоянии старой задачи, прежде всего политической и этической: как избежать того, чтобы снова и снова производить дурное различие между небесными сущностями и презренными отсветами их в виде «реальных» вещей? Иными словами, как прекратить порождать голую жизнь через ее филиацию от Идеи? Террор идеального – конечно, не иначе как нечеловеческий страх перед принципиальным несовершенством и незавершенностью мира и всякого существования в нем[53].
* * *
Спасти от террора идеи может лишь вид – видимое как таковое, идея в первичном смысле видимого, – такое, которое, существуя только в своей выставленности на вид, в своей видимости (но не во лжи, не в иллюзии!), не может быть пристегнуто к некоторому сверхсмыслу. Такое, специальное – не есть видовое отличие (species), его нельзя редуцировать без явного насилия: «Специальное должно быть везде уменьшено до персонального, а то – до субстанциального. Превращение вида в принцип идентичности и классификации есть первородный грех нашей культуры, ее самая непоколебимая установка. Нечто персонализируется – его относят к некоей идентичности – только при условии принесения в жертву особенности. Специальное есть, на самом деле, бытие – лицо, жест, событие – которое, ни на что не походя, походит на все остальное. Специальное бытие восхитительно, потому что предлагается, прежде всего, в общее пользование, но не может быть объектом частной собственности. Для персонального, напротив, невозможны ни пользование, ни наслаждение, но только собственность и ревность»[54].
Таким образом, в напряженном различии частного/общего происходит двойное насилие, пристежка вида к сверхсмыслу осуществляется в два этапа: первый – вид подчиняется персональному, якобы скрытому за видимостью субъекту, второй – вид, теперь уже персонализированный, подчиняется родовой сущности, как индивид, представляющий вид в смысле группы. Двойное кодирование, двойная иллюзия задних миров – один глубже другого: скрытая субъективная сущность за видом – и общая сущность той первой сущности. Имея дело именно с этой операцией, Штирнер пытается двигаться в обратном направлении – от сущности к субъекту, понятому как единичность. Но главного шага – от субъективной сущности к виду, к такому – Штирнер как раз не делает, оставаясь в навязанной ему паутине платонических умножений скрытых сущностей.
Поразительна, что уж там, роль субъективации в том процессе, который, через неминуемое превращение субъективности в голую жизнь, обратным движением уничтожает субъекта: сначала, чтобы привязать его к общей сущности, нужно создать самого субъекта, затем раздавить его, едва только созданного, во властных объятиях сущности, только что выведенной из субъекта. Только бы успевать следить за руками! Та же схема, конечно, присутствует и в политике, понятой строго по Гоббсу: сначала из условного политического бытия, обозначенного как естественное состояние, должен явиться субъект – это ему предстоит заключить договор, – а затем из субъектов рождается сущность – Левиафан, – которая ничтоже сумняшеся переходит к уничтожению несчастных субъектов, только что сотворивших Левиафана буквально ex nihilo. Возвращаясь в небытие, эти субъекты замыкают порочный круг политического.
Из этого круга нет выхода, стоит только в него угодить. Подлинно эмансипаторским здесь был бы жест – по сути своей феноменологический – возвращения к виду без всякой привязки его к скрытым смыслам. Именно этот жест и пытается сделать Агамбен, описывая видимое как такое.
* * *
Не имея возможности более классифицировать и подводить данные опыта под понятия – это и было бы платоническим насилием – мы можем только описывать такое – каким оно видимо нами.
Ближайший, по Агамбену, подступ к такому – это, конечно, любовь – любовное отношение к вещи как таковой. Любовное отношение, как это ни странно, не различает: «Поэтому любовь никогда не следует за теми или иными качествами любимого человека (быть блондином, маленьким, чувствительным, хромым), но она также никогда и не абстрагируется от них во имя пресной всеобщности (всеобщая любовь): она желает эту вещь со всеми ее предикатами, ее бытие такое, какое оно есть. Она желает какое лишь постольку, поскольку оно такое – и в этом проявляется ее специфический фетишизм»[55]. Любовное отношение – это и есть отношение наблюдателя к такому: не различающее более/менее важное, более/менее ценное, не подводящее под понятие, не изымающее из непосредственного существования, не унося щее в лабораторию смыслов и манипуляций. Любимое любимо как такое, не как обладающее теми-то и теми-то сущностными отличиями. Поэтому сделаем на первый взгляд странный вывод: любовное отношение к такому – это отношение безразличия. В прямом смысле слова: отношение, не берущееся различать в своем предмете – качества, свойства, сущность и существование… Безразличие, разумеется, не есть равнодушие, оно означает лишь то, что в нем действительно звучит: отказ от суждения, запрет на абстракцию – отказ различать[56]. Лишь безразличное отношение может быть по-настоящему любовным, потому что оно оставляет «объект» быть таким, какой он есть. В итоге объект исчезает: де-объективируя свой предмет, любовное безразличие высвобождает вещь – такое.
Любимое избегает дихотомии общего/частного, мы избавлены от необходимости персонализировать или обобщать его. Пребывая вне концептуализации, находясь в безразличии, такое-любимое является преимущественно эстетическим предметом, который нельзя использовать, не нарушив тем самым его сокровенной этовости. Эстетическое, оно выставляет на вид манеру как способ своего бытия, не могущий быть отличимым от самого бытия – иначе редукция к общему изъяла бы такое из такости, вид – из видимости, нарушив порядок любования – эстетическую целостность его созерцаемого существования. Любовное отношение к такому есть отношение эстетическое, поэтому в попытке добраться до вида мы по необходимости ставим эстетику над онтологией, а также над этикой и политикой. Эстетическое – манерное, видимое – бытие такого меняет привычные иерархии всех философских полей. Именно эстетическое оказывается подлинной этикой – только оно сохраняет такое в неприкосновенности его несводимой манеры. Маньеризм такого: способ бытия выставленного на вид, в этом смысле – по-настоящему Единственного, подлинно индивидуального (то есть буквально – неделимого, именно безразличного) – так, по Дунсу Скоту: «Единичное ничего не прибавляет к общей форме, если не считать этости»[57].
Бытие, все состоящее в своем способе бытия, открывает забытые – исторически редуцированные – онтологические перспективы. Маньеризм раскрывает бытие в его модальной полноте. Эту полноту видит эстетический взгляд, тогда как власть суверена, власть ученого, просто власть присваивает модальности, ограничивая их различениями и классификациями[58]. Эстетический взгляд раскрывается в своеобразную – назовем это так – модальную онтологию: «Модальные категории – возможность, невозможность, случайность, необходимость – не являются безобидными логическими или гносеологическими категориями, относящимися к структуре пропозиций или отношениям чего бы то ни было с нашей способностью познания. Они – онтологические операторы, то есть разрушительное ору жие, которым биополитическая гигантомахия сражается за бытие и при помощи которого каждый раз решают, что является человеческим, а что нечеловеческим, „позволить жить“ или „дать умереть“»[59]. И далее: «Возможность (возможность быть) и случайность (возможность не быть) являются операторами субъективации, точки, в которой возможное начинает существование через отношение к невозможности. Невозможность как отрицание возможности [не (возможность быть)] и необходимость как отрицание случайности [не (возможность не быть)] являются операторами десубъективации, разрушения и смещения субъекта – то есть процессов, которые разделяют в нем способность и неспособность, возможное и невозможное. Первые две составляют бытие в его субъективности, как мир, который всегда является моим миром, потому что в нем возможность существует, прикасается (contigit) к реальности. Необходимость и невозможность, напротив, определяют бытие в его целостности и плотности, как чистую сущность без субъекта – как мир, который никогда не является моим миром, поскольку в нем возможность не существует»[60]. Два вида субъектов, как два вида вообще: один субъект – как такое, данное в модальной полноте, и второй субъект – как объект редукции к сущности.
Человеческое бытие есть бытие в модальностях, выступание в их открытость[61]. Я говорю «человеческое бытие», а не бытие вообще. Возвращаясь к начальной проблеме различения человека и животного, мы обратимся к реконструкции Агамбеном эскиза хайдеггеровского антропологического (не путать с онтологическим) различия[62]. Животное открыто миру, но эта открытость тут же замыкается инстинктами животного, в которых последнее по необходимости существует и которые, следовательно, схватывают мир именно в необходимом модусе – открытые вещи оказываются редуцированными до строгих инстинктивных целей: цветок – не такой, но источник пыльцы; трава – не такая, но пища. Человек, в свою очередь, пребывает в открытости – и остается в открытости, ибо для него принципиально возможно быть при вещах, никак ими не интересуясь – быть в безразличии, скажем от себя (опорный концепт в этом случае – хайдеггеровская скука). Только человек существует в открытой полноте модальностей, но это и означает, что под эстетическим взглядом человека все сущее выставляется в эту модальную полноту, превращаясь – не автоматически, но потенциально – в такое, в любимое, в безразличное. Именно здесь обретается оригинальное решение проблемы антропологического различия: историческое решение Запада было таким, что модальности отнимались от бытия, что сущее подчинялось абстракции целей – то есть, как это ни странно, решение это преодолевало антропологическое различие, абсолютизируя животную, а не человеческую его сторону. Взгляд ученого – в этом смысле взгляд зверя, жестко привязывающий бытие к инстинкту своего целеполагания. У Агамбена, в свою очередь, мы обнаруживаем другой путь – выход в подлинно человеческое. Взгляд не ученого, но художника и поэта: оставлять бытию быть таким, какое оно есть, в полноте его возможностей и невозможностей. Быть безразличным, не совершать зла – то есть не лишать сущее возможности не быть совершенным. Взгляд сохранения против жеста насилия, инстанция средства без целей – против биополитического целеполагания[63].
Маньеристская эстетика, будучи вместе с тем и модальной онтологией, без труда раскрывается в этику и политику. В обращении к такому всякая биополитика оказывается исключенной, вещи и люди избавлены от насилия первичной редукции, всегда предваряющей насилие буквальное – физическое, политическое. Грядущее сообщество оказывается сообществом таких – выставленных друг другу на вид. В этой политике за мной и тобой признается лишь одно общее: как и ты, я только такой, какой я и есть. Этим вполне допускается, что сами по себе мы другие, различные – нас объединяет не содержание, но сам способ бытия на виду: бытие своим способом быть, манера существования. Радикально иной вид политики: «Политика – это сфера не цели в себе и не средств, подчиненных цели, а чистого опосредования без цели, это поле для человеческих действия и мысли»[64], и далее: «Политика – это то, что соответствует сущностной бездеятельности людей, бытию радикальной бездеятельности человеческих сообществ. Политика существует, потому что человек является существом argos, он не определяется каким-либо присущим ему занятием – это существо чистого потенциала, не исчерпываемого какой-либо идентичностью или каким-либо призванием…»[65] Сегодня, однако, наша ситуация парадоксальна. С одной стороны, общество спектакля все вы ставило на вид. С другой стороны, выставленное на вид в планетарных масштабах, сущее именно через свою выставленность моментально присваивается властью – неразличимо политической и экономической. Это похоже на время свершения, когда упорство противоречий достигло предела: завтра все это взлетит на воздух, и остаться сможет – как в том фильме – только один (если, конечно, хоть кто-то останется). Агамбен усваивает критику Ги Дебора, но пытается рассмотреть в ней возможности светлого будущего[66]. Спектакль открыт сразу в две стороны: в одной планетарная эстетизация бытия[67], в другой – растворение эстетического в зрелищной биополитике. Если так, значит, есть выбор.
В конечном итоге красивый проект модальной онтологии – это художественная, поэтическая утопия. Эта утопия, разумеется, далека от необходимости, ей чужд исторический детерминизм. Она, в соответствии с собственным содержанием, вполне может и не быть – открытая собственным способам бытия, она не обязательна и не излишня, она не верна и не ложна – она лишь такая, какая есть. Однако она существует – местом ее существования является, конечно, искусство: «Если это верно, то нам следует радикально изменить нашу привычку рассматривать проблему взаимоотношений искусства и политики. Искусство – это не эстетическая деятельность человека, которая потенциально и при определенных обстоятельствах способна обретать также и политическое значение. В самой своей основе, конститутивно, искусство есть политика, поскольку оно есть деятельность, приостанавливающая деятельность и переводящая в созерцание наши привычные смыслы и жесты и, таким образом, открывающая их для нового использования. В этом плане искусство оказывается недалеко от политики и от философии, подчас становясь от них почти неотличимым. То, что поэзия свершает для нашей возможности говорить, а искусство – для наших чувств, политика и философия должны исполнить для нашей возможности действовать. Приостанавливая деятельный момент в биологической, экономической и социальной деятельности, они демонстрируют возможности человеческого тела, открывая его для нового возможного бытия»[68].
Избранная библиография
Eagleton T. Literary Theory: An Introduction. – Oxford, 1996.
Eagleton T. The Illusions of Postmodernism. – Oxford, 1996.
Jameson F. Postmodernism, Or the Cultural Logic of Late Capitalism. – London, 1991.
Jameson F. The Cultural Turn. Selected Writings on the Postmodern 1983–1998. – London; New York, 1998.
Автономова Н. Философский язык Жака Деррида. – М.: РОССПЭН, 2011.
Агамбен Д. Грядущее сообщество. – М.: Три квадрата, 2008.
Агамбен Д. Нагота. – М.: Grundrisse, 2014.
Агамбен Д. Открытое. Человек и животное. – М.: РГГУ, 2012.
Агамбен Д. Профанации. – М.: Гилея, 2014.
Агамбен Д. Средства без цели. – М.: Гилея, 2015.
Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.: Европа, 2011.
Агамбен Д. Homo sacer. Чрезвычайное положение. – М.: Европа, 2011.
Агамбен Д. Homo sacer. Что остается после Освенцима. – М.: Европа, 2012.
Андерсон П. Истоки постмодерна. – М.: Территория будущего, 2011.
Барт Р. Мифологии. – М.: Академический проект, 2008.
Барт Р. Смерть автора / Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М.: Прогресс, 1989. С. 384–392.
Башляр Г. Новый рационализм. – М.: Прогресс, 1987.
Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было. – М.: РИПОЛ классик, 2016.
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.: Республика; Культурная революция, 2006.
Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. – М.: Постум, 2015.
Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.
Витгенштейн Л. Философские исследования. – М.: АСТ: Астрель, 2011.
Гройс Б. Gesamtkunstwerk Сталин. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.
Гройс Б. Как жить после постмодернизма? / Ранние тексты: 1976–1990. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 467–491.
Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
Гройс Б. Под подозрением. Феноменология медиа. – М.: Художественный журнал, 2006.
Дебор Г. Общество спектакля. – М.: Опустошитель, 2012.
Декомб В. Современная французская философия. – М.: Весь мир, 2000.
Делез Ж. Логика смысла. – М.: Академический проект, 2011.
Делез Ж. По каким критериям узнают структурализм? / Марсель Пруст и знаки. – СПб.: Алетейя, 1999. С. 133–175.
Делез Ж. Четыре тезиса о психоанализе // Логос, № 3, 2010. С. 5–12.
Делез Ж. Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. – Екатеринбург: У-Фактория, 2008.
Делез Ж. Гваттари Ф. Введение: Ризома / Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. – Екатеринбург: У-Факто рия; М.: Астрель, 2010. С. 6–46.
Деррида Ж. «Голос и феномен» и другие работы по теории знака. – СПб.: Алетейя, 2013.
Деррида Ж. Письмо к японскому другу // Вопросы философии, № 4, 1992. С. 53–57.
Деррида Ж. Позиции. – М.: Академический проект, 2007.
Дьяков А. Философия пост-структурализма во Франции. – Нью-Йорк: Северный Крест, 2008.
Жижек С. Возвышенный объект идеологии. – М.: Художественный журнал, 1999.
Кассен Б. Эффект софистики. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000.
Лиотар Ж.-Ф. Постмодерн в изложении для детей. Письма 1982–1985. – М.: РГГУ, 2008.
Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – СПб.: Алетейя, 2014.
Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего. – М.: Академический проект, 2013.
Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. – М.: Кучково поле, 2011.
Маклюэн М. Фиоре К. Война и мир в глобальной деревне. – М.: АСТ: Астрель, 2012.
Пятигорский А. О постмодернизме / Избранные труды. – М.: Языки русской культуры, 1996. С. 362–369.
Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. – М.: ЛИБРОКОМ, 2013.
Фуко М. Археология знания. – СПб.: Гуманитарная Академия, 2012.
Фуко М. Ницше, генеалогия, история / Ницше и современная западная мысль. – СПб.; М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Летний сад, 2003.
Фуко М. Что такое автор? / Воля к истине: по ту сторону власти, знания и сексуальности. Работы разных лет. – М.: Касталь, 1996. С. 7–47.
Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект / Политические работы. – М.: Праксис, 2005. С. 7–32.
Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. – М.: Весь мир, 2003.
Эко У. Заметки на полях «Имени розы». – СПб.: Симпозиум, 2005.
Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной поэтике. – СПб.: Академический проект, 2004.
Эко У. Поэтики Джойса. – СПб.: Симпозиум, 2006.
Сноски
1
Пятигорский А. Избранные труды. – М.: Языки русской культуры, 1996. С. 363.
(обратно)2
Эко У. Заметки на полях «Имени розы». – СПб.: Симпозиум, 2005. С. 77.
(обратно)3
Однако «ситуация» отсылает к месту, то есть к пространству, что делает подобное словоупотребление в чем-то комичным. Эко У. Заметки на полях «Имени розы». – СПб.: Симпозиум, 2005. С. 77.
(обратно)4
Умберто Эко также высказывает мысль о трансисторической парадигме модерна и постмодерна: Эко У. Заметки на полях «Имени розы». С. 75 и далее.
(обратно)5
Отсюда – емкая реплика, могущая считаться манифестом философского постмодерна: «XIX и ХХ века досыта накормили нас террором. Мы дорого заплатили за ностальгию по целому и единому, по примирению понятийного и чувственного, по прозрачному и сообщаемому опыту. За всеобщими призывами расслабиться и успокоиться мы слышим хриплый голос желания вновь развязать террор, довершить фантазм – объять реальность, задушить ее в объятиях. Ответ на это такой: война целому, будем свидетельствовать о непредставимом, бередить распри, спасать честь имени» – Лиотар Ж.-Ф. Постмодерн в изложении для детей. Письма 1982–1985. – М.: РГГУ, 2008. С. 32.
(обратно)6
Это позволяет с разных сторон – как от недоброжелателей, так и от симпатизантов – связать постмодерн с новой софистикой, которая также занимает сторону литературы и языка против онтологии и бытия-истины. Подробнее: Кассен Б. Эффект софистики. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 201 и далее.
(обратно)7
Борис Гройс в самой знаменитой своей работе изящно распространяет это положение на политику – так, что последняя по всем модернистским канонам превращается в произведение искусства и вступает в спор с универсумом за право тотальности. Об этом и многом другом, включая артистическую мегаломанию Сталина, смотри: Гройс Б. Gesamtkunstwerk Сталин. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.
(обратно)8
В этом отношении столь же рубежным, как и литература Джойса, является философия науки Гастона Башляра с его идеей нового рационализма в постклассических условиях. Многие книги Башляра переведены на русский язык, их обзор дан в работе: Визгин В. Философия науки Гастона Башляра. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013.
(обратно)9
Обзор генезиса и метаморфоз самого термина «постмодернизм» дан в работе: Андерсон П. Истоки постмодерна. – М.: Территория будущего, 2011.
(обратно)10
Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – СПб.: Алетейя, 2014.
(обратно)11
Делез Ж. По каким критериям узнают структурализм? / Марсель Пруст и знаки. – СПб.: Алетейя, 1999. С. 133–175. – Смотри также: Декомб В. Современная французская философия. – М.: Весь мир, 2000. С. 77 и далее.
(обратно)12
Декомб В. Современная французская философия. С. 85.
(обратно)13
Фуко М. Ницше, генеалогия, история / Ницше и современная западная мысль. – СПб.; М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Летний сад, 2003. С. 532–560.
(обратно)14
Фуко М. Археология знания. – СПб.: Гуманитарная академия, 2012.
(обратно)15
См.: Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – В другом месте, однако, Гройс представляет дело так, как будто бы постмодерн, оставаясь, как и модерн, критичным, жертвует новаторством и утверждает невозможность нового. Это верно ровно наполовину. Все так, если понимать под новым именно модернистский концепт нового как окончательного, абсолютно истинного и тотального. Однако такое новое достаточно парадоксально: претендуя на высшую новизну, оно вместе с тем отменяет любое другое новое – оно становится излишним в свете окончательной истины, как в той истории про султана, сказавшего, что книги, не согласные с Кораном или повторяющие Коран, попросту излишни – Коран-то уже есть. Так и новое модерна: оно превращает новое как таковое в излишество. Противостоя претензиям модерна на окончательность истины, постмодерн как раз-таки освобождает новое, которое отныне не считается излишним – напротив, новое желанно само по себе, потому что ничто не может претендовать на тотальность смысла. Раз так, то смыслы дрейфуют, обновляются, ширятся через различие. Я полагаю, что трактовать постмодерн как запрет на новизну попросту ошибочно. Подробнее: Гройс Б. Как жить после постмодернизма? / Ранние тексты: 1976–1990. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 467–491.
(обратно)16
См.: Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 29 и далее.
(обратно)17
Барт Р. Смерть автора / Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М.: Прогресс, 1989. С. 384–392.
(обратно)18
Фуко М. Что такое автор? / Воля к истине. – М.: Касталь, 1996. С. 7–47.
(обратно)19
Барт Р. Мифологии. – М.: Академический проект, 2008.
(обратно)20
Подробнее: Агамбен Д. Нагота. – М.: Grundrisse, 2014. С. 39 и далее.
(обратно)21
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.: Республика; Культурная революция, 2006.
(обратно)22
Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. – М.: Постум, 2016.
(обратно)23
Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было. – М.: РИПОЛ классик, 2016. С. 95–189.
(обратно)24
Деррида Ж. Позиции. – М.: Академический проект, 2007.
(обратно)25
Деррида Ж. Письмо к японскому другу // Вопросы философии, № 4, 1992. С. 53–57.
(обратно)26
Деррида Ж. «Голос и феномен» и другие работы по теории знака. – СПб.: Алетейя, 2013.
(обратно)27
Мнимая самозамкнутость языка – проблематичное место также и соссюровской теории. По распространенному тексту «Курса» можно сделать вывод, что Соссюр отрывает язык от речи, то есть лишает язык его связи с внешним ему Другим. На деле это ошибка – подробнее об этом: Бибихин В. Авторитет языка / Слово и событие. – М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2010. С. 37–49.
(обратно)28
«Язык, как сама возможность расчленения, артикуляции, как письмо, след и следы следов, по Деррида, первичен по отношению к любой форме бытия, его функционирование так или иначе предшествует любой онтологии…» – Автономова Н. Философский язык Жака Деррида. – М.: РОССПЭН, 2011. С. 20.
(обратно)29
Делез Ж., Гваттари Ф. Введение: Ризома / Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. – Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. С. 6–46.
(обратно)30
Делез Ж. Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. – Екатеринбург: У-Фактория, 2008.
(обратно)31
Делез Ж. Логика смысла. – М.: Академический проект, 2011.
(обратно)32
Агамбен Д. Грядущее сообщество. – М.: Три квадрата, 2008. С. 16.
(обратно)33
Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. – М.: Кучково поле, 2011.
(обратно)34
Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего. – М.: Академический проект, 2013.
(обратно)35
Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Политические работы. – М.: Праксис, 2005. С. 7–32.
(обратно)36
Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. – М.: Весь мир, 2003.
(обратно)37
Сравни у Жижека: «…диалектика для Гегеля – это прослеживание краха любых попыток покончить с антагонизмами, а вовсе не повествование об их постепенном отмирании; «абсолютное знание» означает такую субъективную позицию, которая полностью принимает «противоречие» как внутреннее условие любой идентичности» – Жижек С. Возвышенный объект идеологии. – М.: Художественный журнал, 1999. С. 14.
(обратно)38
Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной поэтике. – СПб.: Академический проект, 2004.
(обратно)39
Мы, без сомнения, должны повернуть этот тезис: постмодернистский философ находится в ситуации художника или писателя.
(обратно)40
Лиотар Ж.-Ф. Постмодерн в изложении для детей. С. 31–32.
(обратно)41
Агамбен Д. Открытое. – М.: РГГУ, 2012. С. 20.
(обратно)42
Агамбен Д. Открытое. – М.: РГГУ, 2012. С. 31.
(обратно)43
Агамбен Д. Открытое. – М.: РГГУ, 2012. С. 32.
(обратно)44
Агамбен Д. Открытое. – М.: РГГУ, 2012. С. 93.
(обратно)45
Агамбен Д. Открытое. – М.: РГГУ, 2012. С. 95.
(обратно)46
Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.:
Европа, 2011. С. 109.
(обратно)47
Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.: Европа, 2011. С. 50.
(обратно)48
Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.: Европа, 2011. С. 139.
(обратно)49
Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.: Европа, 2011. С. 160.
(обратно)50
Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.: Европа, 2011. С. 153.
(обратно)51
Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.: Европа, 2011. С. 155.
(обратно)52
«Лагерь – это пространство, возникающее тогда, когда чрезвычайное положение превращается в правило» – Там же. С. 214. Смотри также: С. 217, С. 222. – В пределе это означает, что основанные на биополитике политические поля – как диктаторские, так и демократические – принципиально могут быть описаны как вариации лагерной парадигмы.
(обратно)53
Агамбен понимает зло как отчаянное бегство от неспособности, от бессилия, от небытия, которые изначально присущи нашему миру. Смотри: Агамбен Д. Грядущее сообщество. С. 35–36. – Похожим образом рассуждает и Паоло Вирно – сравни: «С исторической и социологической точек зрения нетрудно понять, что зло выражается именно и исключительно в качестве ужасающего ответа на рискованность мира, в качестве опасных поисков защиты: достаточно подумать о передаче своих прав суверену (сильному или опереточному – неважно), о судорожном расталкивании других локтями ради собственной карьеры, о ксенофобии» – Вирно П. Грамматика множества. С. 28.
(обратно)54
Агамбен Д. Профанации. – М.: Гилея, 2014. С. 62.
(обратно)55
Агамбен Д. Грядущее сообщество. С. 10–11.
(обратно)56
Безразличие, таким образом, оказывается жестом профанации – жестом преимущественно эстетического, игрового нарушения границ (различий) во имя спасения такого от редукции. Подробнее: Агамбен Д.
Профанации. С. 81 и далее.
(обратно)57
Агамбен Д. Грядущее сообщество. С. 22.
(обратно)58
Со ссылкой на Делеза Агамбен трактует власть именно как присвоение модальностей – подробнее: Агамбен Д. Нагота. С. 74. – При этом, хотя Паоло Вирно интересуется прежде всего присвоением властью человеческих способностей (рабочих сил), Агамбен скорее выделяет момент присвоения неспособности: «Ничто не превращает нас в нищих и не лишает свободы так, как это отчуждение неспособности. Человек, отделенный от того, что он может делать, способен еще сопротивляться, он еще может не делать чего-либо. Но тот, кого оторвали от собственной неспособности, прежде всего лишается возможности противостоять. Лишь острое осознание того, чем мы не можем быть, гарантирует нам истинное понимание того, чем мы являемся, – точно так же ясное представление о том, чего мы не можем делать или чего мы можем не делать, наполняет наши действия реальным содержанием». – Отнятие неспособности – это, мы помним, и есть зло.
(обратно)59
Агамбен Д. Homo sacer. Что остается после Освенцима. – М.: Европа, 2012. С. 154–155.
(обратно)60
Агамбен Д. Homo sacer. Что остается после Освенцима. – М.: Европа, 2012. С. 155.
(обратно)61
Сравни это с интересным концептом виртуозности у Вирно: «Виртуозность говорящего является прототипом и вершиной любой другой виртуозности именно потому, что включает в себя отношения потенции/акта, тогда как обычная, или вторичная, виртуозность предполагает заранее определенный акт, который воспроизводится снова и снова» – Вирно П. Грамматика множества. С. 60. – Таким образом, бытие в полноте своих возможностей – такое – есть виртуозное бытие.
(обратно)62
Агамбен Д. Открытое. С. 70 и далее.
(обратно)63
Человеческая жизнь, по Агамбену, бесцельна – теперь мы понимаем, почему: «Человеческая жизнь бездеятельна и лишена цели, но именно это отсутствие дела и цели делают возможной беспримерную человеческую деятельность. Человек посвящает себя производству и труду, потому что в действительности по своей сущности он лишен дела, потому что он прежде всего животное субботы» – Агамбен Д. Грядущее сообщество. С. 114.
(обратно)64
Агамбен Д. Средства без целей. – М.: Гилея, 2015. С. 117.
(обратно)65
Агамбен Д. Средства без целей. – М.: Гилея, 2015. С. 138.
(обратно)66
Агамбен Д. Средства без целей. – М.: Гилея, 2015. С. 78 и далее.
(обратно)67
«Спектакль рассуждает о себе как о чем-то чрезвычайно хорошем, неоспоримом и недосягаемом. Он просто заявляет: «все, что мы видим, – все прекрасно; и все прекрасное – перед нами». Отношение, которого спектакль к себе требует, есть в основе своей пассивное приятие; впрочем, он его уже добился, ему никто и не думал возражать – да и как мог возразить, если спектакль обладает монополией на видимость!» – Дебор Г. Общество спектакля. – М.: Опустошитель, 2012. С. 12. – Нетрудно понять, что критический тон Дебора призван разоблачить власть спектакля, но власть, как мы пытались показать выше, как раз-таки отрицает видимость в собственном смысле слова. Не проводя различения вида и вида, Дебор, таким образом, оказывается слеп в отношении положительных качеств спектакля, его поистине революционных – в смысле агамбеновского грядущего сообщества – потенций.
(обратно)68
Агамбен Д. Грядущее сообщество. С. 119.
(обратно)


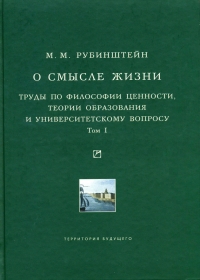
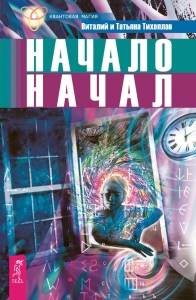
Комментарии к книге «Лекции по философии постмодерна», Дмитрий Станиславович Хаустов
Всего 0 комментариев