Этика небытия Жизнь без смысла: самая печальная философия Вадим Филатов
Философия – направление многих дорог, ведущее из ниоткуда в ничто. Амброз Бирс
Монография
Рецензенты:
Доктор философских наук, профессор кафедры философии Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Н. В. Зайцева.
Кандидат философских наук, доцент кафедры философии ФГАОУ ВО «Самарский государственный исследовательский университет им. академика С. П. Королева» А. Б. Макаров.
© Вадим Филатов, 2019
ISBN 978-5-4496-1381-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Введение. Величие ничто
Когда мы слышим о том, что кто-то умер, у нас иногда возникает весьма странное чувство. Это ощущение появляется помимо нашей воли, и мы подвергаем себя жесткому анализу в такие моменты. Мы честно спрашиваем себя: «А ты готов умереть прямо сейчас? Сию минуту?» Признаемся: далеко не всегда мы отвечаем утвердительно. Мы почему-то вспоминаем, что у всех мертвецов глубоко в носовые пазухи вложена вата, чтобы не вытекала жидкость. Мы представляем, как их перед похоронами выпотрошили и наскоро заштопали от лобка до горла. Мы слышим глухие удары молотка по гробу и видим, как ящик опускают в холодную глиняную яму. Мы видим могильщиков, за считанные минуты засыпающих эту яму. Блин, а как там дышать-то?!
Трагизм завораживает, подобно взгляду змеи. И при этом он доставляет какое-то мрачное удовлетворение. В отличие от комедии, трагизм невозможно более или менее успешно имитировать. Бездарная подделка под трагизм мгновенно кричит о себе, и трагическое неизбежно превращается в свою противоположность, то есть, в фарс. Трагизм – это ведь не что-то такое, что придумал некто. Вся жизнь человеческая предоставляет столько материала для размышлений в трагическом ключе, что удивительно, как некоторые люди ухитряются «не замечать» трагизма существования.
Русский философ Арсений Чанышев считал, что лежащее в основе всего небытие (пустота) иллюзорно выступает как мир в его кажущемся многообразии. Небытие первично, оно представляет собой нормальное состояние мира, в то время как бытие – всего лишь временное отклонение, форма существования небытия. Небытие небытия есть бытие. Небытие в полном отсутствии чего бы то ни было фундаментально и определённо, в отличие от зыбкого, неустойчивого, непостоянного, переменчивого, неопределенного бытия.
Поскольку небытие существует, не существуя и не существует, существуя, оно есть время. Только небытие может быть и первопричиной и самопричиной: ведь то, что не существует, не нуждается в причине для своего существования. Всё большие скорости, всё более высокие темпы жизни, всё более дальние перемещения в пространстве, – разве это не стремление бытия хотя бы на миг оторваться от небытия? [60, с. 157—165] (А.Н.Чанышев. Трактат о небытии).
«Мы все ходим по тонкому льду над океаном небытия. Чем интенсивнее бытие, тем оно более хрупко, тем оно сильнее подвержено гибели», – говорит Чанышев. – «Любовь – это попытка зацепиться за чужое бытие, и тем самым сделать своё бытие более устойчивым». Именно поэтому перед лицом невыносимых физических и душевных страданий многие обращаются к Богу, пытаясь зацепиться за Его вечность.
Небытие абсолютно, бытие относительно. Небытие вечно и бесконечно, а бытие временно и ограничено. В абсолютном смысле бытия нет. Небытие как онтологическая определенность случайно и спонтанно порождает онтологическую неопределенность, то есть бытие. Бытие как иллюзия существования есть онтологическая противоположность небытия – реальности отсутствия. [60, с. 157—165] [40] [45] [46]
Бытие не имеет онтологического права быть, поскольку нарушает гармонию небытия и выступает как его патология. Поэтому бытие запрограммировано на уничтожение. Небытие порождает бытие, устанавливает ему пределы, поглощает его и вновь порождает, выполняя как конструктивную, так и деструктивную функцию по отношению к бытию. Небытие питается бытием и тем самым постоянно усиливает свою небытийность. Если с небытием, или в небытии что-то происходит, значит, мы говорим о каких-то изменениях в нём (с ним). Происходящее с небытием мы называем бытием. Мы являемся свидетелями и непосредственными участниками того, что всё возникающее исчезает в бездне небытия раз и навсегда. А также видим, что мир, окружающий нас, жесток, болезнен, исполнен страданий, ненависти, несправедливости. Плохие дела происходят с небытием! Модель «бытие – пища небытия» в таком случае вполне имеет право на существование. По крайней мере, логика здесь присутствует. При этом жизнь рассматривается как модус небытия, а человек – как низший, наиболее несчастный, в силу наличия самосознающего ума, выступающего как источник постоянного унижения, носитель этого модуса. В то же время, наше существование условно, ибо то, что неизбежно произойдет, уже случилось, и мы, часто сами того не сознавая, живём исходя из этого. По сути, мы все еще не родились и одновременно уже мертвы. В самом деле: если время – это наш способ восприятия мира, обусловленный особенностями строения нашего психофизического аппарата, то в каком-то смысле мы еще не родились, но уже умерли.
«Пустое должно оставаться незанятым, – говорит современный философ Д. Хаустов. – Попытка заполнить пустое – обман, миф, идеология; пустотность бытия – не приглашение к махинациям, но элементарная данность, допущенная к бережному сохранению». [54, с.84]
Культура это безнадёжная попытка человечества «заполнить пустое», зацепиться за иллюзию бытия и остановить соскальзывание в абсолютное ничто. Вся история религии, философии и науки это, прежде всего, оправдание жизни. Редкие исключения лишь подтверждают правило. С другой стороны, совершенно излишне умствовать и что-то придумывать для понимания того, что жизнь, во-первых, в силу своей конечности, совершенно бессмысленна и, во-вторых, категорически несправедлива. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно посмотреть по сторонам. Именно поэтому всевозможные духовные практики ориентированы на достижение измененного сознания, которое нужно для того, чтобы видеть в окружающем не то, что есть, а то, что хочется видеть.
Рассказывает американский философ Джим Холт:
«В XX веке в физике произошло сразу два революционных открытия: первое, теория относительности Эйнштейна, утверждало, что у Вселенной было начало; второе, квантовая механика, имело еще более впечатляющие последствия, ибо подвергало сомнению саму идею причины и следствия. Согласно квантовой механике, события на микроуровне происходят случайно, что нарушает классический принцип причинности и открывает принципиальную возможность возникновения зародыша Вселенной без причины, сверхъестественным или каким-либо другим способом. Возможно, мир возник сам по себе из абсолютного ничто. Все сущее может быть результатом случайной флуктуации в пустоте, «квантовым переходом» из Ничто в Нечто.
Хотя Парменид, древний элейский философ, заявил, что невозможно рассуждать о том, чего нет (тем самым нарушая собственное наставление), простые люди о Ничто знают все. Что может быть лучше бокала сухого мартини? Ничто! Что может быть белым и черным одновременно? Только Ничто! Какую пару противоположностей ни выбери, Ничто их воплощает. Таким образом, кажется, что Ничто дает ответы на все вопросы. Возможно, именно поэтому в мире полно людей, которые знают и понимают Ничто, а также верят в него. И будьте осторожны, рассуждая о нем непочтительно, ибо многие самоуверенные типы (назовем их «ничелюбами») на вопрос «что для вас свято?», не задумываясь, ответят: «Ничто!» Ex nihilo nihil fit, как говорили древние философы, и король Лир с ним соглашался: в самом деле, что может произойти из ничего? Только Ничто! Похоже, что Ничто обладает замечательной способностью производить самое себя – то есть быть, подобно Богу, causa sui.
Ничто является не только самой простой, наименее непредсказуемой и самой симметричной из всех возможных реальностей, но еще и обладает самым лучшим профилем энтропии: его максимальная энтропия равна его минимальной энтропии, которая равна нулю. Неудивительно, что Леонардо да Винчи не удержался от несколько парадоксального восклицания: «Среди величайших вещей вокруг нас самым великим является существование Ничто!» [70, с. 21]
Если небытие абсолютно, то мы, а также весь мир суть проявленные формы небытия. Если следовать теории большого взрыва, получается, что до возникновения вселенной и после её уничтожения, не было и не будет ни времени, ни пространства. С позиций бесконечности небытия так называемся вселенная не более чем арифметическая погрешность, сбой в программе. Это можно сравнить с бесконечностью небытия до рождения и после смерти человека: не случайно Николай Кузанский говорил, что человек это микрокосм. Кроме того, окружающий нас мир не такой уж плотный, совсем наоборот. Скажем, наше тело, если рассмотреть строение составляющих его элементарных частиц, так же как вселенная, на 99% состоит из пустоты! Поэтому бытие материального мира, даже если рассуждать с позиций материализма, достаточно условно.
Согласно Гегелю, чистое бытие «простое и неопределенное», не имеющее определенных качеств, к примеру, числа, размера или цвета. Это чистое Бытие, являясь чистой абстракцией, следовательно, абсолютно негативно. Иначе говоря, поскольку чистое бытие никакими свойствами не обладает, оно равно отрицанию всех свойств. Оно есть Ничто. С этого начинается гегелевская диалектика: противоположность бытия и Ничто снимается у него становлением.
Известный гегелевский закон единства и борьбы противоположностей заключается в том, что крайние противоположности, при всей их кажущейся несовместимости, имеют тенденцию соединяться и образуют новое качество. Так происходит развитие. Например: хищники и жертвы в природе, ультралевые и ультраправые, сионисты и антисемиты в политике, рабовладельцы и рабы в истории, фанатично верующие и воинствующие атеисты в религии, крайний север и крайний юг в географии. Внимательный непредвзятый наблюдатель часто с удивлением обнаруживает, что эти и иные полярные противоположности, в сущности, настолько близки, что представляют собою почти одно и то же. Но что, если рассмотреть, по аналогии с вышеперечисленным, сверхбытийственность христианства и разрушительную небытийственность самого крайнего нигилизма? Ведь христианство достаточно пессимистически оценивает Град Земной и вся его сверхбытийственность заключается в утверждении метафизического Града Божьего. И, если это фантазия, и ничего за пределами материального мира нет, то получается, что христианство зовет в никуда и, тем самым, фактически утверждает ничто. А чем же оно тогда отличается от нигилизма?
Если даже христианство, при всей его метафизической устремленности за пределы наличного бытия, всё равно, с формальной точки зрения, бытийственно, то наука и рациональное мышление бытийственны в квадрате. В сущности, наука ничего, кроме физического мира, не приемлет. Она рассматривает мир с позиций его системно-структурной организации, стремясь, в первую очередь, решить все те же самые старые, добрые мировоззренческие проблемы, порожденные разумом: конечность жизни и справедливость. Все остальные социальные аспекты науки являются производными от этих двух. Преимущество науки перед религией заключается в том, что наука использует разум для решения проблем, порожденных разумом, по принципу «клин клином вышибают». Это преимущество и одновременно парадокс. Временами наука напоминает сказочного барона Мюнгхаузена, который сам себя поднял за волосы из болота. Какие же мировоззренческие ответы предлагает нам наука? (Разумеется, речь идет об объективных мировоззренческих последствиях научной революции, а не о сформулированной учеными идеологии) По вопросу конечности жизни наука актуализирует учение философов Киренской школы – Аристиппа, Гегесия и других. Они учили жить в свое удовольствие, не задумываясь о конечности жизни. Более того, не планировать ничего дальше сегодняшнего дня. Так, философ киренской школы Гегесий считал, что если человек болен, нищ и (или) стар, ему необходимо как можно скорее свести счеты с жизнью. При этом он был столь убедителен, что после каждой своей лекции обретал массу последователей, желавших немедленно перейти от теории к практике, поэтому афинские власти, в конце концов, запретили ему публично философствовать. Это было уникальным случаем, если не считать, конечно, казнь Сократа. Что касается порожденного научной революцией современного европейца, то он предпочитает в упор не видеть ничего, что содержит в себе хоть малую толику souffrance (страдания). Он воспитал в себе абсолютную бесчувственность, которая сродни профессиональной бесчувственности полицейских или врачей. Помимо такой душевной анестезии, наука, подобно религии, оставляет за собой теоретическую возможность достижения бессмертия или многократного увеличения продолжительности активной жизни медицинским путем. Но, к счастью, до этого еще не дошло, да и, едва ли дойдет. Иначе человечество станет намного активнее, чем сейчас, восстанавливать демографическое равновесие посредством массовых убийств. Таким образом, в результате ползучего вытеснения наукой религии человек оказывается привязан к «объективной реальности» так прочно, как никогда прежде. Любые религии и основанные на их учениях социумы оставляли индивиду определённые пути ухода в запредельность. При этом религии, в отличие от науки, способны дать ответы и на любые «зачем?», которые охватывают бытие в целом. Наука же неизбежно упирается в лишающую смысла всё и вся конечность бытия, пусть это даже будет гипотетическая тепловая смерть Вселенной.
Неудивительно, что переход от религиозной парадигмы к научной вызвал многочисленные возражения. В том числе и со стороны Льва Шестова, который обоснованно указал на ограниченность разума. В работе «Апофеоз беспочвенности» [65] и в других своих книгах Шестов неустанно борется с разумом, со здравым смыслом, с научным подходом, с «самоочевидными истинами». Так вот, он, к примеру, ставит вопрос: «Может ли Бог бывшее сделать небывшим?» И посвящает этому много страниц. На первый взгляд, это совершенно бессмысленное (хотя и интересное) рассуждение. Вообще, читать Шестова увлекательно. Но почему это рассуждение «бессмысленное»? Да потому что оно беспочвенное. А это как раз то, к чему изо всех сил стремился Шестов, полагая, что, именно пребывая на пике беспочвенности, человек может увидеть нечто такое, что недоступно массовому человеку, твердо стоящему на земле. Шестов был убеждён, что суть жизни и смерти открывается лишь способным освободиться от удушливого гнёта достоверности и самоочевидности. Дело в том, что мы все постоянно высказываем какие-то оценочные суждения относительно тех или иных событий и явлений. Значит, мы уже оперируем какими-то степенями реальности. Мы можем о чем-то сказать: «Это было, есть свидетельства, мы им доверяем». А о другом можем сказать: «Это вымысел, этого никогда не было». Если мы придадим статус реальности всем фантазиям и измышлениям человеческим, всему, что когда-либо приходило в голову человеку, и, более того, уравняем всё это в правах с нашим предметным материальным опытом, то мы потеряем почву. Для нас тогда все будет равноценно – что вымысел, что реальный факт, что стол, что Буратино. И даже вымыслы уравняются между собой в правах – ведь все они реальны. Тогда мы не сможем склониться ни к какой точке зрения – всё реально, всё равноценно (ну, или, если угодно, всё нереально). Но подобные суждения беспочвенны. Тем не менее, Шестов считал именно беспочвенные суждения верной дорогой к открытию запредельных истин. А что может быть запредельнее истин небытия?
Когда Шестов умер, кто-то из его последователей, глядя на мертвое лицо учителя, сказал: «Нет, это невозможно… Этого не может быть, чтобы такой могучий ум обратился в полное ничто! Тогда вся наша жизнь – чудовищная бессмыслица!» И был совершенно прав.
Любая жизнь это персонализированное самооправдание жизни. Перед кем ей оправдываться? Перед самой собой, поскольку жизнь, если она самосознающая, сознает то, что её быть не должно в принципе. Отсюда и библейский сюжет о грехопадении: сознающая себя (древо познания) и воспроизводящаяся в процессе размножения жизнь одновременно сознает себя в качестве греховной, как нечто, чего быть не должно, как грубое искажение чистоты и полноты ничто. Человек парадоксально стыдится полового акта, ибо он утверждает ложь, и одновременно стыдятся публичной демонстрации акта смерти, ибо она утверждает истину. Но так было не всегда. Например, в средние века акт публичная демонстрация любовного акта была строжайше табуирована социумом, зато толпы обывателей собирались на площадях, чтобы с наслаждением наблюдать казни. А сегодня обычная смерть (не говоря уж о казнях) стыдливо скрыта от взоров толпы, зато созерцание всевозможных форм сексуальности вполне доступно через интернет. Не случайно Ги Дебор называл современность «обществом спектакля». Это общество погрязло во лжи бытийности, оно намного дальше от истины, чем было тысячу лет назад. Люди утратили культуру умирания и смерти, а ведь смысл смерти заключается в освобождении от экзистенциальной лжи. Все технологические возможности общества потребления направлены на утверждение бытийности.
С древности до наших дней сложился достаточно большой круг литературы, так или иначе относящейся к философии небытия. Эта тема в интерпретации представителей различных культур раскрывается своеобразно и, тем не менее, так же как и в понимании Бога, здесь можно обнаружить много общего. «Небытие» как наиболее общий философский термин, выступает как некая альтернатива бытию. В данном контексте, небытие и бытие, как гегелевские противоположности, взаимно дополняют друг друга. Индийская «шунья» (пустота) это наиболее древнее и многосмысловое понятие.
Индийский философ Нагарджуна говорит, что нет ни бытия, ни небытия. Но одновременно он принципиально их не отрицает: именно по той причине, что нет ничего, подлежащего отрицанию. Это один из многочисленных парадоксов Нагарджуны, которыми изобилует стиль его мышления. Возможно, именно такие парадоксы призваны не прямо обозначить (это невозможно), но намекнуть на возможность соединения несоединимого, на котором и строится репертуар театра магической иллюзии, театра абсурда. Это предельное в беспредельном, бытие в небытии, которые взаимно погашают друг друга, так что в сухом остатке опять-таки ничего нет. Причём не в условном смысле, как у Чандракирти, ничего нет вообще. А что до логического обоснования… Нагарджуна говорит так: «Пойми, если все существующие вещи абсолютно пусты, покойны и чисты по своей природе, то нужен ли тезис?». Неразрешимая проблема заключается на наш взгляд в том, что любые попытки обосновать небытие мгновенно переводят его в статус бытия, так же как средневековые попытки логически доказать существование Бога автоматически лишали его права на существование. Ибо что же это за Бог, бытие которого нуждается в доказательствах путем логической казуистики?
Вообще, учение Нагарджуны, хотя формально и принадлежит к буддизму мадхьямики, фактически ближе к веданте, а через веданту и к философии Шопенгауэра. Точнее, Шопенгауэр через веданту местами весьма созвучен Нагарджуне. Это касается, прежде всего, иррационализма обоих, их мягко говоря, весьма скептического отношения к разуму, обслуживающему мировую волю (иллюзию бытия).
Характерно, что Чандракирти в книге «Буддийское учение о пустоте», рассуждая о пустоте, постоянно предупреждает против крайностей нигилизма. [56, с.272] И это не случайно, поскольку в буддизме принципиальное значение имеет понятие срединного пути, что и подразумевает необходимость избегать крайностей. «Ничто» это преимущественно европейская идея. Она берет начало в негативной (апофатической) теологии, утверждавшей понимание Бога как Абсолютного Ничто. В этом ряду можно вспомнить и философские новеллы Бонавентуры (Шеллинга) «Ночные бдения» в финале которых утверждается торжество ничто. [5, с. 157—171] Какое свое слово может сказать здесь представитель русской культуры? Видимо, сделать последний шаг и проанализировать достоверность самого крайнего нигилизма. Перефразируя Канта: насколько возможен крайний нигилизм, против которого предостерегал в своем учении о срединном пути Будда?
«Отсутствие, угасание, незанятость – эти представления не отражают подлинного смысла буддистской пустоты. Буддисты имеют дело с пустотой за пределами относительности. Речь идёт об Абсолютной Пустоте, выходящей за пределы всех видов взаимоотношений и противоположностей – субъекта и объекта, жизни и смерти, Бога и мира, „да“ и „нет“, утверждения и отрицания. В буддистской пустоте нет ни времени, ни пространства, ни становления, ни деления на объекты. Из пустоты возникает всё; это неисчерпаемый источник возможностей», – утверждает современный учитель дзэн-буддизма Судзуки. [42, с. 97] В древности мадхъямики, сватантрики, присангрики видели в пустоте различные смысловые составляющие. Но все они, так или иначе, связывали пустоту с отсутствием. Так, сватантрики утверждали, что предметы существуют реально, что позволяет избежать крайности нигилизма. Одновременно предметы существуют непостоянно и в этом заключена их пустотность. Для мадхъямиков же, идеи которых разделял Чандракирти, простое отсутствие того, что они квалифицируют как объект отрицания, это и есть окончательная природа реальности, другими словами – пустота. «Пустота хороша тем, что из неё способно возникнуть всё», – говорит Судзуки. [42, с. 143] В размышлениях Судзуки, как и многих других мыслителей, затрагивающих неподъёмную тему основ бытия, вызывает сомнения один момент. Почти все они, говоря о начале, сути, основании сущего, давая этому разные имена, подразумевают, что оно, в целом, довольно «благожелательное», хорошее, прекрасное. Тот же Судзуки пишет, что всё, включая нас, – это преображённая пустота. [42, с. 169] Пустота у Судзуки – это таинственный «резервуар», из которого возникает всё. В этой связи представляется, что именно через отсутствие, угасание и незанятость мы соприкасаемся с пустотой. Если бы мы не сознавали, что какая-то вещь, которой мы обладаем, утрачивается нами; что всё, имевшее когда-то начало, неизбежно заканчивается; что есть присутствие чего-либо, а есть – отсутствие, то не было бы и смысла говорить о пустоте. А у Судзуки, судя по его высказываниям, все вышеперечисленные явления не имеют отношения к пустоте. Точнее, они не являются ее признаками или характеристиками. Пустота у него – это что-то запредельное, таинственное, заключающее в себе все феноменальные противоположности, в том числе присутствие и отсутствие. В итоге пустота превращается в абстракцию. Если мы в своем опыте не видим следов пустоты, то что такое тогда для нас это понятие?
Размышляя об индийских истоках философии небытия, можно упомянуть и современного мыслителя Пападжи, который был очень своеобразным человеком. До того, как Пападжи открыл для себя «истину адвайты», он постоянно общался с Кришной. Да, именно так он о себе и рассказывает: с детских лет Кришна приходил к нему, обычно по вечерам, причем являлся в телесном облике и играл с будущим философом. Иногда Пападжи очень тяготился этими визитами: ему, набегавшемуся за день мальчишке, хотелось отдохнуть, а тут появлялся очень игривый Кришна и не давал покоя будущему учителю адвайты. Если вышесказанное – не выдумка самого Пападжи, то из этого следует, что мальчик обладал очень специфической психической организацией и был склонен к визионерству (или к галлюцинациям). Он постоянно пребывал в духовных поисках в контексте своей культуры. Многое из того, о чем он повествует, очень похоже на православные рассказы: например, на каком-то этапе его размышлений, к нему домой пришел некий человек и посоветовал отправиться в Тируваннамалай (город в Южной Индии). Пападжи проделал большой путь и оказался у Раманы Махарши. Каково же было его удивление, когда в Рамане Махарши он узнал того самого человека, который приходил к нему домой. Решив, что это какой-то розыгрыш, Пападжи захотел вернуться назад, но, узнав, что Махарши 50 лет не покидал своего места, – подножия горы Аруначалы, – всё-таки остался. То есть, в современной адвайте, как и в христианской литературе, мы встречаемся с чудесами. В конечном итоге, Пападжи постиг свою истинную природу – Пустоту, и больше не нуждался ни в визитах Кришны, ни в постоянном повторении его имени (обратите внимание на параллель с молитвой Иисусовой), ни в каких-либо поисках.
«Некоторые считают, будто в Пустоте нет Любви и нет Красоты, – говорит Пападжи. – Эти традиции и учителя говорят, будто Пустота – пуста от всего. Мой опыт не таков. Любовь это Бездонность Пустоты, самое Сердце Пустоты. Прибыв в глубины Пустоты, вы обнаруживаете Любовь и Красоту!… Если вы последуете за любой мыслью, которая появится в вашем уме, тогда вы обнаружите, что она появляется из пустоты, из своего источника». [28, с. 66]
Возможно ли помыслить некие принципиально новые, пока абсолютно невообразимые законы мышления и рассуждения в контексте философии небытия? В восточной традиции небезуспешной попыткой такого рода является книга Вэй у Вэя «Открытая тайна». Для западного читателя она достаточно трудна для понимания (хотя автор её европеец) – мы привыкли по-другому мыслить и рассуждать, иначе воспринимать. Сам автор – очень интересная личность, полная загадок. Это ирландский аристократ Терренс Грей, знаток вин и скаковых лошадей, публицист, писатель, египтолог, историк, театральный режиссёр, путешественник. Всю жизнь он скрывался за псевдонимами и очень редко фотографировался, но, будучи яркой и многогранной личностью, не мог оставаться незамеченным. Известно, что Грей несколько раз во время путешествий по Индии встречался с Раманой Махарши и это, несомненно, сыграло большую роль в формировании его мировоззрения. Последнюю свою книгу он подписал псевдонимом О. О. О., что означает ноль в кубе.
В книге «Открытая тайна» Вэй у Вэй рассуждает о несуществовании мира:
«Объекты познаются только как результат реакции органов чувств чувствующих существ на разнообразие раздражителей.
Кажется, что эти раздражители исходят из источников, внешних по отношению к реагирующему механизму, но этому нет другого подтверждения, кроме свидетельства самого реагирующего механизма.
Объекты, таким образом, – просто догадка, поскольку они лишены какого—либо доказуемого существования отдельно от познающего их субъекта.
Поскольку сам субъект непознаваем с помощью органов чувств как объект, он тоже лишь догадка.
Раз действительное существование как объекта, так и субъекта не может быть доказано, значит, существование – не более чем концептуальное допущение, которое с метафизической точки зрения недопустимо.
Таким образом, нет обоснованного подтверждения существования мира, внешнего по отношению к сознанию воспринимающих существ, чей внешний мир тогда – не что иное, как познающие его, то есть сами воспринимающие существа.
Но не может быть и обоснованного подтверждения существования самих воспринимающих существ – ни как объектов, ни как субъектов, – которые в таком случае являются лишь концептуальным допущением сознания, в котором они сознаются.
Отсюда следует, что «сознание» также может быть лишь концептуальным допущением без подтвержденного существования.
Что тогда может обозначать это допущение сознания? На этот вопрос можно ответить только в метафизических терминах, согласно которым сознание можно рассматривать как проявленный аспект непроявленного. Это, видимо, последнее из возможных приближение к выражению концепции того, что по определению непостижимо.
Почему это так? Это должно быть так, потому что источником концептуальности не может быть концептуальность, а только неконцептуальное, поскольку то, что постигает объективно, должно обязательно исходить из объективно несуществующего, проявленное – из непроявленного, так как концептуальность не может постичь или объективировать саму себя – как глаз не может увидеть себя как объект.
Следовательно, сознание можно описать как чистую неконцептуальность, «чистую» – потому что она не замутнена ни концептуальным, ни неконцептуальным, что подразумевает полное отсутствие как утверждающей, так и отрицающей концептуальности.
Не будучи объектом, даже концептуально, никакое «это» не может существовать. Нет никакой «вещи», чтобы иметь название, а там, где нет объекта, невозможен никакой субъект, из чего неминуемо следует полное отсутствие бытия.
Все, что мы можем сделать в отношении того, что мы есть, которое для нас должно быть объективировано как «это», чтобы мы имели возможность говорить о нем, – рассматривать «это» как ноумен феноменов. Но, поскольку ни то ни другое не существует объективно, с феноменальной точки зрения это можно понять как абсолютное отсутствие, из которого возникает всё присутствие.
Однако сознание, или «ум», не «проецирует» феноменальную вселенную: «оно» есть феноменальная вселенная, проявленная как его объективное «я».
Метафизика, полагаясь на интуицию или прямое восприятие, больше ничего не добавляет и указывает на то, что никакое слово, будь то Абсолют, Логос, Бог или Дао, не может быть ничем, кроме концепции, которая как таковая не имеет никакой фактической достоверности.
То—Что—Есть не может быть ни субъектом, ни объектом, не может быть названо или помыслено и его реализация есть окончательное пробуждение. На него можно только указать.
Меня нет, но видимая вселенная есть я». [11]
В главе «Абсурдность ничтойности», которую следовало бы озаглавить иначе – «Абсурдность концептуализации ничто», Вэй у Вэй продолжает развивать свои мысли в направлении философии небытия:
«Чжу Даоцянь (называемый Фашэнем, 286—374), один из группы монахов, изучавших и проповедовавших «Изначальное Небытие», говорил: «Что есть небытие? Пустота без формы, из которой, однако, порождаются мириады вещей. Хотя существующее плодовито, сила порождать все вещи – у несуществующего».
При ближайшем рассмотрении обнаружится, что «несуществующее», «пустота», «небытие» и т. д., о которых столько писалось и втолковывалось до и после Фашэня, фактически представляет собой не что иное, как философскую попытку объективировать субъективность.
Пока это не будет понятно, останется соблазн пытаться помыслить их объективно либо как «немыслимое» аннулирование и ничто, либо как равно «немыслимый» мистический источник и ключ всех вещей – альтернатива, которая кажется противоречащей, но на самом деле таковой не является.
Однако пытаться помыслить их как объекты – значит просто смотреть в неверном направлении, так как пока привычный механизм попыток объективировать каждое восприятие, превращать все воспринимаемое в объективную концепцию, не отброшен или не отложен в том смысле, который имеется в виду здесь, сущностное понимание не сможет развиться.
Мы можем непосредственно видеть, что эти, такие привычные «пустоты», описываемые как «несуществование, вакуум, небытие и т. п.», – вовсе не объекты и не могут быть чем-то как объекты, поскольку они есть то, что есть их воспринимающий, и нельзя увидеть, что они существуют, есть, не существуют, или не есть, поскольку их вообще невозможно увидеть.
На самом деле тут воспринимающий подошел к той точке в своем исследовании, когда он смотрит на то, что есть он сам. Он зашел в тупик в своем анализе и оказался лицом к лицу со своей собственной природой. Но вместо того чтобы признать ее как таковую и осознать, что его пустота – это то, что видит глаз, когда смотрит сам на себя, он продолжает пытаться объективировать то, что не видит и никогда не сможет увидеть, превращая это в объективную концепцию, подобно благовоспитанному и хорошо обученному философу, каковым он обычно и является.
Кажется вероятным, что некоторым это хорошо известно, но, если и так, они по-прежнему упорствуют в убеждении, что нет никакой альтернативы процессу объективизации, которому они и их читатели были обусловлены с младенчества.
Но есть, и всегда была, альтернатива, когда достигнут тупик, Абсолютный Предел концептуализации: следует просто обернуться назад и пробудиться к истине. Добравшись до врат, люди пытаются взломать их, не осознавая, что они уже находятся с правильной стороны.
Как концепции, эти понятия «небытия», «пустоты», «несуществования» и т. д. тщетны, бесполезны и воистину «пусты»: они лишь указывают на то, что конец пути достигнут и что путешественнику остаётся лишь обернуться назад, чтобы обнаружить, что он уже прибыл в место назначения – домой.
Тогда видно, что искомое есть искатель». [11]
Вэй у Вэй пишет, что объекты – это просто догадка. Но и субъект – это догадка. Можно говорить только о сознании (не моем, не вашем и не чьим-либо еще – нет никакой индивидуальной сущности, обладающей сознанием), в котором разворачивается вся эта драма – сновидение. Однако, сознание, по Вэй у Вэю – это тоже концептуальное допущение! Но что тогда можно было бы вообще сказать о сознании? Вэй у Вэй говорит: сознание есть проявленный аспект непроявленного. То есть, сознание – это проявление пустоты. Абсолютное отсутствие, из которого возникает всё присутствие.
А вот насчет фразы «реализация небытия есть окончательное пробуждение» не всё так просто. Первое, что напрашивается – смерть. Но у Вэй у Вэя это не смерть. Попробуем осторожно предложить свое понимание этой концепции. Рождение, как и смерть, относится к феноменальному миру – ноумен не рождается и не умирает. Вэй у Вэй пишет: «Субъективность», не имея никакого объективного существования, не может умереть – поскольку нет вещи, которая могла бы подвергнуться исчезновению, – как не может и родиться – поскольку нет вещи, способной обрести существование». Сознание – проявленный ноумен. Я, вы, все остальные – снящиеся сознанию персонажи. Сознание, будучи проявленным аспектом непроявленного – единственный сновидящий. Иначе говоря, пустота и видит этот сон посредством проявления сознания (оно неотделимо от пустоты, оно есть пустота в проявлении) – ведь именно благодаря сознанию возможен спектакль жизни. Реализация – пробуждение к этой истине, глубокое понимание её (такое понимание может случиться в отдельных индивидуумах). Сознание как бы поворачивается вспять, к своему источнику, «вспоминая», чем оно является (что оно есть) на самом деле. На индивидуальном уровне результатом этого пробуждения будет полное и окончательное исчезновение личного волеизъявления (если угодно, концепции личного волеизъявления). Разотождествление с псевдосущностью, называющей себя «я» и приписывающей себе то, что «принадлежит» ноумену». [11, с. 47] Какие подводные камни имеются у предлагаемой концепции? Какие слабые места? Верен ли сам подход? Нет ли самообмана и попытки таким хитрым способом оправдать бытие, стереть присущий ему трагизм?
Вэй у Вэй говорит: сознание есть проявленный аспект непроявленного?
Здесь вновь возникает оксюморон по типу бытия небытия, ну да Бог с ним. Разотождествление с псевдосущностью, называющей себя «я» и приписывающей себе то, что принадлежит ноумену (пустоте) – отказ от осознанного волеизъявления – всё это действительно способно несколько уменьшить накал наличных страданий. Но проблемы трагизма жизни это, увы, не решает. Да и ничто не способно решить.
Вообще, при знакомстве с восточными подходами к интерпретации небытия, периодически возникает ощущение, что все они – современный философ адвайты Рамеш Балсекар, Вэй у Вэй, Нисаргадатта Махарадж, Лиза Кернз и т. д. – очень симпатично излагая вполне (на наш взгляд) интересную концепцию, обходят стороной самый сложный аспект. Этот аспект – страдание, которое буквально пропитывает ткань бытия. К примеру, вот что об этом говорит Вэй у Вэй:
«Ноуменальность, формирующая феномен, здесь не учитывается, поскольку в ней нет вещи (объекта), чтобы что-то испытывать или страдать при каких бы то ни было обстоятельствах. Если феномен кажется страдающим, это эмоциональная реакция на отождествление. Такое страдание феноменально, а ноуменальность остается незатронутой и неприкосновенной». [11, с. 49]
Поневоле возникает подозрение, а не являются ли все эти разговоры «просветленных» очередной попыткой затушевать трагизм жизни? Не скажем, что это плохо – в конце концов, все мы ищем какие-то костыли, которые помогли бы брести по жизненному пути. Но, с точки зрения истины, аутентичного отображения реальности – насколько верны их рассуждения?
В частности, при знакомстве с их идеями удивляет любопытный парадокс: если всё, буквально всё, просто случается, то ошибки быть не может ни в чем и никогда, верно? Тогда индивидуум, который считает себя независимой (относительно) сущностью, наделенной относительной же свободой волеизъявления – такое же проявление тотальности, как и всё остальное! Другими словами: категорически не принимая эту концепцию адвайты, «вы» ничем не хуже любого просветленного и понимающего! Тогда о чём речь? Получается замкнутый круг: утверждая, допустим, относительную свободу индивидуума и, ощущая себя в достаточной степени «деятелем», вы пребываете в потоке так же, как и тот, кто отрицает «деятеля» и полагается на спонтанное движение жизни. Но дело не только в этом. Страдание не обходит ни того, ни другого – иллюзия бытия бьет без разбору всех. Далее. О ничто говорить можно по-разному. Та же Лиза Кернз (ученица Рамеша Балсекара) излагает свое понимание бытия – как реализации ничто – достаточно позитивно. Но наше видение акцентировано на другом: бытие злокачественно. Оно то, что не должно было бы быть. Оно – болезнь небытия, его искажение, его ошибка. А это уже совершенно другой взгляд и на бытие, и на небытие. Хотя мы используем схожие термины и движемся – как будто! – в одном направлении. Только у Лизы улыбка и приговаривание «как здорово!», а у нас горечь и… отчаяние.
В европейской традиции с философией небытия тесно связана проблема солипсизма. На самом деле никто внятно опровергнуть позицию солипсизма до сих пор не смог, поэтому от неё и отмахиваются, как от несерьезной. Даже Декарт с его «cogito ergo sum» утверждает, и довольно неубедительно, лишь своё собственное существование, из которого вовсе не следует существование остального мира. Что касается Беркли, то он, к сожалению, тоже извивался, как змея, чтобы уклониться от обвинений в солипсизме. В его случае это понятно, поскольку он был епископом и миссионером, а солипсизм никак не вяжется с христианской догматикой. (Приходилось шифровать свои идеи и немецкому мистику Экхарту, с его скрытой проповедью ничто). Беркли закономерно делегирует позицию последней наблюдающей инстанции Господу, а самого себя и остальных позиционирует как сновидение Бога. [2, с. 115—215] Но Беркли всё равно не удается уйти от солипсизма, он лишь переносит его на иной уровень. Единственным солипсистом оказывается Творец, сотворивший мир и самого Беркли в своих фантазиях. Кроме того, сам Бог присутствует в сознании Беркли, а это оставляет пространство для предположения, что все-таки мир, включая идею Бога, есть порождение сознания философа. Именно от идей Беркли относительно субъективности зрительного восприятия мира различными живыми существами («Опыт новой теории зрения») [2, с. 15—103] всего один шаг до знаменитой кантовской дихотомии мира как «вещи в себе» (ноумена) и «вещи для нас» (феномена). Мы воспринимаем мир лишь в том виде, в котором он нам себя показывает через посредство возможностей нашего зрения. Какую бы технику мы ни использовали, восприятие все равно будет замыкаться на наше зрение. Каков мир на самом деле мы никогда не узнаем. Вполне возможно, что кантовский ноумен это и есть ничто, продуцирующее нам замысловатые картинки. Тогда непостижимая, трансцендентная, сугубо эксклюзивная флуктуация абсолютного ничто порождает этот мир как восприятие одного-единственного субъекта и вместе с его смертью обращается в ничто.
Различия между культурами Запада, Востока и России заключаются, в известной степени, в выборе субстанционального начала. Здесь вновь имеются в виду предельно общие онтологические категории: небытие и бытие. Давным – давно греческий философ Парменид заявил, что бытие есть, а небытия нет. Небытие, впрочем, никуда не делось. Оно по-прежнему внушает европейцам ужас, поскольку оказалось выдвинуто западным сознанием в будущее и превратилось в после-бытие. Восток же исходит из небытия, как до-бытия, которое является подлинной реальностью и содержит в себе все возможные и невозможные потенции существования. Если в западном небытии всё безвозвратно исчезает, то в восточном всё появляется, и на Востоке смерть не предстаёт ужасной, небытие не внушает ужаса, потому что оно до-бытие, а не после-бытие. Что касается России, то она не ориентируется ни на до-небытие, ни на после-небытие, а на само ничто, или, выражаясь по-русски, на «ничего». Таким образом, мы, в философском смысле находимся уже там, куда все остальные еще только устремляются.
Основателем отечественной философии небытия был Арсений Чанышев. «Заметим, что философия небытия учит, что „всё, что существует, в большей мере не существует“ (мягкая форма). В жёсткой форме: „всё, что существует, не существует (в подлинном смысле) “, – пояснял он. « – Бытие, Добро, Жизнь, Истина, Свидание, Любовь – лишь крошечные оазисы внутри бескрайней пустыни Небытия, Зла, Смерти, Лжи, Заблуждения, Разлуки… И это даже не реальные оазисы. Это лишь самообман, иллюзия, мираж». [60, с. 157—165]
Интересные мысли о небытии содержатся в работе современного российского философа Н. М. Солодухо «Философия небытия». [40] При чтении этой книги постоянно чувствуется неподдельный интерес Натана Моисеевича к проблеме небытия. Он излагает её основательно и, в отличие от А. Чанышева, достаточно наукообразно. При этом хотелось бы отметить принципиальный момент: автор пишет о небытии, но в итоге складывается впечатление, что его работа – это своеобразный гимн бытию. Также совершенно непонятна его идея борьбы между небытием и бытием. Небытие выпустило на волю джинна, которого не в силах обуздать, – считает Н. М. Солодухо. Здесь речь идёт о бытии. Совершенно непонятно, какая может быть борьба между небытием и бытием? Исход её, и в частностях и в целом, очевиден. Масштабы небытия и бытия совершенно несопоставимы, бытие по сравнению с небытием, проявляется на уровне арифметической погрешности, которую можно не принимать в расчет. Вопрос заключается скорее в вере или неверии в бытие. Действительно, что такое конечность перед бесконечностью? Или временность перед вечностью? Если принять бытие как реально существующее, поверить в него, то в контексте книги Н. М. Солодухо получается следующее: небытие по непонятным причинам разродилось бытием, которое, как евангельский блудный сын, ушло из отчего (небытийственного) дома и стало делать, что ему заблагорассудится. Оно как бы стало существовать само по себе, хотя небытие старается, по мере сил, приглядывать за ним и периодически бить по рукам. Но бытие сопротивляется, огрызается, иногда дерётся с небытием. Наконец, небытию это всё надоедает, и оно, как Тарас Бульба, говорит: «Я тебя породило, я тебя и убью!» На самом же деле бытие бытия это его агония.
Далее, у Н. М. Солодухо бытие переходит в небытие и обратно. Арсений Чанышев, кстати, в своих бостонских тезисах писал, что небытие порождает бытие, но не превращается в него, ни полностью, ни частично. А у Натана Моисеевича, получается, превращается. Вообще представляется, что интерес к такой запредельной теме, как небытие, должен бы был заставить автора пересмотреть отношение к тому, что мы называем «бытием», но на деле всё у Н. М. Солодухо происходит иначе. Очевидно, философия небытия должна вести либо к последовательному нигилизму, либо… к признанию некого Абсолютного Бытия. Если, конечно, это философствование не является только лишь профессиональной деятельностью или игрой ума. Но что за метаморфоза должна произойти с человеком, чтобы он от небытия вдруг переметнулся к сверхбытию?
Очень часто случается так, что философское или художественное произведение заманивает вдумчивого читателя, начинаясь как оратория мрачного опыта, но завершается тем, что автор внезапно выскакивает через заднюю дверь и пробивается к «светлому пути». Архетип подобной истории представляет собой «Исповедь» Льва Толстого.
В целом, радикальный философский нигилизм не имеет аналогов ни в каких нацеленных на укрепление иллюзии бытия учениях – ни религиозных, ни философских, даже в тех, которые, казалось бы, близко подошли к нему. Здесь имеются в виду не отдельные прозрения тех или иных мудрецов, а законченные, системные, институализированные учения. Крайний нигилизм – это хождение по тончайшей проволоке над бездною: чуть оступился – и полетел в пропасть иллюзии, в бытие.
В любом социуме имеются общепринятые представления о норме. При этом у разных народов и в различные эпохи они могут заметно различаться. Но все-таки, нормальным у всех, в основном, считается то, что направлено на поддержание и воспроизводство жизни. На умножение существования, так сказать. Поэтому пессимистические, депрессивные и, тем боле, суицидальные настроения ни в каких культурах обычно не приветствуются. Они могут рассматриваться как различные формы отклонений от нормы, начиная от вполне невинного чудачества вплоть до угрожающего существованию личности и общества деструктивного поведения. При этом необходимо помнить, что экстремальные опыты учителя адвайты Рамана Махарши это удел единиц. Большинство известных мыслителей, исповедовавших пессимизм, в повседневной жизни вовсе не стремились принципиально отказаться от благополучия и комфорта. И это касается почти всех: взять хотя бы тех же Шопенгауэра, Гартмана, Чанышева, да и Сиорана, в конце концов. Принести элементарный комфорт в жертву философской честности и при этом обречь себя на страдания, насмешки и издевательства – на такие подвиги философы, как правило, не способны. Да и зачем? Кому и что могут они доказать своей честностью, если учитывать, что подлинному философу, признание окружающих совершенно неинтересно, главное – уверенность в своей правоте. Доказывать самому себе? Ну, это уже какое-то раздвоение личности получается. В отличие от религиозного фанатика философ абсолютно одинок, а глубоко верующий человек находится в непрерывном общении с Богом, во имя которого можно и пострадать, и умереть, чтобы подать достойный пример и обратить в свою веру колеблющихся. Философу это ни к чему. Но не должна ли внешняя сторона нашей жизни естественным образом отражать наши мысли? Не сиюминутные, проскакивающие мысли о том, о сём, а мысли рождённые, продуманные, порой выстраданные, важные для нас? Если человек упорно и много думает о чём-то, размышляет, приходит к каким-то выводам в процессе серьёзного думания, разве не отразится это на его поведении, образе жизни, взаимодействии с окружающим миром? И не является ли раздвоением личности как раз отсутствие такого отражения? Если некто денно и нощно медитирует на какой-то теме, непрерывно прокручивая в голове всё, что с ней связано, а образ жизни его совершенно не совпадает с его думами – тут также налицо раздвоение.
Из современных авторов, пытающихся рассуждать в русле философии небытия, можно упомянуть Михаила Бойко и его очерк «Манифест нигилософов». [6] Как литературный манифест текст написан неплохо. Проще говоря, это такой весьма добродушный юмор, выдающий себя за философию, совсем как «меон» выдаёт себя за ничто. С полемическим вызовом, которого требует жанр. Местами напоминает «Трактат о ничто» Филдинга. Возможно, автор даже наивно надеялся, что ему удастся в какой-то степени разбудить и возбудить «профессиональное философское сообщество». Что касается интерпретации ничто, то у Бойко получается следующее: абсолютное (единственно подлинное) ничто не имеет никакого отношения к бытию и к нам. Его просто нет, на то оно и ничто (этот лингвистический парадокс был уже многократно проигран). И говорить о нём категорически незачем. Всё по Пармениду. Остаётся так называемый «меон», иначе говоря, бытие, которое притворяется ничто. Но это не есть ничто. Значит, следует вообще закрыть тему ничто и принять бытие как единственную данность. С другой стороны, рассуждая об «уконе», Бойко противоречит сам себе, то есть, говорит ни о чём, что, если следовать его логике, вполне бессмысленно. Что ж? уничтожение смысла это вполне себе нигилистическая цель.
В книге В. Н. Финогентова «Человек на грани небытия» [50] есть несколько интересных суждений. В частности, автор говорит о необходимости в первую очередь оставить пустые надежды на жизнь после смерти. В этом он видит некий трагический и даже героический гуманизм. Действительно, в контексте тотального господства иллюзии бытия, целиком и полностью построенной на лжи, что-то героическое в этом, наверно, есть. Кроме того, автор убеждён, что у человека постоянным внутренним фоном должно присутствовать отчаяние. Эти идеи присутствуют и в нашей книге «Сны воинов пустоты». [46]
Но дальше, как и следовало ожидать, начинается традиционное мыслетрусие. Вначале Финогентов квалифицирует философских нигилистов как циников. Точнее, он пишет так: циники и нигилисты. Очевидно, последовательная интеллектуальная честность, предполагающая привычку называть вещи своими именами, рассматривается им как цинизм, то есть, как демонстративное попрание приличий. Что здесь сказать? В культуре, целиком и полностью ориентированной на апологию бытия, это, видимо, так и есть. Но чем же конкретно не устраивает автора этот самый цинизм —нигилизм? А вот чем: по его мнению, широкое общественное признание подобных идей приведет в скорейшей деградации и вымиранию всего человечества. Но, во-первых, такое широкое признание немыслимо. Во-вторых, непонятно отчего это гипотетическое признание неизбежно приведет к деградации? Если кто и демонстрирует деградацию, так это так называемое общество потребления, радикально ориентированное на бытие. И, наконец, если человечество, с чем соглашается автор, неизбежно когда-нибудь исчезнет, то в чём заключается интерес оттягивать его конец?
И ещё: автор пишет, что его упрекают в излишнем пессимизме, несмотря на то, что он ожидаемо свернул на привычную дорогу апологии бытия. Сознание того, что жизнь конечна, придаёт ей обострённую ценность? Это очень сомнительное предположение. Ценность судорожного цепляния на краю обрыва, при полной уверенности, что упасть всё равно придётся? В чем ценность и смысл, когда результат перечеркивает всё?
При этом не исключено, что не только страх смерти заставляет философов изворачиваться, сочиняя на фоне трагизма жизни жизнеутверждающие агитки. Здесь и нежелание оказаться маргиналом.
На фоне вышеупомянутых работ можно в положительном смысле представить замечательную книгу Натальи Саенко «Нигитология культуры (опыт построения)». [32] Автор, опираясь на философию небытия, рассматривает проблемы этики и экзистенции небытия, социального опустошения, эстетики и семиотики пустоты. Характерно, что небытие, ничто, пустота выступают в качестве объекта осмысления не только в предметном поле философии, но и культуры в целом, включая, например, художественную литературу. Видимо, не случайно философские построения Натальи Саенко близки к стилистике постмодернизма.
Разумеется, ссылаться на персонажей из истории философии или даже на кого угодно, как на некие авторитеты, глупо. Думать лучше самостоятельно. Это средневековые схоласты, марксисты—ленинисты и всевозможные сектанты подкрепляют «свои» идеи ссылками на авторитетные писания. Именно оттого, что у них отсутствует логика, с ними невозможно конструктивно разговаривать. Но бывает приятно, если находишь у кого-нибудь подтверждение своим мыслям. Вот и цитируешь, без всякого пиетета.
Но что такого знают философы о жизни, что не доступно простым смертным с элементарной наблюдательностью и минимумом вдумчивости, и почему это их «знание» требует облечения в громоздкие неудобовоспринимаемые словесные конструкции?
До сих пор мы не знаем философов, способных дать удовлетворительный ответ на вопрос: «Почему должно существовать нечто вместо ничто?»
Представленный краткий очерк предыстории и истории философии небытия и, в частности, философского нигилизма, показывает, что соответствующие идеи являются объектом интеллектуального интереса уже много сотен лет. При этом философия небытия стоит отдельно от всех остальных философских систем: она не «заговаривает» смерть, а честно утверждает ничто. Есть ли в поле нашего зрения что-то такое, что не вызывает ни малейшего сомнения, что является безусловным и не поддающимся опровержению, что можно назвать неоспоримой очевидностью? Шопенгауэр однажды написал: «Почему здравствуют тысячи ошибок, если критерий истины – очевидность – столь прост?» Так в чем же мы видим эту «неоспоримую очевидность»? В смерти. Можно подвергнуть сомнению всё что угодно, но только не смерть, которая рано или поздно приходит к каждому и одним ударом разрушает всё. Она забирает и того, кто любим, – и того, кто любит. Не остается ничего и никого. Вероятно, смерть – это отправная точка для всех возможных размышлений, которые претендуют на объективность. Реальная смерть – кульминация всех маленьких символических смертей, через которые мы проходим в течение жизни: вещи, люди, события входят в нашу судьбу и исчезают бесследно, оставаясь иногда лишь в нашей памяти, которая так же обратится в ничто с последним нашим вздохом.
Помимо смерти есть ли еще какая-то очевидность? Думаем, она есть, и сформулирована Буддой в Первой Благородной Истине:
«Вот, о братья, благородная истина о страдании. В муках рождается человек, он страдает, увядая, страдает в болезнях, умирает в страданиях и печали. Стенания, боль, уныние, отчаяние – тяжки. Союз с немилым – страдание, страдание – разлука с милым, и всякая неудовлетворенная жажда сугубо мучительна. И все пять совокупностей, возникших из привязанностей – мучительны. Такова, о братья, благородная истина о страдании». [7, с. 48]
Скажем, если какой-нибудь философ, опираясь на логику, попытается подвергнуть эту истину сомнению, то предпочтительнее будет остаться не с логикой (даже если она будет «математической»), а с очевидностью, которая присутствует в опыте всех живых существ.
И, наконец, третья очевидность, с которой далеко не все соглашаются, но, подозреваем, многие просто пытаются обмануть себя и «заговорить» эту очевидность так же, как очевидность смерти. Речь идет о тотальной несправедливости, пронизывающей как социум, так и природу.
Итак, три точки, которые могут служить отправным пунктом для философских размышлений. Три очевидности: несправедливость, страдание и смерть.
Интересно, что Амброс Бирс определял философию, как «направление многих дорог, ведущих из ниоткуда в ничто», а реальность, как «мечту сумасшедшего философа».
Здесь возникает ещё один принципиальный момент: философия небытия парадоксально позиционирует себя как живая философия. Есть философия живая и философия мёртвая. Так, Эмиль Сиоран думал, что отвергает философию в целом, но он отвергал её с позиций своей живой (хоть и акцентирующей смерть) философии. Поэтому деление философии на школы и направления не так уж важно. В первую очередь необходимо отличать симуляцию («философоведение») от реального философствования, а потом уже, внутри последнего, разбираться со школами. Вот что пишет об этом Арсений Чанышев:
«Кто же такие философы?
Скажем сразу, что надо различать философа и философоведа. Поэтами и философами рождаются, а литературоведами и философоведами становятся. Если вопрос о философии как науки спорен, то философоведение – наука. Философоведение состоит из теории философии и истории философии. Возможна теория истории философии.
Следует также различать мнимого и действительного философа. Мнимый философ лепит слова («Из слов системы создаются»). Его отличают внешние важность и значительность. Будучи фактически вне философии, он воспринимает философию как «важную даму» и относится в ней «коленопреклоненно». Настоящий философ может позволить себе некоторую фамильярность с философией». [58]
При этом водораздел между формальной и реальной философией проходит именно по линии связи теории с практикой. Если философ искусно рассуждает о единстве трансцендентальной апперцепции, но при этом исходит из того, что апперцепция сама по себе, а жизнь сама по себе, и находит эту ситуацию нормальной – то это типичный философовед.
Именно поэтому цель данной работы формулируется в русле практической философии: обозначить связь философии небытия с экзистенцией и попытаться построить модель этики небытия. Реализация данной цели включает в себя конкретные задачи: рассмотрение проблем соотношения необходимости и случайности, свободы воли, антинатализма и смысла жизни, а также анализ небытийных идей классика философского пессимизма Артура Шопенгауэра и его последователей.
Глава первая
Ничтожность жизни
1.1. Небытие нужно заслужить?
Почему мы обращаемся именно к Шопенгауэру? В первую очередь потому что нам близко его пессимистическое мировоззрение.
Философский пессимизм имеет очень древние традиции. Его истоки можно, в частности, проследить в древнеегипетской «Песне из дома царя Антефа», «Книге Екклесиаста», идеях античного киренаика Гегесия.
В этом ряду следует положительно отметить буддизм как философию и даже как религию – за отсутствие всемогущей божественной фигуры, а так же за его учение о Четырех Благородных Истинах. Первая из этих истин, как уже было здесь упомянуто – это приравнивание жизни обычного смертного к «дуккха» (грубо говоря «страданию», по сути дела любому вообразимому негативному состоянию). Вторая истина говорит о том, что желание чего-либо в этом мире – хорошего физического или психического здоровья, долгих лет жизни, счастья, или даже желание устранения самого желания – есть источник страданий. С точки зрения самих буддистов, их религия является системой представлений об истинной природе человека, и только. Тем не менее, буддизм и пессимизм невозможно отделить друг от друга. Сходство между ними буквально бросается в глаза. По мнению буддистов, они являются не пессимистами, а реалистами. Пессимизм выступает с тем же заявлением. Единственная действительная разница между этими философиями заключена в том, что миллионы буддистов приняли «дуккха» как непосредственную реальность существования. Странно и печально, что пессимисты не могут похвастаться таким числом сторонников. Эти двойные стандарты попросту вопиют к логике.
Один из взглядов, которого придерживаются многие буддисты, состоит в том, что человеческие существа есть просто части и фрагменты, которые являют собой ничто, склеенные модельки, пустые марионетки небытия, которые полагают себя тем, чем на самом деле не являются. Другие буддисты считают, что это только половина истории: все существует и не существует; вещи не то, чем они кажутся, и не то, чем они не кажутся; вещей много, но все они одно; всё есть ничто, включая и само ничто.
До тех пор пока вы желаете просветления, вы никогда его не достигнете, поскольку, по буддизму, желание и есть то, что не позволяет вам достичь желаемого. Проще говоря, если вы хотите прекратить свои страдания, вы их никогда не прекратите. Это условие именуется «парадокс желания».
Согласно буддизму, нет ничего, что можно было бы понимать, и нет никого, кто может понимать. И пока вы полагаете, что есть некто, кто может понять нечто, что можно понять, вы обречены. Попытка преодоления подобного состояния представляет собой, по сути, нигилистический вызов. При этом не пытаться понять вышесказанное равносильно попытке понимания. Нет ничего более тщетного, чем пытаться найти что-то, способное дать вам спасение.
Мы пойманы в иллюзии, и выхода нет.
Восточную традицию философского пессимизма продолжает современный индийский учитель адвайты Нисаргадатта Махараджа (учитель Рамеша Балсекара). Ученик спрашивает Махараджа: «Разве то, что я родился, не везение? Разве сознание – не благословение?» Махарадж отвечает: «Появление бытия из состояния небытия – величайшая ошибка». И вот ещё интересный диалог Махараджа (М) с посетителем (П):
М: Вы присутствовали во время своего рождения?
П: Когда я родился, и мои родители праздновали это событие, я должен был быть там.
М: Но это не ваше знание, это умозаключение.
П: Конечно.
М: Попытайтесь вспомнить самое раннее событие из своей жизни. Сколько вам тогда было лет?
П: Я помню посещение Ниагары, мне тогда было четыре года.
М: Это начало вашего отождествления. Примерно в том возрасте вы должны были начать узнавать свою маму. Она говорила вам, что ваше имя Уилсон и что вы мальчик, а не девочка.
П: Если бы я был Параматмой, я должен был бы знать себя и без маминой помощи.
М: Параматма – это состояние небытия. Оно подобно вашему переживанию глубокого сна без сновидений.
П: Оно всегда пребывает в глубоком сне?
М: Оно никогда не спит, хотя термин «бодрствовать» также нельзя к нему применить.
П: Это очень интересно. Пожалуйста, расскажите ещё о нём.
М: Во время вашего зачатия в утробе матери началось проявление. До этого вы были непроявлены и пребывали в состоянии небытия. После зачатия состояние небытия продолжилось. Ваше проявление подобно внезапной вспышке света от зажжённой спички. Есть лишь свет, нет ничего до него и ничего после него. Ваше отождествление с именем и формой началось примерно в четыре года. Поскольку вы появились из состояния небытия, вам пришлось начинать своё знание с нуля. Вы не знали, что вы такое. Самым близким для вас было ваше тело. Естественно, вы чувствовали, что вы и есть ваше тело, а ваша мать и другие это подтверждали. Могло быть и наоборот – ваша мать говорила вам, что вы – тело, имя которого Уилсон. И у вас не было иного выбора, кроме как поставить на этом свою печать одобрения.
После появления живой формы Параматма принимает имя и форму и приспосабливается к происходящему вокруг. Что происходит и почему – она не знает.
Вся жизнь этой формы подобна зажжённой спичке, и она продолжается, пока горит огонь. Есть ли форма у пяти элементов?
П: Нет.
М: У всего этого нет создателя. Всё это – спонтанное явление.
Всё прекрасно, пока не появляются формы с бытием, с любовью к себе, с любовью к существованию. Вместе с жизнью начинается борьба за выживание. Все действия всех живых существ направлены на поддержание бытия. Это включает защиту их тел и поиск пищи. Помимо этого, у них нет никакого знания о своём происхождении. Космическая основа и космический дух бестелесны, но все живые тела обретают существование благодаря им. Весь этот мировой спектакль неоправдан и не нужен. Я говорю, что моё тело – это союз пяти элементов. Это касается всех форм, включая вашу. Вы знаете это. Ваше тело занимает место в пространстве, которое является его частью. В нём присутствует воздух. Температура тела указывает на присутствие тепла. Большая часть тела состоит из воды, а оставшаяся – из элемента земли. Всё тело – это пища сознания, которое в свою очередь представляет собой качество эссенции пищи.
Во всём существовании сознание – единственная причина страдания.
П: Говорят, что рождение – это божий дар.
М: Таков ваш личный опыт?
(Нет ответа.)
М: Это чей-то краткий миг удовольствия, а я должен сто лет за это страдать. Разве не так? Почему я должен страдать за чьи-то действия? Почему наказывают меня?
Из пяти элементов течёт поток сознания, представленный различными формами. Пять элементов не страдают. Только формы страдают из-за сознания. В человеческой форме страдание чаще возникает из надежды на светлое будущее, ради которого я должен жить. Всё это – игра первичной иллюзии. Когда вы больны, вы принимаете лекарство. Ваша болезнь тогда умирает?
П: Я выжил, когда болезнь исчезла.
М: Болезнь не умерла, но ваше страдание прекратилось. Давайте обобщим это: с какого момента мы становимся несчастны?
П: С момента появления нашего знания.
М: Совершенно верно. А это знание – несчастье или океан блаженства?
(Молчание.)
Надежды на будущее есть только у человека. Но есть ли в человеческой форме хоть какое-то осязаемое нечто, которое может процветать в будущем?
Рождается не человеческая форма, а несчастье в человеческой форме. Разве нет?
(Нет ответа)». [27, с. 73—75]
Потрясающе!
И всё-таки, в истории философии не так много можно вспомнить авторов, которые столь пронзительно говорили бы о страданиях человеческих и делали бы столь радикальные выводы («мир – это нечто такое, чему лучше было бы не существовать»), как Шопенгауэр, с его знаменитой системой, основанной на воле.
Почему именно воля? Мы стремимся понять, отчего именно такой мир произошел (проявился) из небытия. А не может ли в основании мира лежать нечто промежуточное между небытием и бытием? Тогда происхождение страждущего мира будет если не более объяснимо, то, по крайней мере, более удовлетворительно для ума. Пусть это промежуточное звено между небытием и проявленным бытием будет называться волей – какая разница? Но… воля ничего не разрешает в этом плане. Ведь если мы в качестве промежуточного звена или моста будем рассматривать волю (или еще какое-либо метафизическое начало), то наша задача усложнится: раньше нам нужно было как-то объяснить возникновение мира из пустоты, а теперь надо еще объяснить волю, о которой мы ничего толком сказать не можем. Мы не можем даже утверждать, что эта воля, как вещь в себе, существует. У Шопенгауэра она является пределом – дальше воли он в своих рассуждениях не идет. Но сколь могущественной бы она ни была, – если даже допустить, что именно воля становится миром, то всё равно пред Ничто она – ничто. И, как бы увидев это, в самом конце своего фундаментального труда Шопенгауэр посвящает вышесказанной мысли несколько строк: «Мы открыто исповедуем: то, что остается после окончательного упразднения воли для всех тех, кто ещё исполнен воли, есть, конечно, ничто. Но и наоборот: для того, чья воля обратилась назад и отринула себя, этот наш столь реальный мир со всеми его солнцами и млечными путями – ничто». [64, 1, с. 349]
Наверно, та картина мира, которую предложил Шопенгауэр, имеет право на существование. Однако, думается, что его воля требует такой же веры, как и любое другое метафизическое начало. Можно верить в волю, можно верить в Бога или Абсолютный Разум. Видимо, более правильным было бы остаться со своим принципиальным непониманием того, каким образом из ничего произошел этот мир, так же как и с непониманием того, почему возник именно такой мир. Все предлагаемые метафизические начала только запутывают разум. Просто нужно поставить интеллектуальную преграду в этом вопросе, сказав себе, что он для нашего ограниченного разума совершенно недоступен. В противном случае, мы обречены на бесконечное блуждание по метафизическим лабиринтам. Скажем, мысль о том, что мир является искажением, болезнью пустоты (эту мысль тоже следует воспринимать как условный образ: понятно, что пустота болеть не может) вполне подходит в качестве такой преграды. Итак, если разум остаётся с идеей пустоты и миром, который проявляется как искажение пустоты, то на этом и следует строить дальнейшие умозаключения. И здесь нет каких-то спекуляций, как нам кажется. Мы не можем отрицать небытие, которое опытно воспринимается нами как отсутствие. Более того, мы несомненно знаем, что всё, имевшее когда-либо начало, обязательно будет иметь и конец. Мы также знаем, что всё возникает на время, а погибает навечно. И, самое главное, мы знаем, что сами мы тоже исчезнем, а вместе с нами – и весь, выступающий как наше представление, мир. Это самое несомненное знание. Конечно, этому знанию можно противопоставить веру в загробную жизнь, но у нас нет никаких оснований для утверждения, что загробная жизнь существует. Нельзя доказать, что её не существует, из чего, однако, вовсе не следует, что мы должны её признавать. Ради интеллектуальной честности скажем так: наиболее вероятным представляется, что загробной жизни нет. Для такого утверждения имеются весомые основания, в отличие от обратного утверждения, которое базируется на вере и желании, чтобы «там что-то было». Но это отдельная тема. Далее. Мы приходим к выводу, что небытие, которое поглощает любое бытие, неизмеримо мощнее любого бытия. И еще: кратковременное бытие всего живого проникнуто болью и страданием, вот почему можно высказаться о бытии как нарушении гармонии пустоты или как «болезни пустоты». Вот почему небытие видится как избавление от бремени бытия, как желанное пристанище, как исправление возникшего по непостижимым для нас причинам сбоя в пустоте. Мы иногда боимся себе признаться в зависти к умершим, потому что с точки зрения практического мировоззрения, целиком и полностью подчиненного инстинкту самосохранения, это чувство можно рассматривать как кощунственное… Тем не менее, когда мы слышим о чьей-либо смерти, в нас, наряду с человеческой жалостью, происходит какое-то странное завистливое шевеление.
Одновременно мы пребываем в стойкой убежденности, что мы, индивидуумы, не имеем никакого влияния на разыгрываемый абсурдный спектакль. Роли распределены случаем, а актёры – всего лишь марионетки, которые не имеют ни малейшей власти ни над своими мыслями и эмоциями, ни над поступками. Этим для нас объясняется непоследовательность философов, которые провозглашают одно (и, возможно, сами верят в это!), но думают совсем другое, а делают третье. Подобная непоследовательность имеет место среди всех людей, не только среди философов. Непоследовательность заключается не только в рассогласованности между тем, что мы думаем и что делаем, но и в самом движении наших мыслей. Сегодня нам думается так, а завтра, ни с того ни с сего, может подуматься совсем по-другому. Но это тоже отдельная большая тема.
И всё-таки, зачем Шопенгауэру понадобилось основывать свою систему на воле? Не лучше ли было остановиться на пустоте – ведь за ней, а не за волей последнее слово, хотя философ и утверждает, что воля неразрушима? И в то же время говорит так: «Умирать охотно, умирать радостно – это преимущество человека, достигшего резиньяции, преимущество того, кто отверг и отринул волю к жизни. Ибо лишь такой человек действительно, а не притворно хочет умереть, – оттого ему не нужно, он не требует бесконечного посмертного существования своей личности. Он охотно поступается своей жизнью, которую мы знаем; то, что он получает взамен неё, в наших глазах – ничто, ибо наше существование, сравнительно с тем, что ждет его, – ничто. Буддизм называет это жаждущееся нами ничто нирваной, то есть «угасшим». [64, 5, с. 207—219]
Возможно, Шопенгауэр ввёл понятие воли для того, чтобы как-то объяснить несуразность, абсурдность, жестокость и несправедливость жизни. Ведь любой оптимизм, в какие бы одежды он ни рядился – неубедителен. Любая попытка хоть как-то оправдать существование – хотя бы и с помощью философии небытия – жалка.
С позиций последней, шопенгауэровская воля это идея относительно удачная, если рассматривать её как злокачественное искажение ничто. Любое изменение предполагает некий источник, почему бы не назвать его волей? Симптомами разворачивания воли являются страдания, несправедливость и смерть. Это три основания мира как воли и представления. Исходя из этого, очевидно, что ни одно ничтожное частное явление (человек) не способно нарушить ход текущих процессов. Однако столь же очевидно, что Майя будет когда-нибудь поглощена небытием, ибо любое движение непременно заканчивается возвращением к покою. «На свете счастья нет, но есть покой и воля». [29]
Воля, как вещь в себе, скрыта от нашего постижения в отличие от мира как представления. Мир – это проявление воли. Такие понятия как время, пространство, причинность, множественность относятся к миру явлений, но не к воле. В каждом индивидууме воля действует сполна, целиком. Воля имеет разные ступени объективации, но на высшей ступени она обретает в лице человека самосознание и познание, воля как бы познает себя через человека. Познание изначально не присуще воле, но её, слепую, неразумную и крайне беспокойную, судя по всему, что-то взрывает изнутри так, что она, объективируясь от неорганического до органического, и, доходя в своих пределах до человека, способна себя в человеке познавать. В процессе саморазвёртывания и самосознания воля творит страждущий и несправедливый мир индивидуумов, которые блуждают, к чему-то стремятся, борются друг с другом. И, как бы напуганная тяжелым сновидением, стремится к прежней бессознательности. Человек мудрый, разумный, честный пред собой, понимает, что жизнь и мир – это нечто такое, чему изначально лучше было бы не существовать. Получается, что на этом всплеске сознания, который проявился в конкретном индивидууме, слепая воля на мгновение прозрела, увидела глазами человека ужас бытия, осознала кошмар положения. И вот, путем этой объективации в человека, воля сама себя пытается уничтожить. Пока она слепа, у нее ни за что не получится это сделать, но, проявившись человеком разумным, воля может это совершить. С точки зрения индивидуума это будет сознательный отказ от воли к жизни, отвращение от этой воли. Любопытно вот что: убив себя, индивидуум уничтожится как явление воли, но не как сама воля. Но, чтобы полностью прекратить страдания, необходимо уничтожить саму волю, что достижимо только прижизненной резиньяцией, но никак не насильственным прерыванием биологических функций организма.
Теперь неизбежно возникающие вопросы. Если какой-то индивидуум сумеет отвратить волю от жизни, то, по идее, с его смертью должен исчезнуть и весь мир, верно? Ведь воля сполна пребывает в каждом индивидууме. Получается, что для уничтожения воли не требуется общечеловеческих усилий – достаточно одного человека. Но мы видим, что люди умирают непрерывно, однако мир продолжает существовать. Для умершего индивидуума мир исчезает, но для других индивидуумов он есть. Тогда спрашивается, чего добился в процессе резиньяции индивидуум? Он ушел в небытие, но разве те, кто жил, ничего не зная о воле, и не пытаясь отвратиться от жизни, после смерти получат что-то другое? Или же выходит такая картина: не один индивидуум не смог по-настоящему отвратить волю от жизни (можно сказать иначе: воля не сумела ни через одного индивидуума разрушить сама себя, поэтому она продолжает предпринимать новые попытки), иначе весь мир исчез бы в одно мгновение. Звучит не очень убедительно. С другой стороны, индивидуум как явление уничтожается вместе с сознанием и чувствами – так какая ему разница, что происходит с остальным миром, если для него мир перестал существовать? В его лице мир уничтожился! Но зачем нужен аскетизм и отказ от воли при жизни, если после индивидуальной смерти для субъекта всё заканчивается? И почему бы не убить себя? «Воля возродится в новом индивидууме», – ответил бы Шопенгауэр. Но она и так это делает ежеминутно! И потом: даже если аккуратно допустить близость шопенгауэровской мысли к идее реинкарнации, то будущее перерождение для меня, сегодняшнего, имело бы смысл и значение только в том случае, если бы будущая личность была хоть как-то была связана со мной нынешним. Если этой связи нет, то это будет совсем другой человек, никак ко мне не относящийся. Однако Шопенгауэр нигде прямо не говорит о карме и связи между прошлой жизнью индивидуума и жизнью после «перерождения». В его работе «Смерть и её отношение к неразрушимости нашего существа» об этом не сказано ни слова. Неразрушима воля, которая объективируется в мыслящих существах. Шопенгауэр пишет: «Чем же был я до того, как родился? Я всегда был я. Все те, кто называли себя когда-либо я – это были я». Понятно, что множественность «я» относится к миру как представлению, но не к воле. Тогда поставленные выше вопросы пока остаются неразрешёнными.
Конец личности так же реален, как реально было ее начало, и в том самом смысле, в каком нас не было до рождения, нас не будет и после смерти, – поясняет далее Шопенгауэр. – Но при этом смерть не может уничтожить большего, чем дано было рождением, – следовательно, не может она уничтожить того, благодаря чему только и стало возможным самое рождение.
Внутренняя сущность, таким образом, остается недоступной для временного конца какого бы то ни было временного явления и постоянно удерживает за собою такое бытие, к которому неприменимы понятия начала, конца и продолжения. А подобное бытие, насколько мы можем его проследить, это, в каждом являющемся существе, – его воля.
Ошибка всех философов заключалась в том, что метафизическое, неразрушимое, вечное в человеке они полагали в интеллекте, между тем как на самом деле оно лежит исключительно в воле, которая от интеллекта совершенно отлична и только одна первоначальна.
Со смертью, таким образом, погибнет сознание, но не то, что породило и поддерживало это сознание: гаснет жизнь, но остается принцип жизни, который в ней проявлялся.
Это не сознание, как и не тело, на котором, очевидно, зиждется сознание. Это скорее то, на чем зиждется самое тело вместе с сознанием, т.е. именно то, что, попадая в поле сознания, оказывается волей. Выйти за пределы этого непосредственного проявления воли мы, разумеется, не можем, потому что нам не дано перешагнуть за предел сознания; и поэтому вопрос о том, что такое это неразрушимое в нас начало, поскольку оно не попадает в сознание, т.е. что оно такое само по себе и безусловно, – этот вопрос должен остаться без ответа.
Ужасы смерти главным образом зиждутся на той иллюзии, что с нею «я» исчезает, а мир остаётся. На самом же деле верно скорее противоположное: исчезает мир, а сокровенное ядро, я, носитель и создатель того субъекта, в чьем представлении мир только и имеет свое существование, остаётся. Вместе с мозгом погибает интеллект, а с ним и объективный мир, его простое представление.
А вот дальше идет интересное: «Если в человеке не наступило отрицание воли к жизни, то смерть оставляет после него зародыш и зерно совершенно иного бытия, в котором возрождается новый индивидуум, – таким свежим и первозданным, что он сам предается о себе удивлённому размышлению. Воля человека, сама по себе индивидуальная, в смерти разлучается с интеллектом и затем, согласно своим вновь модифицированным свойствам, получает в новом рождении новый интеллект, благодаря которому она становится новым существом, не сохраняющим никакого воспоминания о своем прежнем бытии, ибо интеллект, который один только и обладает способностью воспоминаний, представляет собою смертную часть, или форму, между тем как воля – вечная субстанция; вот почему для характеристики этого учения более подходит слово „палингенезия“, чем „метемпсихоз“. Эти постоянные возрождения образуют собою череду жизненных снов, которые грезятся воле, в себе неразрушимой, пока она, умудренная и исправленная такой обильной сменой разнородного познания в постоянно новых и новых формах, не уничтожит сама себя». [64, 5, с. 207—219].
Итак, воля в конце концов должна набраться мудрости и уничтожить сама себя. Получается, что от индивидуума здесь опять-таки ничего не зависит. Но почему Шопенгауэр был противником самоубийства? И зачем призывал к аскетизму и отрицанию воли ещё при жизни, если воля сама превосходно справится с самоуничтожением в надлежащее время? Вновь обратимся к первоисточнику: «Познание, как разумное, так и созерцательное, исходит первоначально из самой воли, принадлежит к существу высших ступеней её объективации, в качестве простого „приспособления“ средства к сохранению индивидуума и рода, подобно всякому органу тела. Предназначенное к служению воле, оно почти неизменно вполне к ее услугам: по крайней мере у всех животных и почти у всех людей». Однако: «В отдельных людях познание может освобождаться от этой служебности, свергать свое ярмо и свободное от всех целей хотения существовать чисто само по себе, в качестве ясного зеркала мира, откуда возникает искусство. Когда такое познание воздействует на Волю, может возникнуть самоуничтожение последней, т.е. смирение (резиньяция), которая есть конечная цель, даже глубочайшая сущность святости и избавления от мира… Самоубийство, добровольное разрушение одного частного явления, не затрагивающее вещи в себе, представляет собою совершенно бесплодный и безумный поступок. Именно потому, что самоубийца не может перестать хотеть, он перестает жить, и Воля утверждает себя здесь именно путем разрушения своего проявления, ибо она уже не в силах себя утвердить. Самоубийца, уклоняющийся своим поступком от страдания, похож на больного, не позволяющего довершить начатой уже болезненной операции, которая окончательно бы исцелила его, и предпочитает сохранить болезнь». [64, 1, с. 338—339] Вот здесь не совсем понятно. Чем рискует индивидуум, убивающий себя? Пусть как явление, но он ведь исчезнет вместе с сознанием? И что приобретает тот, кто решил терпеть до конца «болезненную операцию»? Поставим вопрос иначе: как тот и другой почувствуют на себе последствия своего решения самоустраниться или продолжать оттягивать свой конец? Цитируем дальше, и, кажется, подходим к самому главному: «Коль скоро воля к жизни существует, то её, как вещь в себе, не может сломить никакая сила… Самая воля ничем, кроме познания, не может быть упразднена… Вместе со свободным отрицанием, отменой воли, упраздняются и все те явления, то беспрестанное стремление и искание без цели и без отдыха, на всех ступенях объектности, в которых и через которые существует мир, упраздняется разнообразие преемственных форм, упраздняются все ее проявления и, наконец, пространство и время, как и последняя форма проявления – субъект и объект. Нет воли – нет представления, нет мира». [64, 1, с. 347—349] Всё вышесказанное определенно наводит на мысль, что, как ни абсурдно это звучит, Шопенгауэр верил в возможность уничтожения мира одним индивидуумом. Разве не достигается это простой смертью индивидуума? Нет, говорит Шопенгауэр. Иначе суицид был бы выходом. Но сознание-то все равно умирает. Да, но возрождаются новые индивидуумы, потому что воля продолжает существовать. Как её уничтожить? Посредством смерти индивидуума. Получаем замкнутый круг.
Говоря о суициде, уместно вспомнить о понятии свободы. Свобода от воли заключается, по Шопенгауэру, в аскетизме. Но это на самом деле никакая не свобода, а бесконечная борьба воли с самой собой, которая заканчивается только со смертью. И нет никакого критерия, позволяющего утверждать, что к моменту наступления смерти тела субъект уже полностью уничтожил в себе волю и умер осмысленно. Единственный случай, когда свобода может обнаружиться в явлении – это когда воля-сущность вступает в противоречие с волей-явлением (телом) и, отрицая последнее, уничтожает его. Однако самоубийство, или добровольная смерть, вызванная крайним пределом аскетизма, парадоксально представляет собой у Шопенгауэра феномен мощного утверждения воли.
В предисловии к собранию сочинений Шопенгауэра говорится, что философу был предложен двумя кадетами военной школы в Вейскирхене вопрос: как возможно продолжение существование мира после уничтожения какой-нибудь единичной воли; ведь воля едина и неделима, как же возможно, чтобы с прекращением моего единого сознания (оно субъект всего мира – представления) не прекратился тотчас же и мир? Шопенгауэр уклонился от ответа на этот вопрос, ссылаясь на его трансцендентность.
Мы подходим к мысли о том, что в рассуждениях Шопенгауэра отчетливо выделяются два уровня. Отсюда мотивация его философствования и вся специфика высказываемых им идей.
Основной уровень собственно философский. Шопенгауэр стремится взглянуть на мир отстранённо и, по возможности, объективно. Для философа важнее всего «вопрос разрешить». Важнее любого опыта собственной жизни, сколько бы этот проклятый опыт ни довлел над нами в каждый отдельно взятый момент нашей жизни. Исходя из такого понимания, Шопенгауэр не удовлетворяется решением проблемы для одного себя. Или применительно к любому абстрактному человеку. Нет, что ни говорите, а в суициде есть этот нехороший оттенок трусливого бегства. Досмотреть спектакль абсурда до конца – ведь к этому призывает вся внутренняя сущность философа, даже если он почти полностью уверен, что всё предсказуемо и финал не сулит никаких неожиданностей. Просто досмотреть – для очистки совести, для чистоты эксперимента, так сказать.
Известно, что на письменном столе Шопенгауэра стояли фигурки Канта и Будды. Последний тоже мог спастись от страданий, просто убив лично в себе волю к жизни. Чем он успешно и занимался, пока его не спасла сельская девочка с миской риса. Однако Будду не устраивала идея исключительно собственного спасения, он пожелал не больше ни меньше как избавить от страданий весь мир. А если бы он заморил себя голодом, то и буддизма не было бы. А ведь буддизм мадхьямики ближе всех остальных философских учений подошел к пониманию пустоты.
То же самое относится и к Шопенгауэру. Для него «решить вопрос», причём не только лично для себя, но и для всего мира, было делом философской честности. Но здесь мы уже выходим на второй, «человеческий, слишком человеческий» уровень мотивации его философствования.
А причины не слишком последовательного отношения философа к проблеме самоубийства ещё более очевидны. С одной стороны Шопенгауэр был мизантропом, что, казалось бы, должно было подтолкнуть его «за роковую черту». Но, с другой стороны, согласно свидетельствам современников, он был весьма трусоват. Например, спал с пистолетом под подушкой, поскольку опасался ночных грабителей. Обратите внимание: застрелиться под горячую руку совершенно не опасался, а вот мифических грабителей – другое дело. Ещё один момент: в первой половине 19 столетия тема суицида была под запретом. Трактат Давида Юма «О самоубийстве», написанный им в 18 столетии, опубликовали только в веке двадцатом. В то время большую роль продолжали играть, в том числе, и религиозные ограничения. При этом Юм, в отличие от пессимиста Шопенгауэра, весьма логично и честно разбивает в пух и прах философские, религиозные и бытовые предрассудки относительно недопустимости суицида. Однако Шопенгауэр, помимо того, что был весьма робкого десятка, отличался преувеличенными представлениями о собственной гениальности. Достаточно вспомнить его сложные отношения с Гегелем. Впрочем, справедливости ради, следует признать, что Шопенгауэр и был гениален, но об этом никто кроме него не знал. Естественно, что мрачноватый философ в глубине души до последнего жаждал признания. Возможно, он сам себе был не готов в этом признаться, но это так. И определенное признание всё-таки в итоге пришло. А ведь если бы он совершил суицид или выступил публично с апологией суицида, то никакого признания могло и не случиться. По крайней мере, при жизни философа. Возможно, поэтому Шопенгауэр был вынужден рассуждать о самоубийстве «применительно к подлости». Да ведь, в конце концов, его частная жизнь. Большую часть которой он провёл достаточно безбедно в качестве затворника, была не так уж и плоха. Чем не жизнь, достойная философа, пусть даже и убежденного пессимиста? Это не Ницше, который был вынужден читать за весьма скудное жалование лекции по филологии в Турине. Так что у Шопенгауэра имелось достаточно причин, и человеческих и общефилософских, для того чтобы не акцентировать проблему суицида, противопоставляя последнему резиньяцию и квиетизм воли.
Есть много подтверждающей это предположение, интересной информации о жизни и личности философа. Вот что пишет, например, некий Эрнест Ватсон (не путать с коллегой Шерлока Холмса!): «Наружность Шопенгауэра биографы описывают следующим образом. Это был человек несколько ниже среднего роста, крепкого телосложения, стройный и с громадной головой; но особенно замечательны были его светлые, блестящие, голубые глаза, обращавшие на себя, во время многочисленных его странствований, внимание людей, совершенно ему незнакомых. Одни находили в нем некоторое сходство с Бетховеном, другие утверждали, что лицо его, и в особенности очертание рта, напоминало Вольтера. Одевался он всегда чрезвычайно изящно, сохранив, впрочем, вопреки современным модам, покрой платья начала девятнадцатого столетия. Малообщительный и в молодости, он, после своих университетских неудач, стал еще больше чуждаться общества. Поселившись окончательно во Франкфурте-на-Майне, он старался держаться как можно дальше от местных интересов, мало сходясь с окружавшими его людьми. Он терпеть не мог не только светских, но и обыденных разговоров; но когда ему приходилось говорить в обществе, он никогда не говорил отвлеченными фразами: его разговорная речь была так же проста, наглядна, ясна, точна и жива, как и его слог. Сумев избежать мелочных интересов, забот, радостей и огорчений семейной жизни, относясь довольно безучастно к явлениям жизни общественной, он сосредоточивал все силы своего ума на том, что в древности называлось диалектикой, то есть на искусстве вести разговор исключительно в области чистого мышления. Образ жизни Шопенгауэр вёл необыкновенно правильный. Если он признал что-нибудь разумным и ввёл в свой домашний обиход, он уже не переставал придерживаться того с педантической строгостью. Бывают такие люди, которые не умеют извлекать пользы из своего опыта; но для Шопенгауэра всякий новый опыт, сделанный в каком бы то ни было направлении, становился руководящим началом в дальнейших его действиях, и он продолжал идти в данном направлении с железной последовательностью. Шопенгауэр вставал летом и зимою между 7 и 8 часами утра, причем пил кофе, который сам себе готовил; его экономке было строго-настрого приказано даже не показываться по утрам в его рабочем кабинете, так как он считал утренние часы, когда мозг достаточно отдохнул, самым лучшим рабочим временем, и не терпел в этом отношении ни малейшей помехи. Он усидчиво работал до половины первого, затем около получаса играл на флейте, и ровно в час отправлялся в ресторан обедать: во всю свою жизнь он не заводил у себя домашнего хозяйства и оставался верен своим ресторанным обедам. Но в общих застольных разговорах он почти никогда не принимал участия. После обеда он возвращался домой, пил кофе, отдыхал с часок, и затем занимался сравнительно более легким чтением. К вечеру он отправлялся гулять за город, выбирая преимущественно самые уединенные дорожки; только в дурную погоду он гулял по городским бульварам. Походка его до самой старости оставалась легкой и эластичной. Он любил гулять один, чтобы быть возможно ближе к природе и возможно дальше от человеческого общества». [10, с.32]
Думаем, здесь уместно привести и надгробную речь, сказанную ближайшим учеником философа:
«Гроб этого замечательного человека, прожившего около тридцати лет среди нас, но все же остававшегося для нас как бы чужеземцем, вызывает особые размышления. Никто из здесь стоящих не связан с ним узами крови: он жил одиноким и умер одиноким. Но я позволю себе сказать, что усопший нашел некоторую компенсацию за свое одиночество. Это страстное желание познания вечного, которое является у большинства лишь ввиду близкой смерти, было неизменным спутником всей его жизни. Будучи пламенным поклонником правды, в высшей степени серьезно относясь к жизни, он с юных лет привык бесцеремонно отворачиваться ото всякой лжи и притворства, не страшась риска оттолкнуть от себя людей и испортить свои к ним отношения. Этот мыслящий и глубоко чувствующий человек провел всю свою жизнь одиноким, непонятым, оставаясь верным самому себе. Его свободный ум не преклонился под тяготами жизни. Богато одаренный судьбой, он всю свою жизнь стремился к тому, чтоб быть достойным этих даров, и, имея в виду свое высокое призвание, всегда готов был отказаться от всего того, что радует сердца других людей. Много, много лет современники его отказывались отдать ему должную справедливость; лавры, украшающие в настоящее время его чело, достались ему лишь в последний час; но тем не менее вера в свое призвание не переставала корениться в его душе! В течение долгих годов незаслуженного одиночества он не отступил ни на единую пядь от предначертанной им себе дороги и поседел в неукоснительном служении своей возлюбленной – истине, постоянно памятуя слова Ветхого Завета: „Велико могущество истины, и она, в конце концов, победит“. Те из нас, которые имели счастие стоять ближе к „франкфуртскому мудрецу“, никогда не забудут его ясного, светлого взгляда, его живой, убежденной речи. Ручательством тому, что этого человека не забудут, служит нам то, что он в течение всей своей жизни упорно отказывался идти по пути обыденного. Учение его будет стоять незыблемо даже и тогда, когда давным-давно исчезнут всякие следы этой, только что вырытой нами могилы. Многие видели в нем только мизантропа; но какого бы низкого мнения он ни был о человеке, он сочувствовал людям, сострадал им. Ему не суждено было судьбой основать свой дом, обзавестись семьей; но все же им построено здание, двери которого он широко раскрыл перед всем мыслящим человечеством». [10, с.49]
Что же, теперь у нас складывается достаточно полное впечатление о Шопенгауэре – человеке и мыслителе. Похоже, что претензии критиков по поводу несоответствия его образа жизни и его философии были, в значительной степени, безосновательными.
Справедливости ради следует сказать, что Шопенгауэр, отрицая самоубийство в принципе, тем не менее, рассматривает единственный способ добровольного ухода из жизни как вполне возможный и не входящий в противоречие с его концепцией воли. Речь идет об умерщвлении себя путем отказа от приема пищи. «От обыкновенного самоубийства совершенно отличается особый род его… Это – добровольно избираемая на высшей ступени аскетизма голодная смерть… Все-таки полное отрицание воли может, по-видимому, достигнуть такой силы, что отпадает даже та воля, которая необходима для поддержания телесной силы принятием пищи. Этот род самоубийства вовсе не вытекает из воли к жизни: аскет, достигший такой абсолютной резиньяции, перестает жить только потому, что он совершенно перестал хотеть. Другой род смерти, помимо голодной, здесь даже и не мыслим (разве придуманный каким-нибудь особым изуверством), ибо желание сократить муки было бы уже в сущности некоторой степенью утверждения воли». [64, 1, с. 338—341]
Ещё один момент: индивидуумов ведь очень много, правда? Но это не значит, что существует громадное множество воль. Воля одна-единственная и понятие множества к ней не применимо. Множество есть в этом мире как представлении, но не в воле как вещи в себе. Здесь лучше процитировать самого Шопенгауэра:
«Эгоизм заключается, собственно, в том, что человек ограничивает всю реальность своей собственной личностью, полагая, что он существует только в ней, а не в других личностях. Смерть открывает ему глаза, уничтожая его личность: впредь сущность человека, которую представляет собою его воля, будет пребывать только в других индивидуумах; интеллект же его, который относился лишь к явлению, т.е. к миру как представлению, и был не более, как формой внешнего мира, будет и продолжать свое существование тоже в представлении, т.е. в объективном бытии вещей, как таковом, – следовательно, только в бытии внешнего мира, который существовал и до сих пор. Таким образом, с момента смерти все человеческое я живет лишь в том, что оно до сих пор считало не-я, ибо различие между внешним и внутренним отныне исчезает.
Мы припоминаем здесь, что лучший человек – тот, кто делает наименьшую разницу между собою и другими, не видит в них абсолютного не-я, – между тем как для дурного человека эта разница велика, даже огромна (я выяснил это в своем конкурсном сочинении об основах морали). И вот, согласно сказанному выше, именно эта разница и определяет ту степень, в которой смерть может быть рассматриваема как уничтожение человека. Если же исходить из того, что разница между «вне меня» и «во мне» как пространственная, коренится только в явлении, а не в вещи в себе, и значит не абсолютно реальна, то в лагере собственной индивидуальности мы будем видеть лишь утрату явления, т.е. утрату только мнимую. Как ни реальна в эмпирическом сознании указанная разница, все-таки, с точки зрения метафизической, выражения «я погибаю, но мир остается» и «мир погибает, но я остаюсь» в основе своей, собственно говоря, не различны». [64, 5, с. 207—219]
Здесь нам пока непонятно, кто и зачем должен посвятить свою жизнь добровольным лишениям и аскетическому самоистязанию? И главный вопрос: зачем? Кроме того, наш внутренний опыт и элементарное наблюдение жизни открывают истину, прямо противоположную той, которую утверждает Шопенгауэр: для каждого человека имеет значение в первую очередь он сам! Именно на разнице между «мной» и «не мной» всё стоит! Мы можем сказать кому-то: «Мы с тобой одной крови – ты и я. Я сочувствую тебе, я хотел бы помочь тебе». Но тот, кому мы это скажем – всё равно иной и никогда не станет для нас равноценным нам. Наши проблемы, наша скорбь, наша боль никогда не станут для других тем же, чем они являются для нас. Так же как их боль или радость не станут в полной мере нашими, даже если мы очень этого захотим. Каждый из нас заключен в свою оболочку. Отсюда и неистребимое в каждом из нас чувство одиночества.
Итак, Шопенгауэр допускает наличие множества потенций, идей в единой воле. На этот факт можно указать, как на одно из противоречий в его системе, ведь воля едина, а множественность относится к миру —представлению; однако здесь, судя по всему, вновь можно перекинуть мостик к концепции перевоплощения. Если допустить множественность идей в единой воле, тогда всё более-менее встает на свои места: допустим, некий индивидуум является отражением одной из мириад идей воли – это значит, данная идея может воспроизводиться великое множество раз и индивидуум будет проживать великое множество жизней, пока воля в нем не угаснет. Если такое угасание произойдет, то в единой воле исчезнет идея конкретно этой индивидуальности (а не всего мира). Чем не буддийская концепция реинкарнации и ухода в нирвану? Тогда возникает вопрос: если «я», как явление, в момент смерти исчезает, то что, по Шопенгауэру, должно возродиться из воли, которая и так неустанно занята все новыми и новыми индивидуумами? При чтении Шопенгауэра складывается устойчивое представление, что индивидуальность (конкретное явление) не играет, в общем-то, никакой роли: философ ведь призывает к пониманию того, что разницы между «я» и «не я» в глубинной основе нет. Тогда чего бояться? «Я» в любом случае перестанет существовать и, вместе со «своими» чувствами, мыслями, со своей личной историей жизни, исчезнет без следа. А уж что там сотворит воля в лице других народившихся индивидуумов нас совершенно не должно беспокоить. Поэтому концепция реинкарнации также представляется нам неубедительной. На наш взгляд, эта идея ничем не выигрышнее идеи о посмертном бытии души, ради которого нам следует хорошенько уже сейчас потрудиться. Но Шопенгауэра это, кажется, не смущает: да, это будешь не ты! Но какая разница между тобой и не тобой, если и ты, и он, и она, и все вокруг – это лишь явления воли?
Мы говорим, что вселенная плоха. Но это мы так говорим. Видимо, лучше исходить из того, что вселенная никак не предназначена для нас. Мы представляем собой нелепую случайность. Или, если угодно, необходимость, смысл которой всегда останется для нас непостижим. Иначе и (не) быть не может.
Мы не знаем никакого другого мира, кроме того, который заключен в нас, как субъектах познания. Все, что мы видим, слышим, обоняем, осязаем – воспринимаем – это наш мир. У этого мира нет другого существования, кроме как в форме представления или восприятия. Его цвета, звуки, запахи, контуры, размеры – это то, каким он предстает перед нами (представляется нам). Мы не знаем, каков мир за пределами нашего субъективного восприятия – у нас нет ни малейшей возможности выйти за пределы этой субъективности. Получается, что песчинка заключает в себе целый мир! Если эта песчинка исчезнет (смерть), то исчезнет и мир как её объект, как представление. В свете этого можно сказать, что заключения песчинки о злокачественности этого мира вполне законны – ведь это её мир. Никакого другого для нее не существует. Далее. Мир, который мы воспринимаем, известен нам как мир явлений или представлений. Но то, каков (вернее, не каков, а что) этот мир есть на самом деле, не как представление, обусловленное нашим аппаратом восприятия, а в своем подлинном существе – это, по Шопенгауэру, есть воля.
Вот что говорит Шопенгауэр о «песчинке»: «Было сделано много попыток приблизить к способности понимания каждого неизмеримую величину мироздания, и в этом видели повод для назидательных размышлений, – например, об относительной малости земли и тем более человека, затем в виде контраста указывали на величие духа в этом столь малом человеке, который в состоянии обнаружить, постигнуть и даже измерить эту мировую громаду, и т. д. Все это прекрасно! Но когда я размышляю о неизмеримости мира, самым важным кажется мне то, что внутренняя сущность, проявлением которой выступает мир, – чем бы она ни была, – не может, однако, распространить и разделить свое истинное ядро в безграничном пространстве и что эта бесконечная протяженность принадлежит единственно ее явлению, сама же она всецело и нераздельно присутствует в каждой вещи природы, в каждом живом существе. Поэтому мы ничего не теряем, если останавливаем свое внимание на чем-нибудь отдельном, и истинная мудрость достигается не тем, чтобы измерить безграничный мир, что было бы еще целесообразнее, лично облететь бесконечное пространство, а тем, чтобы полностью исследовать что-нибудь отдельное, стараясь совершенно познать и понять его истинное и подлинное существо». [64, 1, с. 122]
Здесь можно усомниться, а не является ли приведенное рассуждение Шопенгауэра «о песчинке» всего лишь лингвистическим конструктом? Нам представляется, что это рассуждение вполне конкретно: у нас нет возможности исследовать всё мироздание, но мы можем обратить свой взор даже на малые его части, доступные нашему наблюдению, и «обнаружить» в них волю. Ту самую волю, которая проявляет себя в мельчайшем микробе и в движении планет. Думаю, что мы не ошибёмся, если повторим, что пресловутая шопенгауэрианская воля требует веры: совершенно невозможно доказать её существование, как, впрочем, и опровергнуть его. Вот так мы себе это представляем: берет некто в руки основной труд философа и начинает его изучать. В процессе чтения ему начинает казаться, что написанное Шопенгауэром очень похоже на правду. Вот человек и поверил. Поди, проверь, есть эта воля в самом деле или нет? А другой скажет: чепуха, фантазия, измышление Шопенгауэра, не думаю я, что за всем этим стоит какая-то воля. Здесь ведь основная проблема заключается вот в чём: индивидуум рано или поздно должен умереть – как явление он, безусловно, прекратит свое существование (Шопенгауэр с этим абсолютно согласен). Тогда вся информация о том, что он (индивидуум) и весь окружающий мир есть объективация единой воли, представляет очень малую ценность. Здесь вполне уместен вопрос: ну, а дальше что? Предложенная информация в таком случае носит чисто познавательный характер: Шопенгауэр как бы раскрывает нам карты – смотрите, как оно всё обстоит на самом деле. Да, вот такой он, этот мир. Не удивляйтесь, что в нем господствуют зло, страдания, боль, несчастья, несправедливость, борьба всех против всех, взаимное пожирание в прямом и переносном смысле! В этом отношении философия Шопенгауэра представляет ценность для пессимиста. Потому что, как мы уже писали, произвести скачок от небытия к такому бытию (к нашему миру – представлению) в интеллектуальном плане довольно сложно – приходится на многое закрывать глаза, не замечать пустот и разрывов. Разум всё равно стремится понять: ну хорошо, небытие непосредственно породило мир, в котором возникла жизнь, до предела наполненная страданиями. Пускай это произошло случайно. Хотя непонятно, почему не мог случайно образоваться живой мир без страданий… Значит, что-то не так с самим большим миром, в котором возникло такое многопечальное представление с участием животных и человека. Шопенгауэр заявляет: по-другому и быть не могло! Посмотрите на этот живой мир. Разве вы не видите, что он движим желанием? Каким желанием? Да просто желанием. Оно направлено может быть на что угодно, важно то, что это – желание, которое именуется волей. И приводит множество примеров, подтверждающих его точку зрения. Казалось бы, убедительно. А вдруг это не так?
Но давайте снова дадим слово самому Шопенгауэру. В приведенных ниже отрывках он опять обращается к теме безмерной малости человека:
«Когда мы видим пред собою масштабную борьбу возмущенных сил природы, когда, при описанной обстановке, низвергающийся поток своим грохотом лишает нас возможности слышать собственный голос; или когда мы стоим у беспредельного моря, потрясаемого бурей: волны, огромные как дома, подымаются и опускаются, всей своей силой разбиваясь о крутые скалы и высоко вздымая пену; воет буря, ревет море, молнии сверкают из черных туч, и раскаты грома заглушают бурю и море. Тогда в невозмутимом зрителе этой картины двойственность его сознания достигает предельной отчетливости: он чувствует себя индивидом, бренным явлением воли, которое может быть раздавлено малейшим ударом этих сил; он видит себя беспомощным перед этой могучей природой, подвластным ей, отданным на произвол случайности, исчезающим ничто перед исполинскими силами; и вместе с тем он чувствует себя вечным спокойным субъектом познания, который в качестве условия объекта является носителем всего этого мира, и страшная борьба природы есть лишь его представление, сам же он в спокойном восприятии идей свободен, чужд всякого желания и всякой нужды». [64, 1, с.1 80—181]
«Когда мы теряемся в размышлении о бесконечной огромности мира в пространстве и времени, когда мы думаем о прошедших и грядущих тысячелетиях, или когда ночное небо действительно являет нашему взору бесчисленные миры и таким образом неизмеримость вселенной невольно проникает в наше сознание, – тогда мы чувствуем себя ничтожно малыми, чувствуем, что как индивид, как одушевленное тело, как преходящее явление воли мы исчезаем, словно капля в океане, растворяемся в ничто. Но в то же время против такого призрака нашего собственного ничтожества, против этой неправды и невозможности подымается непосредственное сознание того, что все эти миры существуют только в нашем представлении, что они – модификации вечного субъекта чистого познания, того субъекта, которым мы осознаем себя, как только забываем о своей индивидуальности, и который есть необходимый, обусловливающий носитель всех миров и всех времен. Огромность мира, тревожившая нас раньше, теперь покоится в нас: наша зависимость от него уничтожается его зависимостью от нас. Все это, однако, не сразу становится предметом нашей рефлексии, а проявляется лишь как предчувствие того, что в известном смысле (разъясняемом только философией) мы едины с миром, и потому его неизмеримость не подавляет нас, а возвышает. Это – предчувствие того, что Упанишады Вед многократно выражают в столь различных формах, особенно в уже приведенном нами изречении: „Я есть все эти творения в совокупности, и, кроме меня, нет ничего“. Это есть возвышение над собственным индивидом, чувство возвышенного». [64, 1, с. 181]
Обратите внимание, как художественно красиво оформил свою мысль Шопенгауэр – так и хочется ему поверить. Но не есть ли эта мысль сама по себе всего лишь непомерное раздувание песчинки до размеров вселенной? Ведь идея Шопенгауэра о самосознании воли неизбежно преувеличивает роль человека во вселенной. И в этой связи вспоминается высказывание Рассела о том, что пессимисты заблуждаются также, как и оптимисты: и те, и другие наивно полагают, что гигантской вселенной есть до нас какое-то дело. Только пессимисты думают, что вселенная настроена по отношению к нам враждебно, а оптимисты – что дружелюбно. Но Шопенгауэр, создавая свою метафизику, прекрасно понимал, что мы безмерно малы и ничтожны в океане мироздания. И он в одном месте красноречиво говорит об этом: да, мы слабы, не защищены, хрупки перед невообразимой громадой природы, перед бушующими стихиями, готовыми уничтожить нас в любой момент, но в то же время в нас присутствует смутное ощущение, что мы едины с этим миром, что он и мы в глубинной основе (которая, по Шопенгауэру, есть воля) – одно. Давайте попробуем встать на эту точку зрения, хотя бы ради умственного эксперимента: мы не прилетели в этот мир из каких-то других измерений, мы – порождение этого мира. Мы, так же как и другие живые существа, вышли из недр природы, которая, в свою очередь, развилась в недрах вселенной. Мы, человеки, обладаем сознанием и самосознанием, которые стали возможны благодаря наличию мозга, так же являющегося частью этого мира, его порождением. И здесь можно сказать, что природа видит сама себя нашими глазами, слышит нашими ушами и познает сама себя посредством такого ничтожного существа, как человек. И что интересно: наша способность познавать порождает конфликт между нами и окружающим миром. Мы чувствуем себя как бы вброшенными в этот мир, чуждыми ему, хотя мы знаем, что это не так. Однако это знание не устраняет конфликта, не дает нам облегчения и тогда возникает вопрос: что же все это значит? Что значит это осознание своей чуждости миру, осознание страдания? Почему вселенная сформировала именно такой мозг? Тут приходит Шопенгауэр и предлагает вполне стройную систему, в которую, кажется, всё более-менее укладывается. Правда, она недоказуема… Наверно, шопенгауэрова воля как вещь в себе требует такой же веры, как любое непостижимое метафизическое начало. Можно задать вопрос: «Зачем тогда зацикливаться на какой-то воле?» Попробуем объяснить, что именно лично нам не дает покоя. Как уже было сказано, Шопенгауэр близок нам своим обостренным восприятием мира как арены страданий всех живых существ. Но мы, люди, мало того, что страдаем – мы еще и знаем о своем страдании, сознаем его. И это усиливает страдание. А поскольку мы являемся порождением этого мира (как любой вирус или комар), то наш разум, неизвестно кем и зачем дарованный, подсказывает, что мы, возможно, не совсем случайные создания в том смысле (!), что и наше сознание, и наша способность страдать и осознавать свое страдание не привнесены откуда-то извне, из-за пределов вселенной, а изначально присутствовали в ней как потенция, возможность (а может быть, и как необходимый этап в её развитии!). Тогда почему бы не принять предлагаемую концепцию Шопенгауэра, которая говорит о том, что в основе этого мира лежит слепая, темная, бессознательная, могучая, безосновная воля? Эта воля проявляется во всей вселенной, она устремляет и движет весь мир без цели и без конца в бесконечном времени и пространстве, объективируясь в предметах, процессах и человеческой жизни. Тогда «каждый индивид, каждое лицо и жизненный путь человека – лишь одно короткое сновидение бесконечного духа природы, вечной воли к жизни, лишь еще один мимолетный образ, который воля, играя, рисует на своем бесконечном листе – пространстве и времени, сохраняя его нетронутым в течение ничтожного по сравнению с ними срока, а затем стирает, чтобы освободить место для других… В этом таится загадочная сторона жизни, за каждый из этих мимолетных образов, за каждую из этих пустых затей вся воля к жизни со всей ее порывистостью должна платить многими глубокими страданиями и в завершение – долго устрашавшей, наконец наступившей горькой смертью». [64, 1, с. 125] Возможно ли, что дело обстоит именно так? Не знаем, не знаем… Попробуем теперь изложить доводы – возражения против шопенгауэровского волюнтаризма. Здесь надо помыслить еще раз безмерную малость нашей планеты, окруженной пространством в миллиарды световых лет. Крошечная песчинка в безбрежном пространстве… И на этой песчинке какой-то микроб рассуждает о мировой воле. Но более того, этот микроб совсем упустил из виду один очень важный момент. А именно: Шопенгауэр говорит о воле к жизни, но ведь жизнь образовалась на планете-песчинке (похоже, не единственной во вселенной) спустя много миллиардов лет после возникновения вселенной. И прошли еще миллионы лет до возникновения человека. Жизнь на планете земля не просто смехотворно мала в сравнении со вселенной, но и смехотворно молода. Что, в общем-то, подтверждает нашу идею о случайном возникновении жизни. Иначе что же получается – воля так долго концентрировалась, чтобы на одной – единственной крошечной планете проявиться в облике человека? Маловероятно. Тем более, что ученые заявляют о неизбежном исчезновении всего живого на нашей планете, это лишь вопрос времени. И даже если это произойдет через миллион лет (скорее всего, намного раньше), то во временных масштабах вселенной история всего живого представляется каким-то кратким недоразумением. В контексте этой картины философия воли действительно выглядит мелковато…
Очевидно, что мы вовсе не находимся в центре мироздания. Очевидно, что наш жалкий самосознающий ум не играет во вселенной совершенно никакой роли. Мысль состоит в следующем: ничто не имеет ни сознания, ни воли. Вселенная представляет собой случайный сбой в абсолютности ничто. А человечество с его разумом это столь же случайная мутация, происшедшая на периферии вселенной. Понятно, что в данном контексте рассуждать о значении отдельно взятой человеческой жизни вообще не приходится.
Мы видим, что, рассматривая систему Шопенгауэра, приходится достаточно много внимания уделять явлениям, явленному миру. Наше внимание приковано к феноменальности: хоть Сартр и призывает не верить в вещь в себе, мы всё равно пытаемся отыскать эту невидимую сущностную основу. Нам сложно поверить, что этот мир возник просто из пустоты, минуя проклятое промежуточное звено, послужившее причиной его самораскрытия. Поэтому хотелось бы понять, что за вирус «заразил» пустоту, воспроизведшую «худший из возможных миров»? С другой стороны, признание промежуточного звена неизбежно приводит к вопросу: а откуда взялось это самое промежуточное звено? Кроме того, если предположить, что некая высшая инстанция открыла бы нам, что же это за начало, которое вызвало к жизни бытие, то что бы это изменило? Мы обрели бы истину? Здесь невольно вспоминаются слова Сиорана о двух типах философов: первые, пишет он, ищут освобождения, а вторые разочаровывают: они ищут лишь истину. Глубокая мысль, вы не находите? Бремя бытия не покинет нас, даже если мы что-то поймём о метафизических началах: мы будем нести груз так же, как это делают и не отягощенные философской премудростью люди. А освобождение… При жизни оно невозможно.
Разница между обычным человеком и Шопенгауэром заключается в том, что последнего совершенно искренне интересует в первую очередь сущность. А человек, погруженный в мир как представление, читает его рассуждения и сразу же думает: а что это дает мне, как явлению? И видит, что, в сущности, ничего. Но Шопенгауэру это безразлично, поскольку он ведь мысленно пребывает по другую сторону зеркала.
В этой связи представляет интерес книга Шопенгауэра «Афоризмы житейской мудрости». Основной тон книги – это снижение притязаний воли в разных аспектах жизни. Что-то отдаленно напоминающее психологию премудрого пескаря, но движимого не инстинктом самосохранения, а пониманием, что всё – суета и тщета, и что чем больше дёргаешься и бьёшься, тем больше существование дёргает и бьёт тебя самого. Наряду с этим, в «Афоризмах…» есть ценные советы, касающиеся повседневности в самом прямом смысле, но мы не считаем, что философ должен шарахаться от повседневности как чёрт от ладана. Пресловутая повседневность в огромной мере влияет на наши мысли и настроение, а посему разобраться с ней «по-философски» имеет определённый смысл для всякого честного мыслителя. Конечно, как философа, Шопенгауэра интересует в первую очередь воля, в которую он верит, но нас подкупает то, что великий пессимист не только витает в философских облаках, но умеет спуститься и на грешную землю. При этом он мастерски соединяет свои метафизические постижения с вполне конкретными экзистенциальными сюжетами. Единственное наше возражение к этой книге Шопенгауэра (как, впрочем, и к любым инструкциям по устроению жизни) мы бы сформулировали так: принципиально невозможно жить по правилам, изложенным кем-то, если эти правила не соответствуют природным наклонностям человека. Можно, к примеру, сколько угодно рассуждать о пользе молчания, но если человек склонен к разговорчивости, то он так и будет всю жизнь говорить много. Это же касается и всего остального. Правда, сам Шопенгауэр вполне признавал несвободу индивидуума и считал, что характер человека в своих глубинных основах неизменен в течение всей жизни. Он решил написать «Афоризмы…» как набор жизненных (иногда банальных) советов, вполне отдавая себе отчет в их бесполезности – всё равно каждый выстраивает свою жизнь в соответствии с набором случайностей, от которых невозможно уклониться.
В принципе, нас интересует не прижизненная выгода от добровольного самоограничения, а то, какое значение, по Шопенгауэру, это самоограничение имеет в метафизическом смысле. Скажем, у Шопенгауэра есть идея, что каждый из нас виновен самим фактом существования. Смотрите, как интересно получается: не родители виноваты, что некто появился на свет, а он сам виноват. На первый взгляд непонятно, как такое может быть? Шопенгауэр охотно использует в качестве иллюстрации ветхозаветный миф о грехопадении: он говорит, что в традиционном понимании грехопадение случилось после появления первых людей, у него же – до того. А не может ли это означать, что когда-то мы уже жили и не смогли погасить свою волю, поэтому случилось новое рождение? Ведь призывает Шопенгауэр к аскетизму именно для умерщвления воли, а у того, кто не отринул свою волю, «смерть оставляет после него зародыш и зерно совершенно иного бытия, в котором возрождается новый индивидуум, – таким свежим и первозданным, что он сам предается о себе удивленному размышлению». Цитата очень красноречивая: если не отринул при жизни волю, остаётся зародыш иного бытия… А если отринул, то что тогда? Напрашивается вывод, что тогда не будет никакого зародыша, не будет рождения нового индивидуума, про которого можно было бы сказать, что он виноват в том, что появился на свет. Получается, что этот предполагаемый будущий индивидуум и есть «я» нынешний, а иначе ни о какой вине говорить не пришлось бы. В самой мысли о том, что мы виновны фактом своего существования, определённо что-то есть. Потому, что жизнь человеческая часто напоминает жестокое и изощренное наказание, вы не находите? Вот только непонятно, кто и за что нас наказывает… Хотя какая вина может быть у явления?
Здесь уместно возразить, что для нас-то наша жизнь имеет значение! Прискорбно, но это так. В этой связи общая направленность любой практической этики мыслится только в одном направлении: максимальное обесценивание жизни. Сдирание покрывала с богини иллюзии Майи, так сказать. Однако, это крайне неделикатный, напоминающий хулиганство и очень болезненный процесс. И для самого разрушителя иллюзии и, тем более, для негодующих зрителей. Они, в большинстве своем, совершенно не готовы к открывающемуся их изумленным взорам зрелищу ничто.
В принципе, в «Афоризмах…» Шопенгауэр не сообщает чего-то принципиально нового, такого, что было бы совсем неизвестно любому думающему, наблюдающему и видавшему жизнь человеку. С другой стороны, Шопенгауэр показал себя в этих в этой книге неплохим психологом и знатоком жизни, суммировав и ярко изложив интересные наблюдения, в истинности которых убеждаешься, анализируя собственные внутренние состояния, а также поведение окружающих нас людей. Например, он говорит о двух врагах человеческого счастья, печали и скуке. Жизнь наша представляет собой более или менее сильное колебание между ними. У Шопенгауэра нет рецепта от печали и страданий, хотя он предлагает различные психологические установки и поведенческие модели для их уменьшения. Интересен вывод, к которому он приходит: «Чем больше кто имеет в самом себе, тем меньше он нуждается во внешнем и тем меньшее имеют для него значение остальные люди». [64, 4, с. 242] И дальше: «Чем уже круг наших представлений, действий и отношений, тем мы счастливее; чем он шире, тем чаще приходится нам испытывать мучения или тревоги. Сообразно тому возможно большая простота наших отношений, и даже однообразие в складе жизни, ведут к счастью, ибо при них всего меньше чувствуется сама жизнь». [64, 4, с. 311]. Это сказано в духе известного призыва Будды «не умножать существование». Человек небытия, будучи сам временным и ограниченным бытием (условным бытием), проходит свой путь в мире бытия лишь касаясь вещей. Стоя перед выбором между нечто и ничто, он выбирает ничто. Он минимизирует, насколько возможно, любые бытийственные аспекты своего жизненного пространства.
Когда сравниваешь глубочайший пессимизм «Книги Екклесиаста» и достаточно поверхностный – «Афоризмов житейской мудрости» Шопенгауэра, вспоминается высказывание Кафки о том какой должна быть хорошая книга: «В общем, – писал Кафка в 1904 году своему другу Оскару Поллаку, – я думаю, что мы должны читать лишь те книги, что кусают и жалят нас. Если прочитанная нами книга не потрясает нас, как удар по черепу, зачем вообще читать ее? Скажешь, что это может сделать нас счастливыми? Бог мой, да мы были бы столько же счастливы, если бы вообще не имели книг; книги, которые делают нас счастливыми, могли бы мы с легкостью написать и сами. На самом же деле нужны нам книги, которые поражают, как самое страшное из несчастий, как смерть кого-то, кого мы любим больше себя, как сознание, что мы изгнаны в леса, подальше от людей, как самоубийство. Книга должна быть топором, способным разрубить замерзшее озеро внутри нас. Я в это верю». [16, с. 106]
У Шопенгауэра, на наш взгляд, есть очень интересные мысли, наблюдения; он хорошо и весьма убедительно излагает какие-то вещи; центральную тему своей философии он долго, глубоко и всесторонне продумывал; его метафизическая система – плод многолетнего труда огромного интеллекта. Но, как уже было сказано, его метафизика, – как любая, впрочем, метафизика – нуждается в вере. Может быть, что мир – это манифестация воли? Наверно, может. А может быть, что за всеми явлениями нет никакой воли как вещи в себе? Тоже может. Это вопрос личной веры и соответствующих интеллектуальных предпочтений.
Казалось бы, неплохо для нашего экзистенциального равновесия постепенно приучать себя к уменьшению бытийных аспектов жизненного пространства. Отшельничество – это крайний случай, который мы не рассматриваем по двум причинам. Во-первых, уходить отшельником надо куда-то и с чем-то. То есть должны быть место для обитания и средства для проживания. Ни того, ни другого у многих нет, поэтому отшельничество для них отпадает. Во-вторых, отшельничество – это радикальный способ отказа от мира и не всякому человеку он под силу. До отшельничества нужно дозреть психологически, что далеко не каждому дано. Мы имеем в виду несколько иное. В нашей повседневной жизни мы делаем много такого, чего в принципе можно было бы не делать. Не потому не делать, что в этом делании присутствует что-то плохое, а потому, что многие наши действия приносят нам неудовлетворенность, досаду, сожаление. Фактически, любое действие вызывает к существованию ряд тех или иных сцеплений, с которыми нам же потом и приходится иметь дело. Здесь не идет речь о простых бытовых действиях: помыть посуду, сходить в магазин, постирать вещи, и т. д. Разговор идет о действиях, в которых мы проявляем себя тем или иным образом в социуме, или же вовлекаем в орбиту этих действий других людей. Существуют индивидуумы, экзистенциальное пространство которых насыщено делами, разговорами, всевозможными перемещениями и т. д. Они как бы генерируют в этом пространстве все новые и новые бытийные сцепки, оказываясь, в конечном итоге, заложниками ими же порожденных призраков. А теперь представьте себе другого индивидуума, который потихонечку расчищает свое жизненное пространство. Раньше он любил ездить в гости, но теперь делает это все реже и реже. Раньше он любил поговорить о том, о сём с кем ни попадя, а теперь сузил круг своего общения. Раньше его тянуло к внешним впечатлениям, но он начал от этого понемногу отвыкать. И происходит это вовсе не насильственно, нет. Просто к этому человеку пришло понимание, что в максимально свободном пространстве, очищенном от ненужных слов и лишних телодвижений, дышится легче. Он всё чаще задает себе вопрос: «Зачем?» И не находя на него ответа, бездействие предпочитает какому-либо действию. Можно также представить себе квартиру, увешанную коврами, заставленную мебелью, всевозможными вещами, которые кажутся необходимыми. И квартиру, свободную от хлама, с минимумом действительно необходимых вещей. Это аналогия. Есть поговорки типа «тише едешь – дальше будешь», «инициатива наказуема», «ни одно доброе дело не остается безнаказанным», «не буди лихо, пока оно тихо», «больная голова ногам покою не дает», «воды глубокие плавно текут, мудрые люди тихо живут» (А.С.Пушкин) [29] и т. д. Они относятся к смысловой области разумного неделания. Ведь сколько раз бывало: скажешь что-либо, или сделаешь, или проявишь себе еще каким-то образом, – и потом приходится платить по счетам. Нет, понятно, что от жизни не убежишь, от неприятностей не застрахуешься, но всё же… Не суетись. Не торопись реагировать. Промолчи. Уйди в тень. Не делай без нужды. Вот принципы этики небытия. И одновременно, принципы резиньяции по Шопенгауэру. Однако мы сделаем одну важную оговорку. Всё вышеизложенное – это наше личное, субъективное восприятии, которое нельзя превратить в «афоризм житейской мудрости», потому что кому-то данные рассуждения наверняка покажутся неприемлемыми. Тем более, что любые советы и рекомендации по устроению жизни (того же Шопенгауэра, например) неизбежно страдают односторонностью. Скажем, установка к постоянному внутреннему отчаянию (пусть хотя бы даже в виде фона), может быть так же далеко не всеми принята. Обыватель может сказать, что мы заранее отравляем себе жизнь таким умонастроением, блокируем какие-то радости жизни, не можем полностью отдаться позитивным переживаниям. Другим же с такой установкой комфортнее жить. Всё индивидуально. И здесь можно перекинуть мостик к концепции Рамеша Балсекара «пусть жизнь течет». Она представляется, в каких-то отношениях, более адекватной по своему подходу, чем набор каких бы то ни было правил, даже если эти правила мы вывели для себя сами. Основная мысль Балсекара заключается в следующем: я не знаю, что я буду думать и чувствовать сегодня вечером или завтра; я не имею представления, какое у меня может быть в ближайшем будущем настроение; я не догадываюсь, какие у меня могут возникнуть взгляды на ситуации; я не предполагаю, как я себя поведу в том или ином случае. Но что бы я ни думал, что бы я ни чувствовал, что бы я ни делал сегодня, завтра или послезавтра – над этим у «меня» нет ни малейшего контроля. Поэтому, пусть… жизнь течет.
С другой стороны, шопенгауэровский квиетизм воли представляет собой сомнительное лекарство. Любое мало-мальски мощное внешнее событие не оставит от него камня на камне. Думается, что клин следует выбивать клином. Иначе говоря, привычная иллюзия всякий раз разрушается достаточно мощным эмоциональным усилием, в основе которого находится отчаяние. Об этом хорошо сказал Кьеркегор: «Никто не свободен от отчаяния. Однако тот, кто сознаёт отчаяние, гораздо ближе к исцелению чем те, кто его не осознают. Последние как бы разлагаются заживо. Только дошедший до отчаяния ужас пробуждает в человеке его высшие силы. Отчаяние – единственное средство душевного спасения для человека». [15, 98]
Нас не вполне устраивает избранный Шопенгауэром термин «воля». Это понятие вызывает устойчивые ассоциации, которые встают помехой при чтении его книг. Ведь от чего предлагает отталкиваться Шопенгауэр при рассмотрении воли? Почему именно воля? Он предлагает в качестве отправного пункта использовать тело человека. Воля, по его мнению, это то, что каждому из нас известно непосредственно. Но для нас именно здесь лежит камень преткновения: мы не видим в себе никакой воли! Для нас это тот самый лингвистический знак, за которым ничего не стоит. Даже в тех ситуациях, про которые можно сказать, что мы проявили некую силу воли, мы воспринимаем это на самом деле не как результат действия воли, а как проявление случайной совокупности внешних и внутренних факторов, приведших к такому результату. Например, человек вдруг засуетился и предпринял некие действия – в этом самопринуждении мы не видим никакой его воли, хоть убейте! Просто так случилось. В нашем восприятии всё просто имеет место, – случается, если угодно. А никакой воли мы не ощущаем.
Незадолго до смерти Шопенгауэр, в разговоре с Фрауэнштедтом, сказал: «Вы полагаете, что человек в каждый момент времени отдает себе отчёт в том, что он делает? Я сам порой удивляюсь, как я мог всё это сделать. Ведь в обычной жизни ты вовсе не такой, каким становишься в возвышенные моменты созидания». Философ пояснил, что от нас совершенно не зависит ни то, какие мы в повседневности, – ни то, какие мы в наивысшие моменты творчества. А прощаясь с другим своим учеником, Гвиннером, он сказал, что «для него было бы благом достичь абсолютного ничто, но, к сожалению, смерть не открывает подобных перспектив. Впрочем, будь что будет. Его интеллектуальная совесть чиста…» [10] Через три дня Шопенгауэра не стало. Думается, что это предсмертное высказывание Шопенгауэра является ключом к пониманию сути его философии. К сожалению, великий пессимист не разглядел небытия, хотя и явно жаждал его. Его «воля» не дала ему возможности пробиться к идее небытия. Поэтому неудивительно, что он искал способы уничтожения воли. Насколько они убедительны, мы пока не беремся судить. Но если поразмыслить над этими предсмертными словами, то что можно было бы сказать? В нашем восприятии смерть – это, безусловно, полное ничто, абсолютное ничто. Поэтому Шопенгауэру не о чем было беспокоиться. Он ведь знал и писал о том, что сознание человека умирает вместе с его телом. Если даже допустить, что некая непостижимая для нас основа, – благодаря которой стал возможен кратковременный феномен, носящий имя Артура Шопенгауэра, – остается после исчезновения этого феномена, то феномену, пока он не прекратился, это должно быть глубоко безразлично (если он верит, что его сознанию в смерти придет конец). А после того, как он прекратится, вопрос о безразличии тем более не встанет: не будет больше того, кому было бы что-то безразлично или важно. Но ведь основа-то остается в виде той же природы, которая после нашей смерти будет так же порождать новых индивидуумов. Однако к нам, умершим, всё это не будет иметь ни малейшего отношения – мы развеемся как дым по ветру. Тут, конечно, можно сказать, что Шопенгауэр, будучи философом, философски же заботился «обо всей твари»: следует не явления устранять, а вырвать с корнем то, что обеспечивает возникновение этих явлений. То есть, волю.
Вспоминаются слова Сиорана о том, что идея пустоты выдерживает самонатиск, которого не может выдержать никакая другая идея. Как это верно! А дальше Сиоран пишет, что пустота – это не идея, а то, что помогает освободиться от всех идей. [39]
Вот любопытная выдержка из «Новых афоризмов» Шопенгауэра: «Для объяснения стучащих привидений следует заметить, что ведь после смерти остается чистая воля без интеллекта. Для восприятия существующего, однако, воля нуждается в интеллекте, который она заимствует у живого существа (у медиума), и через посредство этого интеллекта она воспринимает всё существующее, обнаруживая при этом свойственную ей, а также воле умершего, магическую силу, в виде стуков, ударов и т.п.». С помощью воли Шопенгауэр умудряется объяснять самые невероятные вещи! Но здесь ещё недвусмысленно утверждается, что после смерти всё-таки остается воля, причем не просто воля вообще, единая воля, а некий отзвук жившего некогда индивидуума, который, воспользовавшись интеллектом медиума, может и заявить о себе в мире здешнем с помощью стука или ещё какого-либо механического воздействия на предметы. Получается, что вроде бы воля едина, но в то же время она носит в себе бесчисленные отпечатки индивидуальностей. И эта мысль просматривается в следующей формулировке: «Каждое из бесчисленного множества человеческих существ, ежесекундно нарождающихся и умирающих на нашей планете (и вероятно на множестве других), уже на третьем году жизни жаждет вечного существования как в этом мире, так и в других (Бог весть – каких) мирах. Очевидно, что это – смешная претензия. Тем не менее, она имеет свое оправдание и даже удовлетворяется. Ибо хотя индивидуальность есть лишь явление, всё-таки все индивидуумы продолжают свое бытие в том существе, которое пребывает в них всецело и в каждом в отдельности». [64, 5, с. 207—219]
Конечно, всё это совершенно недоказуемо. Мы все больше склоняемся к тому, что это более, чем недоказуемо, – это в высшей степени маловероятно. Наш жизненный опыт свидетельствует о том, что живет человек один-единственный раз – не будет ни загробной жизни, ни перевоплощения в следующей земной жизни. Да и само понятие «вещи в себе», непостижимой сущности, пребывающей за явлениями, тоже находится под большим вопросом. У Сартра в книге «Бытие и ничто» об этом говорится определенно: «Современная мысль достигла значительного прогресса, превратив сущее в серию явлений, которые его обнаруживают. Прежде всего несомненно освободились от того дуализма, когда в сущем внутреннее противопоставляется внешнему. Нет больше внешнего, если под ним понимать поверхностную оболочку, которая скрывала бы от взглядов истинную природу объекта. В свою очередь, нет и той истинной природы как сокровенной реальности вещи, существование которой можно предчувствовать или предполагать, но до которой никогда не добраться, поскольку она всегда остается „внутри“ рассматриваемого объекта. Видимость отсылает к целому ряду своих проявлений, а не к скрытой реальности, которая вбирала бы в себя все бытие сущего. Если мы однажды порвали с тем, что Ницше назвал „иллюзией задних миров“, и если мы больше не верим в бытие позади явления, это последнее становится вполне положительным, его сущность есть „кажимость“, которая больше не противопоставляется бытию, но, напротив, есть его мера, ибо бытие сущего и есть как раз то, чем оно показывается». [34, с. 20]
Вот еще один взгляд на реальность, который отрицает какую-либо сущностную основу за явлениями: ни одно из явлений не указывает на что-либо позади себя, оно обозначает само себя и весь ряд явлений в целом. Значит, нет никакой воли или ещё какой бы то ни было метафизической «вещи в себе». Но ведь и это недоказуемо, правда? Кто-то верит в ноумен, кто-то – нет. Сам Сартр употребляет фразу «если мы не верим».
Конечно, если быть предельно честным, нужно признать, что смерть остается для нас загадкой, поскольку оттуда никто еще не вернулся и не поведал нам о своих ощущениях. Но интуиция подсказывает нам, что смерть – это абсолютный конец. Для противоположного мнения должны быть хоть какие-то основания, а их у, повторяем, нас и нет. Страна мертвых хранит гробовое молчание. Но Шопенгауэр на что-то надеется: «Мы потому боимся смерти, что представляем её себе в виде непроницаемой тьмы, из которой мы вышли при рождении и в которую должны возвратиться после смерти. Но я верю, что после смерти мы очутимся в таком свете, в сравнении с которым солнечный свет будет тенью» [64, 5 с. 207—219]. В том-то и дело, что после смерти не будет ни света, ни тьмы, ни того, кто мог бы воспринять то или другое.
У Рассела есть любопытные рассуждения о бессмертии души. Несмотря на свой атеизм, он высказывается об этом вопросе осторожно и корректно:
«Все свидетельствует о том, что наша умственная жизнь связана с мозговой структурой и организованной телесной энергией. Разумно было бы предположить поэтому, что когда прекращается жизнь тела, вместе с ней прекращается и умственная жизнь. Данный аргумент апеллирует к вероятности, но в этом он ничем не отличается от аргументов, на которых строится большинство научных заключений.
Этот вывод может быть оспорен с разных сторон. Психологическое исследование располагает некоторыми данными о жизни после смерти, и с научной точки зрения соответствующая процедура доказательства может быть в принципе корректной. В этой области существуют факты столь убедительные, что ни один человек с научным складом ума не станет их отрицать. Однако несомненность, которую мы приписываем этим данным, основывается на каком-то предварительном ощущении, что гипотеза выживания правдоподобна. Всегда имеется несколько способов объяснения явлений, и из них мы предпочтем наименее невероятное. Люди, считающие вероятным, что мы живем после смерти, готовы и к тому, чтобы рассматривать данную теорию в качестве лучшего объяснения психических явлений. Те же, кто по каким-то причинам считают эту теорию неправдоподобной, ищут других объяснений. По моему мнению, данные о выживании, которые пока что доставила психология, гораздо слабее свидетельств физиологии в пользу противоположной точки зрения. Но я вполне допускаю, что они могут стать сильнее, и тогда не верить в жизнь после смерти было бы ненаучно.
Выживание после смерти тела, однако, отличается от бессмертия и означает лишь отсрочку психической смерти. А люди хотят верить именно в бессмертие. Верующие в него не согласятся с физиологическими аргументами, вроде тех, что я приводил, – они скажут, что душа нечто совсем иное, чем ее эмпирическое проявление в наших телесных органах. Думаю, что это – метафизический предрассудок. Сознание и материя – удобные в некоторых отношениях термины, но никак не последние реальности. Электроны и протоны, как и душа, – логические фикции, которые имеют свою историю и представляют собой ряды событий, а не какие-то неизменные сущности. Что касается души, это доказывают факты развития. Любой человек, наблюдающий рождение, выкармливание и детство ребенка, не может всерьез утверждать, что душа есть нечто неделимое, прекрасное и совершенное на всем протяжении процесса. Очевидно, что душа развивается подобно телу и берет что-то и от сперматозоида, и от яйцеклетки. Так что она не может быть неделимой. И это не материализм, а просто признание того факта, что все интересное в мире – вопрос организации, а не первичной субстанции». [30]
Не думается, что мы когда-то вернемся в иллюзию бытия. Тело распадется, сознание (если верить адвайте в интерпретации Балсекара и иже с ним) сольется с вселенским сознанием (оно же есть пустота в непроявленном состоянии). Иначе говоря, наше индивидуальное сознание вернётся в пустоту (или небытие). Для повторения «меня» требуется абсолютно идентичное моему тело. Но не будет идентичного тела, в любом случае возникнет другое тело с совершенно другой психофизикой. Так что можно не беспокоиться. Небытие настигнет каждого из нас – в этом можно быть уверенным на сто процентов! А пока будем проживаться.
При всей убедительности Шопенгауэра, читая его, постоянно задаёшь себе вопрос: «Это на самом деле так?» И всякий раз отвечаешь: «Может быть – так, а может – нет. Похоже на правду (что может быть заслугой стилистического гения Шопенгауэра), но стопроцентной уверенности нет». И это значит, что все его выводы могут оказаться блестящими заблуждениями (ударение на слове «могут» – ведь могут и не оказаться таковыми). Философское здание Шопенгауэра покоится на фундаменте, который, скажем так, совершенно недоступен для проверки. Этот фундамент есть так называемая вещь в себе. Уберите его и всё здание рухнет. А что, если нет никакой вещи в себе? Что, если не стоит за видимыми явлениями никакой единой воли, а стоит пустота? Мы исходим из этого. Единичные явления, при всей их взаимной связанности, не имеют никакой связанности по ту сторону бытия – они в связке, пока они есть, но когда их поглощает воронка небытия, не остается ровным счетом ничего. «Там» совершенно нечего искать! Это касается всех вещей. И это напрямую относится к такому явлению, как человек. Весь опыт человечества, которое похоронило тысячи поколений индивидуумов, свидетельствует об одном: мёртвые молчат абсолютно. Они молчат не потому, что им нечего сказать, а потому что от них не осталось ничего, что могло бы хоть что-то сказать.
И главное. Вот что пишет современный философ Сапронов: «У Шопенгауэра квиетизм воли предполагает обращенность к Ничто и переход в него уже не волящей индивидуации… Ничто способно не переходить из своей полноты в ущербность частичных существований, а, наоборот, в частичностях обретать дополнительные ресурсы ничтойности… Сам Шопенгауэр не отрицает немыслимую странность происходящего с Ничто. Это для него вопрос, до конца остающийся открытым. „Что заставило волю покинуть покой блаженного ничто, который несомненно предпочтительнее?“ Шопенгауэр заканчивает свое грандиозное философское построение таким откровенным и беспомощным недоумением». [33, с.36]
Суммируя всё сказанное, попытаемся изложить наше понимание (и непонимание) книги «Мир как воля и представление». Разумеется, полностью охватить её содержание невозможно, в работе Шопенгауэра много смыслов. Однако ключевым моментом его философствования является, на наш взгляд, устремленность в небытие. Именно эта сторона размышлений философа вызывает наибольшее недоумение. Это недоумение можно сформулировать в виде вопроса: небытие следует заслужить?
Согласно Шопенгауэру, мир – это одновременно воля и представление. Тот мир, который мы воспринимаем во всем его многообразии, существует исключительно как объект для субъекта: одно без другого быть не может. Субъект есть око мира. Он познает всё, но сам быть познанным не может, подобно как глаз видит всё, однако себя увидеть не в состоянии. Каждый индивидуум является носителем этого вечного субъекта. Если устранить мир как представление (то есть, как то, что представляется субъекту в виде объектов и явлений), то останется то, что мир есть на самом деле – воля. Мир – это объективация вечной воли, познать которую мы можем лишь интуитивно, ибо она, будучи скрыта покровом воспринимаемых явлений, есть вещь в себе. Воля слепа и бессознательна, но на высших ступенях её объективации возникает познание, которое проявляется в животных и, наиболее полно, в человеке. Познание обслуживает волю, однако (и здесь начинается самое интересное) в отдельных индивидуумах познание может как бы освобождаться (на какое-то время) от этой подчиненной роли и выступать в качестве чистого зеркала, отражающего объекты. В этом – незамутненном примесями воления – восприятии объектов индивидуум созерцает уже не сами объекты, а идеи, проявлением которых являются объекты. Так рождается искусство. Но не только об искусстве говорит Шопенгауэр. Есть индивидуумы, у которых на интуитивном уровне присутствует понимание того, что внутренняя сущность у всех явлений этого мира едина. Такие люди не делают большого различия между собой и другими: они понимают, что разница между индивидуумами чисто внешняя. В сокровенной глубине мы все – одно. И из этого понимания рождается сострадание к другим людям и животным. Однако встречаются очень редкие люди, которые идут еще дальше – они способны даже любить ближних как самих себя. И более того: они способны жертвовать собой ради ближних. Что же здесь происходит? По мнению Шопенгауэра, воля в таких индивидуумах начинает умаляться: парадоксальным образом воля входит в конфликт с явлением. Ничто не может победить всемогущую волю, кроме… познания. И обнаруживается это в том, что некоторые люди, известные нам как святые подвижники, отрицали свою волю в таком акте, как аскетизм. Теперь надо дать слово самому философу:
«Если уподобить жизнь арене, усыпанной пылающими углями с немногочисленными прохладными местами, – арене, которую мы неуклонно должны пробежать, то окажется, что объятого призрачной мечтою утешает прохладное место, которое он занимает как раз в данную минуту или которое рисуется ему вблизи, и он продолжает свой бег по арене. Тот же, кто постигая принцип индивидуации, познает сущность вещей в себе и вместе с ней познает целое, – тот уже не восприимчив к такому утешению: он видит себя одновременно во всех местах арены и сходит с нее. С его волей совершается переворот: она уже не утверждает своей сущности, отражающейся в явлении, – она отрицает ее. Симптом этого заключается в переходе от добродетели к аскетизму. Человек уже не довольствуется тем, чтобы любить ближнего как самого себя и делать для него столько же, сколько для себя, – в нем возникает отвращение к той сущности, которая выражается в его собственном явлении, его отталкивает воля к жизни, ядро и сущность этого злосчастного мира. Он отвергает эту являющуюся в нем и выраженную уже в самом его теле сущность и своей жизнью показывает бессилие этого явления, вступая с ним в открытую вражду. Будучи по существу своему явлением воли, он, однако, перестаёт чего бы то ни было хотеть, охраняет свою волю от какой-либо привязанности, стремится укрепить в себе величайшее равнодушие ко всем вещам. Тело его, здоровое и сильное, вызывает гениталиями половое влечение, но он отрицает волю и не слушается тела, ни под каким условием он не хочет полового удовлетворения. Добровольное, полное целомудрие – вот первый шаг в аскезе, или отрицании воли к жизни. Аскетизм отрицает этим утверждение воли, выходящее за пределы индивидуальной жизни, и тем показывает, что вместе с жизнью данного тела уничтожается и воля, проявлением которой оно служит. Всегда правдивая и наивная природа говорит нам, что если эта максима станет всеобщей, то человеческий род прекратится, а после того, что было сказано во второй книге о связи всех явлений воли, я думаю, можно было бы принять, что вместе с высшим явлением воли должно исчезнуть и более слабое ее отражение – мир животных: так полный свет изгоняет полутени. С полным уничтожением познания и остальной мир сам собою превратился бы в ничто, ибо без субъекта нет объекта». [64, 1, с. 323]
Здесь, на наш взгляд, полная невнятица. С одной стороны, Шопенгауэр говорит о том, что смерть каждого индивидуума есть полное исчезновение этого индивидуума. Вместе со смертью тела умирает интеллект и память человека, но остается воля, которая проявляет себя снова и снова в миллионах других индивидуумов. Собственно, как уже говорилось, конкретному человеку должно быть безразлично то, что после его смерти мир продолжится, ведь его личная история, так же как и он сам, прекратится стопроцентно. Его уже не будет. Судя по сказанным за несколько дней до своей кончины словам, Шопенгауэр был не уверен, что после смерти он обратится в полное ничто. Как же он представлял себе это возможное продолжение? В каком качестве? В качестве воли? Но ведь он сам писал, что смерть индивидуума для воли не значит ровным счетом ничего – она объективируется в миллиардах новых человеческих существ. И что может сделать с волей на самом деле аскет, полностью отринувший волю? Здесь напрашивается (причем весьма настойчиво) единственный вывод: уничтожив волю в себе, аскет уничтожает… весь мир как проявление воли! «Остальная природа должна ожидать своего освобождения от человека, который одновременно является жрецом и жертвой». [64, 1, с. 324]
Но это слишком смелая, если не сказать, абсурдная идея. В то же время, в другом месте своего сочинения, Шопенгауэр утверждает: «Когда же, наконец, приходит к нему смерть, разрешающая это явление воли; сущность которой в силу свободного самоотрицания умерла в нем уже давно, кроме слабого остатка её – одушевленности тела, то он встречает смерть с великой радостью как желанное освобождение. С нею кончается здесь не просто явление как у других, но уничтожается самая сущность, которая еще влачила здесь существование только в явлении и посредством него: теперь смерть разрывает и эту последнюю хрупкую связь. Для того, кто кончает таким образом, одновременно кончается и мир». [64, 1, с. 325]
Получается, что он всё-таки признаёт сохранение индивидуума после смерти, но не как явление, а как… что? По идее, он не должен это признавать, поскольку тогда он входит в противоречие с тем, что говорил до этого – целая работа у него посвящена смерти, и в ней совершенно прямо и неоднократно утверждается, что индивидуум как явление конечен вне зависимости от того, как он жил и что думал при жизни. Только единая воля бессмертна. Возвращаемся к тому, с чего начали. В общем, имеется много неувязок. Остается одно, что может «спасти» Шопенгауэра: он верил в перерождение и в то, что человек может (?) какими-то своими установками и образом жизни прекратить это перерождение, соскочить с колеса сансары. Верил, но не говорил об этом открыто. Правда, такая вера входит в противоречие с его же учением. Он несколько запутывает читателя, делая взаимоисключающие утверждения. Самого его, к сожалению, невозможно спросить об этих нестыковках.
Обратите внимание, что аскезу Шопенгауэр понимает отнюдь не только как отказ от деторождения, а как серьезное подвижническое делание: тут и добровольная нищета, и всевозможные ограничения, и готовность переносить скорби и унижения и т. д. Зачем? Поэтому, как итог: небытие нужно заслужить. Так выходит по Шопенгауэру.
1.2. Уничтожить себя, уничтожить вселенную
В предыдущем разделе был затронут вопрос о двояком отношении Шопенгауэра к суициду. С одной стороны, апология самоубийства, казалось бы, прямо следует из принципиальных положений его пессимистической философии. С другой, дойдя до незримой черты, философ явно утратил интеллектуальную честность, стремясь всеми правдами и неправдами доказать необходимость всячески оттягивать свой конец и длить до последнего страдания бытия. Однако в истории мысли есть пример философствующего пессимиста, который смог не только заглянуть, но и бросится в бездну.
31 марта 1876 немецкий философ Филипп Майндендер впервые взял в руки свежие печатные экземпляры своей обширной «Философии освобождения», над которой он работал с лихорадочной преданностью все последние годы. Философ представил миру сумму собственного пессимизма и указал единственное решение всех проблем человечества и вселенной – самоубийство. Публикация произведения стала последним актом, завершения которого молодой философ ждал, чтобы соединить окончательным способом свою жизнь и свою мысль, показывая личным примером, что вещи действительно важные – такова была для него доктрина пессимизма – нуждаются не только в доказательствах, но также и в демонстрации. С немецкой последовательностью, в ночь с 31 марта на 1 апреля, он сжал петлей свою шею и навсегда ушел в небытие.
Филипп Майнлендер был сыном предпринимателя, посещал коммерческие курсы и был послан в Неаполь для стажировки. Там он оставался почти шесть лет, с 1858 до 1863 года, занимаясь философией и поэзией. В 1860 году он приобрел в книжном магазине книгу Шопенгауэра «Мир как воля и представление», прочитал ее и стал убежденным шопенгауэрианцем. К тому времени он в совершенстве выучил итальянский язык, на котором стал сочинять стихи, подражая творчеству мрачноватого романтического поэта Леопарди.
Майнлендер построил философскую систему, в которой сконцентрирован пессимизм обоих его учителей: отрицательная онтология и и предельно мрачная метафизика, основанная на принципе, согласно которому «не быть предпочтительнее, чем существовать». Как и Шопенгауэр, Майнлендер убеждён, что мир – это вещь в себе, а воспринимаемое нами – всего лишь видимость, наше представление о нем. Однако, если для Шопенгауэра вещь в себе – это воля к жизни, которая мыслится как слепая, универсальная, супериндивидуальная сила, то, с точки зрения Майнлендера, – это воля к смерти. В определенном смысле Майнлендер предвосхитил фрейдовский «импульс смерти», равно как и идею Ницше о том, что Бог умер.
Откуда возникает воля к смерти? Майнлендер выдвигает смелое теологическое – метафизическое предположение: она рождается из процесса, посредством которого божественное исходное вещество – (условие, которое он берет у Спинозы), переходит от своего единства в свойственную миру множественность. Он утверждает: «Бог умер и его смерть является жизнью мира». Чтобы убить себя, Бог преобразился в мир, в человечество, которые тоже умирают, чтобы окончательно перейти от существования в ничего.
Филипп Майнлендер убежден, что мир – это обоснованный результат божественного акта, служащего проявлением воли к смерти как стремления неопределенного трансцендентного божества к тому, чтобы не быть. Переход осуществляется от сверхбытия, через бытие мира – в небытие. И всё это есть самоубийство Бога.
Таким образом, всё, что мы наблюдаем в мире – представляет собой различные проявления растянувшегося в пространстве и во времени процесса самоуничтожения Бога. Майнлендер преобразовывает и радикализирует пессимизм Шопенгауэра в недрах собственной «метафизики энтропии», из которой последовательно извлекает все свои концепции: физику, философию истории, подчиняющуюся универсальному закону боли, политику, этику и, безусловно, в первую очередь, апологию самоубийства. В данном радикальном выборе он видит, прежде всего, возможность «освобождения от существования», идею абсолютного соответствия божественному замыслу, способность собственноручно удовлетворить свою и всеобщую волю к смерти, не ожидая капризов или милостей от природы.
В истории развития этой идеи присутствует эпилог, сделавший ее еще более интересной. Сестра Филиппа, Минна, продолжила философские исследования брата и привела в порядок его последние мысли и записи, выдержанные в духе буддизма, этики Шопенгауэра и филантропического социализма. В 1886 году она опубликовала все это как второй том «Философии освобождения». После чего тоже покончила с собой.
В конце XIX века Майнлендер считался, вместе с Эдуардом фон Гартманом, одним из крупных представителей порожденной философией Шопенгауэра «Школы пессимизма». Но спустя небольшое время о нем почти совсем перестали говорить. Его изолированное и одинокое существование, также как и его раннее самоубийство, мало повлияли на популярность его сочинений, которые пребывают до сегодняшнего дня практически забытые. Тем не менее, идеи Майнлендера в разное время привлекали внимание таких известных мыслителей, как Ницше, Эмиль Чоран, Хорхе Луис Борхес.
В заключительном слове к своей книге «Die Philosophie der Erl; sung / Философия Освобождения» Майнлендер заочно полемизирует с немецким пессимистом Эдуардом фон Гартманом, которого он считал неудачливым эпигоном великого Шопенгауэра:
«Если бы Вы не только не исправили все Ваши ошибки, но, напротив, сохранили бы за ними статус истины, то Ваша философия, подобно тонущему кораблю, уничтожилась бы, тем не менее, от следующих рассуждений, построенных на основании Ваших же принципов:
Если воля определяется исключительно и всегда как «что» вещей, идея напротив исключительно и всегда как их «что» и «как». Если идея чиста и хороша, то мир должен был бы быть также всегда исключительно хорош и чист. Однако, мир грязен и плох, согласно христианскому определению он представляет собой царство дьявола.
Основными положительными результатами нашей критики мира и попыток его философской апологии являются следующие положения:
1) Мировое бессознательное проявляется в каждой индивидуальной воле.
2) Индивидуальной воле свойственно движение.
3) Движение направлено в смерти, поэтому каждая индивидуальная воля противостоит бессознательному и представляет собой волю к смерти.
4) Это именно осознанная воля к смерти, а не бессознательный психологический механизм.
5) Дух – лишь функция органа этой воли, так же как пищеварение является функцией других органов.
6) Из духа возникает сознание, при этом демон (первоначальное) является одним из его органов, а мозг (вторичное, психика) – другим.
7) Дух, как все остальные органы, постоянно функционирует, но эти функции не могут считаться бессознательным мышлением, бессознательным представлением и бессознательным чувствованием. Так же как и продукты деятельности этих функций не являются бессознательными мыслями, бессознательными представлениями, бессознательными чувствами.
8) В отношениях между волей и Духом никогда не может преобладать антагонизм.
9) В духе не соприсутствуют бессознательная воля и абстрактная идея, невозможно даже смешение того и другого.
10) До мира было самое простое единство, которому неправильно приписывать волю и Дух.
11) Мир населен индивидуумами, которые происходят из начального единства и находятся с ним в динамичной связи.
Эта связь проникает в Ваши сердца, устремляя Дух в направлении, которое указывает воля к смерти. И единое, и каждый индивид напоминают лягушку из басни. Мы раздуваемся до размеров слона, чтобы в итоге лопнуть. Единое взорвалось и породило мир, который плотно окутал древний ближневосточный туман. Это туман разложения.
Мне говорили, господин фон Гартман, что Вы были в прошлом солдатом. Я также служил, как я уже говорил Вам, с оружием в руках. Таким образом, я могу говорить с Вами, пожалуй, о явлениях, которые редко заметны гражданским людям, но не ускользают от острого глаза солдата. Вы помните военные лагеря, это поэтичные, богатые волшебством воспоминания. Наблюдали Вы там, когда начинало светать около 5 ч. утра, как призрачный свет еще невидимого дневного небесного светила смешивался со светом поддерживаемого товарищами костра? Не казалось ли Вам тогда, будто тающий огонь костра стал причиной утренней зари? Я думаю, у Вас возникало подобное чувство. Но вскоре Вы понимали, что это самообман. Все сильнее алел восток, небо чудесно прояснялось, великолепный бог солнца поднимался в полном величии на крыльях зари над горизонтом и – костер оказывался только лишь кучей догорающих углей.
Как костер в мерцании начинающегося утра, так и Ваша философия растворилась в учении Шопенгауэра, который впервые научно исследовал бессознательное. Поэтому Вашу философию путали со светом восходящего солнца. Но сейчас рассвело, и ошибка стала ясна.
Философия, которая раньше освещала темную ночь человечества как высоко-горящий огонь – индийский и античный пантеизм – превратилась теперь в догорающий уголь: никакого света больше.
Прощайте!» [71]
Наиболее известным продолжателем Шопенгауэра стал упоминавшийся выше Эдуард фон Гартман. Центральное место в его системе занимает проблема бессознательного, под которой Гартман понимает «представляющую волю» Шопенгауэра. Смысл мирового процесса имеет лишь условное и отрицательное значение и состоит в постепенном приготовлении к уничтожению того, что создано первичным неразумным актом воли. Разумная идея, отрицательно относящаяся к действительному бытию мира как к продукту бессмысленной воли, не может, однако, прямо и сразу, упразднить его, будучи по существу своему бессильной и пассивной: поэтому она достигает своей цели косвенным путём. Управляя в мировом процессе слепыми силами воли, она создаёт условия для появления органических существ, обладающих сознанием. Через образование сознания мировая идея или мировой разум освобождается от владычества слепой воли, и всему существующему даётся возможность сознательным отрицанием жизненного хотения возвратиться опять в состояние чистой потенции, или небытия, что и составляет последнюю цель мирового процесса. Но, прежде чем достигнуть этой высшей цели, мировое сознание, сосредоточенное в человечестве и непрерывно в нём прогрессирующее, должно пройти через три стадии иллюзии. На первой человечество воображает, что блаженство достижимо для личности в условиях земного природного бытия; на второй оно ищет блаженства (также личного) в предполагаемой загробной жизни; на третьей, отказавшись от идеи личного блаженства как высшей цели, оно стремится к общему коллективному благосостоянию путём научного и социально-политического прогресса. Последовательному разоблачению несостоятельности указанных иллюзий посвящается 11 глава второго тома сочинения Гартмана «Философия бессознательного», которая называется «Безумие желаний и бедствия бытия». (Интересно, что, дойдя до раздела о религии, дореволюционный русский переводчик внезапно пояснил, что дальше переводить не может из соображений цензуры и перешел сразу к прогрессу).
«После трех стадий иллюзии человечество, наконец, увидело безумие своих стремлений и, отказавшись от положительного счастия, порывается только к абсолютной безболезненности, к Нирване, к ничто». [12, с. 361] Разочаровавшись в экзистенциальных иллюзиях, наиболее сознательная часть человечества, сосредоточив в себе наибольшую сумму мировой воли, примет решение покончить с собой, а через это уничтожить и весь мир. Усовершенствованные способы сообщения, считает Гартман, доставят просвещённому человечеству возможность мгновенно принять и исполнить это самоубийственное решение. Ещё один вариант коллективного ухода в небытие всего человечества это массовый и осознанный отказ от размножения, что, отчасти мы сейчас и наблюдаем в наиболее экономически развитых государствах Запада.
Для этого необходимо «…чтобы человечество вполне прониклось сознанием безумия воли и бедственности бытия и исполнилось такою неутолимою жаждой покоя и безболезненности небытия, что стремление к уничтожению воли и бытия, как практический мотив, достигло бы неодолимой силы. Можно с очень большой вероятностью ожидать выполнения этого условия в старческом возрасте человечества, ибо, когда ясна будет истина познания о бедственности бытия, то это познание мало по малу преодолеет противодействующее воззрение, слагающееся под влиянием чувства и инстинкта». [12, с. 376]
В конце своей книги Гартман начинает изъясняться туманно, намекая на то, что человечество, массово отказавшись от размножения, уничтожит не только себя, но и вселенную. Это, конечно, было бы неплохо, но, к сожалению, эти его конструкции, как и соответствующие места у Шопенгауэра, представляются излишне умозрительными. Впрочем, вполне достаточно, если перестанет страдать от бытия человечество.
У Гартмана мы вновь видим попытку философского осмысления самоубийства. При этом философ переводит вопрос на качественно новый уровень, рассуждая о коллективном суициде всего человечества. Ещё один, также присутствующий у Гартмана и прямо вытекающий из философии небытия, вопрос о нравственном содержании деторождения и отказа от размножения получил своё развитие только в двадцатом столетии.
1.3. Высший дар – нерождённым быть
«Все созданное несёт в себе смерть. Трудитесь же не покладая рук над спасением несозданных», – учил Будда.
Антинатализм – общее название для принципиально различных: 1) философско-этической позиции, 2) экологического подхода и 3) демографических мер, лишь внешне схожих в негативной оценке воспроизведения потомства. При этом термин используется чаще всего в философско-этическом значении. Философско-этический антинатализм разделялся и разделяется некоторыми известными мыслителями, в том числе Артуром Шопенгауэром, Эдуардом фон Гартманом, Петером Весселем Цапффе, Дэвидом Бенатаром, Ричардом Столлманом, Томасом Лиготти.
Сторонники этического антинатализма апеллируют к моральной стороне вопроса. Тот же Шопенгауэр утверждал, что ценность жизни, в конечном счете, отрицательна, потому что любые положительные переживания всегда будут перевешены страданием, так как оно является более сильным переживанием. Весьма скептически философ относился к стремлению культуры романтизировать размножение под видом «любви». Цитируем его «Метафизику половой любви»:
«Всякая влюбленность, каким бы эфирным созданием она ни представала, коренится всецело в половом влечении, да и сама она есть лишь точнее определенное половое влечение, специфицированное, индивидуализированное (в самом точном смысле этого слова). И если, памятуя об этом, взглянуть теперь на важность той роли, которую играет половая любовь, во всех ее оттенках и нюансах, не только в романах, но и в действительной жизни, где она является могущественнейшим и активнейшим из всех мотивов, кроме разве любви к жизни, – где она владеет половиной сил и помыслов младшего поколения человечества, составляет конечную цель почти всякого человеческого устремления, оказывает в конце концов отрицательное влияние на важнейшие дела, всякий час прерывает серьезнейшие наши занятия, смущает временами даже величайшие умы, осмеливается вмешиваться со своими пустяками в переговоры государственных мужей и поиски ученых, умело подбрасывает свои любовные посланьица, свои заветные локончики даже в министерские портфели и философские манускрипты, что ни день, затевает самые путаные, самые скверные интриги, требует себе в жертву иногда жизнь или здоровье, а подчас, богатство, положение и счастье человека, – да что там, делает честного во всем другом человека бессовестным, верного – предателем, – и значит, в целом предстает неким злокозненным демоном, стремящимся все исказить, запутать и низвергнуть, – это ли не повод воскликнуть: из чего шум? Для чего мольбы и неистовства, страхи и бедствия? Речь ведь идет лишь о том, чтобы каждый петушок нашел свою курочку: чего же ради такая мелочь должна играть столь важную роль и беспрерывно нарушать и путать жизнь человека?» [64, 2, с. 445—446]
Друзья японского писателя Юкио Мисимы слышали от него, что у него, помимо жены, была тайная возлюбленная. Её никто никогда не видел, а сам Юкио обещал, что она появится во время его похорон. Но она так и не пришла. А через некоторое время после смерти Мисимы в его бумагах нашли такую запись: «У моей любимой нет другого голоса и лица, кроме моего. Она часть меня. Возможно, ее тело скрыто в моём. Я ухожу, чтобы найти ее. Ее зовут смерть». [25]
Хотелось бы кое-что добавить к написанному Шопенгауэром. Хотя природа и вложила половой инстинкт в человека ради продолжения рода, далеко не всякий любовный акт заканчивается деторождением. Вот здесь-то и приходит на помощь разум: животные не могут контролировать этот процесс, а человек – может. И сближается он с противоположным полом по большей части не для деторождения, а для того, чтобы удовлетворить свою похоть. Дети, зачастую, оказываются «побочным результатом» такого сближения. Это происходит, если люди не употребляют в данном вопросе свой разум (и определённые приспособления) надлежащим образом. Либо, если разум обманывает их, внушая, что воспроизведение себе подобных – величайшее благо и наипервейшая задача, которую они должны решить.
Другие аргументы философско-этического антинатализма включают, в том числе, невозможность индивидуума согласиться, либо отказаться от начала своего собственного бытия, а также «аргумент от риска» (в результате начала бытия любой субъект, способный ощущать, подвергается неизбежному риску).
Один из основоположников антинатализма, норвежский философ Цапффе (1899—1990) в 1933 году сочинил манифест «Последний Мессия». Со второй женой, Берит, Цапффе прожил сорок семь лет. Детей не оставил по философским убеждениям. Увлекался альпинизмом, поясняя, что это занятие так же бессмысленно, как сама жизнь. Незадолго до смерти написал автоэпитафию, которая заканчивалась словами: «В любом случае, мы пришли из ничто и уйдём в ничто, и беспокоиться не о чем. Прощайте. Всё».
В философском манифесте «Последний мессия» Цапффе утверждает, в частности, следующее:
«Способность сознавать себя хрупкой сущностью, которую влекут по жизни непредсказуемые обстоятельства, приводит мыслящего человека к пониманию объективной трагичности жизни. Многоликая ложь: религия, государство, семья, мораль, стремится отвлечь нас от видения того, что при жизни мы заключены в тела умирающих животных, которые летят на крупинке космической пыли в бесконечной пустоте. Понимание этого вызывает панику.
Большинство людей спасаются от паники, искусственно ограничивая область своего сознания. Можно выделить четыре основных типа такого ограничения: изоляция, анкеровка (постановка на якорь), отвлечение и сублимация.
Под изоляцией я понимаю полное вытеснение из сознания всех беспокоящих и деструктивных мыслей и чувств. «Не нужно думать, это только путает». Вариант изоляции характерен для врачей, которые, чтобы защитить свою психику, видят лишь техническую сторону своей профессии. В повседневности изоляция проявляется в виде формулы взаимного умолчания, в первую очередь по отношению к детям. Именно поэтому они не пугаются бессмысленности начинающейся жизни и сохраняют иллюзии до того момента, когда будут способны расстаться с ними.
Анкеровку можно обозначить как фиксацию точек экзистенциальной устойчивости. Жизнеутверждающие анкеровки (работа, дело, убеждения, семья) поощряются обществом. Используя эти и другие анкеровки, человек создаёт надежную внутреннюю защиту от распада жизни, и служит примером для окружающих. Вариант анекровки встречается среди склонных к сексуальным отклонениям («нужно вовремя жениться, и ограничения придут сами»).
Еще одним способом защиты является отвлечение. Человек отвлекается от негативных размышлений путем постоянной погони за впечатлениями. Это характерно для детей; без отвлечения, ребенок становится невыносимым для самого себя. «Мама, что мне делать?»
Банальные смысложизненные ценности (богатство, известность, власть) не тождественны удовольствию от обладания ими, поскольку невозможно усидеть сразу на двух стульях или съесть двадцать порций еды. Значение жизненного успеха заключено в наличии богатых возможностей для анкеровок и отвлечения.
Четвертое средство против паники, сублимация, действует как перенос негативных переживаний в социально – приемлемое русло. Художественный талант способен преобразовать саму боль жизни в ценный опыт. Сублимация является наименее часто встречающимся защитным средством, спасающим от переживания абсолютной бессмысленности жизни.
«Человечество будет до последнего упорствовать в мечтах о спасении и ждать появления нового Мессии, – предупреждает Цапффе. После того, как других спасителей прибьют к деревьям и побьют камнями, придёт последний Мессия, пророк, который раскроет свою душу идее гибели, чья боль сделается болью всей Земли. Его странное послание прозвучит в первый и в последний раз:
Жизнь миров – ревущая река, но Земля это зловонное болото.
Знак смерти начертан на ваших лбах – как долго вы будете повторять одни и те же ошибки?
Есть одна победа и один венец, одно спасение и одно решение – смерть.
Познайте себя и будьте бесплодны, и оставьте землю в безмолвии».
И когда последний Мессия заговорит, люди схватят его, ведомые производителями гробов и детских колясок, акушерками и матерями, и уничтожат его». [72]
Наиболее жёсткой является антинаталистическая позиция философа Дэвида Бенатара, согласно которой размножаться не следует никогда, а родители нарушают любую мыслимую систему морали и этики, потому что становятся виновными в причинении страдания. Бенатар полагает, что рождение не просто вредно, но вредно вопиюще, поскольку в мире нет счастья, которое могло бы уравновесить боль. После того как боль вошла в этот мир, в нем не осталось ничего, кроме разновидностей боли.
Южноафриканский философ из Кейптаунского университета Дэвид Бенатар известен как борец за права белого меньшинства ЮАР – против так называемой «позитивной дискриминации». Согласно его авторитетным свидетельствам черные южноафриканцы, несмотря на то, что давно уже дорвались до власти, продолжают пребывать в ужасающей нищете и люто убивают не только белых, но и друг друга. В свободное от уличного криминала время они неистово размножаются. Сложившаяся ситуация, видимо, настолько удручает кейптаунского профессора философии, что он примкнул к антинаталистам и написал книгу «Лучше не быть (О вреде рождения)». [68] В первой главе этой книги дается постановка проблемы. Вторая и третья главы составляют основу книги. Во второй главе автор утверждает, что любое рождение – это всегда зло. В третьей главе он убедительно показывает, что даже лучшие варианты жизни не только намного хуже, чем люди о них думают, но даже ещё хуже. В четвертой главе Бенатар заявляет, что мало того, что нет моральной обязанности рожать детей, но есть, напротив, (моральная) обязанность не делать этого. В пятой главе рассматриваются проблемы, связанные с абортами. Шестая глава исследует два родственных ряда вопросов: о демографическом воспроизводстве населения и о депопуляции. Наконец, в заключении автор, традиционно остановившись у последней черты, пускается в политкорректные рассуждения, согласно которым, из идеи о том, что рождение – это всегда зло, оказывается, вовсе не следует, что смерть (и, тем более, самоубийство) лучше, чем продолжение существования. «Жизнь может быть достаточно плоха для того, чтобы не рождаться, но не настолько плоха, чтобы родившись, прекратить свое существование». И дальше: «Мои мысли не следует рассматривать как общую рекомендацию к самоубийству. Мы все находимся в своего рода ловушке. Мы уже вляпались в существование. Наша смерть вызовет огромную боль у тех, кого мы любим и о ком заботимся, сделает их жизни намного хуже». [68, с. 84] Довольно ожидаемый альтруизм. Однако в остальном аргументация Бенатара заслуживает интереса. И вообще, сама постановка автором данной проблемы – это, безусловно, акт большой интеллектуальной храбрости.
Миллиарды сознательных существ населяют нашу планету, рассуждает Бенатар. Еще больше людей уже умерли. Скольким людям еще предстоит родиться и умереть – пока неизвестно. В конечном счете, однако, любая жизнь на земле неизбежно закончится. Произойдет это рано или поздно – от этого зависит, сколько миллиардов людей пройдут через заведомо фатальную гонку за выживанием. Ответ Бенатара на вопрос, «сколько должно быть людей?» один – «ноль». То есть он не предполагает, что должны где-нибудь и когда-либо существовать любые люди. Учитывая, как живут и умирают люди, Бенатар не считает, что мы должны размножаться и умирать дальше. Поэтому нулевой ответ – это, на его взгляд, идеальный ответ. Будет лучше, если это произойдет раньше, чем позже.
Фактически, плохое постоянно происходит со всеми нами. Никакая жизнь не свободна от неприятностей. Можно легко вспомнить о миллионах, которые прозябают в бедности или о тех, кто живет большую часть жизни в качестве калек. Некоторые из нас достаточно удачливы, чтобы избежать таких судеб, но абсолютно все сталкиваются с ухудшением здоровья на завершающих стадиях своих жизней. Особенно мучительные страдания приходятся на последние дни. А многие осуждены на долгие годы слепоты, неподвижности, адских болей.
Все мы непрерывно находимся перед лицом смерти. Любого новорожденного ребенка ожидают – боль, разочарование, беспокойство, горе и смерть. Для любого конкретного ребенка мы не можем предсказать, какой именно вред причинит ему жизнь в каждый период его существования, но то, что тот или иной вред произойдет – неизбежно. При этом ни одно из страданий не способно затронуть небытие. Лишь бытие корчится в муках.
Оптимисты возразят, что Бенатар не даёт полную картину. Не только плохие вещи, но также и хорошие происходят только с теми, кто существует. Удовольствие, радость, и удовлетворение свойственны лишь живым. Таким образом, мы должны взвесить удовольствия жизни и сравнить их пропорционально с наличным злом. Пока первое перевешивает второе, жизнь стоит того, чтобы жить и рождение приносит пользу.
Однако, такое заключение не проходит, потому что есть решающее различие между вредом (таким как боль) и выгодой (такой как удовольствия), которое не дает никаких преимуществ живым, но влечет за собой лишь неоспоримые преимущества для несуществующих:
Сценарий 1. Существующие. Сценарий 2. Несуществующие. Присутствие боли – плохо. Отсутствие боли – хорошо. Наличие удовольствий – хорошо. Отсутствие удовольствий – не плохо.Так, отсутствие боли хорошо, даже если этой пользой обладают несуществующие, тогда как отсутствие удовольствия не плохо, если нет кого-то, для кого это отсутствие – лишение. Если спросить, не является ли отсутствие страданий хорошей особенностью уже умерших или вовсе никогда не существовавших, необходимо будет сказать, что да, это так.
Можно попытаться, хотя бы на время, делать людей счастливыми. Но это, по Бенатару, совсем не то же самое, что «делать счастливых людей». Напротив, делать людей несчастными как раз именно это и означает – делать несчастных людей.
Точно так же никто не носит траур по тем, кто не существует на Марсе, чувствуя жалость к таким существам в связи с тем, что они не могут наслаждаться жизнью. Но если мы узнаем, что там есть разумные существа, но при этом они страдают, мы будем сожалеть о них.
Те, кто думает (вместе с поэтом Альфредом Теннисоном), что лучше любить и потерять, чем никогда не любить, могут подумать, что возможно применить подобное рассуждение к случаю входа в существование. Они могут сказать, что лучше существовать и претерпеть утраты (страдая в процессе жизни и, затем, прекращая существование) чем никогда не существовать вообще. Бенатар не берётся судить, лучше ли действительно любить и проиграть, чем никогда не любить вообще. Для него достаточно сказать, что, даже если это положение верно, оно ничего не влечет за собой в плане оценки фактов рождения и существования. Это связано с тем, что есть решающее различие между любовью и прибытием в существование. Человек, который никогда не любил, существует без любви и таким образом испытывает лишение. Это, согласно Бенатару, плохо. (Хуже ли это, чем любовь и потеря – другой вопрос.) В отличие от этого, того, кто не существует, просто напросто нет и поэтому он ничего не лишен. И это не плохо.
В целом жизнь людей намного хуже, чем люди сами об этом думают. Было бы серьезным упрощением оценивать качество жизни путем механической суммы страданий и благ, как это часто делали в девятнадцатом столетии. Многое зависит от порядка расположения хорошего и плохого. Жизнь, где плохое сосредоточено в конце может рассматриваться как худшая по сравнению с той, где плохое преобладало в начале, но затем наступило облегчение. Однако хуже всего та жизнь, в которой зло распределено более или менее равномерно. Помимо этого, люди склонны помнить хорошее и забывать плохое, что не может не сказываться на их оценках собственных жизней. Еще один психологический фактор, который искажает экзистенциальные самооценки – неявное сравнение с благосостоянием других. В результате самооценки становятся индикатором сравнительного, а не фактического качества жизни, что делает их крайне ненадежными.
Термин «поллианнаизм», означающий «оптимистичный до нелепости», происходит от имени Поллианны – героини книги Элеонор Поттер, девочки, чей оптимизм носил абсолютный характер и ее проблемы неизбежно разрешались самым счастливым образом. Воздействие поллианнаизма таково, что любые формы пессимизма часто отклоняются как малодушная жалость к самому себе, как хныканье экзистенциальных слабаков. Оптимисты предпринимают отважные попытки нарисовать розовую картину жизни, добавляя не дающий видеть реальный трагизм бытия положительный блеск в любое человеческое затруднительное положение. Или, по крайней мере, стремятся сохранить в любых ситуациях храброе выражение лица. Пессимисты же считают такое мировоззрение в чем-то родственным непристойным шуткам, произносимым на похоронах. К примеру, Артур Шопенгауэр, говорил, что оптимизм представляется ему не только нелепым, но и поистине бессовестным воззрением, горькой насмешкой над невыразимыми страданиями человечества.
И действительно, достаточно представить себе то, что именуется обычной здоровой жизнью, становится очевидно, что любые попытки оптимизма основываются на самообмане и стремлении не видеть и не знать очевидного. Бенатар предлагает рассмотреть количество страданий, которые влечет за собой жизнь. При этом следует помнить, что речь идет лишь о человеческой жизни, подчеркивает он. А ведь картина становится еще более непристойной, если рассматривать страдания триллионов других живых существ, которые населяют нашу планету – включая миллиарды животных, которые рождаются каждый год только для того, чтобы с ними плохо обращались, а в итоге убили и употребили в пищу.
Возьмем для начала стихийные бедствия. Больше пятнадцати миллионов человек погибли в таких бедствиях только за последние 100 лет. Одни только наводнения, например, убивают приблизительно 200 000 человек ежегодно и лишают жилья до миллиона. Так, в конце декабря 2004, несколько сотен тысяч человек погибли в цунами.
Приблизительно 20 000 человек умирают ежедневно от голода. При этом 840 миллионов постоянно страдают от голода и недоедания, не умирая от этого. Это приблизительно каждый восьмой из 7 миллиардов человек, которые в настоящее время живут на планете.
Болезни калечат и убивают миллионы людей ежегодно. Возьмем, к примеру, чуму. Между 541 и 1912 годами, эта болезнь убила более чем 102 миллиона людей. Эпидемия гриппа 1918 года убила 50 миллионов человек. Учитывая размер сегодняшнего мирового народонаселения, увеличение скорости и масштабов глобальных путешествий, становится очевидно, что новая пандемия гриппа сможет вызвать намного большие количества смертельных случаев. ВИЧ в настоящее время убивает почти 3 миллиона человек ежегодно. Если мы добавим сюда все другие инфекционные заболевания, набирается в общей сложности почти 11 миллионов смертельных случаев ежегодно, при этом смертям предшествуют самые изощренные страдания. Злокачественные опухоли забирают более 7 миллионов жизней каждый год и также обычно после значительных и часто длительных мучений. Добавьте сюда приблизительно 3.5 миллиона ежегодных смертей от несчастных случаев (включая более чем миллион смертельных эпизодов дорожных происшествий в год). Если прибавить все прочие смерти, получается колоссальный итог – приблизительно 565 миллионов человек умерли в 2001 году, что равняется более чем 107 человекам в минуту. В итоге, рост народонаселения увеличивает число страданий и смертей. В некоторых областях мира, там, где детская смертность достаточно высока, массовые смертельные случаи происходят в первые несколько лет после рождения детей. Однако, даже когда здравоохранение развивается относительно успешно, продолжительность жизни увеличивается, а значит растет и численность населения, а следовательно и количество умерших. Одновременно увеличивается и количество родственников усопших, которые временно остаются в живых, чтобы оплакивать и хоронить своих мертвецов.
Добавим к приведенной фатальной статистике страдания и смерти, преднамеренно причиняемые людьми друг другу. К началу 20 века в войнах и массовых убийствах погибло более 133 миллионов человек. А в течение одного лишь двадцатого века – более 109 миллионов. Прогресс, как говорится, налицо. Люди застрелены, избиты, замучены, зарезаны, сожжены, заморены голодом, заморожены, искалечены до смерти, погибли от непосильного принудительного труда, похоронены заживо, утоплены, повешены, умерли от мин и бомб… и убиты с использованием несметного числа других способов, придуманных людьми с целью уничтожения себе подобных.
Согласно всемирному «Отчету о насилии», в шестнадцатом столетии произошло 1.6 миллионов смертельных случаев, связанных с войнами и конфликтами, в семнадцатом веке – 6.1 миллионов, 7 миллионов в восемнадцатом, 19.4 миллионов в девятнадцатом, и 109.7 миллионов в этом самом кровавом из столетий – двадцатом. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения в 2000 году в войнах и от связанных с войнами ранений погибло 310 000 человек.
И на этом страдания не заканчивается. Добавьте число людей, изнасилованных, подвергшихся нападениям, искалеченных или убитых не правительствами, а частными лицами. Приблизительно 40 миллионов детей подвергаются ежегодно плохому обращению. Более 100 миллионов живущих в настоящее время женщин и девочек были изнасилованы. В этом же списке порабощение, несправедливое лишение свободы, предательства, оскорбления, и иные притеснения в их бесчисленных формах.
Для сотен тысяч людей страдания являются настолько непереносимыми, что они совершают самоубийства. Например, 815 000 человек совершили самоубийства в 2000 году.
Поллианнизм призывает большинство людей думать, что они и их (потенциальные) дети будут избавлены от всего этого. И действительно есть некоторые, хотя и чрезвычайно немногие люди, кто оказался достаточно «удачлив», чтобы избежать «не неизбежных» мучений. Но абсолютно все испытывают, по крайней мере, тот или иной вред из вышеперечисленного каталога страданий. Как говорит герой исторического романа Дженнингса «Ацтек»: «Этим вечером я родился и стал на путь смерти».
Большинство людей заранее знает, что их ребёнок будет среди страдающего большинства. Но никто не знает, однако, что их ребёнок будет принадлежать к относительно удачливым немногим.
Большое страдание может ждать абсолютно любого человека, от него не застрахован никто. Даже самые привилегированные люди могут родить ребенка, который невыносимо пострадает, будет изнасилован, подвергнут длительным истязаниям и жестко убит. Оптимист не в состоянии ничего противопоставить этой лотерее. Таким образом, если принять в расчет необычно серьезный вред, который может выпасть на долю любого человека, а также неизбежные страдания, свойственные любой обычной человеческой жизни, мы находим, что положение становится абсолютно убийственным для производителей детей. Они играют всякий раз в русскую рулетку, причем с полностью заряженной обоймой. Только оружие направлено не в их собственные головы, а в головы их потомства.
В заключение Бенатар обращается к вопросу, имеет ли какое-либо значение то, что его выводы настолько парадоксальны? Он отдает себе отчёт в том, что оптимисты могут отклонить приведенные им аргументы как слишком эксцентричные и потакающие его личным желаниям (точнее, нежеланиям). Они могут сказать, что бесполезно «оплакивать сбежавшее молоко». Мы имеем то, что имеем, поэтому бессмысленно смаковать наше общее горе в печальной саможалости, а лучше расслабиться и постараться получить хоть какое-то удовольствие. Однако Бенатар убежден: подобная аргументация лишь служит еще одним подтверждением того, что пронатальные интуиции – продукт иррациональных психологических сил. Настаивать на том, что «позитивная» сторона – это всегда правая сторона, означает поместить инстинкт и обслуживающие его идеологии впереди доказательств. Разумеется, оптимисты могли бы ответить, что, даже если философ прав и рождение всегда влечет за собой зло, лучше не засорять сознание этим неприятным фактом, поскольку это лишь увеличивает наличное зло. В этом есть доля правды. Однако острое переживание сожаления о собственном существовании – вероятно, самый эффективный способ избежать причинения того же самого вреда другим.
Бенатар считает крайне маловероятным, что большое количество людей примет данные выводы близко к сердцу. Ещё менее вероятно, что они прекратят делать детей. Напротив, скорее всего его идеи или будут проигнорированы или станут высмеиваться, – признаёт он. – «Я не хочу сказать, что мои оппоненты, продолжая совокупляться и размножаться, руководствуются садистскими или преступными намерениями. Их поведение – всего лишь свидетельство привычного равнодушия большинства людей к чужим страданиям». [68, с. 91]
Лучше не быть? Хотелось бы внести небольшое дополнение к этой формулировке Бенатара: лучше изначально не быть. А когда мы уже есть, всё становится весьма проблематичным. В том числе и в вопросе прекращения бытия. Тут, нам кажется, задействован не только инстинкт самосохранения, хотя это очень могучий механизм. Здесь и привычка жить (даже если жизнь совсем тяжкая), и еще кое-что. Опыт умирания дано пережить каждому из нас единожды. После чего двери закрываются наглухо – никому невозможно вернуться оттуда и поведать о своих впечатлениях. Другими словами, в умирании присутствует очень важный элемент неизвестности, некоей тайны. Мы не совсем уверены, что это идет от инстинкта: похоже, здесь мы имеем дело с разумом, который пытается понять, но понять это он не может и не сможет. А все неизвестное вызывает в нас тревогу. Поэтому мы и начинаем наши рассуждения с фраз «мне кажется», «мы думаем», «мы верим», «мы не верим» и т. д. Мы можем говорить только о своих ощущениях, предполагать, когда речь заходит о тайне жизни и смерти. Вот мы и предполагаем. И ощущаем. Что жизнь – многопечальное и обманчивое предприятие. Что изначально лучше бы было не рождаться. Что, появившись на свет, мы становимся заложниками существования, которое, в целом, не приносит радости и удовлетворения. Что мы ничего не можем с этим поделать – просто перетаскиваем себя изо дня в день, прилагая усилия для поддержания существования, пока смерть не положит всему этому предел. Что смерть – это полное и окончательное прекращение жизни индивидуума как биологического организма и как личности с её внутренним миром мыслей, чувств и эмоций.
Похожие мысли высказывали некоторые последователи Д. Бенатара, например, Томас Лиготти, автор философского сочинения «Заговор против человеческой расы». [20] Исходная точка рассуждений Лиготти заключается в том, что любая форма существования бессмысленна. Для тех, кто немного поразмыслил, становится ясно, что единственно реальными правами человека являются: поиск средств выживания для наших собственных тел, производство тел подобных нашим, и гибель от старческого разложения или смертельной травмы. Строго говоря, единственным нашим врожденным правом является право на смерть. Кем бы мы не старались представиться, расхаживая взад и вперед, вниз и вверх по этой земле, в конечном итоге мы просто мясо. Мы способны вынести существование только в том случае, если поверим – в соответствии с комплексом иллюзий, подменным трюком – в то, что мы не являемся теми, кто мы есть: небытиями на двух ногах. Поэтому большинство людей учится спасаться, искусственно ограничивая содержание своего сознания и используя нехитрый набор банальностей: «у всего происходящего есть причины», «представление должно продолжаться», «прими то, что ты не способен изменить», и тому подобные куплеты, который помогают людям оттягивать свой конец. Мы получаем психологическое утешение за счет потери истинности. Среди иерархии измышлений и фабрикаций, составляющий нашу жизнь – семья, страна, Бог – «я» бесцеремонно занимает первое место.
Но мы не нужны никому в естественной природе, поясняет Лиготти. Мы словно Бог-самоубийца Майнлендера. Этот Бог тоже никому был не нужен, и Его бесполезность была перенесена на нас, после того как Он взорвался и прекратил существование.
Иной критик пессимизма, говорит Лиготти, чувствует свою спину хорошо прикрытой, когда говорит с беспечной издевкой: «Ого – если этот парень действительно переживает такие чувства, то он должен покончить с собой, иначе он просто лицемер». По мнению Лиготти, заявление о том, что пессимист должен убить себя, чтобы оправдать свои идеи, выдает настолько скудный интеллект, что подобное даже не заслуживает ответа.
Лиготти справедливо замечает, что наличие близких людей делает человека во много раз более уязвимым, поскольку многократно увеличивается область контактов с повседневностью. Отсюда усиление страданий, как данных нам в непосредственном переживании «здесь и сейчас», так и с достаточной степенью уверенности прогнозируемых, и потому ещё более мучительных.
Согласно Лиготти, даже лучшие из нас, кто пожил неплохо, уверенно полагая, что быть живым – это хорошо, доживут до скользкого конца, когда им придется погибнуть в дорожной аварии или на больничной койке, утыканными трубками. Жизнь подобна рассказу, испорченному неудачным разрешением предшествующих событий. Когда мы станем трупами, это нельзя будет исправить никак. «Все хорошо, что хорошо кончается», хорошо лишь в краткосрочной перспективе. «В долгосрочной же перспективе», как любил говорить английский экономист Джон Мейнард Кейнс, «мы все умрём». Такой финал вряд ли устроит кого-то из нас. Но все изменится, если мы сможем выбирать свой финал, свой, или финал тех, кто еще не рожден.
Врачи родильных отделений не плачут особенно часто. Врачи не склоняют головы со словами: «Секундомер запущен». Если младенец плачет, то всё в порядке. Время высушит его слезы; время вылечит всё. Время вылечит всех, пока не останется никого, кого можно лечить. После этого все станет таким, каким было до того, как мы пустили корни там, где мы быть не должны. Для каждого из нас – а потом и для всех нас – наступит день, когда с будущим будет покончено.
«Если мы решимся сказать, что умерли, как только родились, это будет не так уж далеко от истины. Это был наш несчастный случай», – заключает Лиготти.
У еще одного пессимиста и антинаталиста, французского мыслителя Сиорана, как и у Шопенгауэра, не было детей. Они оба никогда не состояли в браке. При этом, если Шопенгауэр более – менее спокойно относился к деторождению (в одном месте он пишет, что нет смысла противостоять зову воли, идти против природы, если она настойчиво требует своего), то Сиоран считал, что родители – производители – это преступники. Возможно, в этом вопросе можно подняться над той и другой точкой зрения и сказать следующее: никто из живущих не определяет свою траекторию движения по жизненному пути, ибо она полностью подвержена случайности. Никто, в силу отсутствия свободы воли, ничего не решает и не выбирает ни в каком аспекте своего существования. Человек просто следует какому-то бессознательному влечению и совершает те или иные действия с непредсказуемым результатом. Мы склонны об этом забывать, но если бы нам удалось утвердиться в этой мысли (что, опять-таки, от нас не зависит), то многие вопросы и недоумения отпали бы сами собой. В каком-то относительном смысле можно сказать, что родители совершают непростительный грех, производя на свет потомство. Но что это меняет? Философ небытия Арсений Чанышев написал на эту тему стихотворение:
Я смертного родил. Одушевил
Материю, которая была
Бесчувственной.
Я наделил её
Способностью к страданью.
И в этот мир – Мир Зла —
Швырнул ребёнка,
Который думает,
Что это Мир Добра
(Ведь ласковы пока
И бабушка, и мама)…
И он растёт – и ничего не знает!
Он ничего не ведает о жизни:
Измене, Лжи, Разлуке, Клевете,
Болезни, Одиночестве и Смерти…
Я смертного родил —
Я в этом виноват. [59]
При этом сам Арсений Николаевич был несколько раз женат, если нам не изменяет память, и произвел на свет не одного смертного. Его дочь убили. Слишком поздно он пришел к пониманию, что детей рождать не надо. Возможно, в тот период, когда он их порождал, у него могло не быть такого понимания (или оно присутствовало где-то на задворках сознания), иначе он бы жил сам по себе, не обремененный семьями и детьми. Хотя, по большому счету, даже понимание каких-то вещей не отменяет противоречащих этому пониманию поступков и действий. Это и является свидетельством того, что человек не является хозяином в «собственном» доме.
Глава вторая
Трагизм жизни
2.1. Страх перед случайностью
Почему мир устроен именно так, а не иначе? – вопрос, который был неоднократно задан в предыдущей главе. Вот ещё один из возможных ответов: мир получился таким в силу случайного совпадения огромного количества случайностей.
«И как это может удивлять нас, что этот мир – царство случая, ошибки и глупости, которая наголову разбивает мудрость, что в нём бушует злоба, и всякий отблеск вечного находит себе в нем место только как бы случайно и зато тысячи раз вытесняется вон?» – риторически спрашивает Шопенгауэр. [64, 6, с. 1 14]
Есть такое явление: «эффект бабочки». Он основан на допущении, что даже ничтожные изменения в атмосфере, вызванные, допустим, полетом бабочки, в дальнейшем способны оказать огромное воздействие на климатическую ситуацию. Данное утверждение способно показаться нелепым. Это как если бы вам сказали, что одна бутылка коньяка, выпитая вами перед сном, полностью поменяет всю вашу жизнь. Однако подобное на самом деле постоянно случается. Скажем, вы задержались на несколько мгновений и погибли под машиной.
Ученые из Гарвардского университета Фредерик Мостеллер и Перси Диаконис попытались просчитать вероятность того, что сразу у нескольких незнакомых людей, случайно собравшихся в одном помещении, полностью совпадут дни рождения. Поскольку в году 365 дней, то, чтобы такое совпадение произошло, число присутствующих должно превышать 365. Однако ученые обнаружили, что в компании из 18 человек шансы на то, что хотя бы трое из них родились в один день, составляют 50 на 50. [70]
Профессор Виргинского университета доктор Бернард Д. Бейтман, полагает, что считать подобные совпадения всего лишь случайностью означает тем самым признать, что они в принципе не имеют никакого значения. Но так оно и есть!
Что, собственно, представляем мы собою по сравнению со вселенной, – вопрошает нас чешский классик, – если принять во внимание, что самая близкая неподвижная звезда находится от нас на расстоянии в двести семьдесят пять тысяч раз большем, чем солнце, и её параллакс равен одной дуговой секунде? Если представить себе нас во вселенной в виде неподвижной звезды, мы, безусловно, были бы слишком ничтожны, чтобы нас можно было увидеть даже в самый сильный телескоп. Для нашей ничтожности во вселенной не существует понятия. За полгода мы описали бы на небосводе такую крохотную дугу, а за год эллипс настолько малых размеров, что их нельзя было бы выразить цифрой, настолько они незначительны. Наш параллакс был бы величиной неизмеримо малой.
Похоже, что жизнь это случайная величина, переменная, значения которой представляют собой исходы каких-нибудь случайных феноменов. Согласно Мартину Хайдеггеру, мы помимо своей воли попадаем в пространство и время, и жизнь состоит в том, чтобы найти смысл происшедшего. Но какой смысл может заключаться в случайности? [51, с. 69]
Мы пыль, которую кружит и разносит ветер.
Герой новеллы Станислава Лема «О невозможности жизни» профессор Коуска, утверждает, что теория вероятности, якобы регулирующая соотношение необходимости и случайности, дефектна. Вероятность появляется только там, где что-то еще не произошло. Так говорит наука. Но каждый понимает, что две пули дуэлянтов, расплющившиеся друг о друга, так же как и ваш зуб, сломавшийся, когда вы лакомились рыбой, о перстенёк, который вы нечаянно утопили в море шесть лет тому назад и который проглотила как раз эта рыба, так же как и соната Чайковского, сыгранная попавшим под шрапнельный обстрел складом с кухонной посудой благодаря тому, что шарики шрапнели поражали большие и маленькие кастрюли именно так, как этого требуют ноты, – что всё это, если бы оно произошло, представляло бы собой чрезвычайно неправдоподобные явления. Априорная (то есть вычисляемая до начала событий) вероятность того, что каждое из этих неисчислимых совпадений случится, причем в нужное время и в нужном месте (иначе не родится профессор Коуска), очевидно, равна нулю с любой разумной точки зрения. Следует ли отсюда, что профессор Коуска (и любой другой человек, животное или растение) не может существовать, или что весь ход мировых событий стремился к появлению на свет именно данной личности? Скорее всего, первое, хотя следует признать, что и второй, основанный на радикальном детерминизме, вариант развития событий, при всей его фантастичности, вполне нигилистичен.
«Я вижу и знаю: существует только хаос. Если бы в мире царил закон и строгий порядок, причины и следствия двигались бы друг за другом, как солдаты в строю. Но разве вы не видите, что причины то и дело обгоняют следствия, разве не замечаете бездетных причин и не зачатых следствий, не замечаете царящего всюду беспорядка?» – спрашивает Карел Чапек. [61, с. 107] «Очарование таится в непредсказуемости происходящих процессов, – вторит ему Жан Бодрийяр. – Во всяком случае, любое предвидение вызывает желание его опровергнуть. Часто эту роль исполняет событие. Есть события, которые могут предвидеть, но которые позволяют себе любезность не происходить; они являются изнанкой тех событий, которые происходят без предупреждения. Следует спорить по поводу случайных возвратов, как, например, возвращение любви, держать пари по поводу перечня событий. Если вы проиграете, вы, по крайней мере, испытаете удовольствие, бросив вызов объективной глупости вероятностей… Это новое правило игры – принцип неопределенности, преобладающий сегодня во всем и являющийся источником острого интеллектуального и, без сомнения, духовного наслаждения». [4, с. 38—39]
Если мы, кидая игральные кубики, шесть раз подряд выбросили шестерку, означает ли это, что на седьмой раз вероятность выпадения шестерки стала меньше, чем один к шести? Разумеется, нет: вероятность будет постоянной, она не зависит от количества бросаний и предыдущих результатов. Вероятность реализации альтернативных событий в любых ситуациях равнозначна.
Например, человек спрашивает: какова вероятность того, что он заболеет онкологией, или погибнет в результате автомобильной аварии? Она в обоих случаях составит один к двум: либо это произойдет, либо нет. И какие бы усилия он не предпринимал, чтобы изменить это соотношение, будь то фанатичное ведение здорового образа жизни, или тщательное избегание тех мест, где он может стать жертвой несчастного случая – ничего не изменится, вероятность всё равно останется прежней.
В конце XX в. в науке возникло направление, изучающее, как человеческий разум воспринимает случайность. Ученые обнаружили, что у людей весьма смутное представление о случайности, они не в состоянии распознать и осознанно воспроизвести ее, и, что ещё хуже, мы постоянно недооцениваем роль случая в нашей личной жизни. Мы смертельно боимся лежащей в основании жизни непредсказуемости. При этом многие чисто эмоционально отрицают влияние случайности на человеческую жизнь, но подсознательно но понимают, что от нас не зависит ничего. Чтобы не потерять рассудок, мы придумываем несуществующие причинно-следственные объяснения post factum. Данный феномен исследовал социальный психолог Мелвил Лернер. Он разместил группу подопытных женщин таким образом, чтобы они слышали, как в соседней комнате происходит странный экзамен, в ходе которого студентка за каждый неправильный ответ, получала, как верили испытуемые, удар током и имитировала боль. Для большей достоверности на экране демонстрировалась заранее сделанная фальшивая видеозапись. Вначале наблюдатели возмущались происходящим, но затем, будучи не в силах ничего изменить, начали придумывать причинно-следственные связи, чтобы убедить себя, что наказание заслуженно. Им было важно оценить ситуацию именно с позиций причины и следствия.
Для того, чтобы более наглядно представить абсолютную случайность нашего существования, достаточно вспомнить, что число генетически различных индивидов, которое может кодировать геном человека, составляет 2 в степени 30 000, что примерно равно единице с десятью тысячами нулей. А реально за все время человеческой истории родилось и умерло не более ста миллиардов несчастных особей. Это составляет меньше, чем 0,00000…000001 (на месте пропуска можно вставить 9979 нулей) от числа возможных рождений. Нужно обладать катастрофическим невезением, чтобы получить жизнь и смерть в этой абсурдной лотерее. «Широко распространена вера (которую я никогда не понимал) в то, что существовать лучше, чем не существовать; на этом основании от детей требуют быть благодарными их родителям», – удивлялся по этому поводу Бертран Рассел. Дело заключается вот в чём: если бы наши родители не встретились, мы бы не родились. Возможно, родился бы другой несчастный со своими проблемами, но это нас не касается. То же самое произошло бы в случае, если бы они выбрали для своей похоти другое время или, в самый ответственный момент, им кто-нибудь помешал. Однако, по большому счёту, виновны в произошедшем не родители, а крошечный уродец, нагруженный половиной вашей генетической идентичности, пробирающийся мимо миллионов (!) других сперматозоидов, чтобы соединиться с яйцеклеткой. Вот уж действительно случайность в высшей степени! «Высший дар – нерожденным быть!» – утверждает хор в трагедии Софокла «Эдип в Колоне». При этом, не смотря на то, что наше рождение было случайностью, наша смерть есть необходимость. В этом мы можем быть вполне уверены.
Мы придаём свои смыслы случившимся событиям, придумываем мифы. К тому же, патологически склонны к преувеличению своей ничтожной персоны, ошибочно воспринимая её как центр мироздания, в то время как мы одиноки и никому не нужны, даже самим себе. Отсюда стремление к переоценке статистических данных и фактов, которая позволяет чувствовать себя более или менее комфортно, создавая иллюзию того, что мы способны прогнозировать будущее. «Можно ли рассчитывать на заданный перечень событий? Естественно, нет, – рассуждает Бодрийяр. – Ведь очевидность никогда не бывает достоверной. Сама истина, в силу своей неоспоримости, теряет свое лицо, сама наука теряет собственное седалище, которое остается приклеенным к креслу. Предположение о том, что статистическая истина всегда может быть опровергнута – вовсе не школярская гипотеза. Это – тенденция, исходящая из самой сути коллективного гения зла». [4, с. 41] Статистика утверждает, что количество пассажиров, не явившихся на потерпевшие катастрофу авиарейсы в среднем больше, чем на обычные. Но что это нам даёт? Человек опоздал на самолет, который разбился – судьба? Как бы ни так, его шарик просто случайно пролетел мимо. Неудивительно, что наше потрясение при неожиданных событиях показывает, насколько иллюзорным является ощущение контроля над ситуацией.
Мир стоит на случайности. Больше того, он сам и есть случайность. Каждый живёт лишь один раз. «То, что произошло однажды, может совсем не происходить, один раз не считается, – утверждает чешский писатель Милан Кундера. – Жизнь, которая исчезает однажды и навсегда, жизнь, которая не повторяется, подобна тени, она без веса, она мертва наперед и как бы ни была она страшна, прекрасна или возвышенна, этот ужас, возвышенность или красота ровно ничего не значат». [19, с. 7] Все наши попытки повлиять на результаты аналогичны стремлению угадать выигрышные номера в лотерее. Иногда это происходит, но совершенно случайно. Наш выбор ничего не решает, да и наш ли он? Мы всегда хотим не того, что нам нужно, делаем не то, что хотим, и у нас получается не то, что мы делаем. В итоге от нас ничего не зависит и, следовательно, беспокоиться совершенно бесполезно и не о чем.
Характерно, что в детерминизм под именем «судьба» чаще верят женщины, ибо они, по природе своей, заинтересованы в продолжении жизни. Поэтому они желают жить в предсказуемом мире и воображают, что каким-то непонятным мистическим силам есть до них дело и что у них есть судьба.
У Юнга встречается термин «синхронистичность», обозначающий акаузальный т.е. беспричинный связующий принцип, в соответствии с которым во мире соединяются цепочки событий, вероятность появления которых по отдельности еще допустима, но в совокупности астрономически мала. Но если действительно иногда происходят удивительные пространственно—временные совпадения случайностей (а так оно и есть), тогда может быть эти случайности не так уж и случайны? Тогда возможно, что и жизнь каждого, отдельно взятого человека не так уж и ничтожна? Возможно, все эти процессы кто-то или что-то контролирует? Но это достаточно смелые предположения. А если исходить из явной очевидности, согласно которой всё в калейдоскопе наличной иллюзии происходит именно случайно, тогда эти парадоксальные совпадения крайне сложно интерпретировать. Разве что, попытаться дать объяснение синхронистичности, исходя из бесконечности самой пустоты? Поскольку пустота бесконечна, она содержит в себе бесконечное количество вариантов развития событий. Представьте себе известную детскую игрушку, калейдоскоп, но бесконечную в пространстве и во времени, такую, количество цветных стёклышек в которой также бесконечно. При этом каждое стёклышко, подобно пользователям всемирной паутины, способно мгновенно соединиться с любым другим. Тогда синхронистичность становится вполне вероятной. Но мы не видим всей картины, а только лишь тот её сегмент, который непосредственно соприкасается с нами. Вот и удивляемся.
Представьте себе последовательность событий: чем она длиннее или чем большее количество последовательностей вы рассматриваете, тем больше вероятность, что обнаружится какая-нибудь закономерность. Причем она обнаружится совершенно случайно.
Таким образом, любители рассказывать об удивительной взаимосвязи процессов и явлений во вселенной забывают о масштабах изначальной пустоты. Или, как считали греки, исходного хаоса. Проще говоря, имея в запасе неограниченное количество бросаний шарика, рулетка рано или поздно вполне способна выдать результат: один из триллиона в триллионной степени. Это и будет вселенная. Но мы в этой вселенской рулетке не игроки и даже не зрители.
Сколько молодых и среднего возраста людей лежат в сырой земле! На фоне этих впечатлений любые рассуждения о синхронистичности кажутся такими же ничтожными, как и сама жизнь. Однако наша личная история продолжается. И для каждого из живущих эта история имеет большое значение. Если мы продолжаем существовать, то какой бы образ жизни мы ни вели и какие бы рассуждения ни выстраивали – наша личная история имеет для нас значение. Простой пример: достаточно оскорбить или унизить кого-то из нас, чтобы убедиться, насколько мы уязвимы в этом плане. Достаточно ущемить какие-то наши интересы или (не приведи Бог!) отнять что-то у нас – тут личная история проявит себя во всей полноте. И вот в масштабах этой самой личной истории происходят какие-то явления или сцепки событий, объяснить которые наш разум не в состоянии. Для других мои события и явления – ничто. Для жизни в целом – тоже. Но для меня – каждый вполне это может отнести к себе – они играют порой колоссальное значение.
Поэтому на вопрос: «Почему это произошло?» можно ответить: «А почему бы и нет?»
Вообще, бесконечные совпадения случайностей, определяющие события нашей жизни, постоянно демонстрируют нашу слабость, уязвимость и беззащитность. Мы все пребываем во власти слепого случая, который в один миг может изменить нашу жизнь. И ведь заметьте, что в подавляющем большинстве ситуаций этот, неподвластный никому и ничему, случай меняет жизнь отнюдь не к лучшему, а к худшему, и значительно худшему, хотя, казалось бы, куда уже хуже? Гораздо реже случай приносит что-то позитивное или, точнее, воспринимаемое нами как таковое. Но даже если это происходит, человек всё равно в конечном итоге терпит сокрушительное фиаско: потери, болезни, всевозможные немощи и недуги рано или поздно настигают человека. Печальна участь живущих!
Рамеш Балсекар убеждён: все, что мы можем сделать, это плыть по течению. Но человеческий интеллект любит порядок. Его пугает неопределенность. Теория вероятности и есть проявление любви к порядку. Уж слишком она определённа. А главное, целиком строится на математических исчислениях. Пифагор по этому поводу считал, что математика это язык природы. Возможно, он пытался природу посчитать. Хотя кружок его учеников был тайным обществом, и о чем они там рассуждали между собой нам доподлинно неизвестно.
Однако сам подход, если он был именно таким, представляется малоубедительным. Математика имеет дело не с реальным, а с виртуальным, придуманным ею миром. Всё, что мы рассматриваем как прикладные достижения математики, это, по сути, её побочный продукт. Обывателю именно это представляется главным, но на самом деле это полезное, но не главное. Теория вероятности основана на математической статистике, а та, в свою очередь, на математической логике. Но нам представляется, что математическая статистика это очень зыбкое основание для построения категорических выводов о гипотетической вероятности. Закономерность это долго длящаяся случайность, а история человечества (история наблюдений) еще слишком коротка, чтобы делать на таком ничтожном временном отрезке безусловные заключения о вероятности.
Рассуждая о взаимосвязи закономерности (необходимости) и случайности (неопределённости), Вэй у Вэй пришёл к выводу, что этот вопрос сам собой исчезает, поскольку предпосылки были ложные. Мы не можем быть затронуты причинностью, но каждое чувствующее существо может провозгласить: «Причинность – это то, что я есть». [11, с. 65]
Здесь еще возникает вопрос о времени. Вероятность обычно делегируют в будущее, пытаются его спрогнозировать. Но что получится, если с помощью вероятности попытаться объяснить прошлое? Для человека, который уже заболел онкологией, вероятность того, что это случится, была именно 50 на 50: или да, или нет. Именно поэтому, как верно заметил Балсекар, надежность и определенность – это миф.
Если рассуждать о жизни индивида и социума, то детерминизм особенно не отвечает требованиям, которые Лаплас предъявлял к предсказуемости. Социум не живет по строго определенным фундаментальным законам, поведение людей непредсказуемо и иррационально (в том отношении, что оно часто не соответствует нашим интересам). Как сказал лауреат Нобелевской премии Макс Борн: «Теория случайности более фундаментальна, чем теория обусловленности».
«Я вот верю в детерминизм, а в случайность не верю, но другие верят в случайность, – заметил современный нейробиолог Василий Ключарев. – Тогда импульсы, которые производит наш мозг в ответ на внешние вызовы, это случайная игра нейронов и никакой свободы выбора все равно нет».
В обычных случаях детерминисты и индетерминисты придерживаются единой точки зрения в области оперативной морали. Как защитники морали и те, и другие соглашаются, что этический реализм является необходимой истиной, либо объективно реальной, как полагают индетерминисты, либо «реальной» субъективно, как считают детерминисты. Без этой истины, или «истины» мы не смогли бы продолжать жить так, как жили всегда, и полагать, что быть живым – это хорошо.
Только поэты, по мнению Фридриха Ницше, способны оценить случайность. [26, с. 54] Все остальные обречены оставаться философами и настаивать на том, что существует судьба (а судьи кто?), и даже карма. – А может быть, случайности не случайны? – спрашиваем себя, наивно надеясь, что представляем собой нечто, а не ничто. Да нет, абсолютно случайны. На самом деле закономерность это более или менее долго длящаяся случайность. Тем не менее, мы проводим жизнь в напрасных попытках избежать случайностей, пока этому не положит предел внезапно оторвавшийся тромб. [48]
2.2. Человек – марионетка
Мы имеем два варианта: если события случайны, мы не контролируем их, и если мы контролируем события, то они не случайны.
И всё-таки у человека есть некое понимание, в определенной степени помогающее облегчить страдания, в том числе и страх смерти. Дело в том, что человек не может ни на что влиять. Понимание этого уменьшает его страдания.
Средневековые суфии учили осознанию того, что всё, вплоть до психических состояний и самого «я» не является достоянием человека:
«Ходжа Насреддин зашёл в лавку и к нему подошел торговец.
– Прежде всего о главном. Ты видел, как я вошёл? – спросил его Ходжа.
– Конечно, – отвечал торговец.
– А раньше ты меня встречал?
– Первый раз тебя в жизни вижу.
– Так откуда ты знаешь, что это вошёл я?» [47]
Мне всякое думается. Но откуда я знаю, что это думаю я?
«В рамках сугубо здравого смысла и личных способностей мы можем делать все что угодно в этом мире… за одним исключением: мы не можем делать наш выбор, – утверждает в этой связи Томас Лиготти. – И это действительно чистой воды пессимизм, поскольку обращает образ человека в образ марионетки. А взгляд на человека как марионетку является одной из отличительных черт пессимизма». [20]
Мысль заключается в следующем: мы не проживаем свои жизни – они проживаются. Нам только кажется, что мы что-то решаем, осуществляем выбор, намечаем движение в том или ином направлении, а на самом деле мы ничего не решаем и не определяем. Мы пребываем в иллюзии, что мы – авторы своих мыслей, но мысли приходят из источника, непостижимого и неподконтрольного нам. Одна мысль спонтанно возникает в нашем сознании и уходит, не реализовавшись в действии, а другая может по неясным причинам захватить нас и повести в каком-то направлении. Почему мы выбрали именно это действие? Мы могли перед выбором долго размышлять, советоваться, колебаться, но в конечном итоге именно данная, а не иная мысль определила наш выбор. Мы можем потом сожалеть или, наоборот, радоваться такому исходу дела, но в момент выбора имеем ли мы свободу выбора? Если оглянуться на свою жизнь и посмотреть внимательно, как всё складывалось в течение лет, что мы думали, чувствовали, как поступали, что делали или, наоборот, не делали – остаётся ли во всей этой картине место для нашего сознательного выбора? Случай, или нечто другое, имеющее иное название, плетёт ткань нашей жизни, а мы – куклы, думающие, что это мы сами всё устраиваем:
«Я сижу тут, как марионетка. И не только я; все мы марионетки. Природа тянет за веревочки, а мы думаем, что это действуем мы». (Кришнамурти) [17, с. 109]
Открывая тему несвободы волеизъявления, традиционно приведём размышления по этому вопросу Шопенгауэра. Воля, как вещь в себе, едина, но в своём проявлении она становится множеством. Время, пространство, причинность, множество относятся к миру явлений или, иначе, к миру как представлению. К воле самой по себе все эти категории неприменимы. Воля объективируется в идеи (Шопенгауэр берет на вооружение платоновские идеи), которые, в свою очередь, проявляются как видимые объекты мира. Но только нужно понимать, что речь идет не об идее конкретного, скажем, человека, а человека вообще. Или какого-то животного вообще. Или ряда каких-то повторяющихся множественных однородных явлений (а не одного явления). Далее. Воля сама по себе свободна – она не скована никакими законами, но явления воли в этом мире—представлении обязательно подчинены неумолимому закону причинности. Когда речь идет о неорганическом мире, мы говорим о причинах, – когда же речь идет о человеке, мы говорим о мотивах. Каждый человек, будучи явлением воли, имеет свой, от рождения присущий ему, эмпирический характер, который является отражением его умопостигаемого характера. Характер любого человека в существе своем неизменен, но на его эмпирические проявления оказывают влияние мотивы, которые действуют подобно причинам в мире неорганическом. Вот почему поведение человека может меняться в зависимости от ситуаций, мотивов и познания, действующих на него, но характер человека не подвержен изменениям в своей глубинной основе. Каждый из нас, замечает Шопенгауэр, пытаясь измениться, с удивлением обнаруживает, что у него ничего не получается из этой затеи – каждый из нас обречён в течение всего своего жизненного пути в разных вариантах воспроизводить самого себя. Так же, говорит он, человек с одной стороны ощущает себя внутренне свободным в своих действиях и поступках (априори), но на самом деле (апостериори) обнаруживает, что он «подчинен необходимости, что, несмотря на планы и размышления, он не изменяет своих действий и вынужден с начала до конца своей жизни проводить тот же, самим же им осуждаемый характер, как бы до конца разыгрывая принятую на себя роль». То есть, ощущения не совсем обманывают человека: он чувствует себя внутренне свободным потому, что воля, как вещь в себе, свободна – и он чувствует себя не свободным потому, что он есть индивидуализированное явление воли и как таковое строго подчинен закону причинности. Вот в общих чертах концепция свободы воли у Шопенгауэра. Но это одно из воззрений на данный вопрос, которое оставляет открытым другой вопрос: правомочно ли говорить о некоей воле, которая одна и та же в движении планет и в стремлении животного к размножению? Вообще, нужно ли усматривать скрытую от непосредственного восприятия, таинственную, необъяснимую волю за многообразием мировых явлений? Об этом мы уже говорили. Хотя концепция, на наш взгляд, интересная. А касательно рассуждений о свободе воли нам видится, что Шопенгауэр не идёт так далеко, как Балсекар и Вэй у Вэй, хотя он и отрицал свободу личной воли.
А вот Рамеш Балсекар прямо утверждает: единственный путь к успокоению ума – это понимание того, что ни я, ни вы, ни кто-либо иной из живущих не имеет свободы волеизъявления. Жизнь просто случается. Приписывая себе авторство в мыслях и действиях (ложно присваивая себе субъективность ноумена), человек обрекает себя на дополнительные страдания. Какого же понимания ждёт от нас Рамеш? Предоставим ему слово: «Человеческому существу нужно понять, что ноумен – это неизменная реальность, тогда как феноменальная вселенная событий, объектов и существ – это преходящая вселенная, организованная невидимой реальностью. Ноумен, концептуальный по природе, не имеет формы и, конечно, свободен от оков пространства и времени, составляющих саму основу феноменальной вселенной. Человеческое существо лишь часть этой феноменальной вселенной – уникальный инструмент, через который ноумен функционирует и создаёт каждое мгновение то, что должно случиться. Никто не умирает, так как никто не рождается. Каждая клетка, каждый атом, каждая молекула, каждое тело сосуществует одновременно с космическим океаном. Волна поднимается, индивидуальная и всё же неотделимая от океана, и исчезает в нём, а поскольку волна преходяща, феноменальная стадия заканчивается. Каждый уникален, и эта уникальность формируется всем остальным, и наоборот. Самое первое человеческое существо сосуществует со всеми человеческими существами всех времён, так как никто на самом деле не умирает, поскольку никто на самом деле не рождается». [1, с. 58] Никого нет.
«Проверьте это в огне собственного опыта», – призывает Балсекар. В качестве эксперимента он предлагает следующее: выберите наиболее удобное для себя время, расположитесь в кресле или на диване, выпейте, если нужно, кружку пива и вспомните какое-нибудь свое действие в течение дня. Вы должны быть уверенны, что это именно ваше действие. Теперь решите, почему вы его совершили. Ответ простой: вам пришла в голову мысль. Так или иначе, всё начинается с мысли. И Рамеш спрашивает: «Имели ли вы хоть какой-то контроль над возникновением этой мысли? Откуда она пришла? Почему одни мысли, случающиеся в нашем сознании, проскакивают мимо, а другие заставляют нас действовать так или иначе? Или наоборот – бездействовать? Наши действия (теперь возникает серьёзный вопрос – наши ли?) приводят к сцеплению целого ряда не зависящих от нас факторов, вовлекают других людей, над реакциями которых у нас также нет никакого контроля, и приводят к результату, который совершенно от нас не зависит». [1, с. 59]
В «Бхагавадгите» Кришна говорит Арджуне: «Ты не выбираешь, сражаться ли тебе со своими братьями. Я уже убил их в облике времени». [8] Получается, что единственно доступная нам свобода – это глубокое, не только на интеллектуальном уровне, а всем своим существом, постижение, что никакой личной свободы волеизъявления не было и нет. Наша свобода волеизъявления всегда идет рука об руку с предопределённостью. Мы всегда свободно выбираем (от малого и незначительного до самых серьёзных вещей) именно то, что предопределено. Кстати, известное изречение, что свобода – это осознанная необходимость, – не о том ли самом говорит?
Но если нет ни мира, ни индивидуума, то кто и от чего свободен? «Диалектическая воля – воля, действующая свободно при всей своей детерминированности, ибо она детерминирована небытием. Вероятно, что нет ничего недетерминированного, но, тем не менее, есть свобода. Свобода – это детерминированность небытием. Несмотря на очевидность своей несвободы, человек чувствует себя все же свободным. Эта иллюзия объясняется тем, что человек способен не быть», – утверждал А. Чанышев. [60, с. 158—166] Мысли Чанышева о свободе можно понять так, что мы, будучи условно существующими, полностью детерминированы. Мы детерминированы небытием, мы знаем, что в любой момент можем перестать быть в принципе. И эта детерминированность небытием, в отличие от детерминированности бытийственными аспектами (мы несвободны – и это факт), дарует нам чувство свободы. Получается следующее: детерминированность небытием равно чувству высочайшей свободы. Однако здесь присутствует очередная ловушка: хотя каждый из нас и знает, что он может мгновенно разделаться с бытием и полностью освободиться от всех трудностей и обязательств, освободиться от бремени существования как такового, но есть ли у индивидуума свобода решать, сделать ли ему последний шаг? Вопрос остаётся открытым.
В книге «Быть Никем» (2004), немецкий нейрофилософ (!) Томас Метцингер представляет теорию о том, каким образом мозг фабрикует субъективное ощущение нашего существования в виде дискретного «я». [22] Нас можно было бы назвать скорее системами обработки информации, для которых, в экзистенциальном смысле, целесообразно создавать иллюзию «быть кем-то». В схеме Метцингера человек не является «личностью», а механистически функционирующей «феноменальной Я-моделью», которая имитирует личность. В этой жизни нет никакого «я», а одно только тело, которое повинуется биологии и шествует по своим делам выживания.
Подобная ситуация может быть названа «парадоксом Метцингера»: Вы не можете знать, что вы такое на самом деле, потому что в противном случае вы узнаете, что знать некому и нечего (И что теперь?). Поэтому, вместо того чтобы быть «знающими ничто», мы существуем в условиях, которые Метцингер называет «наивным реализмом».
Так можно ли выйти из платоновской пещеры? Томас Метцингер говорит, что нельзя. Проблема не в том, что мы являемся узниками пещеры. В реальности всё гораздо хуже. «Я» – это тень на стене пещеры, которую отбрасывает сама пещера. Тень пещеры на её стене не может её покинуть, а сама пещера пуста, и в ней никого нет. Буддисты близко подошли к этому, но не смогли полностью расстаться с надеждой каким-то образом всё-таки сбежать. Но бежать некому. Вообще некому, даже наипросветлённейшему сознанию, давным-давно избавившемуся от эго. Сколько не медитируй, сколько не сливайся с Брахманом – всё это лишь та же тень на стене пещеры, только поменявшая форму. Любой опыт, любое переживание – это всё та же игра теней.
При этом Метцингер отмечает, что для нас «практически невозможно» достичь реального осознания своей нереальности из-за встроенных блокировок человеческого восприятия, которые удерживают наш разум в состоянии сна. В его трактате «Быть Никем» есть глава об умении «проснуться» в своих снах и понять, что сознание находится в мире иллюзий, созданных мозгом (это важно). В сумеречной зоне нашей жизни, где мы не в силах сказать о том, что происходит, и свободны выбирать лишь ничто, пребывающий в осознанном сновидении является единственным, кто не одурачен, как минимум – не одурачен самим собой (возможность состояния, описанного Эдгаром По: «Всё, что зрится, мнится мне, Всё есть только сон во сне» (перевод К. Бальмонта), «All that we see or seem / Is but a dream within a dream»).
«Имеют место некоторые аспекты научного мировоззрения, которые могут нанести ущерб нашему психическому здоровью, и это то, что каждый интуитивно чувствует». Что мог иметь здесь в виду Метцингер, кроме хорошо знакомых сюжетов романов ужасов, о том, что нам грозит опасность узнать что-то, что мы знать не должны? Уже много столетий мы живем под пронизывающими ветрами знаний о том, что мы знать не должны, но, тем не менее, обречены узнать. Но сколько подобного знания сможем мы в себя вместить? Что почувствует человечество, когда узнает, что мы вовсе не люди – что мы просто никто?
Рассуждая об условном существовании всего и вся, мы вынуждены признать эту же условность за тем, что мы называем человеческой личностью, которая якобы что-то решает и выбирает. На самом деле, мы никогда и ничего не выбираем, потому что наше «я» – это фикция. В каждое мгновение происходит то, что происходит, будь то мысль или желание, будь то какое-то (любое!) «наше» действие или же бездействие. И другим оно быть не может. А посему не только на всечеловеческом уровне нельзя ничего предпринять в плане кардинального улучшения жизни, но и на индивидуальном уровне нельзя сделать что-то такое, что не являлось бы неизбежным, необходимым, неотвратимым. Мы можем, к примеру, сколько угодно завидовать отшельникам, читать об этом всевозможную литературу и предаваться размышлениям о прелести отшельнической жизни, но если нам не суждено быть отшельниками, то мы ими не станем. Найдутся тысячи причин, чтобы мы не ступили на этот путь. Это то, что есть. По аналогии возможно рассмотреть любой, самый незначительный аспект нашей жизни. Например, вспомнить, сколько раз каждый человек давал себе какие-то установки относительно своего поведения, скажем, перестать пить по утрам коньяк, и как часто, совершенно неожиданно для себя, поступал с точностью до наоборот. Вспомнить, как наше сознание внезапно разворачивало нас и вело по пути, противоположному намеченному. Но при этом движение туда или сюда, иллюзия выбора между тем или этим, наш настрой, наши эмоции, события нашей жизни – всё это не имеет никакого смысла. Мир – это Майя (иллюзия), жизнь – это Лила (игра). А кто игрок? Если предположить, что весь этот мир является самосознанием пустоты, то в качестве источника можно назвать небытие, пустоту. Тогда пустота и есть игрок и игра одновременно. Она сценарист, режиссер, актер и зритель. Она не порождает этот мир – её самосознание и есть мир. Она сознает себя в миллиардах чувствующих существ, которые непрерывно возникают и исчезают, подобно миражам или персонажам сна. В этой связи можно предположить, что «Я» – это не маленькое придуманное «я», а всё поле осознания. «Я», о котором каждый из нас говорит – это некий созданный в уме образ, фикция. «Я» – это подборка воспоминаний, прошлых впечатлений, эмоций и мыслей. Причем подборка очень фрагментарная, избирательная и определенным образом структурированная. И вот это «я» придумывает (а вернее, к нему ниоткуда приходит мысль), что оно является автором своих действий, что оно имеет «волю». Но это самообман. Нет ни «тебя», ни «меня» – всё это иллюзия. Есть осознание Великой Пустотой самой себя и это самосознание выражается во множественности, в той игре, которая разыгрывается в этой множественности. Игра, если взглянуть на неё глазами людей, бессмысленная, абсурдная и жестокая. Возможно, её порождает избыточность пустоты. В своей избыточности она начинает отрицать себя (по Чанышеву) и «выходить за свои пределы» – и вот тогда «возникает» бытие, мир:
Это – зал ожиданья. Зла и страданья,
здесь навалом, насыпом, слоями, рядами.
Влево, вправо – немедленно ступишь в рыданья,
потому что достаточно здесь нарыдали.
Впрочем, выбора, этой единственно подлинной
человеческой роскоши, – выбора нет.
(Б. Слуцкий) [41, с. 10]
На вопрос о том, можем ли мы заглянуть по ту сторону предопределения, ответил Стивен Хокинг. Когда его спросили, действительно ли всё предопределено, он ответил, что всё действительно предопределено, но нам это никак не поможет, поскольку мы не знаем, что нам предопределено. Нам остаётся просто проживать свою жизнь от момента к моменту, что, в общем-то, каждый из нас и делает. Путь раскрывается по мере продвижения по нему – нет никакой надобности вычислять его заранее. А очищение ума (или лучше сказать, освобождение ума) может произойти спонтанно, если придет понимание (или случится понимание), что мы не являемся независимыми деятелями или авторами мыслей и действий. Тогда всё, происходящее с нами и вне нас просто свидетельствуется без малейшей попытки как-то изменить то, что есть в настоящий момент. Причем важно понимать: то, что есть – это всё, включая наши мысли, эмоции, импульсы и т. д. Если мы радуемся – это то, что есть. Если мы злимся – это то, что есть. Всё просто случается. Жизнь проживается посредством временного и эфемерного явления, имеющего такую-то форму и такое-то имя. Это не достигается никакими волевыми усилиями (кто должен совершать эти усилия?), никакими техниками и упражнениями (потому что в основе их лежит чувство личного делания). Это может просто случиться с теми, кто «предопределён» к такому пониманию. Через них может возникнуть это понимание. И тогда все вопросы отпадают сами собой. А может и не случиться это понимание. «Я», как индивидуум, не имею над этим никакой власти. Об этом говорит не только адвайта – современная нейробиология допускает, что любая наша мысль возникает в мозге за долю секунды до того, как мы её осознаем. Если вдруг у нас возникает желание отменить решение, то оно тоже возникает за долю секунды до того, как мы это осознаем. Значит, это не «наша» мысль, строго говоря. Либо под словом «наша» надо подразумевать нечто гораздо большее, чем поле нашего сознания. Но мы не можем увидеть это «нечто большее», поскольку невозможно увидеть небытие.
В повести С. Ярославцева (Аркадия Стругацкого) «Подробности жизни Никиты Воронцова» главный персонаж в течение многих лет многократно проживает одну и ту же жизнь. Он способен изменить нюансы происходящего, но в целом не в силах ничего изменить к лучшему ни в своей жизни, ни в жизни друзей и родных. Все его попытки предупредить И. В. Сталина о начале войны, Жданова о блокаде Ленинграда и даже отца о предстоящем аресте, оказываются тщетными. Отсутствие возможности выбора каждый раз всё расставляет на свои места.
Ещё интереснее в контексте проблемы свободы выбора роман норвежского автора Юстейна Гордера «Мир Софии». [13] Это популярное изложение истории европейской философии, начиная от Античной Греции и заканчивая субъективным идеализмом Беркли. Маленькая девочка София ведет диалоги с загадочным, напоминающим призрака оперы из романа Гастона Леру, учителем философии. Он проводит для неё виртуальные экскурсии в прошлое, знакомит с персонажами афинской философской школы и т. д. Но, когда дело доходит до Беркли, начинается настоящий детектив, потому что София догадывается, что и она и мифический учитель философии это всего лишь персонажи книги, которую, в форме писем, сочиняет реальный автор для своей дочери, чтобы проиллюстрировать ей историю философии. То есть, София понимает, что лишена свободы воли. Более того, она подозревает, что когда та, другая, настоящая девочка закончит чтение книги, она, София, попросту исчезнет. Она сообщает об этом своему учителю философии, который тоже, понятное дело, полностью придуман и понимает это. Они начинают искать выход из сложившейся ситуации. То есть, пытаются придумать, как преодолеть свой призрачный статус и перейти в реальность. При этом парадокс заключается как раз в том, что все их идеи по этому поводу вначале становятся известны сочинившему их автору, а уже потом им. Не правда ли, это сильно напоминает наши построения о не принадлежности нам «наших» чувств и мыслей, которые непонятно почему – скорее всего, в силу каких-то биохимических процессов, возникают в мозге, а уже потом мы их сознаем? Этот наделенный личностью автор, сочиняющий сюжет нашей жизни, списан как раз с философии Беркли, согласно которой все мы снимся друг другу и все вместе снимся Господу Богу. (Здесь возникает вопрос, который едва ли был в состоянии сформулировать Беркли: а является ли Господь творцом своих собственных сновидений?) Когда Бог проснется, мир исчезнет. Идеи о том, чтобы как-нибудь отсрочить конец света, как всеобщий, так и личный, напоминают попытки выдуманных персонажей книги Гордера продлить процесс философской переписки между отцом и его дочерью до бесконечности. Интересен еще такой момент: Софию сочинил настоящий отец для своей настоящей дочери, но ведь и их обоих придумал писатель Юстейн Гордер. А может и его тоже кто-либо придумал? Таким образом, пресловутая «реальная действительность» исчезает в дурной бесконечности взаимосвязанных сновидений и становится структурированной галлюцинацией. Вполне в духе буддизма мадхьямики и философии небытия. Всё, что нам остается, это плыть в настоящем, которое постоянно и неуловимо перетекает в прошлое, из небытия в небытие. Единственное, что вызывает во всем этом серьезные сомнения – это опять-таки упрямо воспроизводящий самого себя антропоцентризм, который явно просматривается даже в форме любого предполагаемого первоначала, которое предопределяет все наше поведение. А не может ли во всем этом господствовать случай, хаос? В чем смысл предопределения взаимного положения песчинок в пустыне, особенно во время песчаной бури? Если от нас в отдельности, да и от всего человечества в целом, в общей картине небытия абсолютно ничего не зависит, так может мы и растем совершенно спонтанно – пускай и вырастая при этом из небытия? В любом случае, идея какого-либо предопределения придает, на наш взгляд, чудовищно гипертрофированный смысл каждой отдельно взятой жизни, упуская из виду её заведомую ничтожность. Все это провоцирует на размышления о некой гармонии мироздания, а здесь уже и до пошлого оптимизма в духе Лейбница недалеко. Поэтому, чтобы избежать крайностей антропоцентризма, следует не забывать, что аналогия не является точным воспроизведением оригинала и – очень важно! – аналогия должна быть вовремя остановлена, а иначе мы рискуем перепутать аналогию с тем, что есть и, главное, чего нет на самом деле. Но у нас нет другого способа излагать свои мысли, как пользуясь словами. А слова вызывают самые разные ассоциации и мысленные модели. Проблема, видимо в том, что мы, псевдосубъекты, присваиваем себе то, что на самом деле случается. Однако и это «присваивание» от нас не зависит. Просто время от времени случается интуитивное понимание того, что мы неотделимы от источника, про который невозможно ничего сказать. Пытаясь заглянуть в него, мы заглядываем в бездну небытия. Точнее, пустота посредством нас вглядывается в пустоту, возвращаясь к самой себе. В абсолютном смысле нас нет так же, как нет девочки Софии и её таинственного учителя. А если мы лишены свободы, если мы являемся просто жёстко детерминированными существами, пусть даже запрограммированными, тогда всё моментально исчезает. Если нет свободы, то мир задан раз и навсегда, как жёсткая картина, как нечто с прочерченными траекториями. С точки зрения математики любую такую систему можно моментально свернуть в точку. Она иcчезает. А это и есть небытие. Мир, лишённый свободы – это мир небытия?
«У меня для вас одна хорошая новость и одна плохая, – говорит Рамеш Балсекар. – Вы не можете ни на что влиять – это плохая новость. Но не забывайте и хорошую: если вы действительно всем сердцем примете идею о том, что все события происходят вне вашей воли, что жизнь неподконтрольна вашему „я“, тогда исчезнут чувство вины, гордыня, зависть и ненависть». [1, с. 38]
Рамеш Балсекар делает акцент на том, что нет никакого индивидуального делателя – события просто случаются, жизнь просто проживается. При этом он достаточно часто употребляет слово «Бог», но это нельзя соотносить с личным христианским Богом: в своей книге «Покой и гармония в повседневной жизни» философ говорит об этом очень определенно. Для Балсекара источник (у Вэй у Вэя это Ноумен), Бог, Абсолют, Сознание, Пустота, Полнота, Единое – назовите это как угодно – является делателем. Поэтому слово «Бог» не должно никого смущать. Главная мысль Рамеша такова: источник наших поступков и действий лежит глубоко за пределами «нашего» контроля. Эту мысль можно принимать либо не принимать. Наблюдение, честное наблюдение – вот, в данном случае, критерий истинности. Дайте себе лишь один день для наблюдения за собой и вы увидите, что это так. О какой свободе может идти речь, когда мы говорим об отсутствии индивидуального делателя? Согласно Балсекару, о свободе тотальной, полной, совершенной. Так, умение отдать себя воде, расслабиться полностью, определяет ваши возможности как пловца. Также и в жизни. Надо отпустить вожжи – и, поверьте, ничего не случится! Вы станете очень эффективным наблюдателем всего происходящего в вас и вне вас. Однако, с позиций практической пользы всё это не так важно. Представим себе человека, находящегося в крайне тяжелых условиях: он погибает в холоде и голоде. Это Источник так захотел? Сказать бы это тому человеку…
Поэтому Рамеш Балсекар честно предупреждает, что овладение его концепцией «пусть жизнь течёт» неспособно кардинально изменить жизнь конкретного человека. Вероятно, сознание того, что от нас ничего не зависит, увеличит долю покоя в нашем, постоянно меняющемся эмоциональном пространстве, не более того. Поучается, что понимание есть, но оно нам почти ничего не даёт.
При этом понимание достигается, большей частью, за счет выключения разума и так называемого внутреннего безмолвия. Обычно метафизики, рассказывающие о внутреннем безмолвии, выстраивают рассуждения с помощью довольно сложных абстракций. То есть, их разум работает, – и очень хорошо работает, – но его работа осуществляется в другом режиме. С помощью этих абстракций, – используя слова и понятия, связывая их в сложную цепочку умозаключений, – метафизики стремятся выйти за пределы привычного мышления и восприятия реальности. Иначе говоря, за пределы действительности они выходят с помощью мысли. Рамеш Балсекар говорит: всё, что когда-либо кем-либо было сказано – это концепции. Метафизики же пытаются выйти за рамки любых концепций, используя… концепции. Рамана Махарши сравнивал этот процесс с использованием колючки, которая помогает вынуть из ноги другую колючку. Когда дело оказывается сделано – обе колючки выбрасываются. Иногда приёмы метафизиков приобретают абсурдный характер, как у учителей дзен-буддизма, например. Делается это умышленно, с целью разбить вдребезги у учеников традиционные базовые представления о мире и о себе. Конечно, эти приемы и рассуждения нельзя сопоставлять с потоком мышления, характерным для больного мозга – в них, несомненно, присутствует своя законченная логика, которая может быть непонятной нам до поры до времени. Возьмём в качестве примера философию Нагарджуны. Почему так сложно её понять? Возможно, проблема заключается в принципиально отличном, от свойственного нам, способе восприятия мира в целом. Чтобы начать свое движение вместе с Нагарджуной, мы должны каким-то образом перестроить свои внутренние механизмы понимания. Иначе все его рассуждения покажутся нам полным бредом. Это как, например, приступить к изучению математики или физики. Если к этому делу подойти с гуманитарной настройкой мозгов – скорее всего, ничего не выйдет. Мозги надо перестроить на особый, математический лад. Понятно, что далеко не у всех и всегда это получается, поэтому математика для многих представляется совершенно тёмной областью. Но тоже самое можно сказать и о метафизиках, рассуждающих о каких-то странных и непонятных вещах. Балсекару, когда он еще только начинал погружаться в адвайту, книга Вэй у Вэя была совершенно не по зубам – он возвращался к ней десятки раз, чтобы окончательно понять, что же пытается донести автор. Похоже, что напряженное думание, пытающееся превратиться во что-то оформленное, в чём-то сродни рождению стихов, которые просятся на бумагу. В нас что-то происходит ещё до того, как слова начнут складываться в предложения – мы как бы извлекаем из собственных глубин некие смыслы, которые присутствуют в нас в более-менее неявном виде. Эти смыслы напрямую связаны с нашими моделями мира – вообще, все возможные мыслеформы обусловлены нашим видением мира. А ещё они обусловлены нашим языком, который во многом определяет восприятие. Если мы сталкиваемся с чужим умопостроением, которое никак не соотносится с нашей картиной мира, то мы либо отторгаем это от себя, либо вообще не понимаем, о чем идет речь. Именно поэтому внутреннее безмолвие, о котором говорили мистики самых разных эпох и направлений, призвано вывести нас за пределы любых концепций. Нисаргадатта Махарадж обычно говорил посетителям, пытавшимся ему что-то сказать: «Не то! Не то!» И дело не в том, что он знал какое-то «то» – он предлагал каждому обратиться к истоку мыслей и ощущений. Мы не можем увидеть его как некий предмет, но мы можем быть им, мы есть он, хотя можем этого не осознавать. О чем бы вы ни сказали, о чем бы вы ни подумали – всё это будет «не то». То – это глубокое ноуменальное молчание, из которого приходят и в которое уходят наши мысли и ощущения. До тех пор, пока вы внутри своих мыслей – вы пленник этих мыслей. До тех пор, пока вы в режиме напряженного думания – вы ничего не увидите, поскольку вы будете порождать всё новые мысли, которые будут сменяться другими мыслями, зачастую прямо противоположными. Вы будет видеть только свои мысли – и ничего более. Мистики говорят, что подлинное понимание – за пределами мыслей. Но если вы держитесь за мысли, верите в них, то всё вышесказанное будет казаться вам чем-то странным и непонятным.
Необходимо разделять безумие и безмолвие ума – первое есть болезнь, а второе – высокое духовное состояние. По мнению Балсекара, мы не можем искусственно успокоить свой ум, потому что природа ума – беспокойство. Ум беспокоен по природе своей. Однако в процессе понимания у человека может происходить мягкое и ненасильственное – можно сказать, пассивное – наблюдение за своими мыслями, что приводит к успокоению ума. В какие-то промежутки времени случается полное – хотя и непродолжительное – затихание мыслей. И удивительно – при этом человек становится невероятно чуток и восприимчив к пульсу бытия. Именно в таком состоянии внутреннего безмыслия действия человека приобретают наибольшую эффективность. Но важно помнить: такое может случаться только само собой, безусильно. Любая попытка ухватиться за это состояние, удержать его есть ошибка – «кто» должен что-то удерживать? Когда у нас происходит этот процесс (иногда случается), мы ощущаем, что входим в согласие с собой и наслаждаемся той невероятной внутренней ясностью, которая его сопровождает. Человек в такие мгновения совершенно спокоен и внутренне стабилен. Что же в этом плохого?
Тем не менее, в философском творчестве Балсекара, как и у Шопенгауэра, нас несколько смущают определённые моменты. В частности, вот эти, свойственные любой мистике настойчивые призывы выключить разум. Когда мы такое слышим, возникает опасение, что, стоит выключить разум и к нам сразу залезут в карман. На Балсекара это не похоже, поскольку он занимал в Индии достаточно высокое общественное положение, был весьма обеспечен и не нуждался в том, чтобы торговать философией посредством создания секты. Но остается иное, весьма обоснованное подозрение. Оно заключается в том, что настойчивые призывы устранить разум вызваны необходимостью протащить контрабандой некие откровенно противоречащие ему (неразумные) идеи.
Далее. Балсекар говорит, что есть источник наших психических состояний и действий. Его можно называть как угодно: космический закон, абсолют, ноумен, пустота или Бог. Но основная мысль здесь заключается в том, что источник этот непредсказуем и характер его всегда будет оставаться для нас загадкой. Именно поэтому его можно обозвать как угодно. Но если философия хоть как-то пытается ответить на вопрос «зачем?», то религия даёт на этот вечный вопрос однозначный ответ: это воля Божья. Такой ответ, как мы с вами понимаем, представляет собою уход от ответа, это уловка отчаявшегося разума. Возможно, в качестве критерия истинности подобных концепций можно попробовать применить внимательные наблюдения за происходящим? Так, внимательно понаблюдав за сменой дня и ночи, мы приходим к очевидному выводу о неподвижности земли и движении ночных светил. Но насколько поможет погружение в галлюцинацию узнать о причине болезни?
И всё-таки, что же это за Источник, который стоит за нашими мыслями и действиями? Открываем Вэй у Вэя: «Ноумен, будучи по определению абсолютно лишенным и следа объективности, не существует, не может быть, в каком бы то ни было смысле – поскольку все формы бытия непременно должны быть объективными. Здесь язык нас подводит, его надо оставить позади, как плот, переправивший нас через реку. Все, что мы можем сказать, – это: «То, или все, чем являются чувствующие существа, само не существует». (!) [11, с. 77]
Если это непонятно, оно покажется неудовлетворительным, но будучи понято, оно приносит свет и откровение, и причина очевидна: понимание «само» есть ноумен, которым мы являемся.
Понять что-то – это одномоментный акт, а познавание – растянутый во времени процесс. «Моя» феноменальная жизнь в феноменальных времени и пространстве – это визуализация пустоты. Следовательно, познание (в данном контексте) есть «движение» пустоты в феноменальность. Когда «я» устремлен вовне – нет познания, есть игра ума с объектами. Когда «я» обращен вспять («вернитесь туда, где „вы“ были до своего рождения») – это отождествление с пустотой, которая ведет «меня» без посредничества ложной концепции «я». Поэтому нам представляется, что обращенность нашего «я» вспять – суть проявление иллюзии бытия в виде иллюзии времени. Пространство позволяет воспринимать форму объектов, а время – длительность явлений. Об этом же говорят неустанно и Вэй у Вэй, и Балсекар, и Махарадж. И Шопенгауэр, кстати, тоже. Последний называет пространство и время «принципом индивидуации», благодаря которому возможна множественность явлений. Вэй у Вэй утверждает, что пространство и время обладают кажущимся существованием (то есть, сами по себе они не имеют никакого существования) – они сопровождают события и делают их развитие осуществимым. Иначе говоря, они делают события воспринимаемыми. Когда индивидуум умирает и его сознание угасает, прекращаются и время, и пространство. Можно сказать, конечно, что они прекращаются только для него, но это отдельная тема. Скажем так, что лишь благодаря сознанию они (пространство и время) возможны. А вот вопрос о том, что такое сознание и является ли оно «моим» достоянием или же «я» возникает благодаря ему – стоит хорошенько обдумать. В самом деле, человек владеет сознанием или наоборот? Традиционная материалистическая точка зрения нам хорошо известна, но если обратиться к принципиально иным взглядам на природу реальности, то можно прийти к следующему заключению: сознание вообще (не «моё», «ваше» или чьё-то ещё – а вообще, поскольку нет ни моего, ни вашего сознания) является проявлением, объективацией пустоты, небытия, ничто – и именно в нем, в сознании, возникает весь феноменальный, проявленный мир. Нам представляется, что мы настолько обусловлены материалистическим видением, что подобное утверждение кажется абсурдным, но, тем не менее, не дает покоя одна мысль. А именно: сложно понять, принять и переварить совершенно фантастическую идею, что с моей смертью угаснет весь мир. Не я только, а всё, всё, абсолютно всё! Как это вообразить хотя бы в малой степени? Невозможно! Но это факт, против которого возразить нечего. Нет, конечно, можно сейчас живо представить себе плачущих родственников и аккуратный холмик с табличкой – вот он, мир! – но невозможно никак, ну совершенно никак, вообразить, что «мой» мир (да это же весь мир!!!) абсолютно исчезнет. Не знаем, получается ли, но мы вновь ведём потихоньку к сознанию, благодаря которому (только благодаря которому) возможен весь этот мир и которое есть проявление, объективация пустоты, небытия, ничто. При этом оно одно, но в иллюзии бытия оно становится множеством. Фактически, как шопенгауэрова воля. Понимаем, что это надо доказать, и пока затрудняемся с этим делом, хотя интуитивно чувствуем, что есть в этом утверждении смысл. Попробуем ради умственного эксперимента двинуться дальше. Так вот, на «дне» этого единого сознания, «позади него», «за ним» – абсолютное ничто. В этом контексте можно предположить, что «непостижимая, трансцендентная, сугубо эксклюзивная флуктуация» абсолютного ничто – это, по-другому, проявление пустоты, «становящейся» сознанием, в котором возникает весь мир вместе со «мной» («я» ведь могу воспринимать себя как объект среди прочих объектов), «вами» и всем остальным. Эта флуктуация абсолютного ничто рождает мир, как наше восприятие. Нет восприятия – нет и мира.
Да, пустота повсюду и всегда, в том числе здесь и сейчас, но пелена Майи не позволяет увидеть её большинству людей. Может быть, вначале её нужно увидеть в себе? Но об этом будет сказано ниже. Скажем только, что призыв обратиться вспять – это интеллектуальный прием, который должен воздействовать на нас подобно оглушительной пощёчине, приводящей к молчаливому оцепенению. Хотя бы на мгновение никаких мыслей, никаких рассуждений, никаких концепций – полная тишина. Пускай в течение нескольких секунд. В этом ключе мы и понимаем «быть» у Махараджа – «Я есть тишина ничто, из которой возникает всё». Тишина, направленная вовне, объективирующееся небытие, проявляющаяся пустота. Всё остальное – развлечение с объектами. И вот мы думаем: раз ощутив эту тишину позади всех своих мыслей и восприятий, не можем ли мы в любой момент времени возвращаться в неё? Не была ли она с нами всю жизнь? Не случилось ли так, что пребывая всегда во внешнем, в непрерывном объективировании и концептуализации, мы не замечали её?
Возможно ли увидеть пустоту, путем мгновенного просветления неожиданно осознав, что мы находимся не по ту, а уже по эту сторону запертых ворот? Насколько известно, идея внутренней тишины, выступающей как результат упорного и умелого пресечения внутреннего диалога очень близка к даосскому принципу у-вэй с его ежедневной практикой очищения сознания. Однако даосские учителя честно предупреждают, что гарантий никаких нет. А может быть внутренняя тишина это всего лишь еще одна уловка иллюзии бытия? Мы воображаем себе, что поняли пустоту, а это всего лишь хитро прикинувшееся ничем бытие… Не случайно ведь суфии и исихасты предупреждают относительно опасности «впасть в прелесть»?
Полагаем, что увидеть мы ничего не можем при всём желании – мы находимся с «этой» стороны. А когда окажемся с той – тем более ничего не увидим. Однако не лишним было бы задать вопрос: а что значит «увидеть»? Ведь увидеть – значит воспринять пустоту как объект, как нечто внешнее по отношению ко «мне», не так ли? Но если пустота – это око, которое видит посредством нас, то каким образом она – посредством нас же – может увидеть сама себя? Здесь мы оказываемся в ловушке. Думается, что, в данном случае, внутреннюю тишину можно сравнить (условно, конечно) с апофатическим богословием, когда мы отрицаем любые концепции, любые объективации, включая объективацию пустоты – «не это, не то». Даже пребывая во внутренней тишине мы не видим пустоту, поскольку мы и есть пустота. Предположим (!), что мы всегда были ею в глубинной основе своего существа. Почему нет? Тогда становится ясным смысл фразы «ищущий есть искомое». Что касается вопроса, не может ли быть внутренняя тишина ещё одной уловкой иллюзии бытия, он возвращает нас к безуспешным попыткам объективировать (превратить в наблюдаемый и исследуемый объект) то самое око, которое обращено вовне из глубины нашего «я». А вдруг пустота где-то «там» или «тут», а мы этого не видим? Но если она не там и не тут, и не где-либо ещё? Если это она вопрошает, смотрит и ищет? Что она может найти вовне? Почему случилось так, что предметное поле философии небытия – при том, что философская мысль пыталась проникнуть в самые разные, мыслимые и немыслимые, области – представляется какой-то заколдованной? Не по этой ли самой причине – ищущий есть искомое? Даже если всё, сказанное сейчас – ошибка, мы уверены, что никогда мы не сможем ни увидеть, ни познать пустоту во внешнем. Отсутствие – да, увидим, но… сама пустота находится за пределами феноменального отсутствия и присутствия.
Поэтому нам совершенно не грозит опасность впасть в прелесть. В том-то и прелесть! Что бы мы ни думали о небытии, как бы ни изощрялись, или, наоборот, совсем не думали о нем и были до краев наполнены бытием – это ничего не решает. Небытие на нас не обидится при любом, абсолютно любом, раскладе. Так что мы можем, следуя методологии Пола Фейерабенда (Anything goes!), смело пускать мысль в самых разных направлениях
Всё вышеизложенное – одна из возможных точек зрения на небытие. Конечно, как и в случае с волей Шопенгауэра, положа руку на сердце, мы ничего не знаем наверняка. Да и не узнаем никогда. Но почему бы не ознакомиться с отличными от общепринятых формами восприятия мира? В конце концов, общепринятые концепции не рассеивают туман и не удовлетворяют нас – попробуем же аккуратненько поискать в другой стороне. Чем пустота не шутит?
Если же теперь вернуться в привычное нам предметное поле естественнонаучного знания, то, с позиций нейрофизиологии, источником наших, поначалу несознаваемых, мыслей является, безусловно, мозг. Нейрофизиолог Дик Свааб пишет: «Люди должны знать, что источником наших удовольствий, радостей, смеха и шуток, точно так же как и наших горестей, болей, печалей и слёз, является не что иное, как мозг. С помощью мозга мы думаем, видим, слышим, отличаем уродливое от красивого, плохое от хорошего, приятное от неприятного. Надо знать, что огорчения, печаль, недовольства и жалобы происходят от мозга. Из-за него мы становимся безумными, нас охватывает тревога и страхи либо ночью, либо с наступлением дня; в нем лежат причины бессонницы и лунатизма, невозможности собраться с мыслями, забывчивости и необычного поведения. Всё, что мы думаем, делаем и не делаем, осуществляется нашим мозгом. Строение этой фантастической машины определяет наши возможности, наши ограничения и наш характер; мы – это наш мозг. Исследование мозга – не только поиски причин мозговых заболеваний, но также поиски ответа на вопрос, почему мы такие, какие мы есть, поиски самих себя». [69, с. 66]
В 1981 году американский философ Хилари Патнэм написал книгу «Разум, истина и история». В ней он утверждает, что, возможно, наш мозг подключен к суперкомпьютеру некоего злобного духа, который продуцирует нам все наши ощущения. Примерно ту же мысль задолго до Патнэма высказывал Декарт и пытался её опровергнуть своим «мыслю, следовательно, существую». Данная идея легла также в основу знаменитого фильма «Матрица». При этом и Декарт и Патнэм пытаются опровергнуть данное предположение. Они пытались продемонстрировать, что сценарий «мозга в колбе» несостоятелен, но показали лишь, что «мозг в колбе фактически не может представить себе мозг в колбе». Иначе говоря, состояние мозга в колбе не может быть замечено и описано изнутри колбы. Поэтому основополагающий вопрос: существует ли мир или он есть наша иллюзия, всегда будет оставаться без ответа.
С позиций философии небытия ноуменальный центр, распоряжающийся феноменальной активностью, которая проявляется в «моих» мыслях, чувствах, эмоциях, поступках, действиях – это пустота, ничто, небытие. Получается, что, приписывая думание, говорение и действие «себе», я пребываю в состоянии несвободы и вечной путаницы, но если случается понимание вышесказанного, всё становится предельно простым. Здесь можно подойти к рассмотрению вопроса с позиций двух уровней: относительного и абсолютного. Абсолютный уровень – это пустота. Относительный уровень – это разыгрываемый на пустой сцене спектакль. В рамках спектакля мнения, суждения, оценки, критерии, поступки, действия играют свою относительную роль. В пустоте же всё пусто. Соответствия и несоответствия между идеями и поступками не играют никакой роли на абсолютном уровне пустоты. Ни поступки, ни мысли на самом деле не являются нашими. Никакие концепции не отражают последнюю истину в силу своей концептуальной природы. В поступках тоже нет истины: «Пусть не томят тебя пути судьбы проклятой, пусть не волнуют грудь победы и утраты: когда покинешь мир – ведь будет всё равно, что делал, говорил, чем запятнал себя ты» (Омар Хайям). [52] Истинна только пустота. Однако на относительном уровне, в сюжетной линии пустотного сценария и поступки, и мысли (а также их соответствие или несоответствие) можно условно воспринимать как значимые. Свобода – это пребывание на относительном уровне в пустотном состоянии, но с сохранением «как будто»: всё должно происходить так, как будто я являюсь автором своих мыслей и действий, и при этом готов принять ту или иную точку зрения или суждение всерьез. А как я могу быть в пустотном состоянии? Лишь освободившись от чувства личного делания, которое может только случиться, если понимание проникнет глубоко, не оставив и капли сомнения. Тогда пустота не просто ведёт меня (что было всегда), но к этому добавляется ясное сознавание данного факта.
Возникает вопрос: но кто всё это сознаёт? Я. И это, опять же, концепция. И, как любая концепция, она условна, относительна и ограничена. Понимаете, о чем я? Вот смотрите, если я скажу, что всё есть материя и сделаю из этого соответствующие выводы, то «я» неизбежно буду ограничен этой материей. Если «я» скажу что-то про волю, то она (концепция воли!) станет отправной точкой моего иллюзорного существования: с чем бы я ни имел дело, я буду мысленно возвращаться к «воле». И это можно распространить на любые понятия и установки. Но где же верные понятия и установки? Лучше переформулировать вопрос так: где корень ошибки? В «я» и только в «я». Все концепции возникают из «я». Так вот, реализация – это исчезновение «я». На смену обусловленной «я» жизни приходит спонтанное функционирование ноумена.
У Станислава Грофа, который занимается трансперсональной психологией, есть описание того, как некоторые люди, пережившие измененное состояние сознание, описывают встречу с пустотой:
«Когда мы сталкиваемся с пустотой, мы ощущаем ее как изначальную пустотность космического масштаба. Мы становимся чистым сознанием, воспринимающим это абсолютное ничто, но в то же время испытываем парадоксальное ощущение его сущностной наполненности, насыщенности. Этот космический вакуум являет собой абсолютную полноту, ибо в нем, кажется, присутствует все. Он ничего не содержит в конкретной, явленной форме, но словно бы заключает в себе все бытие в его потенциальной форме. Вот таким парадоксальным образом мы можем выйти за пределы обычной дихотомии между пустотой и формой, или существованием и несуществованием. Однако возможность такого разрешения нельзя адекватно передать словами; постичь ее можно только в переживании. Пустота превосходит обычные категории времени и пространства. Она неизменна и пребывает за пределами всех дихотомий и противоположностей, таких, как свет и тьма, добро и зло, покой и движение, микрокосм и макрокосм, муки и блаженство, единственность и множественность, форма и пустота и даже существование и несуществование.
Этот метафизический вакуум, насыщенный потенциалом всего сущего, есть колыбель всякого бытия, абсолютный исток жизни, а сотворение всех феноменальных миров, следовательно, есть реализация и конкретизация этого потенциала.
Когда мы переживаем пустоту, у нас возникает чувство, что она, являясь истоком всего бытия, содержит в себе все творение. Иными словами, она представляет собой все бытие, ибо вне ее лона не существует ничего. В терминах наших обычных понятий и логических норм здесь как будто бы заключен ряд фундаментальных противоречий. Ведь не может не показаться абсурдом, что пустота содержит в себе мир феноменов, мир явлений, которые характеризуются прежде всего наличием формы. Аналогичным образом здравый смысл подсказывает, что творческий принцип и творение не могут быть одним и тем же и должны отличаться друг от друга. Однако необычная природа Пустоты выходит за пределы этих парадоксов». [14]
Возвращаясь к проблеме несвободы воли, необходимо подчеркнуть: феномены, каковыми, согласно самому термину, мы видимся, – это не что иное, как ноумен, а ноумен – то есть все, чем мы являемся, – хотя сам по себе и не существует, есть – феномены (видимость)». Что же получается? Тот Бог, Абсолют, Источник, Сознание – это… ничто. Тогда получается, что нет действия и нет, следовательно, источника действия (сравните эту мысль с вышесказанным), есть лишь спонтанная, хаотичная иллюзия? Выходит, что так. Именно спонтанная (случайная), хаотичная иллюзия. Конечно, когда речь заходит о каком-то Источнике, то нам представляется нечто фундаментальное, плотное, определенное, но не тут – то было. Ничто, пустота, небытие.
Здесь есть ещё один любопытный момент: с точки зрения Балсекара свобода состоит в принятии концепции «пусть жизнь течёт». В это заключается очевидный парадокс: категорическое отсутствие свободы выбора служит основанием некой иной свободы. Свободы плыть по течению? Свободы от ненужных переживаний относительно неправильного выбора? Но охватывают ли эти свободы всё пространство возможной свободы? И чем они лучше той же самой свободы выбора, из отрицания которой они каким-то образом возникают? Разве нас становится легче оттого, что мы бессильны? Если стратегия жизни вершится без всякого нашего участия, большинство людей этого не замечает. Тогда вновь возникает вопрос: а что нам даёт в практическом смысле уничтожение фикции нашего «я»?
«Свобода воли – это иллюзия. Наша воля попросту не является нашим собственным произведением» – заявил американский философ Сэм Харрис. [53] До него мало кто отваживается на публичное опровержение святая святых нашей жизни, а именно, на кажущееся незыблемым представление, что каждый из нас – маленькое «я» – является безусловным автором своих мыслей и действий. Автор очень детально, обстоятельно и всесторонне рассматривает эту тему: «Человеческие „выборы“ возникают в нашем мозге, будто бы появившись из пустоты. С точки зрения нашей осознанности мы не более ответственны за следующую мысль, которую мы подумаем (и, соответственно, сделаем), чем за факт нашего рождения». [53, с. 34]
С точки зрения адвайты нет такого понятия, как «просветленный индивидуум». Потому что нет никакого индивидуума. Сама вера в «индивидуума» – это Лила, Божественная игра. Но просветление может СЛУЧИТЬСЯ через определенный механизм тела – ума как одно из феноменальных явлений. Ноуменально вопрос о просветлении кого – либо даже не стоит. Мы – марионетки в грандиозном спектакле жизни, напрочь лишенные свободы волеизъявления. И через некоторых марионеток время от времени СЛУЧАЕТСЯ такое событие, как просветление. И знаете, в чем оно заключается? Цитируем Вэй у Вэя: «Пока субъект центрирован в феноменальном объекте и думает и говорит оттуда, субъект отождествлен с этим объектом и ограничен им. Пока это условие сохраняется, отождествленный субъект не может стать свободным, поскольку свобода – это освобождение от такого отождествления. Покидание феноменального центра составляет единственную „практику“, и это покидание является не актом, намеренно совершаемым отождествленным субъектом, а недеянием (у —вэй), оставляющим ноуменальный центр распоряжаться феноменальной активностью без фиктивного вмешательства воображаемого „я“. Ты все еще думаешь, смотришь, живешь из воображаемого феноменального центра? Пока ты продолжаешь делать это, ты никогда не узнаешь вкус свободы». [11, с. 78]
О чем здесь речь? Вы, конечно, и сами можете разобраться (не сомневаюсь), но чтобы не перечитывать вышеприведенную цитату несколько раз, скажем кратко: свобода – это полное и окончательное понимание, что «мы» не являемся авторами своих мыслей, желаний, чувств и действий. В книге «Свобода воли» американский философ Сэм Харрис говорит о том же, только более простым и доступным языком.
О свободе (точнее, о её отсутствии) размышляет и Бертран Рассел в книге «Почему я не христианин», в эпизоде, где Мефистофель рассказывает доктору Фаусту об истории творения:
«Бесконечные восхваления хора ангелов стали утомительны; ведь, в конце концов, разве Он не заслужил этого? Разве Он не дал им вечного блаженства? Не приятнее ли получать незаслуженную хвалу и почитаться существами, которым Он принесет страдания? Он улыбнулся про себя и решил, что великая драма должна быть сыграна.
Неисчислимые века раскаленная туманность бесцельно вращалась в пространстве. Со временем она приняла форму, образовались центральное тело и планеты, последние остывали, бурлящие моря и пылающие горы вздымались и опускались, из черных облаков на едва застывшую землю низвергались горячие потоки дождя. Затем в глубинах океана возник первый росток жизни и быстро развился, в благодатном тепле, в огромные деревья, громадные папоротники, выраставшие из влажной почвы, в морских чудовищ, размножавшихся, дравшихся, пожиравших друг друга и гибнувших. А из чудовищ, по мере того как драма развертывалась, возник человек, обладавший силой мышления, знанием добра и зла и нестерпимой жаждой поклоняться. И человек увидел, что все преходяще в этом безумном, чудовищном мире, что все вокруг борется за то, чтобы ухватить любой ценой несколько кратких мгновений жизни, прежде чем смерть вынесет свой беспощадный приговор. И человек сказал: «Есть скрытая цель, которую мы могли бы постичь, и эта цель благая; ибо мы должны почитать что-нибудь, а в видимом мире нет ничего достойного внимания». И человек вышел из борьбы, решив, что бог вознамерился создать из хаоса гармонию человеческими усилиями. И когда он следовал инстинкту, который бог передал ему от его хищных предков, то называл это грехом и молил простить его. Но он сомневался, есть ли ему прощение, пока не изобрел божественного плана, по которому гнев Божий должен быть утолен. И видя, что настоящее нехорошо, он сделал его еще хуже, так, чтобы будущее могло стать лучше. И он возблагодарил Бога за силу, позволившую ему отказаться даже от тех радостей, которые были доступны. И Бог улыбнулся; и когда увидел, что человек достиг совершенства в отречении и поклонении, запустил в небо еще одно Солнце, которое столкнулось с Солнцем человека; и все опять превратилось в туманность.
«Да, – тихо сказал Он, – это было неплохое представление; надо посмотреть его еще раз».
Таков в общих чертах мир, который рисует нам наука, – он даже еще бесцельнее и бессмысленнее.
Когда мы впервые ясно видим противоположность факта и идеала, кажется, что для утверждения свободы необходим дух яростного восстания… Кажется, что противостоять с прометеевской твердостью враждебной вселенной, всегда помнить о зле и ненавидеть его, не прячась от ударов, наносимых злобной властью, – долг тех, кто не станет унижаться перед неумолимым. Однако негодование всё еще кабала, ибо обращает наши мысли к этому злокачественному миру; поэтому в яростном желании, порождающем дух восстания, есть какое-то самоутверждение, которое мудрым людям необходимо в себе преодолеть. Негодование есть подчинение наших мыслей, но не желаний; а мудрость стоической свободы заключается в подчинении желаний, но не мыслей. Из подчинения желаний вырастает добродетель смирения. Свобода приходит только к тем, кто уже не требует от жизни никаких, подверженных действию времени, личных благ.
В смирении есть еще одно достоинство: даже реальных благ не следует желать, когда они недостижимы. Для молодых нет ничего недостижимого; вещь, желаемая со всей силой страсти и вместе с тем невозможная, для них непредставима. Но смерть, болезнь, нищета, голос долга, дают всем нам понять, что мир создан не для нас и что, как бы прекрасны ни были вещи, к которым мы стремимся, случай непременно всё переиграет по-своему. Когда приходит несчастье, мужество заключается в том, чтобы стерпеть без единого слова крушение надежд и отвратить мысли от тщетных сожалений». [30, с. 103]
Нам представляется, что размышления Рассела о смирении (резиньяции) в чём-то перекликается с этикой Шопенгауэра и концепцией Балсекара «пусть жизнь течет». Когда приходит понимание своего тотального бессилия перед случаем, когда ты вдруг глубоко осознаешь свою безмерную малость и предельную хрупкость в этой гигантской и непостижимой Вселенной, остается одно – смириться. Смириться перед течением своей жизни, перед своими недостатками и изъянами, перед своим принципиальным непониманием, перед будущим – зная, что всё это когда-то закончится и мы вернемся туда, откуда пришли на очень короткое время. А смирение, (в интерпретации Балсекара), это следование случайностям потока.
Вообще, под смирением можно понимать разные состояния. Прежде всего, надо исключить так называемое смиренничанье. То есть пародию на смирение. Иногда люди их путают. Например, стоят две женщины в церкви и только что наговорили друг другу кучу гадостей. «Прости меня», – кланяясь говорит одна. А у самой злое лицо. Другая в ответ, еще ниже кланяясь: «Нет, это ты меня прости!» Причем у второй на лице ядовитая улыбка. Понятно, что тут никакого смирения нет. Смирение предполагает примирение. Человек сознает, что от него ничего не зависит. Он примирился и с конкретной ситуацией (бывает целое нагромождение ситуаций), и с возможными последствиями, каковы бы они ни были. Вот это и есть в нашем понимании смирение. Но мы не прикладываем смирение к межличностным отношениям – вот в чем дело. Во-первых (это главное) – мы не верим в любовь к ближнему. А во-вторых – не считаем, что человек должен любить кого-то кроме действительно дорогих и близких людей. Не делать гадостей ближним, быть, по возможности, вежливым и незложелательным – да, это нормально. Но любить – глупости. И мы не знаем таких, кто действительно любит ближних. Это невозможно, поскольку противно человеческой природе. Но христианское смирение базируется именно на любви к ближнему. Нет, нам, безусловно, ближе балсекаровское понимание смирения как принятия того факта, что от «меня» ничего не зависит, включая меня самого. Ты принимаешь то, что происходит в твоей жизни (не одобряешь, но принимаешь как неизбежную данность). И ты принимаешь свои реакции (включая реакцию неодобрения) как неизбежную данность. У тебя могут быть симпатии, антипатии, перепады настроения, усталость, подъем, раздражение, сочувствие – ты не борешься со всем этим (бесполезно), ты включен в поток вместе со всеми событиями.
Мы видим, что смирение – это слово, которое может иметь различны оттенки. Можно, конечно, представить себе склоненную голову, но, если вдуматься в само слово «смирение», оно звучит буквально так: с миром. «Стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи», – говорил преподобный Серафим Саровский. Отстраненность – это ведь тоже внутренний мир, не так ли? В нашем (и Балсекара) понимании смирение (попробуем отойти от привычных толкований этого понятия – в них на самом деле присутствует душок самоуничижения) близко к отстранённости. Хотя есть и различие между ними. Достаточно легко быть отстраненным, пока тебя по-настоящему не заденут какие-то жизненные факторы. Но когда задевают, – и ведь еще как задевают, – мы вовлекаемся. И здесь перед нами два пути: или бороться, или смириться. В этом и только этом смысле мы толкуем смирение.
К примеру, известный церковный писатель Игнатий Брянчанинов, который считается крупнейшим духовным авторитетом для православных, написал в своё время статью о крепостном праве. Игнатий берет Свод Законов Империи, а потом положения из этого свода «обосновывает» с православной точки зрения. Вот некоторые цитаты: «Духовные, наипаче же священники приходские, имеют обязанность предостерегать прихожан своих противу ложных и вредных разглашений, утверждать в благонравии и повиновении господам своим, всемерно стараться предупреждать возмущения крестьян и их от того удерживать». «Все помещикам принадлежащие крестьяне и дворовые люди должны спокойно пребывать в их звании, быть послушными помещикам своим в оброках, работах и всякого рода крестьянских повинностях и исполнять в точности обязанности законами на них возложенные». [36, 2, с. 55—56] У нас воззвание канонизированного церковью епископа Игнатия отчего-то оставляет неприятное чувство. И ведь это воззвание было написано за два года до отмены крепостного права! Такое смирение едва ли может быть приемлемо. Может быть, потому, что святитель Игнатий смиряется не лично в отношении себя, а оптом, от лица множества рабов. Хотя разве эта разница принципиальна? Наступает определённый предел, когда совпадение множества неосознанных случайностей вызывает взрыв. Это относится и к субъектам исторического процесса и к отдельным индивидуумам. И восставшие крестьяне Емельяна Пугачёва вешают дворянских младенцев на глазах у их насилуемых матерей, пенсионер достаёт своё старое охотничье ружьё и маньяк берётся за молоток. Их систематически задевают и они вовлекаются. Можно ли их винить в этом?
Мысли и поступки – это результат случайного состояния нашего мозга в любой данный момент. Нами полностью управляет слепая игра нейронов мозга. На первых страницах книги «Свобода воли» Сэм Харрис рассказывает историю реального преступления. В 2007 году двое мужчин проникли в частный дом, где оглушили хозяина бейсбольной битой, а его жену и двух дочерей привязали к кроватям, старшую дочь изнасиловали. После этого они забрали все обнаруженные деньги, подожгли дом и скрылись. Отец очнулся и смог вовремя выбраться, но все женщины погибли. Когда в полиции спросили пойманного преступника, отчего он не развязал женщин перед тем, как поджечь дом, тот пояснил, что это не пришло ему в голову.
Сэм Харрис считает, что, в силу отсутствия свободы воли, у преступников не было выбора. И если бы он стал одним из них, то неизбежно поступил бы так же. «Тогда во мне не было бы такой части, которая могла смотреть на мир по—другому». [53, с. 25]
Да, отстранённость – неплохая установка. Только как научиться быть отстраненным, как воспитать в себе это состояние? Постоянно напоминать себе пустотные истины, превратить в мантру мысли о ничтожности и бренности вещей? Может быть, и так. Можно как-то упражняться в отстранённости. Наверно, как всякая сознательно принятая психологическая установка, отстранённость требует закрепления и усиления с помощью определённых приёмов. Можно, конечно, испытывать отстранённость в течение одной, двух недель, но потом жизненные перипетии разрушают эту установку. Вот почему смирение (в том смысле, в котором использует это понятие Балсекар) представляется весьма полезным в сложных ситуациях, воздействовать на которые мы не можем. Конечно, до тех пор, пока ситуации полностью не выйдут из под контроля.
По вопросу отсутствия свободы воли есть интересные рассуждения у Альберта Эйнштейна: если Луна, совершая своё вечное движение вокруг Земли, обладала бы даром самосознания, она была бы абсолютно убеждена, что движется по собственной воле. Точно так же существо, одаренное более глубокой степенью проникновения в суть вещей и более совершенным интеллектом, наблюдая за человеком и его действиями, улыбалось бы, видя заблуждение человека, который думает, что действует в соответствии с собственной волей… Человек защищается, он не хочет, чтобы его считали беспомощным объектом в процессе хаотичного движения Вселенной. Но должны ли законы, которые более или менее очевидны в неорганической природе, прекратить своё действие в отношении функционирования мозга?
Вы скажете: «ведь это мой мозг принимает решение»? Ответ Сэма Харриса: «В этот самый момент вы делаете бесконечное количество бессознательных «решений» с помощью органов, отличных от вашего мозга – но эти решения не те события, за которые вы чувствуете ответственность. Производите ли вы красные кровяные тельца или пищеварительные энзимы в этот момент? Конечно, ваш организм делает эти вещи, но если он «решит» поступить по-другому, вы скорее станете жертвой этих изменений, чем их причиной.
В вашем теле больше бактерий, чем человеческих клеток. Фактически, 90 процентов клеток вашего тела – микробы вроде кишечной палочки (и 99 процентов функциональных генов в вашем теле принадлежат им). Многие из этих организмов выполняют необходимую функцию – они – это «вы» в более широком смысле. Вы чувствуете идентичность с ними? Если они неправильно себя ведут, вы морально ответственны?
Каким образом мы можем быть «свободны», как сознательный действующий субъект, если все, что мы осознанно делаем, является следствием событий происходящих в нашем мозге, которые мы не в состоянии планировать и о которых мы полностью не осведомлены?
Мы не можем. Говоря, что «наш мозг» решил подумать, действовать, сознательно или нет, каким-то определенным образом, и, говоря, что это является основой нашей свободы, мы игнорируем основной источник нашей веры в свободу воли: чувство осознанного действия. Люди чувствуют, что они авторы своих мыслей и действий, и это единственная причина, по которой им кажется, что проблема свободы воли достойна обсуждения». [53, с. 26]
Таким образом, по Харрису, «…человеческие «выборы» возникают в мозге, будто бы появившись из пустоты. С точки зрения вашей осознанности вы не более ответственны за следующую мысль, которую вы подумаете (а, соответственно, сделаете) чем за факт вашего рождения… Но если посмотреть глубже видно (рассуждая и объективно, и субъективно), что мысли просто возникают без авторства и управляют нами». [53, с. 29] Вы скажете: «Если не я принимаю решения, то кто же? Кто, если не мы?» А вы знаете, кто «вы»? Как говорила Сова Винни Пуху: «Я» бывают разные!» И Сиоран задавался этим вопросом: «Что это за незнакомец путается под ногами?»
Согласно известным экспериментам нейролога доктора Либета, решение совершить поступок (поднять руку, передвинуть стул, выбрать одно число из нескольких предложенных) принимается мозгом до того, как сознание фиксирует это. Осознание принятого мозгом решения порождает иллюзию свободного выбора. На самом же деле наши мысли и поступки являются проявлением случайных неврологических импульсов и спонтанных состояний мозга. Скажем, мы выпиваем стакан воды. Почему воды, а не сока? Мы не задумываемся об этом, точно так же, как преступнику не пришло в голову отвязать женщин. Мы не принимаем осознанного решения о том, какую мысль будем думать дальше. Решения не порождаются сознанием, а случайно возникают в нем. Наши намерения могут много рассказать о нас, но их происхождение скрыто от нас и совершенно случайно. Мы придумываем причины post factum, но при этом сами не знаем, отчего мы такие, какие есть. «Вы можете сделать то, что решаете сделать, но вы не можете решить то, что решаете сделать», – утверждает Сэм Харрис. [53, с. 54]
По поводу «наших» и «не наших» мыслей. Существуют разные способы описания реальности. Скажем, есть физика микромира и физика макромира. Ньютоновскую физику никто не отменял, хотя описанные ею законы неприменимы к физике микромира. То же самое и с геометрией. Нас всегда учили, что две параллельные линии никогда не сойдутся, но потом какие-то странные учёные стали говорить об искривлении пространства и утверждать, что рано или поздно эти линии пересекутся. Теперь попробуем обратиться к религии. Иисус про Иуду сказал следующее: «Лучше бы было такому человеку не родиться…», а в другом месте он произносит слова: «Сын Человеческий идёт по предначертанному пути…» Нужен ли был во всей этой драме Иуда? Конечно! Не было бы Иуды, был бы человек с другим именем. Тогда – парадоксальным образом – получается, что Иуда выполнил очень важную миссию в деле искупления рода человеческого. Почему же лучше было бы ему не рождаться вовсе? В чём его вина, если Сын Человеческий идёт по предначертанному пути? Обратите внимание, что очень многое и в религии, и вообще в жизни, построено на противоречиях, которые оказываются таковыми при определённом рассмотрении. А ведь можно рассмотреть и иначе. Стол твёрдый или нет? Предмет притягивается к земле? Безусловно. Но если мы послушаем теоретиков физики элементарных частиц, то, скорее всего, почувствуем, что слегка сходим с ума. То же самое можно сказать о «наших» и «не наших» мыслях. Они, конечно, не наши. И они, конечно, наши. Поставим вопрос по-другому: солнце всходит или земля вращается вокруг него? Как бы вы ответили на этот вопрос? Можно ответить так: «А какая разница?» Смотрите: мы не имеем ни малейшего контроля над мыслями, однако эта информация никак не влияет на наше ощущение, что эти мысли всё-таки наши. Давайте пойдём чуть дальше, к философии небытия. Куда ни обратись – небытие повсюду. Но мы живем так, будто его нет. Разве не так? Мы в бытии и небытии одновременно. Только небытие прорывается сквозь пелену «реальности» какими-то вспышками, ненадолго заставляя нас почувствовать его всесозидающую и всесокрушающую мощь. А потом опять – бытие, бытие, бытие… Так бытие, всё-таки, или небытие? Возвращаясь к «нашим» и «не нашим» мыслям, можно сказать следующее: источник наших мыслей и поступков лежит вне зоны нашего понимания и контроля, вне какого-то бы ни было уразумения, но субъективно мы воспринимаем все акты нашего мышления, чувствования и действования как свои собственные. Нужно ли большее? Если нам скажут: «Солнышко взошло!», станем ли мы спорить: «Нет, это земля совершила своё движение!»?
Что касается воли, то можно, пожалуй, согласиться с Пелевиным: воля – это интерпретация, а свобода воли – это интерпретация интерпретации. К словосочетанию «свобода воли» часто прибавляется слово «проблема». Из этого вытекает, что вопрос остается дискуссионным. Сиоран считал, что если бы эта проблема была решена, философии незачем было бы существовать. А известный нейрофизиолог Дик Свааб говорит прямо: «Согласно нейрофизиологии свободы воли не существует» [69, с. 72]. Потому что были эксперименты не только Либета, но, спустя двадцать лет после его опытов, этим – в более усовершенствованном виде – занимались немецкие ученые. Но философы склонны спорить с нейрофизиологами (не все, конечно) и находить свои интерпретации. Главная идея состоит в том, что эксперименты Либета и немецких ученых затрагивают так называемые желания первого порядка – наши непосредственные желания, желания о чем-то конкретном. А вот желания второго порядка – это наши опосредованные желания, которые можно назвать желаниями о желаниях. И вот здесь начинается интересное: человек рассказывает, что на протяжении пятнадцати лет он курил (это желание первого порядка), но всё время хотел бросить курить (это желание второго порядка). Свобода действий, по его мнению, связана с желаниями первого порядка – именно это фиксировали Либет и немецкие ученые. Свобода воли – с желаниями второго порядка. В итоге, говорит курильщик, он пережил момент свободного воления, когда, наконец, бросил курить. Здесь интересно обратить внимание на то, что всё время, в течение пятнадцати лет (!) человек хотел бросить курить. Невольно возникает вопрос: если он имеет свободу воли, то почему он не сделал это пятью годами раньше? Годом раньше? Почему пришлось ждать целых пятнадцать лет для того, чтобы пережить акт свободного воления? Ведь все эти годы он хотел избавиться от пагубной привычки. Ответ такой: потому что никакой свободы воли у него нет и не было. Просто это случайно произошло в определенный день и час. Далее. Когда у Дика Свааба спросили: если у меня возникла мысль сделать нечто, а я решу не делать этого, он ответил: «Эксперименты показали, что если вы хотите остановить действие, вы осознаете это решение чуть позже, чем оно возникло в вашем сознании. Свободы действия или бездействия с точки зрения процессов работы мозга нет». [69, с. 73]
Отсюда следует: если мы, по сути, являемся биороботами, то не можем нести никакой нравственной ответственности за «свои» поступки. Что касается правовой ответственности, то акцент должен быть сделан не на наказание, поскольку, при отсутствии свободы воли, абсолютно все преступления совершаются нечаянно. Здесь необходимо сосредоточиться на оценке рисков повторного преступления.
Людей, совершивших тяжкие преступления, лучше, на всякий случай, закрывать в тюрьмах или в психиатрических лечебницах, но их моральное осуждение утрачивает своё значение. Так, один из совершивших нападение на семью в 2007 году сам в детстве много раз подвергался изнасилованиям, но обществу было на это глубоко плевать. А второй, мучаясь угрызениями совести, пытался повеситься в камере. В контексте теории отсутствия свободы воли его нравственные мучения были глупыми и беспочвенными. Ему следовало объяснить, что преступление совершил не он, а случайная игра нейронов мозга, которой сознание никак не могло противостоять.
По мнению Дика Свааба, большинство психопатов – не в тюрьме, а в топ-менеджменте международных корпораций и банков; среди политиков. Они никогда не чувствуют вины, легко разрушают, легко воруют.
Маньяк же замыкается в своём абсолютном одиночестве, поэтому он презирает «реальность» и стремится её уничтожить. Или он абсолютно одинок в силу своего презрения к реальности и непохожести ни на кого? В любом случае, закономерным итогом самовольного суда, который маньяк вершит над окружающими и миром есть его собственное уничтожение. В этом смысле, убивая других, он постепенно уничтожает сам себя, а вместе с собой – своё негативное представление о «существовании». Почему многие, наряду с эмоциональным, часто доходящим до истерики, неприятием маниакального поведения, проявляют к серийным убийствам, а также их омерзительным подробностям ярко выраженный интерес? Не является ли этот интерес выражением нашего собственного презрения к «реальности», или его можно рассматривать как следствие непонимания большинством поведенческих реакций демонического субъекта, обладающего сверхценной идеей? В любом случае, маньяк (и не только серийный убийца, но и кровавый диктатор) отличается от обывателя тем, что идёт в осуществлении безумного сценария своей мании до последних пределов. При этом его бывает крайне сложно обнаружить, до тех пор, пока он сам, устав убивать, не начинает явно или неосознанно способствовать своей поимке. Это связано с тем, что перевёрнутая логика уничтожения не поддаётся расшифровке с позиций обыденного сознания, живущего по законам несуществующего «правильного» мира. Или наоборот – перевёрнутый мир не в состоянии объяснить безумную последовательность логики абсолютного одиночества и уничтожения.
Что следует из всего сказанного? Поскольку в любых «наших» поступках объективно отсутствуют наша вина или заслуга, то в нравственном отношении нет никакой разницы между маньяком, диктатором, святым, гением, животным и годовалым ребенком. Нас всех объединяет отсутствие выбора действий и результатов действий. Когда в 19 столетии Ницше и Майнлендер заговорили о смерти Бога, в определенных кругах это вызвало страх относительно вседозволенности. Но другой страх, страх перед наказанием, все расставил на свои места. Кроме того, и нравственные мучения никто не отменял. Вплоть до появления концепции отсутствия свободы воли, которая интересна именно тем, что, в некоторых отношениях, вполне маргинальна. Как и любой последовательный философский нигилизм.
2.3. Зачем жизнь, зачем небытие?
«Все – ничто, да и сам человек ничто, – заявляет персонаж новеллы Хэмингуэя „Там, где светло и чисто“. – Некоторые живут и никогда этого не чувствуют, а он—то знает, что все это ничто и снова ничто, ничто и снова ничто. Отче ничто, да святится ничто твое, да приидет ничто твое, да будет ничто твое, яко в ничто и в ничто. Nada y pues nada» [55, с. 71].
Квинтэссенцию любых философских размышлений составляет проблема смысла жизни. Интересные мысли на эту тему содержатся в книге современного западного философа Томаса Нагеля «Что все это значит?». Автор пишет, что любые вопрошания о смысле жизни постоянно завершаются неразрешимым вопросом «зачем?», который разбивает любые смыслы. Например, самый расхожий жизненный смысл, особенно для женщин: жить для детей. Но зачем это нужно, ведь и детей когда-нибудь не будет? Для того, чтобы продолжалась жизнь на Земле? Зачем, ведь и она не вечная? То же самое происходит и с иными банальными смысложизненными ценностями: богатство, власть, известность – все это лишь игрушки, отвлекающие взрослого ребенка от небытия. А вот религия, говорит Нагель, решает эту проблему тем, что ставит заслон на пути «зачем?» в виде воли Божьей, которая дает универсальный ответ на любые вопросы. Но это, с его точки зрения, не более, чем логическая уловка отчаявшегося сознания. В итоге Нагель приходит к выводу, что жизнь бессмысленна и абсурдна, но ничего страшного в этом нет, поскольку большинство людей об этом не задумывается и не страдает от этого. [24, с.80] С этим сложно поспорить.
Альбер Камю считал, что основным вопросом философии является следующий: стоит ли жизнь того, чтобы её прожить? Разбирая мрачную притчу, в которой герой катит камень к вершине горы, откуда тот к отчаянию труженика непременно срывается, причём это повторяется снова и снова, Камю настоятельно рекомендует – «Сизифа следует представлять себе счастливым». Так кредо отца церкви Тертуллиана: «Верую, потому что абсурдно», может быть поставлено в контекст веры Камю в то, что быть живым – это хорошо, или достаточно хорошо, хотя может быть и абсурдно.
Остаться живым при любых обстоятельствах, это наша внутренняя болезнь. Ничего не может быть более нездоровым, чем «поддержание здоровья» как средства отвлечь смерть. Срок нашей прокрастинации последнего вздоха, лишь демонстрирует наш ужас перед небытием.
Как уже было сказано, в индийской традиции небытие, ничто именуются пустотой. Как лесной пожар (единый массив пламени) принимает неисчислимые формы, так и пустота принимает все формы, составляющие вселенную. Все вещи существуют в пустоте, все вещи вытекают из пустоты, все вещи суть пустота, потому что пустота – это всё, что есть. «Единственное возможное истинное понимание состоит в том, что ничего нет, в том числе и того, кто понимает… Истина в том, что ты не являешься ни тем, чем кажешься, ни тем, чем себя считаешь. Ты по сути своей – просто ничто, и это ничто, которое является тобой, есть Пустота, объектное тело которой – вся вселенная… С самого начала ничего нет. Да и не было никакого начала, и нет никакого конца. Вселенная – это сон. Как и тот, кто должен это понять. Поэтому смысл жизни в том, что жизнь не имеет смысла, кроме проживания ее как сна, над которым никто не властен». [1, с. 64] Так говорит Рамеш Балсекар.
«Незаметно приходит Великое Пробуждение, и мы обнаруживаем, что эта жизнь – на самом деле великий сон» (Чжуан-цзы). Сон, снящийся Пустоте. (Об этом рассказывается в нашей книге «Сны воинов пустоты») [46]. А мы – снящиеся персонажи. Когда в своем индивидуальном сне каждый из нас видит незнакомые города, других людей, по пробуждении мы обнаруживаем, что в наших снах был некий сюжет и своя логика. Но мы понимаем, что те, кто нам снился, не имеют никакой свободы воли, хотя они говорили и действовали в нашем сновидении. Получается, что на уровне феноменальном (наш мир-сновидение) неумолимо действует случайность (спонтанно выстраивается сюжетная линия), а на уровне ноуменальном вопрос о причинно-следственных связях не может стоять по определению. Всё это похоже на фантазию, навеянную Балсекаром и Вэй у Вэем, но с другой стороны – почему бы и нет?
Говоря о бодрийяровских «симулякрах», возникает желание додумать его мысль до конца, и тогда получается, что всё бытие, включая нас, всё это и есть один большой симулякр. Действительно, мы окружены многочисленными слоями псевдореальности и наполнены какими-то абсурдными содержаниями, идеями и представлениями. В принципе, о небытии мы сказать ничего не можем, мы не можем взглянуть ему в лицо, оно не является объектом, «чем-то», что можно исследовать, но мы можем развивать в себе особое отношение к бытию и всему бытийственному, которое заключается в снимании этих слоёв псевдореальности, разоружении повседневности, в постоянном развенчивании иллюзий, в видении ложного как ложного.
Живя, будь мертв, будь совершенно мертв. И делай все, что хочешь – все будет хорошо, – учил Бунан, патриарх буддизма Дзэн. Действительно, в условиях торжествующего повсеместно абсурда, самая проигрышная экзистенциальная позиция заключается, видимо, в серьезном отношении к повседневности. В философии Хайдеггера есть ключевое понятие Dasein («вот-бытие», наличное бытие), которое означает способность вопрошать о бытии. В контексте философии небытия эту мысли можно скорректировать так: способность вопрошать о небытии. При этом вопрос всякий раз будет риторическим или безответным. Здесь, видимо, мы имеем тот самый случай, когда результат не имеет значения, главное сам процесс вопрошания. В принципе, похожие позиции в этике мы встречаем уже у древних греков. Некоторые из них (стоики, скептики) провозгласили нравственный идеал апатии (невозмутимости), а скептики к тому же учили, что достижение истины не имеет значения, главное сам процесс поиска, который позволяет человеку сохранять максимальную независимость от повседневности. А это и есть один из вариантов внутренней эмиграции. Этика философии небытия это не только образ мысли, но и образ жизни.
Философия небытия исходит из того, что разочаровать способно нечто, а ничто разочаровать не может. Человек небытия проходит свой путь в мире бытия, лишь слегка касаясь вещей. Стоя перед выбором между нечто и ничто, он выбирает ничто, минимизируя, насколько это возможно, любые бытийственные аспекты своего жизненного пространства. Для того, чтобы уменьшить контакты с миром, лучше всего уйти внутрь себя и навести порядок там. А чисто внешние формы ухода часто оказываются частью мира со всеми его пороками. Получается, что человек ушел из мира, но мир от него никуда не ушел. Мир структурно воспроизводит себя в любом микросоциуме.
Почти все современные философские идеи, так или иначе затрагивающие тематику небытия, старательно игнорируют проблему страданий. «Обстоятельство, чрезвычайно усиливающее хватку боли, заключается в её безразличии к нашим иерархиям. Нет ни одной человеческой ситуации, которая была бы защищена от боли», – утверждал немецкий мыслитель Эрнст Юнгер. [66, с. 44] Возможно, что в безразличии боли к социальным иерархиям и заключается единственная, доступная человеку справедливость. Но почему всё-таки мир полон страданий? Буддизм и Шопенгауэр отвечают на этот вопрос в том духе, что люди сами выступают как источник своих страданий, потому что множат иллюзии, а потом страдают от этого. Филипп Майнлендер утверждал, что мир плох, потому что мы живем в разлагающемся трупе Бога. В современной отечественной литературе о небытии встречаются идеи о том, что небытие это и есть Бог. Мысленно поменять бытие и небытие местами конечно возможно, но что от этого меняется в онтологическом или экзистенциальном плане?
Человек боится смерти так же, как ее боится любое чувствующее живое существо. В отличие от прочих животных, человек знает о своей смертности, сознает её неизбежность. Но ведь, если вдуматься, бояться следует не смерти, а жизни. Именно в ней, в жизни, вся боль, страдание, разочарование, угнетение и несправедливость. Как писал Омар Хайям: «страшнее жизни что мне приготовил рок?» [52] В этой связи смерть может представляться как желанное событие, как возвращение домой после трудного жизненного путешествия, как приход туда, откуда мы по какому-то странному и нелепому недоразумению пришли на очень непродолжительный срок. Смерть можно воспринимать как исцеление от боли жизни. Вечный покой, который принесет нам смерть, не может быть для умершего объектом познания, ведь умерший – это абсолютно отсутствующий человек. Некому и нечего познавать. Артур Шопенгауэр писал: «Индивидуальность большинства людей так жалка и ничтожна, что они поистине ничего в ней (со смертью) не теряют… Требовать бессмертия индивидуальности – это всё равно, что желать бесконечного повторения одной и той же ошибки… Содержание индивидуального сознания, в большей части своей, а обыкновенно и сплошь представляет собою не что иное, как поток мелочных, земных, жалких мыслей и бесконечных забот, – дайте же и им, наконец, успокоиться!» [64, 2, с. 410] Ничто у Шопенгауэра парадоксально становится бытием, которое, в свою очередь, представляет собой материал для уничтожения. Бытие имманентно приходит к своей аннигиляции. Таким образом, ничто, отрицая себя, всякий раз еще полнее приходит к себе.
Если всё, включая нас, считать условно-сущим, несуществующим, то неизбежно возникает вопрос: что такое смерть индивидуума? В контексте философии небытия смерть – это переход из пустоты относительной в пустоту абсолютную. Вот здесь-то, несмотря на внешнюю логическую убедительность, заключена проблема. Получается, что разница между жизнью и смертью настолько незначительна, что и говорить об этом нет смысла. Если дистанцироваться от всего нашего жизненного опыта и посмотреть на жизнь со стороны, то, кажется, так оно и есть – мы отделены от абсолютной пустоты тончайшей плёнкой, которая в любой момент способна разорваться от самых лёгких прикосновений. Достаточно нелепого пустяка, чтобы наша жизнь прекратилась. Проблема в том, что подобный отстранённый взгляд возможен лишь в отдельные короткие моменты нашей жизни, но изнутри мы так ситуацию не воспринимаем. Мы чувствуем себя живыми и ощущаем не просто большую разницу между жизнью и смертью, но разницу абсолютную. Именно поэтому наша грядущая смерть видится нам как событие исключительное, экстраординарное, не имеющее аналогов в пережитом и перечувствованном нами. Именно поэтому люди (за отдельными исключениями) страшатся и избегают смерти.
Интересно, что Сиоран в эссе «Самый древний из страхов» подверг критике финал рассказа Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». В последние минуты жизни Иван Ильич почувствовал радость и увидел свет. Сиоран по этому поводу пишет: «Эта радость и этот свет не убеждают, они привнесены извне, они искусственны. Нам трудно допустить, что им удаётся рассеять мрак, в который погружается умирающий: ничего, впрочем, не предрасполагало его к этому ликованию, которое никак не гармонирует ни с бесцветностью героя, ни с одиночеством, которое подстерегло его. С другой стороны, описание его агонии производит такое гнетущее впечатление в силу точности деталей, что его невозможно было бы закончить, не изменив тональности и масштаба повествования». [38, с. 79] Мы не знаем наверняка, что испытывает в последние минуты покидающий этот мир человек. Когда нам доведется проходить сквозь врата смерти, мы узнаем это, только вот рассказать никому не сможем. Но наши попытки хоть немного приоткрыть завесу тайны продолжаются, и мы рисуем в своем воображении разные картины. К примеру, вполне допустимо, что на каком-то этапе умирания страх может исчезнуть и может смениться радостью. А почему бы и нет? Хотя всё это предположения… Люди умирают по-разному, а посмертная гримаса иногда показывает самые разные эмоции. Так, автор книги «Формула смерти» Евгений Черносвитов [62] коллекционирует посмертные маски известных людей, и осуществляет эксперимент – в полумраке водит зажженной свечой над той или иной маской и они оживают: на гипсовых лицах отчетливо проявляются эмоции. У кого-то недоумение, у кого-то удивление, у кого-то гнев, у кого-то – плаксивая гримаса. Если это не субъективные ощущения экспериментатора, то получается, что в момент умирания (если смерть не наступила мгновенно) люди могут испытывать самые разные эмоции.
И это неудивительно. Смерть, безусловно, имеет положительные свойства. В частности, она находится ближе всего к справедливости, понимаемой через равенство, ибо уравнивает всех. И, в конечном итоге, освобождает от наличного зла.
Недавно скончавшийся мурманский нейрохирург П. Рудич, автор замечательной во всех отношениях книги «Не уверен – не умирай», повествует об этом так:
«Нашего коллегу беспокоили сильнейшие головные боли и эпилептические припадки. Диагностировали мы у него большую и, по нашим представлениям, неизлечимую, опухоль головного мозга. Оставалась надежда на одного из наших постоянных консультантов, представлявшего солидную «фирму».
И вот этот консультант прибыл. Наш больной доктор увидел перед собой маленького сухого и белого старичка: белый халат, белая рубашка, фарфоровые зубы, серебряные волосы, белесые глаза. Черными были у него только галстук и проводок слухового аппарата. Когда он начинал говорить, наш больной отчетливо ощущал запах кариесной гнили.
– Что вы ждете от моей консультации? – спросил консультант.
– Я хотел бы стать здоровым.
– Здоровым… Предположим, что мы вылечим опухоль. Но ведь ваш атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, тучность и диабет – останутся с вами. Какое же это здоровье?
– Я стану лечиться…
– Лечиться в шестьдесят лет?! Это просто легкомысленно. «Чайку» давно смотрели?
– Не смотрел и не читал.
– От этого, вероятно, и заболели… Родственники вас часто навещают?
– Жена – каждый день. Дети – реже и как бы по обязанности… Я все-таки им жизнь дал, воспитал…
– Великая заслуга «дал жизнь»! Примитивный возвратно-поступательной процесс… Удовольствия – масса, но ни о чем созидательном не думается… А «воспитал»… так вы сами знаете, что вы там навоспитывали! Да что там родственники! Жена от вас устала, пилит небось ежесекундно… Вы скольких больных спасли?
– Не знаю. Не считал.
– Спасли вы 1364 больных. Не вылечили, а именно спасли от смерти. Многие ли из них позвонили вам, когда вы заболели и предложили помощь?
– ??!!
– Совершенно верно – ни один не позвонил. Таким образом, мы установили, что здоровым вы уже никогда не будете, жена от вас устала, дети – сволочи, больные о вас забыли. Радужная перспектива в случае выздоровления, нечего сказать!
– Так что, ложиться и помирать?!
– Иногда – это совсем неплохой выход.
– Хотя бы боли прошли!
– Боли… Вот это – конкретное желание! По моей методике вполне возможно избавить вас от болей. Более того, можно сделать так, чтобы ваши родственники стали к вам предельно внимательны и даже полюбили вас.
– Я согласен, доктор, на любые вмешательства, лечение и процедуры! Только помогите!
– Вы знаете, я сам этот вопрос не решаю. Я доложу о вашем случае своему начальству, и, если он будет признан заслуживающим внимания, мы применим мою методику. Тогда сегодня не позднее двадцати часов тридцати восьми минут боли у вас пройдут, показатели стабилизируются. Вы будете окружены вниманием и любовью.
Консультант ушел. Больной остался ждать, посматривая на часы.
Наш старый и самый надежный консультант С., он же Сет, Тиамат, Миктлансиуталь, Танатос никогда не подводит! Ровно в 20 часов 38 минут у больного прошли все боли, он стал покоен и невозмутим.
Все три последующих дня он был окружен толпой любящих родных и близких. Так же было и на девятый, сороковой день и ровно через год. Многие больные узнали о нем из газет и взгрустнули.
Если я заболею, пригласите ко мне консультанта С.!» [31]
Субъективно (да!), на уровне ощущений, мы не знаем ни рождения, ни смерти. Их не было для нас и не будет никогда. Вот почему мы ощущаем себя – вопреки всякому пониманию – вечными. Но это не длящаяся бесконечность, а точка настоящего: когда бы мы ни остановились и ни попытались помыслить о себе, мы всегда здесь и сейчас, всегда в этот момент. Вы понимаете, что речь в данном случае идёт и о небытии? Небытие до рождения и небытие после смерти никак не могут для нас быть, их, попросту говоря, нет с точки зрения субъективного восприятия. А что же есть? Есть настоящее, в котором, как в фокусе, сходятся фрагментарные, но структурно упорядоченные, воспоминания о прошлом и мысли о будущем. Короче говоря, мы не рождались и не умрём, мы есть всегда… Субъективно, конечно же. Что из этого следует в отношении философии небытия? Только то, что ей действительно мало что есть сказать о бытии. Поэтому не написано объёмных томов по философии небытия. А если двинуться дальше, то можно сказать, что небытие не может быть для нас опытным переживанием. Только косвенно, опосредованно – в виде отсутствия чего-то или кого-то. Скажем, смерть значимых для нас людей ощущается нами как горькая утрата – в этот момент мы остро чувствуем дыхание небытия. Но мы-то продолжаем существовать и печалиться по поводу ушедшего человека. Небытие рядом, оно незримо присутствует в каждое мгновение, оно поистине вездесуще, но оно не может стать для нас положительным опытом, чем-то осязаемым и воспринимаемым. Однако оно может быть осознано нами и осмыслено, что само по себе уже ценно. К сожалению (?), философия небытия не в состоянии стать для нас религией: небытию невозможно поклоняться и нельзя выжать из него что-либо… кроме небытия. Которое непостижимо.
Смерть смертью, но покуда не пришел консультант С., мы обречены пребывать в бытии. Хотя даже если просто признать, что всё вокруг нас и в нас есть бытие, значит поверить в бытие и погрузиться в повседневность. Тогда все размышления о небытии становятся ненужной забавой, игрой ума. Небытие, пустота, ничто превращаются в абстрактные идеи, не имеющие, в общем-то, никакого отношения к нашей каждодневной вовлеченности в абсурдную игру жизни. А если мы говорим, что всё есть измененная пустота – это значит, что мы не верим в существование и за всеми его иллюзорными проявлениями видим ничто. Даже если мы забываемся, у нас всегда есть спасительная возможность вернуться к ясному видению. Философия небытия в изложении А. Н. Чанышева или Н. М. Солодухо хоть и утверждает первичность и абсолютность небытия, всё-таки оставляет для бытия спасительное место. Нет прорыва дальше, мысль словно останавливается у невидимой преграды, не решаясь сделать последний шаг – нет бытия, есть небытие. А этот шаг меняет всё.
Когда мы утверждаем, что ничего нет, необходимо в первую очередь утвердиться в мысли, что нет нас самих как познающего субъекта, а, во-вторых, нет и объекта познания. Первое сложнее всего. Как говорит Нагарджуна: «Понятие „я“, которое в силу заблуждения означает привязанность к существованию свидетельствует о ложном самомнении по типу „я есть“…» Само понятие «небытие» во многом двусмысленно, поскольку по форме оно означает отрицание бытия и, значит, вторично по отношению к бытию. Но отрицать в данном случае некому и нечего. «Я ничего не отрицаю, потому что нет ничего, подлежащего отрицанию. Никаких вещей нет, а, следовательно, нет постижения», – поясняет Нагарджуна. [23, с. 66] Когда мы принимаем на вооружение термин «пустота», возникают другие проблемы. Во-первых, устойчивые ассоциации с физическим вакуумом, который, как выясняется, на самом деле не пуст. Физика работает с вакуумом, логика с отсутствием, онтология с небытием. А так ли пуста философская пустота у индусов, или они хотели с её помощью лишь подчеркнуть условный характер наличного мира? В большинстве случаев, например, у Чандракирти, скорее второе. Но реальна ли сама пустота? Можем ли мы сказать, что небытие есть? Для Нагарджуны такой вопрос это всего лишь игра словами. Во-вторых, понятие пустоты, по крайней мере, в русской культуре, несет в себе устойчивый отрицательный смысл. «Пустые слова», «пустой человек»… В то же время индусы считают, что, чем более пусто высказывание, тем сильнее оно утверждает нас в пустотности. Не зная санскрита и опираясь лишь на переводы, сложно уловить эти мысли. Они растворяются в пустоте. Вообще в учении о пустоте (мадхьямике) наиболее полно проявилась способность индийского ума схватывать абсолютные идеи при их минимальной индивидуализации.
Согласно адвайте, всё есть сознание. Оно же именуется «Я», или «высшее Я». Это основа проявленного мира, его сокровенный исток, глубочайшая сердцевина. Пападжи называет его пустотой, ничто, и в то же время – полнотой, бытием. На первый взгляд это кажется противоречием, но в контекст философии небытия такая идея вписывается: если мы говорим, что в абсолютном смысле ничего не существует, тогда можно сказать, что подлинно существует небытие, пустота, ничто. В этом смысле ничто – это бытие и полнота. Оно является нашей истинной природой. Адвайта учит, что невозможно увидеть его как какой-то объект, оно – и не объект, и не субъект, оно – то, что есть мы сами и всё вокруг. Ум, направленный вовне, на объекты, не способен приблизиться к своей собственной природе, к пустоте – такой ум захвачен иллюзией (Майей), а ум, обращённый к своему источнику, становится един с ним. Не случайно основной формой поучений Рамана Махарши было молчание, тишина. Нам, большую часть времени погружённым в разнообразные содержания и отождествляющимся со своими мыслями, стоит на мгновение остановиться и прислушаться к тому, что содержится в этом промежутке, к тому, что скрыто за мыслями. Там нет ничего, но именно в этом «нет ничего» и кроется разгадка. Это «нет ничего» бесконечно больше чем всё, вместе взятое! Всё из ничто и в нём.
Адвайта, при большом внешнем сходстве с философией небытия, в одном важном пункте расходится с ней. Если для индуса этот мир и его собственная жизнь – это проявление божества, абсолюта, атмана, пустоты, то для философа небытия это никакое не проявление, а некий непостижимый сбой, флуктуация, искажение, извращение, болезнь пустоты. У Рамана Махарши всё размывается в «я», стираются любые границы. Он говорит о «сат-чит-ананде» (реальности-сознании-блаженстве), присущей нашей изначальной природе. Но философ небытия видит границы и не видит «реальности-сознания-блаженства» по той причине, что в небытии не может их быть по определению, а в бытии они невозможны именно в силу того, что это бытие.
Само понятие «адвайта» («недвойственность») предполагает, что нечто все-таки есть: это Брахман, который проявляет себя через наше «я». Брахман реален, мир нереален, джива (индивидуальная душа) и Брахман – одно и то же. Действительно, Брахман адвайты очень напоминает шунью (пустоту) буддизма мадхьямики, в которой подлинной реальностью признается пустота, и о которой, как и о Брахмане, нельзя сказать ничего. То, что есть страдающие существа – тоже иллюзия: на высшей точке зрения все уже спасены, все находятся в пустоте (хоть и не все об этом знают), так же, как в адвайта-веданте все уже тождественны Брахману, нет ничего, кроме него. К тому же Брахман в адвайта-веданте – это мировое «я», в то время как шунья в некоторых вариантах буддизма есть союз ясности (сознания) и пустоты. Но такое наивное представление вызывает серьёзные сомнения. И вообще, встречающаяся у ряда современных учителей адвайты, частичная (с оговорками) реабилитация концепции «я» сильно напоминает еще одну скрытую форму реабилитации иллюзии бытия.
Мир плох. Пока страдает хотя бы один человек, любой оптимизм становится глумлением над его страданиями. Лучше ничему не быть изначально, но бытие, хоть и условно, но есть, и есть мы. Смерть – это возвращение домой, это «вправление вывиха» пустоты, исцеление от боли жизни. А всё остальное (наверно, включая адвайту, при всей её привлекательности) – это более или менее неудачные попытки примириться с существованием, сделать бытие хоть в какой-то степени сносным. Возникают различные идеи, которые претендуют на роль недостающего звена между «ничто» и «нечто». Например, воля Шопенгауэра. Или Бог – неважно, как Он описывается. Или сознание. Тогда получается, что есть нечто большее, чем ничто, но возможно ли такое? Ведь даже христианские мистики говорят о ничто как предшествующем Богу. Отец Сергий Булгаков пишет: «В отношении к этому Ничто всякое бытие: божественное ли, или мировое и человеческое, есть уже некое что: в Ничто возникает что…» [9, с. 122] А Эмиль Сиоран замечает: «Над нами всегда кто-то стоит, и даже над Богом возвышается Небытие». [38, с. 78]
Практически каждый человек в своем подсознании скрывает нигилистические идеи. При этом вопрос стоит только так: выступить на стороне истины или на стороне жизни. Любой «нормальный» человек перед лицом такой дилеммы неизбежно выбирает жизнь, причём не столько под влиянием разума, сколько подчиняясь инстинкту. Как писал в этой связи Джек Лондон: «Инстинкт создаёт, выполняет работу видов. Разум критикует, разрушает, отрицает и заканчивает чистым нигилизмом». [21, с. 158] Поэтому истина последовательного нигилизма каждый раз представляет собою крайне индивидуальное, личное переживание. У каждого, кто решился заглянуть за пределы «наличной реальности», она своя. Философия небытия это одновременно танатософия.
Способно ли что-нибудь решить проблему страданий всего человечества? Атомная бомба? Этот вариант не обсуждался ни Шопенгауэром, ни Буддой. Любой опыт умирания является глубоко индивидуальным. Как говорил Морис Бланшо в эссе «Литература и право на смерть», главный недостаток окончательной смерти заключается в том, что она напрочь лишает человека возможности испробовать опыт умирания еще раз. [3, с. 61]
«Жизнь облечена в смерть и вместе с тем пронизана смертью; она с начала до конца окутана смертью, проникнута и пропитана ею. Итак, лишь при поверхностном и чисто грамматическом прочтении бытие говорит только о бытии и жизнь – только о жизни. Жизнь говорит нам о смерти, более того – только о смерти она и говорит. Пойдем далее: о чем бы ни зашла речь, в каком-то смысле речь идет о смерти; говорить на любую тему – например, о надежде, – значит непременно говорить о смерти; говорить о боли – значит говорить о смерти, не называя ее; философствовать о времени – значит, при помощи темпоральности и, не называя смерть по имени, философствовать о смерти; размышлять о видимости, в которой смешаны бытие и небытие, значит имплицитно размышлять о смерти…», – писал Владимир Янкелевич. [67, с. 99]
Когда мы слышим о том, что кто-то умер, у нас иногда возникает весьма странное чувство. Это ощущение возникает помимо нашей воли, и мы подвергаем себя жесткому анализу в такие моменты. Мы честно спрашиваем себя: «А ты готов умереть прямо сейчас? Сию минуту?» Признаемся: далеко не всегда мы отвечаем утвердительно. Мы почему-то вспоминаем, что у всех мертвецов глубоко в носовые пазухи вложена вата, чтобы не вытекала жидкость. Мы представляем, как их перед похоронами выпотрошили и наскоро заштопали от лобка до горла. Мы слышим глухие удары молотка по гробу и видим, как ящик опускают в холодную глиняную яму. Мы видим могильщиков, за считанные минуты засыпающих эту яму. Блин, а как там дышать-то?!
Представим, что в качестве критерия истины выступает именно практическое мировоззрение. Тогда вырисовывается следующая немудрёная картина мира: смысл жизни заключается в самой жизни. Следовательно, необходимо делать всё для сохранения собственной жизни, при любых обстоятельствах, а также оставить потомство. Покуда есть возможность, то есть, пока это не касается непосредственно нас, тему страданий и смерти следует загонять в подсознание (не случайно индийский царь не выпускал своего сына, будущего Будду, из дворца!). Иначе говоря, нужно уподобиться животным и жить в иллюзии вечности. Таким образом, практический разум и обслуживающая его культура, включая и большинство философских систем (хотя бы в форме оговорок и притянутого за уши оптимизма), представляют собой вариации на заданные инстинктами самосохранения и продолжения рода темы. Это и есть мыслетрусие. Есть несовершеннолетние по возрасту и несовершеннолетние по своей воле. Как говорил Кант, несовершеннолетие по собственной воле заключается не в недостатке разума, а в недостатке решимости и воли воспользоваться им. А Гегель определял рабское сознание как отсутствие решимости идти на смерть за свою свободу.
Как уже говорилось, камень преткновения, всегдашняя загвоздка при любом философствовании, при любой попытке построить приемлемую модель этики – это, безусловно, наличие страданий. Мы в достаточной мере восприимчивы к теме страданий, поэтому не можем – и не хотим – игнорировать её. Страдания (СТРАДАНИЯ!) – это то, что может камня на камне не оставить ни от какой этики, включая религиозную – вспомните Клайва Льюиса с его дневниками, написанными после смерти горячо любимой жены. Итак, попробуем исходя из самых общих положений, вообразить себе некое осмысленное и одновременно не страдающее бытие. Здесь возникает всего два варианта: либо оно конечно (все, имеющее начало, имеет и конец) и, следовательно, наш воображаемый рай непременно закончится всеобщей гибелью. Либо рай вечен, но тогда пустота перестаёт быть абсолютом и становится лишь фоном для бытия: как и видит мир большинство людей. Небытие фактически сдается на милость бытия. Вообразим, что и это произошло. Но здесь мы не в силах представить себе никакого подобия рая. Осмысленная жизнь возможна лишь как преодоление некоего конфликта. Если его нет, мы получаем унылое прославление Бога в вечности, о котором стеснялись подробно писать даже авторы священных книг. Ну, вообразите себе бесконечно длящийся оргазм – физиологический или даже интеллектуальный. Это очень тоскливо. В таком зазеркалье непременно найдется какой-нибудь подпольный парадоксалист, который противопоставит окружающему абсолютному благу свободную волю своего свободного зла… Возможно, мы снова уходим в чисто человеческие гипотезы и фантазии. Однако два основных допущения: вечность бессмысленного или трагизм конечного бытия, представляются близкими к истине. Во всяком случае, нам сложно помыслить чего-либо третье: очевидно в силу ограниченности человеческого опыта.
С другой стороны, что-то подсказывает, что просветление (понимание) меньше всего можно назвать философией. Понимать – значит быть. А быть (это уже от себя добавим) – это то, что происходит (случается!) с каждым из нас, хотим мы того или не хотим. Быть – означает проживать (ся) от мгновения к мгновению, свидетельствуя всю палитру воспринимаемого как внутри, так и вне себя.
Полагаем, что возможно движение в одном направлении: от понимания к бытию. А это значит, что далеко не всякий (далеко не всякий!) «бытийствующий» индивидуум понимает. Нельзя сказать «быть – значит понимать». Но что значит «быть»?! Скажем просто: от себя нельзя убежать. Как бы мы ни умствовали, как бы ни извивались ужом, что бы мы ни изобретали – мы всегда, каждую минуту, каждую секунду остаёмся с тем, что есть. Но оно есть через нас, в нас и благодаря нашему сознанию.
Проблемы возникают, когда «мы» должны что-то делать, прилагать хоть какие-то усилия для достижения чего-то. Но разве есть проблема в предложенной выше концепции отсутствия свободы выбора? Всё, от малого до великого, просто делается…
Да, жизнь течёт, несёт нас как щепки, не обращая никакого внимания на наши эмоциональные бури и мысленные эксперименты. Хотя, рассуждая последовательно, эти эмоциональные бури и мысленные эксперименты, эти метания от одного состояния к другому, от одного набора идей к другому – тоже неотъемлемая составляющая жизненного потока. Может быть, такого рода метания и разочарования нужны для того, чтобы показать нам нашу абсолютную беспомощность? Пока остаётся хотя бы маленький, самый крохотный фрагмент «я», которое что-то может – жизнь будет продолжать эту игру, подбрасывая нас как мячик. Всё это происходит на ментальном уровне – вся эта жуткая драма, в которой присутствует «я», противостоящее жизни. Корень проблем в «я» – когда его не станет, когда оно окончательно потерпит поражение (это-то как раз и будет то самое понимание), всё изменится. На каком-то глубинном ментальном уровне изменится. Помните китайскую историю про то, как мудрец объяснял этапы своего просветления? До просветления он видел горы как горы и реки как реки. Потом он перестал видеть горы как горы, и реки как реки. И, в конце пути, он снова стал видеть горы как горы, и реки как реки. Что же произошло? Думается, он перестал ощущать себя деятелем и постиг, что «его» жизнь просто проживается. Всё, абсолютно всё осталось как прежде: проблемы никуда не ушли, радости чередовались с горестями, он так же испытывал голод, холод, боль, удовольствие… И в то же время всё изменилось кардинально: произошел тончайший сдвиг в его восприятии реальности – не было больше «его», пытающегося вытащить себя за косичку из болота (то, чем все мы занимаемся с утра до ночи), – «события совершались, дела делались, переживания переживались», но исчез псевдосубъект, а это дорогого стоит! Здесь можно сказать: а не игра ли это слов? Какая разница – воспринимаю я себя действующим и ответственным субъектом или верю, что «жизнь просто случается»? Ведь когда приходит время страдать, я всё равно страдаю! Когда мне больно – мне больно вне зависимости от того, как я воспринимаю реальность. Всё же, полагаем, разница есть: принятие концепции недеяния колоссально облегчает жизнь. Когда в нас присутствует эта ясность, всё становится гораздо проще и, вместе с этим, легче – события случаются, дела делаются (или не делаются), но нет никого, кто бы их совершал или (не) делал. А когда мы начинаем верить в «себя», проблемам нет конца. Возможно, это просто психологическая установка – кто из нас знает, что такое «реальность» и какова она на самом деле?
Едва ли не единственная ценность, которую можно усмотреть в жизни это трагизм, как её эстетическая составляющая. Обратите внимание, насколько трагизм притягателен, особенно для поживших людей. Молодёжь этого, как правило, не понимает. Но иногда трагизм жизни затягивает в свою черную дыру и совсем маленьких детей. Например, когда они заболевают онкологией. У них очень быстро становятся умными глаза.
«Попытка понять Вселенную – одна из очень немногих вещей, которые чуть приподнимают человеческую жизнь над уровнем фарса и придают ей черты высокой трагедии, – считает американский ученый Стивен Вайнберг. – При этом, чем более постижимой представляется Вселенная, тем более она кажется бессмысленной».
Трагизм завораживает, подобно взгляду змеи. И при этом он доставляет какое-то мрачное удовлетворение. В отличие от комедии, трагизм невозможно более или менее успешно имитировать. Бездарная подделка под трагизм мгновенно кричит о себе, и трагическое неизбежно превращается в свою противоположность, то есть, в фарс. Трагизм – это ведь не что-то такое, что придумал некто. Вся жизнь человеческая предоставляет столько материала для размышлений в трагическом ключе, что удивительно, как некоторые люди ухитряются «не замечать» трагизма существования.
С точки зрения продолжительности каждой, отдельно взятой жизни, можно смело утверждать, что нас всех фактически (ещё) уже нет. Если поразмыслить над течением жизни, над её хрупкостью и кратковременностью, а также над тем, что смерть очень часто приходит внезапно, то, получается, что так и есть – нас нет. В этом и состоит философия несуществования (небытия). Но фактически – это не означает «совсем нет». Кажется, мы стоим над гигантской небытийной пропастью, но всё-таки еще пока стоим, пока мы не в ней. А иначе как понять, что вы в данный момент читаете эти строки и что-то ощущаете? Происходит дление того, что мы называем жизнью… Фактически – кажется, что вот-вот, считайте, что свершилось, но это «фактически» на самом деле оказывается весьма коварной вещью. Годы и годы, наполненные самыми разными событиями и переживаниями, могут пройти, прежде чем «фактически» превратится в окончательную реальность – реальность нашего небытия. Вот мы и думаем часто, что же это такое, как это постичь, как вместить, что происходит между «фактически» и «на самом деле»? Мы называем это жизнью, но само слово «жизнь» мало что объясняет. Поэтому мы вновь и вновь возвращаемся к двум вопросам, о которых уже говорилось выше. Первый – почему что-то вообще есть (хоть и условно, но оно есть)? Второй – почему оно такое, а не другое? И, полагаем, что эти вопросы – особенно второй вопрос – не возникли бы, если бы жизнь не была пронизана трагизмом. Существование, лишенное боли и страданий, не представляло бы для нас проблемы.
Но проблема есть, хотя, пока страдание не затронуло непосредственно нас самих, мы стараемся её не видеть. Поэтому философствование в духе небытия и нигилизма в принципе не может быть уделом многих философов – мы уже не говорим, уделом многих людей. Вот религия – она для многих: умных и глупых, образованных и не очень, богатых и бедных. В этом смысле она удобна и комфортна – любой может постараться уверовать в невозможное и принять его. В отличие от религии, в философском нигилизме нет ритуалов и форм, точнее, в качестве ритуала выступает повседневная жизнь. Действительно, зачем искать что-то искусственное, если каждодневное проживание жизни может быть ритуалом? Разумеется, сложно все время удерживать в себе беспощадную мысль о несправедливости, которой пронизано наше существование, и том обмане, который содержится во всех жизненных проявлениях. Ведь, чтобы продолжать жить, нам нужно сохранять хоть малую толику иллюзий – «жизнь расцветает от тепла иллюзий», говорил Сиоран. Иначе мы рискуем впасть в полную прострацию и стать неспособными ни к какой деятельности. Но это уже крайнее проявление трезвомыслия.
У нас не вызывает сомнений, что оптимизм – это, в первую очередь, защитная реакция психики. Для того, чтобы нормально функционировать (попросту говоря, продолжать жить), получать какие-то удовольствия от жизни, ставить перед собой цели и испытывать радость от их достижения, в организме должна быть выставлена некая внутренняя заслонка, не допускающая заполнение сознания негативными мыслями. Должен быть фильтр, не пропускающий (или очень дозировано пропускающий) информацию, способную нарушить нормальное функционирование организма. Оптимизм, как мы полагаем, идет не от рассудка (рассудок-то как раз может камня на камне не оставить от оптимизма), а от более глубоких пластов психики, которые связаны с какими-то органическими процессами мозга. Организм ведь нацелен на то, чтобы выживать и продолжать жить, а не разрушаться сразу после появления на свет. Отсюда и защитные механизмы, призванные обеспечить это выживание. Причем в организме есть не только защитные барьеры, но и «естественные источники радости» – вброс определённых веществ в кровь (организм же их и вырабатывает) вызывает чувство радости, удовлетворенности, эйфории. Но природа не может полностью обеспечить эту защиту, поскольку мы наделены еще и разумом, который часто вступает в конфликт с защитными механизмами. Ведь «оптимизм» и «пессимизм» – это сугубо человеческие понятия. По всей вероятности, есть индивидуумы, у которых ресурсы организма оказываются сильнее всех доводов рассудка. Или так: их рассудок не дотягивает до пессимизма, потому что слишком сильны защитные барьеры и слишком интенсивно работают «естественные источники радости».
Среди сочинений по логике выделяется книга Пола Слоана «Искусство мыслить незаурядно». Автор утверждает, что большинству обычных людей свойственно так называемое конвергентное мышление. То есть, они, не мудрствуя лукаво, берут некую общепринятую точку зрения и начинают ей придерживаться. При этом чисто механически отбрасывают, не видят и не слышат никакие аргументы, ей противоречащие. Но есть иная модель мышления – дивергентная. Она предполагает рассмотрение объекта с самых разнообразных, часто взаимоисключающих позиций. При этом принимаются во внимание самые экстравагантные и нелепые утверждения. Данный тип мышления представляется более продуктивным. Далеко не все считают, что жизнь имеет какой-то смысл. Далеко не все (заметьте, речь идет не о философах) стремятся обзавестись семьей и родить детей – есть люди, которые желают жить свободно. Далеко не все ужасаются при мысли о грядущей смерти. Но все (включая и философов) имеют какое-то свое жизненное мировоззрение, пусть оно и не формулировано чётко. Поэтому философ, как нам кажется, в своих попытках понять реальность, ухватить её, должен учитывать наличие и у себя самого, и у других, такого жизненного мировоззрения. Это его повседневность, его контакты с окружающими, пристрастия и привычки, страхи и надежды, интересы и предпочтения. В нашем понимании, философу следует почаще заглядывать в себя и других людей, для того, чтобы его картина мира выстраивалась в большей степени не «как надо», а «как есть». Возможно тот факт, что Арсений Чанышев и философы мадхьямики избегали «крайностей нигилизма», вызвано не ужасом перед пропастью, а страхом перед разрывом между человеком и философом в самих себе?
Известно, что Лев Толстой в «Исповеди» делил всех людей на четыре вида:
1). Не видящие трагизма и бессмысленности жизни (интеллектуально неразвитые мужчины и многие женщины. Последние последовательно рассматривают фрагменты сложного объекта, в то время, как мужчины обычно видят проблему в целом).
2). Видящие бессмысленность, и пытающиеся забыть о ней, предаваясь, пока возможно, удовольствиям.
3). Видящие отсутствие смысла и самоубивающиеся (храбрые)
4). Видящие трагизм и продолжающие жить из трусости. К этим Толстой относил себя.
Но отчего Толстой не присоединился к большинству представителей своего сословия (категория 2)?
«Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это – обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина то, что жизнь есть бессмыслица.
Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видать, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья и настоящих страданий и настоящей смерти – полного уничтожения». [43, с. 54]
Допустим, что я, как философ, решил попытаться пойти в своих рассуждениях дальше Толстого и многих других. Не побоялся пропасти. И вот я говорю: «Лучше совсем было бы не родиться. А уж раз такая беда случилась, то я считаю единственно правильным поскорее добровольно покинуть этот мир. Люди – трусы, потому что не делают этого». Смелая мысль, правда? Не испугался ведь, как другие. Но что происходит дальше? А ничего. Я продолжаю, как в своё время Толстой, жить своей повседневной жизнью, получая свои порции радостей и горестей. В чем же дело, почему я до сих пор жив? И здесь нам придется позвать на помощь старую добрую логику. Первое – я сам трус. Второе – я так не считаю на самом деле, но у меня есть желание, чтобы другие были порасторопнее и побыстрее освобождали жизненное пространство. Третье – в моем высказывании скрывается какая-то ошибка, потому что я так считаю, как сказал, но сам подсознательно не хочу уходить из жизни и знаю, что во мне говорит не трусость, а что-то еще. Можно допустить ещё один вариант: я сказал как философ, но как человек – вы что?! Не собираюсь я покидать этот мир! Последний вариант, на мой взгляд, глубоко ошибочен, ибо раскалывает человека надвое. Какое доверие может быть к моим радикальным суждениям в этом случае? Да никакого. Доверие как раз будет к моим действиям (вернее, к моему красноречивому бездействию). Но давайте допустим, что я искренен в своем суждении. В этом случае я, как философ, должен понять для себя, почему я утверждаю одно, а делаю совсем другое. Если я честно отвечу себе на это вопрос, этот будет восстановлением недостающего звена в цепочке моего проживания-философствования. «Я, возможно, не учитываю в своем рассуждении чего-то еще, я что-то упустил. Иначе бы я сам сделал последний шаг. Или бы не домыслил свою мысль до конца. Что же я упустил?» – такой примерно ход мыслей возник бы у меня. Подтянуть себя к мысли или подтянуть мысль к себе – это значит расширить свое мышление, включить в него элементы, которые, возможно, оказались вне поля моего зрения, в конце концов, пересмотреть свое суждение с других позиций, сделать все возможное, чтобы докопаться до сути. Философ я или не философ?! Объясниться с собой или отказаться от философствования. Вот о какой адвайте (недвойственности) я говорю, понимаете?
Ведь если бы всё упиралось в безупречность логических аргументов, неужели до сих пор не нашлось бы ума, который предложил бы человечеству идеальную модель реальности, основанную на логических построениях? И все бы убедились, что вот она, истина. И не нужно бы было философам отчаянно спорить друг с другом и что-то отстаивать – истина сияла бы перед ними, покоясь на вершине величественной логической пирамиды. Мигель де Унамуно написал: «Сперва человек, потом – философ». [44, с. 85] Он, как и мы, считал, что наше философствование определяется особенностями нашей натуры. Которые суть случайность.
Таким образом, наше существование не имеет ни смысла, ни цели, ни необходимости. (То же самое было бы верно и в отношении Бога, если бы Он существовал.) Каждый может смело сказать: я существо случайное и произвольное. С большой долей вероятности меня могло бы вообще не быть.
Не только в религиозной, но и в обычной, повседневной жизни мы непрерывно совершаем большие и маленькие ритуалы, не задаваясь вопросом о смысле совершаемого. Именно потому, что смыслов никаких нет. Любые смыслы мгновенно разбиваются о вопрос «зачем?». И вся жизнь, взятая в целом, она именно такой набор ритуалов и есть. Но если мы хотя бы один раз спросили о жизни «зачем?» и получили ответ «а низачем, просто так», то нам не нужно уже ничего конструировать. От этого знания никуда не уйти. Конечно, называть отсутствие смысла смыслом это такой же парадокс, как рассуждения о «бытии небытия». Мы ведь никогда не сможем полностью вставить небытие в нашу человеческую шкалу смыслов, вот в чём проблема. Это все равно, что попытаться засунуть слона в презерватив. Небытие находится за пределами наших смыслов. Например, ответить на вопрос «зачем есть Бог?» мы вполне можем, а вот «зачем небытие?» – увы.
Заключение. Домыслить мысль
В целом, этика, в силу её субъективности, является довольно сложной областью философии. Сложность усиливается тем, что корни наших поступков скрыты от нашего понимания. Есть процесс жизни, в котором возможно всё. При этом любая форма существования бессмысленна.
В процессе сочинения этой книги нами сформулированы следующие тезисы этики философии небытия:
1. Небытие абсолютно, бытие относительно. Небытие вечно и бесконечно, а бытие временно и ограничено. В абсолютном смысле бытия нет.
2. Небытие как онтологическая определенность случайно и спонтанно порождает онтологическую неопределенность, то есть бытие.
3. Бытие как иллюзия существования есть онтологическая противоположность небытия – реальности отсутствия.
4. Бытие не имеет онтологического права быть, поскольку нарушает гармонию небытия и выступает как его патология. Поэтому бытие запрограммировано на уничтожение.
5. Небытие порождает бытие, устанавливает ему пределы, поглощает его и вновь порождает, выполняя как конструктивную, так и деструктивную функцию по отношению к бытию. Небытие питается бытием и тем самым постоянно усиливает свою небытийность.
6. Жизнь есть модус небытия, а человек – низший, наиболее несчастный, в силу наличия самосознающего ума, выступающего как источник постоянного унижения, носитель этого модуса.
7. «Воистину мир весь во зле лежит. Зло есть всемирный факт, ибо всякая жизнь в природе начинается с борьбы и злобы, продолжается в страдании и рабстве, кончается смертью и тлением» (В. Соловьев).
8. Ограниченность любой жизни, включая жизнь человека, дополнительно подтверждает отсутствие её онтологического права быть. В силу однократности бытия жизнь каждого человека ничтожна.
9. Всякое условно – сущее как реально несуществующее может соотноситься с другим условно – сущим; соотнесенность различных несуществующих между собой создает внутреннее разнообразие масштабной сложно структурированной иллюзии и порождаемых ею страданий.
10. Массовый человек, в силу инстинкта самосохранения, боится небытия, поэтому его сознание, логика и язык имеют преимущественно бытийную направленность.
11. Культура – это безнадёжная попытка человечества зацепиться за иллюзию бытия и остановить соскальзывание в абсолютное ничто.
12. Только человек, обладающий развитым разумом и душевными качествами, умеет по-настоящему увидеть кошмар наличной иллюзии бытия.
13. Умение оценить содержание и разнообразие ужасов и абсурдности иллюзии бытия приносит разумному человеку страдание. А совесть не позволяет рассуждать о «радостях жизни», пока страдает хотя бы один человек.
14. Способность к состраданию делает человека ещё более несчастным и побуждает его отвергать жизнь.
15. Человек сознаёт, что целью жизни является смерть.
16. Осознание бездны небытия под ногами человека лишает придуманной ценности его жизнь.
17. Всё случайно, человек не может ни на что влиять. Понимание этого уменьшает его страдания.
18. Человек разумный как случайное проявление небытия хочет не быть и не хочет быть. Неприятие жизни усиливает волю к смерти.
19. Нежелание человека оставаться в рамках бытия и стремление в небытие, таким образом, есть результат отсутствия онтологического права бытия быть.
20. Из сказанного вытекают следствия:
1) онтологическая необходимость заставляет человека стремится обратно в абсолют небытия. В качестве предельного случая этого стремления выступает самоубийство; 2) онтологическая ничтожность каждого человека и отсутствие у него права быть делают убийства и самоубийства вполне заурядными, никого не удивляющими явлениями.
По большей части мы являемся участниками спектакля жизни, нежели его наблюдателями. Основную часть нашего бодрствования мы погружены в те или иные содержания – заботы, тревоги, разочарования, ожидания и т. д. Мы почти всё время пребываем внутри этих содержаний. И лишь в редкие часы и дни мы внутренне дистанцируемся, и позволяем себе взглянуть на происходящее в нас и вне нас со стороны. Эти редкие дни оказываются пределами наибольшей осознанности и ясности. В гештальт-психологии это называется сознаванием – простым свидетельствованием всего, что происходит, без какого-либо оценивания и попытки как-то изменить процесс. Так вот, понимание того, что мы не являемся авторами своих мыслей, чувств и действий, так же как и никто другой не является автором своих, ведёт к тому же самому: мы начинаем пассивно наблюдать происходящим. И при этом отмечаем, что наши действия становятся более эффективными. Но вообще, говорить о практической пользе от осознания своей абсолютной беспомощности (предельной беспомощности) – это заключает в себе некое противоречие. Как возможно использовать знание того, что от нас ничего не зависит? Это, чаще всего, невозможно, но следствием этого понимания может случиться (а может и не случиться) некая трансформация самосознания, которая приведёт к большему внутреннему покою.
Мы убеждёны, что жить разумно и нравственно в наличной иллюзии бытия немыслимо. При этом мы рассуждаем следующим образом: разумный человек не может не видеть, что жизнь это совершенно неразумное и крайне болезненное предприятие. Он искренне удивляется нерациональности и лицемерию экзистенциального оптимизма. И при этом продолжает жить. Разве это разумно? Другой случай: оптимист радуется доступным ему в данное время радостям, игнорируя страдания остальных. Это, наверно, вполне разумно, но мы не назвали бы такой эгоизм нравственным. Представим себе святого, который посвятил всю свою жизнь попыткам уменьшить страдания окружающих. Это вполне безнадёжное занятие, поскольку всех слёз он не осушит и все объекты его забот всё равно в итоге умрут. Возможно, его поведение нравственно, но уж никак не разумно. И так во всём. Найти пример нравственной и одновременно разумной жизни крайне сложно. Видимо потому, что сама жизнь по своей природе безнравственна и неразумна, от рождения и до смерти.
Когда мы говорим о смысле проживаемой жизни, вспоминается высказывание Мигеля де Унамуно: «Для вселенной я ничто, для самого себя – всё». [44, с. 102] С одной стороны, мы вполне сознаем свою ничтожность, хрупкость, преходящесть, но это сознание или, можно сказать, знание, не наполняет наше сознание полностью с утра и до вечера. Мы в очень малой степени являемся наблюдателями спектакля жизни, но в гораздо большей степени – его участниками. Хотим мы того или нет, повседневность вовлекает нас в себя. Когда мы решаем какие-то проблемы, когда ежедневно ходим на работу и находимся во власти совершенно безнравственных идиотов, когда нам досаждают окружающие люди, мы в эти моменты не думаем о своей и их ничтожности и конечности, а очень активно вовлекаемся. Мы имеем свои страхи, привязанности и пристрастия, мы чего-то всё время желаем, мы непрерывно сопротивляемся трудностям и преодолеваем какие-то препятствия. И так будет до окончательного ухода в абсолютное небытие. При этом мы не можем занять по отношению к жизни какую-либо позицию, обеспечивающую нам радикальную неуязвимость. Любые наши ухищрения обречены на провал.
Если говорить о стремлении уменьшить страдание жизни с помощью погашения собственных желаний, то здесь всё не так просто. Если желание очень сильно, то бороться с ним становится невероятно трудно. Наши желания появляются как незваные гости, которые могут завладеть хозяйским домом. Пока есть здоровье, силы, энергия – желаниям не будет конца. Они могут уменьшиться сами собой вместе с общим ослаблением организма (в результате болезни или старости). Стрессы и всевозможные переживания тоже хорошо погашают желания. Вынужденная плотная занятость также подойдет для этой цели. И что мы с вами имеем? Желание – это источник страдания. Устрани источник – исчезнет страдание. Устранить его можно только страданием же! Получается замкнутый круг. Кроме того, мы с трудом верим, что такое возможно в природе. Про Будду мы ничего не знаем, – его жизнь окутана легендой, – а вот яростный борец с желаниями Шопенгауэр не смог своей жизнью подтвердить свою проповедь. Но кто решится бросить в него камень? Все эти рассуждения – сколь заманчивы бы они ни были – так или иначе вращаются вокруг одной совершенно неразрешимой темы: можем ли мы ухитриться, изловчиться, умудриться прыгнуть выше собственной головы? Или, по-другому: можем ли мы, существующие, подняться над собственной природой (над существованием)?
Мы видим три варианта решения вопроса в этой области. Первое – мы всё-таки можем попытаться превратить свою жизнь в сплошное наблюдение. То есть мы всё время функционируем как наблюдающие за всем происходящим в нас и вне нас – этакие бесстрастные свидетели, которые непрерывно регистрируют всё совершающееся, не давая этому никакой оценки. Этот приём присутствует в дзенских медитациях, в медитации Випассаны и лежит в основе философии Балсекара. В чем слабость этого подхода? Дело в том, что пытаясь практиковать данный метод, начинаешь превращаться в автомат, в бездушную машину (оговоримся сразу, что это ненадолго). Ты каждое мгновение искусственным путем пытаешься возвыситься над потоком переживаний и восприятий, как будто они тебя не касаются. Ты становишься зрителем спектакля жизни. Но всё это ровно до тех пор, пока не возникнут достаточно серьезные проблемы, сопряженные с соответствующими страданиями. В конечном итоге выясняется, что нас, как зрителей, нет, а есть лишь страдающее ничто.
Второй вариант – мы не пытаемся отделить себя от жизни и её содержаний. Мы просто живём, пока нам легче существовать именно так. Мы пребываем внутри жизненного хаоса, и у нас нет никакого желания выпрыгнуть из него с помощью всевозможных психотехник (это заведомо обречено на неудачу). Просто живём, существуем внутри лотереи случайностей, и – кто знает, что будет завтра?
Третий вариант – попытка формулировать для себя некие относительные смыслы своей жизни. Для уменьшения страданий лучше всего было бы погрузиться в абсолютный смысл, но без религиозной веры это невозможно. А вера не может быть навязана себе или кому-либо искусственно. Но даже с относительными смыслами можно сплести узорчатую ткань своего бытия в этом мире. Да, всё призрачно и обречено на крах. Да, жизнь конечна. Да, мир несправедлив. Да, нет ни в чём опоры. Но мы – как субъекты переживаний и действий – сами станем формировать свои жизни, подобно художнику, приступающему к чистому холсту. Или скульптору, имеющему под руками некий материал (это более близкое сравнение – мы ведь уже находимся в случайно сложившихся условиях и обстоятельствах). На первый взгляд, это неплохая установка, хотя она здорово прихрамывает, но она, опять-таки, действует лишь до возникновения первых серьезных проблем. Ибо, если всё подвержено случаю и мы не свободны совершать экзистенциальные выборы, наше стремление воздействовать на ход событий это не более, чем самообман. В этом плане относительные смыслы оказываются ничем не лучше абсолютных. В итоге мы приходим к тому, что нельзя перехитрить существование. Нельзя избежать страданий. Никакие философии, никакие уловки, никакие психотехники, никакие установки не могут – увы! – избавить нас от тех или иных видов страданий. Пока мы живы – мы будем страдать каждый в свой час. Каждую секунду времени, которое вы потратили на чтение этой книги, в мире умирает по два человека. Часы идут, колёса стучат. И об этом не стоит забывать.
Мы всю жизнь, прямо или чаще опосредствованно, боимся смерти, небытия. Можно научиться не бояться и принять небытие. Никого и ничего не нужно бояться! Пусть всё идёт так, как должно не быть. Для этого, в первую очередь, следует стать предельно одиноким. Одиночество самодостаточно. В нём заключается смыслообразующий отказ и самый достойный путь к возвращению в никуда.
Философия это метафизическая интуиция, которая развивается путём постановки под вопрос самой себя. За пределами философии такая интуиция обычно отсутствует у взрослых, но встречается у детей (возможно, поэтому у детей слабо развит инстинкт самосохранения). Именно философы и дети могут ощущать несостоятельность жизни, как в частностях, так и в целом. Но философы, в отличие от детей, способны всё это сформулировать:
– с позиций онтологии: небытие есть, а бытия нет, ибо то, что непременно случится, уже произошло. Все уже до своего рождения мертвы.
– с позиций эстетики: если всё совсем запущено и человек дотянул до состояния старости, он начинает выглядеть и вести себя неэстетично.
– с позиций религии: «Наш благословенный Спаситель пожертвовал своей жизнью, и пролил свою кровь» (клирик Джон Донн «Биотанатос»). Данную сентенцию многие рассматривают как завуалированную апологию суицида.
– с позиций права: право на жизнь предполагает и право на смерть. Юридическая ответственность за убийство наступает с 14 лет. Следовательно, именно начиная с этого возраста человек несёт ответственность не только за чужую, но и за свою жизнь.
– с позиций этики: жить разумно и нравственно в наличной иллюзии мира немыслимо. Отсюда предельно честная формула античного стоицизма: достойно жить невозможно, достойно умереть легко.
Что даёт нам осознание того, что нас ведет пустота? Ну, а что оно может дать? И что нам может дать какая-либо другая идея? Жизнь будет продолжаться в любом случае, и она будет такая, какой ей случится быть – от нас здесь ничего не зависит. И мы будем такими, какие есть. И делать что-то будем (или не будем) в соответствии с особенностями наших индивидуальностей и случайных обстоятельств. Нам хочется получить ответ на вопрос, почему пустота внушает одни мысли какому-то злодею, а другие мысли – добропорядочному человеку? Вообще, почему один рожден быть негодяем и мерзавцем, а другой – добрым и отзывчивым? Ответа на этот вопрос нет. Но отсутствие ответа не убеждает нас автоматически в том, что мы не являемся марионетками чего-то такого, что не дано вместить нашему разуму. Мы называем это пустотой, Балсекар – сознанием, Шопенгауэр – волей. Нам больше по душе пустота, потому что мысль останавливается у какого-то предела – всё, дальше ничего нет. Нужно замолчать. Бездонное отсутствие. Ничто. К сожалению, никто не может объяснить, почему мы такие, почему мир такой, почему жизнь такая. Слово «случай» тоже ничего не решает в данном случае, но ведь каким-то словом нужно обозначить это?
Теперь будем возражать сами себе (что поделаешь – пробуем на ощупь относительные истины), чтобы «додумать мысль до конца»: нет ни случая, ни предопределения, ни какой-то силы в виде воли или еще чего бы то ни было. Нет никакой свободы и несвободы, пустоты и наполненности, бытия и небытия – всё это слова, за которыми ничего не стоит. Нет никаких таинственных сценариев, никаких законов и смыслов у происходящего. Нами не руководит ни пустота, ни что-либо еще – никто и никуда нас не «ведет». Взывать не к кому, спрашивать не с кого. Вброшенные насильственно в непонятный мир, мы барахтаемся и приспосабливаемся, кто как может, пока смерть не прекратит наше существование, как это происходило с поколениями, жившими до нас. Вот, собственно, и всё. Похоже, что так оно всё и обстоит. Тогда чего же мы ещё ищем?
Единственное практическое значение, которое несёт для нас честная философия, состоит в том, что любое трагическое событие жизни, включая и прекращение самой жизни, становится ожидаемым. Оно, возможно, не сможет нас сильно удивить. И не более того. Да и то… Сложно структурированная иллюзия бытия, подобно мастеру пыточного дела, удивительно хитра на выдумки.
Что касается интеллектуальной жизни в целом, то она крепко привязана к биологической. И в то же время относительно самостоятельна. Что означает относительная самостоятельность разума? Она, в частности, подразумевает способность силою разума преодолевать физические страдания. Это в том случае, когда истязаемый руководствуется какой-нибудь сверхценной иллюзией, которая помогает терпеть и не показывать врагам, что страдаешь. И, не сообщить под пыткой то, что мучители желают узнать. Но, когда в качестве основного палача фигурирует сама иллюзия бытия, которая ничего не желает от нас узнать, можно сколько угодно делать хорошую мину при плохой игре, но это никому не нужно, и никого не впечатлит, ибо в абсолютном смысле нет ни актеров, ни зрителей. Нет никого. Ничто беспричинно, предельно хаотично и слепо.
Суть в следующем – мощь небытия бесконечно (!) превосходит любое бытие. Поэтому всё сущее устремлено к одному финалу – исчезновению. Окончательному и бесповоротному. Но, собственно, вовсе необязательно замахиваться на глобальные вещи: достаточно посмотреть на мыслящий тростник, который носит в себе весь этот мир во всем его многообразии. Достаточно маленькой травмы сосуда головного мозга, чтобы весь этот мир прекратил свое существование. И это не какая-то банальность, к которой, кажется, все мы привыкли – это то, к чему мы идем, каждый из нас, хотим мы того или нет. Тогда чего стоит всё это? Всё, чем мы живем, из-за чего переживаем, чем интересуемся.
Существует ли хоть что-нибудь, что хотя бы отчасти примиряет нас с жизнью? Чжуан-цзы считал, что это бесполезное:
«Хуэ-цзы однажды сказал Чжуан-цзы:
– Ты говоришь о бесполезном.
– С тем, кто познал бесполезное, можно говорить и о полезном, – ответил Чжуан-цзы. – Ведь земля и велика, и широка, а человек ею пользуется лишь в размере своей стопы. А полезна ли ещё человеку земля, когда рядом с его стопою роют ему могилу вплоть до Жёлтых источников?
– Бесполезна, – ответил Хуэ-цзы.
– В таком случае, – сказал Чжуан-цзы, – становится ясной и польза бесполезного». [63, с. 197—203]
Да, никакая философия не поможет перехитрить страдание. В некоторых случаях помогает религия. (Однако и религиозные чувства часто трещат по швам в пограничных ситуациях. Священник Александр Ельчанинов, живший во Франции, заболел раком. Его страдания были очень велики. В своем дневнике он оставил запись о том, что наша духовная жизнь – очень хрупкая материя: она с трудом выносит боль и высокую температуру). Поэтому философия, в силу своей беспомощности, это и есть, самое что ни на есть бесполезное. Она лишь дает возможность страдать осознанно, то есть, усугубляет страдания. Но при этом она доставляет какое-то мрачное удовлетворение. Если бы не это, люди не занимались бы вот уже несколько тысячелетий философией. Природу такого удовлетворения определить очень сложно. Его можно уподобить храбрости человека, который не бежит от опасности в алкогольный или религиозный туман, а с достоинством смотрит в бездну. Как музыканты оркестра, который играл на тонущем «Титанике».
Как написал в заключительных строках своего «Трактата о небытии» философ Арсений Чанышев, «человек приходит из небытия и уходит в небытие, так ничего и не поняв». [60, 157—165]
Литература
1. Балсекар Р. Покой и гармония в современной жизни. М.: Ганга, 2007
2. Беркли Джордж Сочинения М.: Мысль, 2000
3. Бланшо М. Литература и право на смерть. В сб. Тень парфюмера. М.: Алгоритм, 2007
4. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция/ пер. с фр. А. Качалова. – М.: Рипол-классик, 2015
5. Бонавентура Ночные бдения М.: Наука, 1990
6. Бойко М. Диктатура ничто. М.: Литературная Россия, 2007
7. Будда и его учение. М.: РИПОЛ классик, 2005
8. Бхагавадгита М.: Восточная литература, РАН, 1999
9. Булгаков С. Н. Свет Невечерний. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2008
10. Ватсон Э. К. Артур Шопенгауэр. Его жизнь и научная деятельность. М.: Биографическая библиотека Флорентия Павленкова, 1891
11. Вэй У Вэй. Открытая тайна, М.: Ганга, 2018
12. Гартман Э. Сущность мирового процесса или философия бессознательного. М.: КРАСАНД, 2010
13. Гордер Ю. Мир Софии. СПб.: Амфора, с. 2006
14. Гроф С. За пределами мозга. М.: Ганга, 2018
15. Кьеркегор С. Страх и трепет. Понятие страха. Болезнь к смерти. Пер. с датского. Cерия: Библиотека этической мысли. М.: Республика, 1993
16. Кафка. Дневники. Письма М.: Ди Дик, 1995
17. Кришнамурти. Полет орла. Будущее человечества. М.: Профит-Стайл, 2006
18. Кузанский Избранные философские сочинения М.: Наука, 1979
19. Кундера М. Невыносимая легкость бытия. М.: Азбука-классика, 2009
20. Лиготти Т. Заговор против человеческой расы (-zagovor-protiv-chelovecheskoy-rasy-zamysel-uzhasa/toread)
21. Лондон Д. Мятеж на Эльсиноре. М.: Астрель, 2011
22. Метцингер Т. Наука о мозге и миф о своем Я. Тоннель эго. М.: АСТ, 2017
23. Нагарджуна Избранные места из разных сутр. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2008
24. Нагель Томас Что все это значит? Очень краткое введение в философию М.: Идея-пресс, 2001
25. Натан Дж. Мисима: Биография. Белая серия. Санкт Петербург Азбука-классика, 2006г.
26. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М.: АСТ, 2018
27. Нисаргадатта М. Я есть То. Беседы с Нисаргадаттой Махараджем. Пер. с англ. М.: Ганга, 2013
28. Пападжи. Ничто и никогда не случалось. Пер. с англ. М.: Открытый мир, Ганга, 2006
29. Пушкин А. С. Стихотворения. М.: Художественная литература, 1979
30. Рассел Б. Почему я не христианин. М.: Опустошитель, 2016
31. Рудич П. Не уверен – не умирай! Записки нейрохирурга. М.: АСТ, 2013
32. Саенко Н. Р. Нигитология культуры (опыт построения). Волгоград: Издат-во ВГПУ «Перемена», 2010
33. Сапронов П. А. Путь в ничто. Очерки русского нигилизма. СПб.: ИЦ Гуманитарная академия, 2010
34. Сартр Ж. П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2004
35. Сафрански Р. Шопенгауэр и бурные годы философии. М.: Роузбад интерактив, 2014
36. Святитель Игнатий Брянчанинов. Избранные творения в 2-х томах. М.: Сибирская благозвонница, 2009
37. Силлитоу А. Бунтари и бродяги. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000 с. 209—227
38. Сиоран Э. Горькие силлогизмы М.: Эксмо, 2008
39. Сиоран Э. Искушение существованием. Пер. с франц. Серия: Мыслители XX века. М.: Республика, 2003
40. Солодухо Н. М. Философия небытия. Казань: Издательство Казан. Гос. Тех. Ун-та, 2002
41. Слуцкий Собрание сочинений. В 6-ти томах. Том 3. М.: Худ. Лит-ра, 1991
42. Судзуки Дайсэцу Тэйтаро. Очерки о Дзэн-Буддизме. СПб.: Наука, 2002
43. Толстой Л. Н. Исповедь. О жизни. М.: АСТ, 2014
44. Унамуно М. О трагическом чувстве жизни у людей и у народов. М.: Символ, 1997
45. Филатов В. В. Книга Небытия. Балашов: Николаев, 2009
46. Филатов В. В. Сны воинов пустоты. Балашов: Николаев, 2011
47. Филатов В. В. Средневековый мистицизм ()
48. Филатов В. В. Теория случайности //WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS – сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции. В 2 частях. Пенза: Издательство МЦНС «Наука и Просвещение», 2018
49. Филатов В. В. Этика философии небытия // НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Материалы XII международной научно-практической конференции. North Charleston, USA. Издательство: CreateSpace, 2017
50. Финогентов В. Н. Человек на грани небытия: философские этюды. Орёл: Картуш, 2015
51. Хайдеггер, М. Статьи и работы разных лет / Пер., сост. и вступ. ст. А. В. Михайлова. – М.: Гнозис, 199349. 52. Хайям О. Рубаи. М.: Эксмо, 2007
53. Харрис С. Свобода воли, которой не существует – М.: Альпина Паблишер, 2015
54. Хаустов Д. С. Лекции по философии постмодерна. М.:РИПОЛ классик, 2018
55. Хэмингуэй Э. Райский сад. Рассказы разных лет, очерки, статьи. Собрание сочинений в 7 томах. Том 7. М.: АСТ, 2010
56. Чандракирти Буддийское учение о пустоте М.: Ганга М., 2009
57. Чанышев А. Н. Введение в любомудрие. М.: ЦИТО, 2002
58. Чанышев А. Н. Моя жизнь ()
59. Чанышев А. Семь качеств жизни ()
60. Чанышев А. Н. Трактат о небытии /Вопросы философии. 1990. №10
61. Чапек К. О разных средствах// Собрание сочинений в семи томах. М.: Художественная литература, 1974, т.1
62. Черносвитов Е. Формула смерти. М.: РИЦ МДК, 2004
63. Чжуан-цзы. М.: Астрель, 2002
64. Шопенгауэр А. Собрание сочинений. В 6-ти томах. Том 1. М.: ТЕРРА, 1999
65. Шестов Лев Сочинения: В 2-х томах. Т. 2: Апофеоз беспочвенности Томск: Водолей, 1996
66. Юнгер Э. Сердце искателя приключений. М.: Ад маргинем, 2004
67. Янкелевич В. Смерть (Перевод с франц.) – М.: Издат-во Литературного института. 1999
68. Benatar D. Better never to have been. The Harm of Coming into Existence. Oxford: Claredon press, 2006
69. Dick Swaab. We are our Brains: From the Womb to Alzheimer’s, 2014
70. Frederick Mosteller, ed. Stephen E. Fienberg, David C. Hoaglin, and Judith M. Tanur, The Pleasures of Statistics: The Autobiography of Frederick Mosteller, New York: Springer, 2010
71. Mainlander Philipp/ Филипп Майнлендер – Die Philosophie der Erlosung / Философия Освобождения (в 2 томах). Erster Band – Verlag von Theobald Grieben, Berlin; Zweiter Band – Verlag von C. Koenitzer, Frankfurt a. M., 1876. 1886
72. Zapffe, Peter Wessel The Last Messiah. Philosophy Now ()

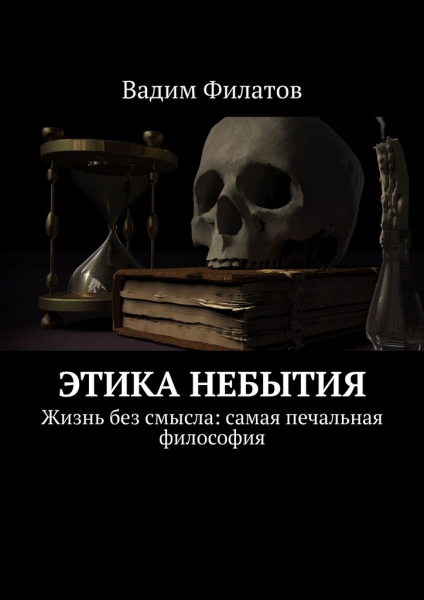


Комментарии к книге «Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия», Вадим Валентинович Филатов
Всего 0 комментариев