Жиль Делёз
Лекции о Лейбнице. 1980 1986/87
Ад Маргинем Пресс
Делёз. Жиль Лекции о Лейбнице. 1980, 1986/87. – M.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 376 с.
ISBN 978-5-91103-185-5
Данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы Музея современного искусства «Гараж» и ООО «Ад Mapгинем Пресс»
Ad Marginem Press thanks all copyright owners for their kind permission to reproduce their material. Should, despite our intensive research any person entitled to rights have been overlooked, legitimate claims shall be compensated within the usual provisions.
Gilles Deleuze
Leibniz 1980 1986/87
© Скуратов Б.М., перевод с фр., 2015
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2015
©Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС» / IRIS Foundation, 2015 Лейбницианец в Венсеннском лесу
Судьба Жиля Делёза была неразрывно связана с Венсеннским университетом Париж-VIII на протяжении 17 лет, с 1970 по 1987 гг. Он начал читать свои лекции в этом университете в 1970/71 учебном году, когда оттуда ушел Фуко, и первыми его курсами были основанная на «Анти-Эдипе» «Логика желания», а также «Логика Спинозы». Последнюю же лекцию он прочел 2 июня 1987 г., и посвящена она была музыке барокко в связи с лейбницианской идеей предустановленной гармонии (магнитофонная запись лекции не сохранилась, но ее идеи нашли отражение в последней главе книги «Складка. Лейбниц и барокко»). После этого Делёз уходит на пенсию – отчасти по возрасту, отчасти по состоянию здоровья.
О перипетиях пребывания Делёза в Венсенне можно прочесть у Франсуа Досса в книге «Делёз и Гваттари. Перекрестные биографии» (p. 404–425). Вкратце изложу, о чем идет речь в главе «Делёз в Венсенне». Университет Париж-VIII был основан на окраине Парижа, в Венсеннском лесу, в 1968 г. и задуман как своего рода «анти-Сорбонна» и в то же время витрина голлистского режима. Этот университет должен был быть избавлен от сорбоннского академизма (и действительно, в текстах лекций бросается в глаза, что слушатели и студенты обращаются к Делёзу на «ты», называя его «Жиль», а он в ответ им тоже «тыкает», не делая различий между мировой научной величиной Изабель Стенгерс и какими-то безвестными японцами), а также обеспечивать бо́льшую связь науки с практикой. У истоков университета Париж-VIII стояли такие звезды, как Мишель Серр, Ролан Барт, историк греческой мысли Жан-Пьер Вернан и представитель школы «Анналов» Эмманюэль Ле Руа Ладюри. Интересно, что в одном из официальных документов в первые годы существования Венсенна среди его целей упоминается «внедрение в трудящиеся массы теоретического преобладания марксизма-ленинизма» (!). И все-таки, несмотря на благие намерения, по мнению Франсуа Досса, университет не справился с возложенными на него надеждами и претерпел, как он выражается, «клошаризацию»…
Все годы пребывания Делёза в Венсенне были омрачены интригами, которые вели против этого философа, с одной стороны, представители отделения психоанализа – лаканисты во главе с зятем Лакана, Жаком-Аленом Миллером, а с другой – леваки, которых возглавляли Ален Бадью и Жак Рансьер. Лаканисты даже пытались устроить «путч», обвиняя сторонников Делёза в недостаточном внимании к «лингвистике, логике и топологии», а леваки – несмотря на идейные разногласия – объединялись с лаканистами. Дело доходило даже до забастовок (Франсуа Досс безоговорочно, и даже в апологетическом духе, принимает сторону Делёза и признаёт за ним моральное превосходство над противниками). К основным же союзникам Делёза принадлежали Франсуа Шатле, друг Делёза, увлекавшийся, однако, Гегелем и англосаксонской лингвистической философией, – и Жан-Франсуа Лиотар, пришедший в Венсенн из группы «Социализм или варварство». Но после того как Шатле (который был страстным курильщиком) скончался в 1982 г. от того же самого рака легких, от которого впоследствии было суждено умереть и самому Делёзу, – а Лиотар в 1979 г. выпустил книгу «Состояние постмодерна», не понравившуюся Делёзу, Делёз остается в Венсенне без соразмерных себе величин. Надо добавить, что у Лиотара Делёзу претила некоторая двойственность моральных оценок и кантианский релятивизм. (И действительно, при чтении лекций Делёза в них ощущается жесткая непреклонность этических ориентиров…)
Теперь несколько слов о слушателях Делёза. Среди них выделяются его постоянные «собеседники». Первым можно назвать Жоржа Контесса, слушателя курсов о Канте, Лейбнице и Спинозе, который был назначен «официальным собеседником» Делёза. Так, если в текстах лекций не отмечено, кто именно задает вопрос или выступает, то надо иметь в виду, что чаще всего это – Контесс. Среди известных людей, слушавших лекции Делёза, можно упомянуть и Ришара Пинхаса, ныне ставшего композитором-экспериментатором в области электронной музыки, а в те годы готовившегося к философской карьере. Среди слушателей лекций о Канте выделяется Жиль Шатле (1944–1999), математик и философ. В 80-е гг. Ж. Шатле был профессором университета Париж-VIII Венсенн; в 90-е гг. прославился как памфлетист; покончил жизнь самоубийством из-за того, что не смог вынести глобальный триумф неолиберализма. Слушательницей первых лекционных курсов Делёза была и лаканианка Элизабет Рудинеско, которая, как ни странно, являлась горячей почитательницей некоторых идей Делёза (хотя и оставила уничтожающий отзыв об «Анти-Эдипе»). Назову также относящихся к более молодому поколению профессоров Франсуа Зурабишвили (безвременно скончался в 2006 г.), посвятившего себя пропаганде произведений Делёза во всем мире, и публикатора наследия Делёза Давида Лапужада. Распространением идей Делёза в Японии и укреплением связей между Делёзом и японцами занимался его ученик и горячий почитатель Хиденобу Судзуки. (Кстати говоря, сам Делёз, по утверждению Досса, придавал громадное значение тому, что среди слушателей его лекций насчитывалось «пять-шесть австралийцев, 15–20 японцев и немало латиноамериканцев».) Наконец, собеседницей Делёза на его лекциях была соразмерная ему по влиянию в мире Изабель Стенгерс, физик и химик, соавтор лауреата Нобелевской премии Ильи Пригожина (см.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986). Что же касается самих идей «складки», то, как выясняется, они оказали серьезное влияние на (хотя и не слушавшего его курсы) крупнейшего социолога современности, нео-неопозитивиста Бруно Латура при создании его теории социальных сетей (о чем можно прочесть в предисловии О. Хархордина к русскому переводу книги Латура «Нового времени не было». М., 2006).
Перейду к самим лекциям о Лейбнице. Делёз прочел два лекционных курса о Лейбнице – четыре лекции в 1980 г. и гораздо большее их количество в 1987 г.; не все магнитофонные записи дошли до нас. Что же касается дошедших до нас записей, то они зачастую представляют собой беспорядочные обрывки. Есть места, где то, что, скорее всего, было прочтено раньше, попало в конец лекции, и наоборот. Много неразборчивых мест, в которых приходится делать конъектуры; там, где в оригинале стоят вопросительные знаки, мы пишем [нрзб.]. Два фрагмента представляют собой части лекций, прочтенных позже, и поэтому их пришлось выбросить. В лекциях обращает на себя внимание живой разговорный язык и непрерывный, страстный диалог с аудиторией, обилие вопросов и восклицаний. Так, Делёз всегда обращается к слушателям со словами: «почувствуйте, что…», а не «поймите, что…», взывая прямо-таки к чувственному усвоению непреклонно проводимых им идей. Он понимает, что студенты, к которым он обращается, обладают не ахти какими знаниями, и говорит: «Некоторые из вас, наверное, слышали о Бергсоне…» Лекции несравненно эмоциональнее, нежели их переработка, книга «Складка. Лейбниц и барокко». Интересно, что в первом цикле лекций ни о каком барокко речи нет; их идейной доминантой скорее служит сравнение Лейбница с Кантом – конечно, в пользу Лейбница, хотя идеи Канта Делёз признаёт и не отметает столь же безоговорочно, как картезианство. К своей излюбленной мысли о двух барочных этажах, проницающих собой материю и дух, Делёз обращается только во втором цикле. С неукоснительной строгостью он «прошивает» своей излюбленной триадой «складка – сингулярность – событие» чуть ли не каждую высказываемую мысль…
Делёз использует не так уж много сочинений Лейбница. Фактически он анализирует лишь «Теодицею», «Монадологию», изредка – «Новые опыты о человеческом разумении», и еще новонайденные письма – вроде письма к де Боссу. Но и взятых отрывков ему достаточно для того, чтобы выстроить не только свою концепцию Лейбница, но и собственную теорию мироздания.
В связи с этим любопытно взглянуть, как он отвечает на вопросы слушателей, пытающихся, по его мнению, «отвести его в сторону». Так, кто-то спрашивает его о событии по Фернану Броделю – на что Делёз отвечает в том духе, что как историк Бродель прав, но мы не историки, а философы. Когда же Изабель Стенгерс пытается вывести Делёза на разговор о новейших физических теориях поля, тот опять сворачивает в накатанную им колею – «ближе к Лейбницу».
Из лекций можно узнать и некоторые вещи, которые Делёз никогда не отважился бы включить ни в одну книгу, например уничтожающую оценку Витгенштейна и тезис о том, что Витгенштейн заслонил собой гораздо более крупные фигуры аналитической философии – Уайтхеда и Рассела. А в одной из последних лекций Делёз открытым текстом заявляет, что «законов природы не существует», а тот, кто признаёт законы природы, должен признавать и их противоположность в виде чуда и, следовательно, является не просто картезианцем, но даже и теологическим окказионалистом в духе Мальбранша! По мнению же Лейбница/Делёза, в мире не существует ничего, кроме свободной игры сингулярностей, событий и монад (правда, одни монады господствуют, а другие подчиняются)… Кроме того, Делёз вводит переоценку ценностей в том, что касается иерархии греческих философов. Так, стоиков он ставит выше Платона и Аристотеля, заявляя, что, если бы от них дошло большее количество текстов, еще неизвестно, кто стал бы в греческой философии классиком № 1. Читатель найдет и немало рассуждений о Плотине как авторе термина «монада», много греческой этимологии, где проводится различие между двумя типами единиц-единств: monas и enas.
Многие вопросы освещены в лекциях гораздо яснее, чем в книге «Складка», где «ритуальный сциентизм» мешает разобраться в том, как именно «работают» монады и два барочных этажа, как действует связывающий их vinculum. Так, из лекций явствует, что два этажа относятся сразу и к каждому атому материи, и к каждому, если можно так выразиться, «атому духа», и к сочетанию этих атомов на макроуровне. Кроме того, показательно – продолжающее мысли Лейбница – утверждение Делёза о том, что незнания «в природе» не существует вообще, каждая монада знает всё, только одно с большей отчетливостью, а другое – с меньшей. (Неистребимый оптимизм Делёза не мешал ему любить злейшего врага Лейбница, Вольтера, так как Лейбниц и Вольтер сочетаются между собой в рамках «предустановленной гармонии»; с другой же стороны, Делёз не считал Лейбница непогрешимым в личном плане и полагал, что по моральным качествам Лейбниц несравненно уступал Спинозе…)
Делёз «раскрывает скобки» вокруг мыслей, по разным мотивам отсутствующих или затушеванных в книге «Складка. Лейбниц и барокко». Так, он неоднократно возвращается к параллели между Лейбницем и Беркли, поскольку, из-за того что, по Лейбницу, мир не существует вне выражающих его монад, возникает соблазн спутать этот тезис с берклианским «esse est percipi». Но нет – это повторяется во многих лекциях, – монады не только выражают, но и актуализуют мир, а vinculum (между телом и душой, между двумя этажами) еще и делает этот мир реальным (хотя мир всего лишь усложнение принципа выражения монад). В лекциях упоминается и то, что престарелый Лейбниц отнесся с мягкой иронией к философским опытам молодого Беркли, назвав их «ирландской философией».
Гораздо яснее, нежели в книге «Складка», Делёз объясняет и встречающееся в философии Уайтхеда понятие «self-enjoyment». Этот «self-enjoyment», по мнению Делёза, представляет собой некий лейтмотив не только английской философии, но и всей английской культуры и английского миросозерцания. И тут нет ничего уничижительного, так как self-enjoyment – английская интерпретация библейского завета возрадоваться тому, что «мир хорош». И уж совсем оригинальным является сопоставление английской мысли с «Третьей Эннеадой» Плотина, где речь идет о радости от созерцания и от бытия самим собой! (А сущность про́клятых – в том, что они заменяют виртуальную радость яростью…) Говоря об интеграции восприятий у животных, Лейбниц создает психологию животных; говоря об интеграции восприятий у растений – теорию перцепции растений (животными и растительными монадами), а также теорию мира как виртуального горизонта всех перцепций. Монада же – это «изначальная активная потенция», то, что Николай Кузанский называл словом «possest», сочетая глаголы «мочь» и «быть», – и таково главное действующее лицо активизма Лейбница и Делёза.
Часть мыслей Делёза, например тех, что касаются концептов как основы философских систем того или иного автора, попала в позднюю книгу Делёза и Гваттари «Что такое философия». Ряд идей: о соотношении движения и времени, о том, что время в XVII в. становится не просто «количеством движения», а концептом, от которого движение зависит, – был развит в книгах «Кино. Образ-движение» и «Кино. Образ-время». Это же касается отношений между движением и силой. Некоторые мысли, относящиеся к математическим идеям Лейбница, насколько мне известно, не попали вообще ни в одну книгу и присутствуют только в этих лекциях. При этом Делёз демонстрирует недюжинные знания в области математики, хотя ставит их на службу одной и той же идее: показать, что существует то самое неуловимое различающее и различающееся различие, которое служит одним из главных предметов всех сочинений Делёза и истоки которого он приписывает Лейбницу. Так, когда Делёз рассуждает об эволюции представления о бесконечности на протяжении XVII–XIX вв. или, например, о топологии, одним из основоположников этих идей оказывается все тот же Лейбниц.
Разговорный язык Делёза доходит до того, что в лекциях он иногда употребляет слова, эквиваленты которых считаются в России матерными. Надо отметить, что во Франции они звучат на несколько порядков менее вульгарно и освящены авторитетом маркиза де Сада и Стендаля (см., например, французский текст описания битвы при Ватерлоо в «Пармской обители»). Отнюдь не из ханжества – а просто чтобы не отвлекать внимание читателя в сторону – я счел необходимым слегка смягчать их.
Существует несколько – хотя не так много – проблем передачи делёзовской терминологии. Так, излюбленные Делёзом термины «concept» и «percept», видимо, так и следует передавать: «концепт» и «перцепт». При этом концепт отчетливо противопоставляется термину «notion», «понятие», которое, в отличие от концепта, является более «наивным» и не несет на себе печати авторского изобретения. Кроме того, латинский корень cep– непосредственно соотносится со столь дорогой Делёзу идеей схватывания действительности – как выражается В. В. Бибихин, это то же самое, что и русское «цеплять». Французское etage можно переводить как «ярус», а можно и как «этаж». Перевод «этаж» лучше соотносится с идеей барочного дома и поэтому представляется более точным. При этом существующие переводы Лейбница часто оказываются бесполезными: например, в русских переводах предпочитают говорить не о «складках» и «сгибах», а о «тайниках» материи. И трудно понять, кто прав; слегка отвлекаясь в сторону, можно упомянуть мнение Поля Вена, высказанное им в биографии Фуко (рус. пер.: СПб., 2013): Делёз, конечно, великий и оригинальный философ, но он совершенно безосновательно усматривал у Фуко понятие «складки». Складку и сгиб Делёз видит, кстати, еще у Уайтхеда и Бергсона (хотя Уайтхед почему-то предпочитает в данном контексте говорить о «вибрациях»). Ницше, по мнению Делёза, считал, что складками и сгибами наполнена немецкая душа и это – удобный момент противопоставить его Гегелю как философа «плоскостного» философу «глубинному».
Как бы там ни было, главное ощущение от «Лекций» Делёза – непрестанное биение, можно даже сказать взволнованная пульсация, мыслей. Мне приходилось переводить «Лекции по социологии» Адорно, и надо сказать, что единственное отличие разговорного языка Адорно от языка его произведений – в том, что он не всегда успевает за грамматикой своих сложнейших мыслей и фраз. Делёз же пользуется краткими, рублеными фразами, мгновенно доходящими до слушателя. Единственная приходящая мне в голову (может быть, не вполне обоснованная научно) аналогия в истории философии – сочинения Ницше, особенно последнего периода. Как пишет Франсуа Досс, Делёз (не без некоторой болезненности) не любил выпячивать свою личность и никогда не рассказывал о себе. Тем не менее «Лекции о Лейбнице», по-моему, представляют собой «Ecce Homo» на делёзовский лад! Недаром Ницше относился к числу «вечных спутников» Делёза, и недаром Делёз (на первый взгляд, несколько неожиданно) объявлял Ницше продолжателем идей Лейбница…
Борис Скуратов
1980 Лекция 1
(15.04.1980)
Мы собираемся посвятить некоторое время серии лекций о Лейбнице. Моя цель очень проста: для тех, кто с ним совсем незнаком, попытаться показать этого автора, внушить вам любовь к нему и желание прочесть его.
Чтобы начать знакомство с Лейбницем, существует один несравненный рабочий инструмент. Это работа длиною в жизнь, работа очень скромная, но очень глубокая. Существует такая дама, г-жа Пренан, которая уже давно готовит избранные отрывки из работ Лейбница. Как правило, избранные отрывки – это нечто очень сомнительное; здесь оказывается, что это шедевр. Это шедевр по одной простой причине: дело в том, что приемы письма у Лейбница, наверное, весьма обычны для его эпохи (начало XVIII в.), но он доводит их до невиданного блеска. Разумеется, подобно всем философам, он пишет толстые книги; выражаясь радикально, можно было бы сказать, что эти толстые книги не главное в его творчестве, так как главное в его творчестве содержится в переписке и в мемуарах весьма незначительного размера. Великие тексты Лейбница – это очень часто тексты из четырех или пяти страниц, из десяти страниц, или же письма. Он понемногу пишет на всех языках, и некоторым образом это – первый великий немецкий философ. Это пришествие немецкой философии в Европу. Влияние Лейбница на немецких философов-романтиков окажется непосредственным, и более того: оно оригинальным образом будет ощущаться у Ницше.
Лейбниц – один из философов, который лучше других дал возможный ответ на вопрос: что такое философия? Что делает философ? Он занимается чем? Если мы подумаем о том, что определения, данные поискам истинного, или поискам мудрости, не адекватны, то существует ли философская деятельность? Я очень скоро расскажу, по каким чертам я распознаю философа в его деятельности. Мы можем сопоставлять разные виды деятельности лишь в зависимости от того, что они творят, и от их модуса творения. Необходимо спросить: что творит столяр? Что творит музыкант? Что творит философ? Философ – это, на мой взгляд, тот, кто создает концепты. Это предполагает многое: то, что концепт есть нечто, что следует создать; то, что понятие есть слово творения.
Я не вижу никакой возможности определить конкретную науку, если мне не указывают нечто, что создается этой наукой и в этой науке. И вот оказывается, что то, что создается наукой и в науке, – я не знаю, что это такое, но это не концепты в собственном смысле слова. Концепт творения был гораздо больше связан с искусством, чем с наукой или с философией. Что творит живописец? Он творит линии и цвета. Это предполагает, что линии и цвета не даны, что они – термины творения. Что дано – то в предельном случае всегда можно было бы назвать потоком. Потоки даны, а творение состоит в разрезании, организации, соединении потоков так, чтобы вокруг известных сингулярностей, извлеченных из потоков, вырисовывалось или создавалось творение.
Концепт – это отнюдь не нечто данное. Более того, концепт – не то же самое, что мысль: можно прекрасно мыслить без концептов и даже все, кто не занимается философией, как я считаю, мыслят, они мыслят в полной мере, но они мыслят не концептами – если вы согласны с идеей, что концепт есть термин оригинальной деятельности или оригинального творчества.
Я бы сказал, что концепт – это система сингулярностей, выделенная из потока мыслей. Философ – тот, кто изготовляет концепты. Интеллектуально ли это? По-моему, нет. Ведь концепт как система сингулярностей, выделенная из потока мысли… вообразите поток универсальной мысли как своего рода внутренний монолог всех, кто мыслит. Философ возникает вместе с актом, состоящим в создании концептов. На мой взгляд, в изготовлении концепта присутствует столько же творчества, сколько в творениях великого живописца или великого музыканта. Можно также представить себе непрерывный акустический поток (может быть, это всего лишь идея, но главное, что эта идея имеет основание), который проницает мир и включает само молчание. Музыкант – тот, кто выбирает из этого потока нечто: ноты? Агрегаты нот? Нет? Что же мы назовем новым звуком музыканта? Вы прекрасно понимаете, что речь идет не просто о системе нот. То же самое верно и для философии, просто речь идет о создании не звуков, а концептов.
Речь идет не о том, чтобы определять философию через какие бы то ни было поиски истины, и по очень простой причине: дело в том, что истина всегда подчинена той системе концептов, какой мы располагаем. Какова важность философов для нефилософов? Дело в том, что нефилософы могут не знать этого или делать вид, что этим не интересуются; хотят они этого или нет, они мыслят при помощи концептов, у которых есть собственные имена. Я распознаю имя Канта не по его жизни, а по определенному типу концептов, которые снабжены его подписью. Коль скоро это так, то вполне понятно – что такое быть учеником того или иного философа. Если вы попадаете в такую ситуацию, когда говорите себе, что такой-то философ создал концепты, в каких вы ощущаете потребность, – в тот самый момент вы становитесь кантианцем, лейбницианцем или кем-нибудь еще.
Неизбежно случается, что два великих философа бывают не согласны друг с другом в той мере, в какой каждый создает систему концептов, служащую ему референцией. Но судить надо не только по этому. Учеником вполне можно быть лишь локально, лишь по тому или иному вопросу: из философии можно брать фрагменты. Вы можете быть учеником того или иного философа в той мере, в какой вы считаете, что испытываете личную потребность именно в этом типе концептов. Концепты – это сигнатуры духа. Но это не означает, что все это происходит только в голове, так как концепты – это еще и образы жизни; и если философ мыслит не больше, чем художник или музыкант, то это происходит не по выбору и не благодаря рефлексии: разные виды деятельности определяются через творчество, а не через рефлексивное измерение. А коль скоро это так, то что означает: иметь потребность в том или ином концепте? Определенным образом я говорю себе, что понятия – это еще какие-то живые штуки, это такие штуковины с четырьмя лапами, они шевелятся, ну да! Что-то вроде цвета, что-то вроде звука. Концепты настолько живые, что можно сказать, что они вступают в отношения с тем, что кажется наиболее отдаленным от них, а именно с криком.
Некоторым образом, философ – это не тот, кто поет, а тот, кто кричит. Всякий раз, когда у вас возникает потребность кричать, я считаю, что вы недалеки от своего рода зова философии. Что означает, что концепт – это своего рода крик или своего рода форма крика? Вот что: иметь потребность в концепте означает хотеть иметь то, о чем следует кричать! Необходимо найти концепт для этого крика, вот… Можно кричать о тысяче вещей. Вообразите того, кто кричит: «как бы там ни было, должно быть, это имеет смысл». Это очень простой крик. Согласно моему определению, концепт есть форма крика, и мы сразу же видим целый ряд философов, которые сказали бы: «Да-да!» Это философы страсти, философы пафоса, в отличие от философов логоса. К примеру, Кьеркегор основывает всю свою философию на основополагающих криках.
Но Лейбниц принадлежит к великой рационалистической традиции. Вообразите Лейбница: в нем есть нечто сбивающее с толку. Это философ порядка; более того, порядка и полиции, во всех смыслах слова «полиция». Прежде всего в первом смысле слова «полиция», а именно: упорядоченная организация полиса. Он мыслит только в терминах порядка. В этом смысле он крайний реакционер, это друг порядка. Но, как ни странно, при своей любви к порядку и для того, чтобы этот порядок обосновать, он предается самой что ни на есть безумной страсти к творению концептов, какую только можно обнаружить в философии. Какие-то взъерошенные концепты, какие-то торчащие концепты, концепты в страшном беспорядке, сложнейшие концепты для оправдания того, что есть. Необходимо, чтобы у всякой вещи был смысл.
На самом деле существуют две разновидности философов, если вы примете определение, согласно которому философия есть деятельность, состоящая в творении концептов; есть те, кто занимается весьма трезвым созданием концептов; они создают концепты на уровне сингулярности, весьма отличающейся от других, и – в конечном счете – я грежу о своего рода количественном исчислении философов, когда их исчисляют в зависимости от числа концептов, которые носят их имя или придуманы ими. Если я говорю себе: «Декарт», то это очень трезвомыслящий тип создания концептов. История cogito такова: с исторической точки зрения мы всегда можем найти целую традицию, предшественников, однако это не препятствует тому, чтобы существовало нечто, подписанное именем Декарта в понятии cogito, а именно (в пропозиции может быть выражен концепт) пропозиция: «Я мыслю, следовательно, я есть» – вот подлинно новый концепт. Это – открытие субъективности, субъективности мыслящей. И подписано оно Декартом. Разумеется, можно всегда заняться поисками субъективности у Августина, можно посмотреть, не было ли это открытие подготовлено – разумеется, существует история концептов, но здесь стоит подпись «Декарт». Можно быстро окинуть взором всего Декарта, не правда ли? У него можно насчитать пять-шесть концептов. То, что он изобрел шесть понятий, – грандиозно, однако это трезвомыслящее творчество. Но ведь есть и отчаянные философы. Для них каждый концепт покрывает некую совокупность сингулярностей, и им необходимы всегда новые концепты. Мы присутствуем при бурном изобретении концептов. Типичный пример здесь – Лейбниц: он так и не кончил создавать новое заново. Вот все, объяснением чего я хотел бы заняться.
Это первый философ, который задумался о мощи немецкого языка в том, что касается концептов, ведь здесь немецкий – язык в высшей степени концептуальный и не случайно его также можно назвать великим языком крика. Многосторонняя деятельность – Лейбниц занимается всем подряд: величайший математик, величайший физик, очень хороший юрист, много занимался политикой, всегда на службе порядка. Он не останавливается, он всегда косится в сторону. Как-то Лейбниц посетил Спинозу (а это – анти-Лейбниц). Лейбниц заставил его читать рукописи, можно вообразить себе отчаявшегося Спинозу, задающего себе вопрос – чего же хочет этот тип. После этого, когда Спиноза оказался в опасности, Лейбниц говорит, что он приезжал к Спинозе не для того, чтобы с ним увидеться; он говорит, что приезжал надзирать за ним… Отвратительно. Лейбниц отвратителен. Даты жизни: 1646–1716. Это долгая жизнь, он попадает в переделки, но всегда остается на коне. Наконец, ему свойственен своего рода дьявольский юмор. Я бы сказал, что его система довольно-таки пирамидальна. Великая система Лейбница имеет несколько уровней. Ни один из этих уровней не является ошибочным, одни уровни символизируют другие, и Лейбниц – первый великий философ, который понимает деятельность и мысль как обширную символизацию.
Стало быть, все эти уровни нечто символизируют, но все они более или менее близки к тому, что можно предварительно назвать абсолютом. Но ведь это является частью самого его творчества. В зависимости от того, к кому Лейбниц пишет, или в зависимости от публики, к которой он обращается, он предъявляет всю свою систему на том или ином уровне. Вообразите, что его система состоит из более или менее сжатых или из более или менее расширенных уровней: чтобы объяснить нечто кому-нибудь, Лейбниц устраивается на том или ином уровне своей системы. Предположим, что того, о ком идет речь, Лейбниц заподозрил в заурядности ума: прекрасно, Лейбниц располагается между самыми нижними уровнями своей системы; если же он обращается к кому-нибудь поумнее, то перескакивает на другой уровень. Поскольку эти уровни имплицитно являются частью самих текстов Лейбница, возникает серьезная проблема комментариев. Это сложно, потому что мы никогда не сможем доверять какому-либо тексту Лейбница, если вначале не почувствуем уровень системы, которой этот текст соответствует.
Например, существуют тексты, где Лейбниц объясняет, что такое, по его мнению, союз души и тела: ну и ладно, это зависит от соответствующего корреспондента. Другому корреспонденту Лейбниц заявит, что проблемы союза души и тела не существует, так как подлинная проблема – это проблема соотношения душ между собой. Эти два утверждения нисколько не противоречат друг другу, так как это два уровня системы. И получается, что если мы оцениваем уровень некоего текста Лейбница, то у нас создается впечатление, будто автор непрестанно сам себе противоречит, а на самом деле он отнюдь себе не противоречит. Лейбниц – это очень сложный философ. Я бы хотел озаглавить каждую часть того, что я вам предлагаю. Большую часть я хотел бы назвать «забавная мысль». Почему я называю ее «забавная мысль»? Ну пожалуй, потому, что среди работ Лейбница есть небольшой текст, который Лейбниц сам называет «Забавная мысль». Итак, мне дает право сам автор. Лейбниц много грезил, в его творчестве есть целый срез научной фантастики, совершенно потрясающий, он все время воображал разные институты. В этом небольшом тексте «Забавная мысль» он воображал весьма беспокойный институт, который был бы следующим: необходима академия игр. В ту эпоху, так же как у Паскаля и других математиков, у самого Лейбница строится великая теория игр и вероятностей. Лейбниц – один из великих основателей теории игр. Он страстно увлекается математическими проблемами игр, впрочем, он и сам был весьма склонен к играм. Он воображает эту академию игр, каковой она должна быть «в то же время» – почему «в то же время»? Потому что, согласно точке зрения, с какой мы посмотрим на этот институт или будем участвовать в нем, это будет в одно и то же время отдел академии наук, зоологический и ботанический сад, универсальная выставка, казино, где мы играем, и предприятие полицейского контроля. Неплохо. Он называет это «Забавная мысль».
Предположим, я рассказываю вам некую историю. Эта история состоит в том, что необходимо воспользоваться одним из центральных пунктов философии Лейбница, и рассказываю я вам эту историю так, как если бы она была описанием иного мира, и вот я перечисляю главные пропозиции, которые формируют забавную мысль.
A) Поток мысли всегда влечет за собой знаменитый принцип, который имеет весьма своеобразный характер, потому что это один из тех немногочисленных принципов, относительно которых можно быть уверенным, и в то же время мы совершенно не видим того, что он нам дает. Он достоверен, но пуст. Этот знаменитый принцип есть принцип тождества. Принцип тождества высказывается в классической форме: A есть A. Это несомненно. Если я говорю, что синее есть синее или что Бог есть Бог, я не говорю тем самым, что Бог существует, но в каком-то смысле на моей стороне достоверность. Только вот что: мыслю ли я что-нибудь, когда говорю, что A есть A, или не мыслю? Все-таки попытаемся сформулировать, чтó влечет за собой этот принцип тождественности. Он являет себя в форме взаимной пропозиции. A есть A – это означает: субъект A, глагол «быть», A – атрибут или предикат, существует некая взаимность между субъектом и предикатом. Синее есть синее, треугольник есть треугольник; это пустые и достоверные пропозиции. Но все ли это? Тождественная пропозиция – это такая пропозиция, где атрибут или предикат – тот же самый, что и субъект, и вступает с субъектом в отношения взаимности. Существует и второй случай, чуть-чуть более сложный, а именно: принцип тождества может детерминировать пропозиции, являющиеся не просто взаимнообратными. Теперь перед нами не просто обратимость предиката с субъектом и субъекта с предикатом. Предположим, я говорю: «у треугольника три стороны», и это не то же самое, что сказать «у треугольника три угла». «У треугольника три угла» – пропозиция тождественная, так как обратимая. «У треугольника три стороны» – немного отличается от предыдущей, здесь нет обратимости. Нет тождественности субъекта и предиката. И действительно, три стороны – это не то же самое, что три угла. И все-таки существует так называемая логическая необходимость. Эта логическая необходимость означает, что вы не можете помыслить три угла, образующие одну и ту же фигуру, без того чтобы у этой фигуры не было трех сторон. Обратимости здесь нет, но есть включение. Три стороны включены в треугольник. Неотъемлемость, или включение.
Аналогично этому если я говорю, что материя есть материя, то «материя есть материя» – это тождественная пропозиция в форме пропозиции взаимнообратной: субъект тождественен предикату. Если я говорю, что «материя протяженна», то это опять-таки тождественная пропозиция, потому что я не могу помыслить понятие материи, не введя в него протяженности. Протяженность – в материи. Это – в меньшей степени взаимнообратная пропозиция; наоборот, вполне может быть, что я помыслю протяженность без того, что заполняло бы ее, то есть без материи. Итак, это не взаимнообратная пропозиция, но пропозиция включения; когда я говорю: «материя протяженна», то это пропозиция тождественная через включение.
Итак, я бы сказал, что тождественные пропозиции бывают двух типов: это взаимные пропозиции, где субъект и предикат – одно и то же, и пропозиции неотъемлемости, или включения, где предикат содержится в понятии субъекта.
Если я говорю «этот лист имеет лицевую сторону и изнанку» – ладно, пройдем мимо, обойдусь без этого примера… A есть A – это пустая форма. Если я ищу более интересное высказывание, относящееся к принципу тождества, то я сказал бы в духе Лейбница, что принцип тождества формулируется так: всякая аналитическая пропозиция истинна.
Что означает «аналитическая»? В соответствии с примерами, которые мы только что видели, аналитическая пропозиция – это такая пропозиция, в которой предикат или атрибут тождественен субъекту, например: «треугольник есть треугольник» – взаимнообратная пропозиция; либо это пропозиция включения, «у треугольника три стороны», предикат содержится в субъекте до такой степени, что, когда вы помыслили субъект, предикат в нем уже был. Итак, вам достаточно провести анализ, чтобы обнаружить предикат в субъекте. До сих пор Лейбниц как оригинальный мыслитель не возник.
B) Лейбниц возникает. Он возникает в весьма причудливой форме крика. Я собираюсь дать вам высказывание более сложное, чем дал только что. Все, что мы говорим, – это не философия, это предфилософия, это территория, где разовьется чудеснейшая философия.
Лейбниц приходит и говорит: очень хорошо. Принцип тождества дает нам определенную модель. Почему определенную модель? В самом своем высказывании аналитическая пропозиция будет истинна, если вы атрибутируете субъекту нечто, составляющее единое целое с самим субъектом, или сливающееся с ним, или уже содержащееся в субъекте. Вы не рискуете ошибиться. Итак, всякая аналитическая пропозиция истинна.
Предфилософский гениальный переворот Лейбница таков: посмотрим на взаимнообратную пропозицию! Здесь начинается нечто совершенно новое, и все-таки очень простое – необходимо помыслить это. А что означает «необходимо помыслить это»? – Это означает, что необходимо иметь потребность в этом, необходимо, чтобы это соответствовало чему-то срочно необходимому. Какова взаимнообратная пропозиция для принципа тождества в его сложном высказывании «всякая аналитическая пропозиция истинна»? Взаимнообратная пропозиция ставит гораздо больше проблем. Появляется Лейбниц и говорит: всякая истинная пропозиция – аналитическая. Если верно, что принцип тождества дает нам некую модель истины, то почему мы натыкаемся на следующую трудность, а именно: это верно, но это не наводит нас ни на какие мысли. Нам навязывают принцип тождества, чтобы заставить нас о чем-то помыслить, и вот мы собираемся его перевернуть, мы собираемся его перелицевать. Вы скажете мне, что если перевернуть A есть A, то получится A есть A. И да и нет. Это «A есть A» находится в формальной формуле, что препятствует переворачиванию принципа. Но в философской формулировке, которая, однако, сводится к тому же самому: «всякая аналитическая пропозиция есть пропозиция истинная», – если вы перевернете этот принцип, сказав «всякая истинная пропозиция с необходимостью аналитическая», то это означает – что? Всякий раз, когда вы формулируете истинную пропозицию, необходимо (и вот где крик!), хотите вы того или нет, чтобы она была аналитической, то есть чтобы она была сводимой к пропозиции атрибуции или к пропозиции предикации, а не только чтобы она была сводимой к суждению предикации или атрибуции (небо голубое); чтобы она была аналитической, то есть чтобы предикат либо был бы взаимнообратным субъекту, либо содержался в понятии субъекта. Можно ли сказать, что это само собой разумеется? Лейбниц проделывает забавный трюк, но происходит это не из любви к трюкам: ему это необходимо. Но он втягивается в невозможный трюк: фактически ему необходимы совершенно безумные концепты – для того, чтобы добраться до той задачи, каковую он собирается перед собой поставить. Если всякая аналитическая пропозиция истинна, то надо полагать, что всякая истинная пропозиция является аналитической. Отнюдь не само собой разумеется то, что всякое суждение сводимо к суждению атрибуции. Это будет нелегко продемонстрировать. Лейбниц бросается в такой комбинаторный анализ, каковой, по его собственному утверждению, является фантастическим. Почему это не само собой разумеется? «Спичечный коробок на столе» – я сказал бы, что это суждение – какое? «На столе» – это пространственная детерминация. Я мог бы сказать, что спичечный коробок – «здесь». «Здесь» – это что такое? Я бы сказал, что это – суждение локализации. Опять-таки, я говорю одни и те же простые вещи, но они всегда представляли собой основополагающие проблемы логики. Это как раз для того, чтобы подсказать вам, что даже по видимости не все суждения имеют форму предикации или атрибуции. Когда я говорю «небо голубое», то у меня есть субъект, небо, и атрибут «голубое». А когда я говорю «небо там, вверху» или «я здесь», значит ли это, что «здесь», локализацию в пространстве, можно уподобить предикату? Могу ли я формально свести суждение «я здесь» к суждению типа «я белокур»? Нет уверенности в том, что локализация в пространстве есть качество. И «2 + 2 = 4» – это суждение, которое мы, как правило, называем относительным. Или же если я говорю «Петр меньше Павла», то это отношение между двумя терминами, Петром и Павлом. Вероятно, я ориентирую это отношение на Петра: если я говорю «Петр меньше Павла», то могу сказать и «Павел больше Петра». Где субъект и где предикат? Вот как раз та проблема, которая волновала философию с самого ее начала. Раз уж мы пользуемся логикой, мы задаем себе вопрос, в какой мере суждение атрибуции может считаться универсальной формой всякого возможного суждения или же одним из многих возможных случаев суждения. Могу ли я считать «меньше Павла» атрибутом Петра? Не уверен. Здесь нет ничего очевидного. Может быть, необходимо различать весьма несхожие типы суждений, а именно: относительное суждение, суждение пространственно-временной локализации, суждение атрибуции и еще много разных; наконец, суждение существования. Если я говорю «Бог существует», то могу ли я формально перевести его в форму «Бог – существующий», когда «существующий» – атрибут? Могу ли я сказать, что «Бог существует» есть суждение той же формы, что и «Бог – всемогущий»? Наверное, нет, так как я могу сказать «Бог – всемогущий», лишь добавив «но только если он существует». Существует ли Бог? Атрибут ли существование? Не уверен.
Итак, вы видите, как, высказывая идею того, что всякая истинная пропозиция должна так или иначе быть пропозицией аналитической, то есть тождественной, Лейбниц уже ставит перед собой очень трудную задачу: он берется доказать, каким именно образом все пропозиции можно свести к суждению атрибуции, то есть к пропозициям, высказывающим отношения, пропозициям, высказывающим существования, и пропозициям, высказывающим локализации, и что в предельном случае «существовать», «быть в отношении к» здесь можно трактовать как эквиваленты атрибута субъекта.
У вас в мозгу должна возникнуть идея бесконечной задачи. Предположим, Лейбницу удастся ее решить; какой мир возникнет отсюда? Что за причудливейший мир? Что это за мир, где я могу сказать: «всякая истинная пропозиция – аналитическая»? Вы хорошо помните, что АНАЛИТИЧЕСКАЯ – это такая пропозиция, где предикат тождественен субъекту или включен в субъект. Ну и причудливым будет такой мир!
Каким будет взаимнообратное суждение для принципа тождества? Ведь принцип тождества – это все-таки «всякая истинная пропозиция – аналитическая»; не наоборот – «всякая аналитическая пропозиция – истинная». Лейбниц говорит, что необходим иной принцип, взаимнообратный: всякая истинная пропозиция – с необходимостью аналитическая. Он даст ему очень красивое имя: принцип достаточного основания. Почему достаточное основание? Почему он полагает, что мыслит в полной мере, используя свой крик? НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ У ВСЕГО БЫЛО ОСНОВАНИЕ. Принцип достаточного основания может выражаться так: что бы ни происходило с субъектом, какими бы ни были детерминации пространства и времени, отношения, события, необходимо, чтобы то, что происходит, то есть то, что мы говорим о нем как истину, необходимо, чтобы все, что говорится о субъекте, содержалось в понятии субъекта.
Необходимо, чтобы все, что происходит с субъектом, уже содержалось бы в понятии субъекта. Понятие{ Notion передается как «понятие», а concept – как «концепт», так как в дальнейшем будут еще и «перцепты», и прочие слова с корнем «цепт». «Понятие» для Делёза – нечто гораздо более простое и обыденное, чем «концепт»; кроме того, оно возникает само собой. «Концепты» же несут на себе печать авторского имени, и они наглядно передают излюбленную Делёзом идею хватания; ср. рус. «цеплять». – Здесь и далее примеч. пер.} «понятия» окажется сущностным. Необходимо, чтобы «голубое» содержалось в понятии неба. Почему же это – принцип достаточного основания? Потому, что если это так, то у всякой вещи есть некое основание: основание – это как раз само понятие, поскольку оно содержит все, что происходит с соответствующим субъектом. Значит, у всего есть основание.
Основание = понятие субъекта постольку, поскольку это понятие содержит все, что говорится об этом субъекте как истина. Итак, принцип достаточного основания и есть взаимнообратный принцип по отношению к принципу тождества. Вместо того чтобы искать абстрактные обоснования, я задаюсь вопросом: какой причудливый мир родится из всего этого? Мир с весьма причудливыми красками, если я применю живописную метафору. Картина, подписанная «Лейбниц». Всякая истинная пропозиция должна быть аналитической, или опять-таки: все, что вы говорите о каком-либо субъекте как истинное, должно содержаться в понятии субъекта. Почувствуйте, что это уже становится безумным, требуется целая жизнь для работы над этим. Так что это означает – понятие? Оно подписано «Лейбниц». Подобно тому как существует гегелевская концепция концепта, существует и лейбницианская концепция концепта.
C) Еще раз: моя проблема в том, какой мир возникнет, и в этом C) я хотел бы начать демонстрировать, что, исходя из этого, Лейбниц создает поистине галлюцинаторные концепты. Вот уж действительно галлюцинаторный мир! Если вы хотите помыслить отношение философии к безумию, например, то существуют очень слабые страницы Фрейда о глубинном соотношении метафизики и бреда. Позитивность этих отношений можно уловить только через теорию концепта, а направление, в котором я хотел бы идти, – отношения концепта с криком. Я хотел бы дать вам почувствовать присутствие своего рода концептуального безумия в этой вселенной Лейбница: мы увидим, как она рождается. Это какое-то нежное насилие, пойдемте туда. Спорить тут нечего. Поймите всю глупость возражений.
В скобках уточню. Вы знаете, что существует философ, живший после Лейбница и сказавший, что истина есть истина синтетических суждений? Он противостоит Лейбницу. Ну и ладно! Чем это нам повредит? Это Кант. Речь идет не о том, чтобы сказать, что Кант и Лейбниц друг с другом не согласны. Когда я говорю это, я имею в виду, что Кант оперирует новым концептом, каковой есть синтетическое суждение. Необходимо было придумать это понятие, и Кант его придумывает. Сказать, что философы противоречат друг другу, – это фраза дебила; это как если бы вы сказали, что Веласкес не согласен с Джотто, – это даже не то чтобы неверно, это просто нонсенс.
Всякая истинная пропозиция должна быть аналитической, то есть такой, чтобы она атрибутировала нечто некоему субъекту, а атрибут должен содержаться в понятии субъекта. Приведем пример. Я не спрашиваю себя, верно ли это; я спрашиваю себя, что это означает. Приведем пример истинной пропозиции. Истинная пропозиция – это, может быть, элементарная пропозиция, касающаяся события, которое имело место. Возьмем примеры самого Лейбница: «ЦЕЗАРЬ ПЕРЕШЕЛ РУБИКОН».
Это пропозиция. Она истинная, или же у нас есть серьезные основания предполагать, что она истинная. Другая пропозиция: «АДАМ СОГРЕШИЛ».
Вот в высшей степени истинная пропозиция. Что вы тем самым имеете в виду? Вы видите, что все эти пропозиции, избранные Лейбницем в качестве основополагающих примеров, суть пропозиции событийные, и он задает себе нелегкую работу. Лейбниц собирается сказать нам следующее: поскольку эта пропозиция истинная, то необходимо – хотите вы этого или нет, – чтобы предикат «перейти Рубикон», если пропозиция истинная (а ведь она истинная!), чтобы этот предикат содержался в понятии Цезаря. Не в самом Цезаре, а в понятии Цезаря. Понятие субъекта содержит все, что с субъектом происходит, то есть все, что говорится о субъекте как истинное.
В «Адам согрешил» грех в некий момент принадлежит к понятию Адама. «Перейти Рубикон» принадлежит к понятию Цезаря. Я бы сказал, что здесь Лейбниц выдвигает один из своих первых великих концептов: концепт неотъемлемости. Все, что говорится о чем-то как истинное, неотъемлемо от понятия этого чего-то. Таков первый аспект, или развитие достаточного основания.
D) Когда мы говорим это, мы уже не можем остановиться. Когда мы что-то начали в сфере концепта, мы не можем остановиться. В области криков существует знаменитый крик Аристотеля. Великий Аристотель, который, между прочим, оказал на Лейбница очень мощное влияние, произносит в один момент в «Метафизике» прекраснейшую формулу: «надо бы остановиться (anankéstenai)». Это великий крик. Это философ стоит перед бездной нанизывания концептов друг на друга. Лейбницу насрать на это предостережение, он не останавливается. Почему? Если вы возьмете пропозицию С), то все, что вы атрибутируете некоему субъекту, должно содержаться в понятии этого субъекта. Но то, что вы атрибутируете как истинное какому угодно в мире субъекту, пусть даже Цезарю, – достаточно, чтобы вы атрибутировали ему как истинную одну-единственную вещь, чтобы вы с ужасом догадались, что с вот этого момента вы вынуждены «зашивать» в понятие субъекта не только ту вещь, которую вы атрибутируете ему как истинную, но и всю тотальность мира.
Почему? В связи с хорошо известным принципом, который – совсем не то же самое, что принцип достаточного основания. Это – простой принцип причинности. Ведь принцип причинности, в конечном счете, доходит до бесконечности, и это его особенность. А это весьма своеобразная бесконечность, потому что на самом деле он доходит до неопределенности. То есть принцип причинности утверждает, что всякая вещь имеет причину, а это – совсем не то же самое, что и «всякая причина имеет основание». Ведь причина – это вещь{ По-французски это гораздо нагляднее: «la cause, c’est une chose», так как с этимологической точки зрения «cause» и «chose» – одно и то же.}, а у вещи, в свою очередь, есть своя причина и т. д. и т. д. Я могу переформулировать то же самое, сказав: всякая причина имеет следствие, а это следствие есть, в свою очередь, причина следствий. Стало быть, перед нами – неопределенный ряд причин и следствий.
Какая разница между достаточным основанием и причиной? Здесь все понятно. Причина никогда не бывает достаточной. Необходимо сказать, что принцип причинности полагает причину необходимую, но не достаточную. Надо отличать необходимую причину от достаточного основания.
И по всей видимости, отличает их то, что причина вещи – всегда другая вещь. Причина A есть B, причина B есть C и т. д. Неопределенный ряд причин. Достаточное основание – это вещь, не слишком отличающаяся от самой вещи. Достаточное основание вещи – это понятие вещи. Итак, достаточное основание выражает отношения вещи с ее собственным понятием, тогда как причина выражает отношения вещи с другой вещью. Все прозрачно.
E) Если вы говорите, что такое-то событие включено в понятие Цезаря, то «перейти Рубикон» включено в это понятие? Если вы не можете остановиться, то в каком смысле? Дело в том, что, когда вы переходите от причины к причине и от следствия к следствию, в этот-то самый момент тотальность мира необходимо включить в понятие такого-то субъекта. Это становится любопытным, и вот мир входит внутрь каждого субъекта или каждого понятия субъекта. На самом деле, «перейти Рубикон» – у этого есть причина, а у самой этой причины есть много причин; от причины к причине, к причине от причины и к причине от причины причины. Здесь проходит целый ряд мира, по крайней мере предшествующий ряд. А кроме того, «перейти Рубикон» – у этого есть следствия. Давайте я останусь на уровне великих следствий: установление Римской империи. У Римской империи, в свою очередь, есть следствия, мы напрямую зависим от Римской империи. От причины к причине и от следствия к следствию; вы не можете сказать, что такое-то событие включено в понятие такого-то субъекта, не сказав: следовательно, весь мир включен в понятие такого-то субъекта.
Мы видим действительно трансисторический характер философии. Что означает быть лейбницианцем в 1980-ом году? А таких много, во всяком случае, возможно, такие есть.
Если вы сказали, в соответствии с принципом достаточного основания, что то, что происходит с таким-то субъектом, и то, что касается его лично, – стало быть, то, что вы атрибутируете ему как истинное: «иметь голубые глаза», «переходить Рубикон» и т. д., – принадлежит к понятию субъекта, то есть включено в это понятие субъекта, и вы не можете остановиться, необходимо сказать, что этот субъект содержит весь мир. Это – уже не концепт неотъемлемости или включения, этот концепт выражения становится у Лейбница концептом фантастическим. Лейбниц выражается в такой форме: понятие субъекта выражает тотальность мира.
Его собственное «перейти Рубикон» растягивается до бесконечности назад и вперед из-за двойной игры причин и следствий. Но тогда – пора поговорить о нас, независимо от того, что с нами происходит, и от важности того, что с нами происходит. Необходимо сказать, что в каждом понятии субъекта содержится или выражается тотальность мира. То есть каждый из вас, да и я, – все выражают тотальность мира. Совсем как Цезарь. Ни больше ни меньше. Это усложняется, почему? Большая опасность: если каждое индивидуальное понятие, если каждое понятие субъекта выражает тотальность мира, то это означает, что существует лишь один субъект, субъект универсальный, а вы, я, Цезарь – всего лишь видимости этого универсального субъекта. Можно было бы сказать: вот, существует один-единственный субъект, который выражает мир.
Почему Лейбниц не может этого сказать? У него нет выбора. Он не может отречься от собственных идей. Все, что он до сих пор делал с принципом достаточного основания, шло в каком направлении? По-моему, это было первым великим примирением концепта и индивида. Лейбниц собирался сконструировать концепт концепта, причем концепт и индивид становились в конечном счете адекватными друг другу. Почему?
В том, что концепт доходит до индивидуального – что в этом нового? То, что на это никто не отваживался. Концепт – это что? Он определяется через порядок всеобщности. Концепт существует, когда есть репрезентация, прилагающаяся ко многим вещам. Но чтобы концепт отождествлялся с индивидом, такого никогда никто не делал. Никогда ни один голос не прозвучал в сфере мысли, чтобы сказать, что концепт и индивид – это одно и то же.
Всегда различали порядок концепта, который отсылал к всеобщности, и порядок индивида, который отсылал к сингулярности. Более того, всегда считали само собой разумеющимся, что индивида как такового невозможно постичь с помощью концепта. Всегда считали, что имя собственное – не концепт. И действительно, «собака» – вот концепт. А «Медор» – не концепт. Действительно, существует некая «собачность» всех собак, как говорят некоторые логики на своем превосходном языке, но «медоровости» всех Медоров не существует. Лейбниц был первым, кто сказал, что концепты суть имена собственные, то есть что концепты – это индивидуальные понятия.
Существует концепт индивида как такового. Итак, вы видите, что Лейбниц не может «сделать скидку» относительно пропозиции, потому что всякая истинная пропозиция аналитична: мир, стало быть, содержится в одном и том же субъекте, который можно назвать универсальным субъектом. Лейбниц не может «сделать скидку», потому что его принцип достаточного основания имел в виду, что то, что содержалось в субъекте, – значит, то, что было истинным, то, что было атрибутируемым субъекту, – содержалось в субъекте как в субъекте индивидуальном. Следовательно, он не может задать себе своего рода мировой дух. Необходимо, чтобы он оставался прикованным к сингулярности, к индивиду как таковому. И в действительности одним из наиболее оригинальных нововведений Лейбница будет формула, непрестанно у него повторяющаяся: субстанция (а между субстанцией и субъектом у него нет разницы) индивидуальна.
Вот субстанция «Цезарь», вот субстанция «вы», субстанция «я» и т. д. В моем D) напрашивается вопрос: если закрыт путь, позволяющий ссылаться на мировой дух, в который будет включен мир, то почему другие философы ссылаются на мировой дух? Существует даже очень короткий текст Лейбница, озаглавленный «Размышления об универсальном духе»{ В рус. пер.: «Размышления относительно учения о едином всеобщем духе». Собр соч. в 4-х тт., т. 1.}, где он показывает, в чем именно содержится всеобщий дух, Бог, но это не препятствует субстанциям быть индивидуальными. Итак, несводимость индивидуальных субстанций.
Поскольку всякая субстанция выражает мир, или, скорее, поскольку всякое субстанциальное понятие, всякое понятие субъекта – выражает мир, то и вы всегда выражаете мир. В действительности мы говорим себе: пусть так, но ведь тут же Лейбницу на спину сваливается возражение, и мы спрашиваем его: а что тогда произойдет со свободой? Если все, что происходит с Цезарем, включено в индивидуальное понятие Цезаря, если весь мир включен в универсальное понятие Цезаря, то Цезарь, переходя Рубикон, только и делает, что «развертывается» – забавное слово, devolvere, которое всегда появляется у Лейбница, – или «эксплицируется» (что одно и то же), то есть буквально «разворачивается», как вы разворачиваете ковер. Это одно и то же: эксплицировать, развертывать, разворачивать. Итак, «переход через Рубикон» как событие только и делает, что развертывает нечто, что с самого начала было включено в понятие Цезаря. Вы увидите, что в этом-то и состоит вся проблема.
Цезарь переходит Рубикон в такой-то год, но то, что он переходит Рубикон в такой-то год, уже всегда было включено в его индивидуальное понятие. Итак, где это индивидуальное понятие? Оно вечно. Существует вечная истинность датированных событий. Но тогда где свобода? На нее падает весь мир. Свобода – нечто очень опасное в христианской системе. И тогда Лейбниц создаст небольшую работу «О свободе»{ См. «Два отрывка о свободе». Собр. соч. в 4-х тт., т. I.}, где объяснит, что же такое свобода. Свобода для него – это забавная штука. Впрочем, пока оставим это в стороне. Но что же отличает один субъект от другого? Это невозможно пока оставить в стороне, так как прервется поток наших мыслей. Что же отличает вас от Цезаря, если вы оба выражаете тотальность мира – настоящего, прошлого и будущего? Этот концепт выражения – любопытен. И тут он становится весьма обширным.
F) То, что отличает одну индивидуальную субстанцию от другой, установить несложно. Определенным образом необходимо, чтобы это было несводимым. Необходимо, чтобы каждый субъект, каждое индивидуальное понятие субъекта включало тотальность мира, выражало этот тотальный мир – но с определенной точки зрения. И тут начинается перспективистская философия. И это не пустяк. Вы мне скажете: что может быть банальнее выражения «точка зрения»? Если философия – это создание концептов, то что такое «создавать концепты»?
В общем и целом это значит создавать банальные формулировки. У каждого великого философа свои банальные формулировки, на которые он бросает взгляд. Взгляд философа, в предельном случае, сводится к тому, чтобы взять банальную формулировку и посмеяться: ага, вы не знаете, что я собираюсь в нее вложить. Создать теорию точки зрения – что имеется в виду? Можно ли это было сделать когда угодно? Случайно ли Лейбниц создал первую великую теорию точки зрения именно в те годы? Тогда, когда тот же самый Лейбниц создает чрезвычайно продуктивную ветвь геометрии: так называемую проективную геометрию. Случайно ли, что именно в конце соответствующей эпохи в архитектуре, как и в живописи, были разработаны всевозможные разновидности техник перспективы? Возьмем ровно две области, с этим сочетающиеся: архитектуру-живопись и перспективу в живописи, с одной стороны, а с другой – проективную геометрию. Поймите, к чему клонит Лейбниц. Он собирается сказать: да-да, каждое индивидуальное понятие выражает тотальность мира, но с определенной точки зрения.
А что это означает? Насколько это небанально, если рассуждать в дофилософских терминах, настолько мы уже не можем остановиться. Это заставляет нас продемонстрировать, что то, что составляет индивидуальное понятие как это, есть точка зрения. И что, стало быть, точка зрения глубже, чем тот, кому она принадлежит.
Надо полагать, что в глубине всякого индивидуального понятия располагается точка зрения, индивидуальное понятие определяющая. Если хотите, субъект вторичен по отношению к точке зрения. И эти слова – не пустозвонство, не пустяк.
Он основывает философию, которая обретет имя другого философа, протягивающего руку Лейбницу через века, а именно – Ницше. Ницше скажет: моя философия – это перспективизм. Перспективизм, вы понимаете, что идиотским или банальным становится вопить, что он состоит в утверждении, что все соотносится с субъектом, или что все относительно. Все говорят это: это часть пропозиций, от которых никому ни жарко ни холодно, потому что в них [нет] смысла. Но поговорить об этом надо. Пока я беру эту формулировку как означающее, все зависит от субъекта, это ничего не означает, как говорят…
[Конец пленки.]
…Что делает меня мной, так это точка зрения на мир. Лейбниц не сможет остановиться, необходимо, чтобы он дошел до такой теории точки зрения, когда субъект конституируется точкой зрения, а не точка зрения – субъектом. Когда в разгар XIX столетия Генри Джеймс обновит приемы романа перспективизмом, мобилизацией точек зрения, то и тут у Джеймса не точки зрения эксплицируются субъектами, а, наоборот, субъекты эксплицируются через точки зрения. Анализ точек зрения как достаточного основания субъектов – вот достаточное основание субъекта. Индивидуальное понятие – это точка зрения, с которой индивид выражает мир. Это прекрасно и даже поэтично. У Джеймса существуют приемы, достаточные для того, чтобы субъекта не существовало: таким-то или таким-то субъектом становится тот, чье существование детерминировано с такой-то точки зрения. Именно точка зрения эксплицирует субъект, а не наоборот.
Лейбниц: «Всякая индивидуальная субстанция подобна всему миру и подобна зеркалу Бога или всей вселенной, какую каждая индивидуальная субстанция выражает на свой лад: это немного напоминает то, что один и тот же город по-разному предстает в зависимости от разного положения того, кто на него смотрит. Итак, вселенная некоторым образом приумножается столько же раз, сколько существует субстанций, а слава Бога точно так же приумножается через столько же совершенно различных представлений о его [нрзб.]».
Он говорит словно кардинал. Можно даже сказать, что всякая субстанция каким-то образом несет в себе характер бесконечной мудрости и всемогущества Бога и тем самым ограничивает свои способности.
В этом E) я говорю, что новый концепт точки зрения глубже, чем концепт индивида и индивидуальной субстанции. Именно точка зрения определяет сущность. Индивидуальную сущность… Необходимо считать, что каждому индивидуальному понятию соответствует своя точка зрения. Но это усложняется, потому что данная точка зрения «имеет место» от рождения до смерти индивида. То, что нас определяет, есть определенная точка зрения на мир.
Я сказал, что эту идею возобновит Ницше. Он не любил ее, но что-то из нее взял… Теория точки зрения – это теория эпохи Ренессанса. Кардинал Николай Кузанский, величайший философ Ренессанса, упоминает портрет, меняющийся в зависимости от точки зрения. В годы итальянского фашизма мы видели портрет, очень странный во всех точках: анфас он представлял Муссолини, справа он представлял его зятя (gendre), а стоило сместиться влево, как мы видели короля.
Анализ точек зрения в математике – а Лейбниц внес существенный прогресс в тот раздел математики, который называется analysis situs (топологией), – [и] очевидно, что он связан с проективной геометрией. Существует своего рода сущностность, объектность субъекта, а объектность – это точка зрения. Каждый конкретно выражает мир с собственной точки зрения – что это означает? Лейбниц не отступает перед в высшей степени странными концептами. Я даже не могу теперь сказать «с его собственной точки зрения». Если бы я сказал «с его собственной точки зрения», то точка зрения зависела бы у меня от предзаданного субъекта, а дела обстоят наоборот.
Но кто определяет эту точку зрения? Лейбниц говорит: поймите, каждый из нас выражает тотальность мира, только выражает он ее смутно и запутанно. Смутно и запутанно – что это означает в лексиконе Лейбница? Это означает, что хотя в нем и существует тотальность мира, но лишь в форме малого восприятия. Малые восприятия. Случайно ли Лейбниц оказался одним из изобретателей дифференциального исчисления? Это бесконечно малые восприятия, иными сло вами, восприятия бессознательные. Я выражаю весь мир, но смутно и бес по ря дочно, словно некий плеск.
Впоследствии мы увидим, почему это все-таки связано с дифференциальным исчислением, – но почувствуйте, что эти бессознательные, или малые, восприятия подобны дифференциалам сознания, это восприятия без сознания. Для сознательного восприятия Лейбниц использует другое слово: апперцепция. Апперцепция, apercevoir, это осознанное восприятие = перцепция, а малое восприятие – это дифференциал сознания, в сознании не данный. Все индивиды выражают тотальность мира смутно и беспорядочно. Тогда что отличает одну точку зрения от другой? В противоположность только что сказанному существует небольшая часть мира, которую я выражаю ясно и отчетливо, и у каждого субъекта, у каждого индивида есть своя малая часть мира – в каком смысле? Именно в том весьма определенном смысле, что эту малую часть мира, которую я выражаю ясно и отчетливо, все остальные субъекты выражают тоже, но смутно и беспорядочно. То, что определяет мою точку зрения, подобно своего рода прожектору, который во мраке смутного и запутанного мира сохраняет ограниченную зону ясного и отчетливого выражения. Сколь бы ничтожными мы ни были, сколь бы незначительными мы ни были, у нас есть наша малая «ерунда», даже у мелких насекомых есть свой малый мир: они выражают ясно и отчетливо какие-то пустяки, но своя малая порция у них есть. Персонажи Беккета – это индивиды: все запутанно, какой-то шум, они ничего не понимают, они идиоты; а великий шум мира есть. Сколь бы жалкими они ни были в своей клоаке, а малая зона существования у них есть. Это то, что великий Моллой называет «мои пожитки». Он не двигается, у него есть какой-то крюк, и в радиусе одного метра он таскает этим крюком разные штуковины, свои пожитки. Вот ясная и отчетливая зона, которую он выражает. И каждый из нас – там. Но наша зона – более или менее крупная, и в этом еще нельзя быть уверенным, но зоны никогда не бывают одинаковыми. А из чего создается точка зрения? Она зависит от пропорции региона, выражаемого индивидом ясно и отчетливо, по отношению к тотальности мира, выражаемой смутно и беспорядочно. Вот она, точка зрения.
У Лейбница есть любимая метафора: вы находитесь у моря и слушаете волны. Вы слушаете море и слышите шум волны. Я слышу шум волны, то есть у меня есть апперцепция: я различаю волну. И Лейбниц говорит: вы не услышали бы волну, если бы у вас не было малого бессознательного восприятия шума каждой из капель воды, которые скользят друг по другу и составляют предмет малых восприятий. Существует шум всех капель воды, и у вас есть ваша малая зона ясности, вы ясно и отчетливо схватываете частичную равнодействующую этой бесконечности капель, этой бесконечности шума, и вы создаете из нее ваш малый мир, вашу собственность.
Каждое индивидуальное понятие имеет собственную точку зрения, то есть с этой точки зрения оно берет из всей мировой совокупности то, что выражает детерминированную часть ясной и отчетливой выразительности. Если даны два индивида, то у вас будут два случая: либо зоны их выражения совершенно не сообщаются друг с другом и одна через другую ничего не символизирует, – а бывает не только непосредственная коммуникация, но можно представить себе и коммуникацию посредством аналогий, – и в этот-то момент нам нечего сказать себе; либо существует нечто вроде пересечения двух кругов, когда у них есть совсем малая общая зона; и тогда они могут нечто сделать совместно. Итак, Лейбниц может с большой силой сказать, что не существует двух индивидуальных субстанций, тождественных друг другу; не существует двух индивидуальных субстанций, у которых была бы одна и та же точка зрения или совершенно одна и та же ясная и отчетливая зона выражения. И наконец, гениальный ход Лейбница: что определяет ту зону ясного и отчетливого выражения, которая у меня есть? Я выражаю тотальность мира, но ясно и отчетливо выражаю лишь небольшую часть ее, и эта часть конечна. То, что я выражаю ясно и отчетливо, – говорит нам Лейбниц – есть то, что сопряжено с моим телом. Здесь впервые проявляется это понятие тела. Мы увидим, что означает это тело, но то, что я выражаю ясно и отчетливо, есть то, что относится к моему телу. Стало быть, я с необходимостью ясно и отчетливо не выражаю переход Рубикона – ведь это касается тела Цезаря. Существует нечто, что касается моего тела и что я один должен выразить ясно и отчетливо, на фоне того гула, который охватывает всю вселенную.
G) В этой истории города есть одна трудность. Существуют разные точки зрения – ну и ладно! Эти точки зрения предсуществуют выражающему их субъекту – тоже хорошо! В этот момент секрет точки зрения относится к математике: он относится к геометрии, а не к психологии. Он как минимум психогеометричен. Лейбниц – человек, создающий понятия, а не психолог. Однако все подталкивает меня сказать, что город существует помимо точек зрения. Но в моей собственной истории выражаемого мира, рассуждая тем способом, откуда мы исходим, у мира нет никакого существования помимо точки зрения, его выражающей, – мир не существует сам по себе. Мир – это только то, что выражают все индивидуальные субстанции вместе, но это выражаемое не существует помимо того, что его выражает. Весь мир содержится в каждом индивидуальном понятии, но он существует лишь в этом включении. Вне этого понятия – существования нет. Именно в этом смысле Лейбниц часто будет на стороне идеалистов, и он отчасти прав: нет мира самого по себе, мир только и существует в индивидуальных субстанциях, его выражающих. Это то, что выражено всеми индивидуальными субстанциями, но выраженного не существует помимо выражающих его субстанций. Это настоящая проблема!
Что же отличает эти субстанции? То, что все они выражают один и тот же мир, но выражают они не одну и ту же ясную и отчетливую часть мира. Это похоже на шахматы.
Мира не существует. Он – усложнение концепта «выражения». Из-за которого возникнет вот эта последняя трудность. Ведь еще необходимо, чтобы все индивидуальные понятия выражали один и тот же мир. И тогда это любопытно – это любопытно, потому что из-за принципа тождества, позволяющего нам определить противоположное, мы получаем нечто невозможное: A не есть A. Здесь противоречие. Вот пример: круглый квадрат. Круглый квадрат – это круг, который не есть круг. Стало быть, исходя из принципа тождества, я могу получить критерий противоречия. Согласно Лейбницу, я могу показать, что 2 + 2 не могут дать 5, я могу показать, что круг не может быть квадратным. А вот на уровне достаточного основания это гораздо сложнее. Почему? Потому что Адам-негрешник и Цезарь, не переходящий Рубикон, не подобны круглому квадрату. Адам-негрешник: здесь нет противоречия. Почувствуйте, как Лейбниц пытается спасти свободу, раз уж он попал в скверную для ее спасения ситуацию. Это отнюдь не невозможно. Цезарь мог бы и не переходить Рубикон, а вот круг не может быть квадратным – здесь свободы нет. Итак, мы вновь загнаны в угол, опять Лейбницу потребуется какой-то новый концепт, и из всех его безумных понятий это, наверное, будет самым безумным. Адам мог бы и не грешить, стало быть, иначе говоря, истины, управляемые принципом достаточного основания, совершенно не того же типа, что истины, управляемые принципом тождества, – почему? Потому что истины, управляемые принципом тождества, таковы, что противоречие для них невозможно, тогда как для истин, управляемых принципом достаточного основания, существует возможное противоречие: Адам-негрешник возможен.
И как раз все это, по Лейбницу, отличает так называемые истины сущности от так называемых истин существования. Истины существования таковы, что возможна противоречащая им истина.
Как же Лейбниц будет выбираться из этой последней трудности: как он может утверждать, что то, что Адам сделал, от века содержалось в его индивидуальном понятии [и при этом то, что Адам-негрешник возможен]? Кажется, будто Лейбниц загнан в угол, – но это восхитительно, потому что в этом положении с философами происходит приблизительно то же, что и с котами: когда они загнаны в угол, они высвобождаются; или это похоже на рыбу; концепт стал рыбой. Рыба расскажет нам следующую вещь: что Адам-негрешник – это вполне возможно, как и Цезарь, не перешедший Рубикон: все это возможно, но этого не происходит, потому что если это и возможно само по себе, то это не совозможно.
Итак, Лейбниц создает странный логический концепт несовозможности. На уровне возможности некой вещи недостаточно, чтобы она была только возможной для того, чтобы существовать; еще необходимо знать, с чем она совозможна. Если Адам-негрешник и возможен сам по себе, то он несовозможен с существующим миром. Адам мог бы и не грешить, да-да, но лишь при условии существования другого мира. Вы видите, что включение мира в индивидуальное понятие и тот факт, что другая вещь была возможной, – это внезапно примиряется с понятием совозможности. Адам-негрешник – часть другого мира. Адам-негрешник мог бы быть возможным, но этот мир не был выбран. Адам несовозможен с существующим миром. Он совозможен только с другими возможными мирами, которые не пробились к существованию.
Почему же к существованию пробился вот этот мир? Лейбниц объясняет, что таково, по его мнению, сотворение миров Богом, а мы прекрасно видим, в чем здесь теория игр: Бог – в своем разуме – замышляет некую бесконечность возможных миров, только эти возможные миры друг с другом не совозможны, и это неизбежно, потому что Бог выбирает лучшее. Он выбирает лучший из возможных миров. И оказывается, что лучший из возможных миров имеет в виду Адама-грешника? Почему? Это будет ужасно. Что логически интересно, так это создание особого понятия совозможности для обозначения логической сферы, более ограниченной, чем сфера логической возможности. Чтобы существовать, недостаточно, чтобы некая вещь была возможна, необходимо еще, чтобы эта вещь была совозможна иным, которые и образуют реальный мир.
В знаменитой формулировке из «Монадологии» Лейбниц говорит, что индивидуальные понятия – без окон и дверей. Это исправляет метафору города. Без окон и дверей – это означает, что нет отверстия. Почему? Потому, что нет внешнего. Мир, выражаемый индивидуальными понятиями, – внутренний, он включен в эти понятия. Индивидуальные понятия – без окон и дверей, в каждое понятие включено все, и все-таки существует мир, общий всем индивидуальным понятиям: дело в том, что все, что каждое индивидуальное понятие включает, а именно – тотальность мира, оно с необходимостью включает в такой форме, где то, что оно выражает, является совозможным с тем, что выражают другие. Это чудо. Это мир, где нет непосредственной коммуникации между субъектами. Между Цезарем и вами, между вами и мной нет непосредственной коммуникации, и, как мы сегодня сказали бы, каждое индивидуальное понятие запрограммировано таким образом, что то, что оно выражает, формирует мир, общий с тем, что выражается в другом понятии. Это – один из последних концептов Лейбница: предустановленная гармония. Предустановленная означает в полном смысле запрограммированная гармония. Это идея духовного автомата, ведь перед нами великий век автоматов – конец XVII столетия.
Каждое индивидуальное понятие подобно духовному автомату, то есть то, что оно выражает, является для него внутренним, оно без окон и дверей: оно запрограммировано так, что то, что оно выражает, находится в отношениях совозможности с тем, что выражают другие. То, что я сделал сегодня, было всего лишь одним описанием мира Лейбница, и к тому же только одной части этого мира. Итак, последовательно выделены следующие понятия: достаточное основание, неотъемлемость и включение, выражение, или точка зрения, несовозможность.
Лекция 2
Субстанция, мир и непрерывность
(22.04.1980)
В последний раз, как обычно, мы начали серию лекций о Лейбнице, которые надо понимать как введение в чтение – ваше – Лейб ница. С целью внести числовую ясность, я должен перечислить параграфы, дабы избавить вас от путаницы. В прошлый раз нашим первым параграфом было своего рода представление основных концептов Лейбница. На фоне этого возникла проблема, с Лейбницем соотносящаяся, но, очевидно, гораздо более общая, а именно: что же такое «заниматься философией», и исходя из очень простого понятия оказалось, что заниматься философией означает создавать концепты, подобно тому как заниматься живописью означает создавать линии и цвет. Заниматься философией означает создавать концепты, потому что концепты не суть то, что предсуществует. Это не то, что дано в готовом виде, и в этом смысле философию следует определить как творческую деятельность: это – творение концептов. Данное определение, кажется, превосходно подходит к Лейбницу, который, именно в философии, внешне выглядящей как фундаментальным образом рационалистическая, занимается своего рода бьющим через край созданием необычных концептов, чему существует мало примеров в истории философии.
Если концепты – предмет творения, то надо сказать, что эти концепты как бы подписаны. У них есть подпись; и не то чтобы подпись устанавливала связь между концептом и создавшим его философом; в гораздо большей степени подписями являются сами концепты. На протяжении всей первой лекции мы видели возникновение некоторого количества сугубо лейбницианских концептов. Двумя главными концептами, которые мы выделили, были включение и совозможность. Существуют разного рода вещи, которые включены в определенные вещи, или, скорее, «обернуты» этими вещами. Включение, обволакивание. Затем – совершенно иное, весьма причудливое понятие – понятие совозможности: существуют вещи, которые возможны сами по себе, но не совозможны с другими.
Сегодня я хотел бы озаглавить эту вторую лекцию, это второе исследование о Лейбнице: «Субстанция, мир и непрерывность». Эта вторая лекция ставит перед собой задачу более точного анализа двух упомянутых главных понятий Лейбница: включение и совозможность.
В точке, где мы остановились в прошлый раз, перед нами стояли две проблемы; первой была проблема включения. В каком смысле? Мы видели, что если пропозиция была истинной, то требовалось, чтобы так или иначе предикат или атрибут содержались не в субъекте, а в понятии субъекта или включались бы в это понятие. Если пропозиция истинна, то необходимо, чтобы предикат был включен в понятие субъекта. Пусть это так, мы примем это на веру, и, как говорит Лейбниц, если Адам согрешил, необходимо, чтобы грех содержался в индивидуальном понятии Адама или включался в таковое. Необходимо, чтобы всё, что происходит, всё, что может атрибутироваться, всё, что предицируется о субъекте, содержалось в понятии субъекта. Это философия предикации. Если мы видим столь странную пропозицию и принимаем это своеобразное пари Лейбница, то сразу же оказываемся перед проблемами. А именно: если произошло какое угодно событие, если какое угодно событие, касающееся такого-то индивидуального понятия, например Адама или Цезаря: Цезарь перешел Рубикон, необходимо, чтобы переход через Рубикон был включен в индивидуальное понятие Цезаря, – то я согласен, что все заставляет нас поддержать Лейбница. Но если мы это говорим, то остановиться уже нельзя: если какая-либо одна-единственная вещь, например «переход Рубикона», содержится в индивидуальном понятии Цезаря, то необходимо, чтобы при движении от следствия к причине и от причины к следствию вся тотальность мира содержалась в этом индивидуальном понятии. На самом деле переход через Рубикон сам имеет причину, которая, в свою очередь, должна содержаться в индивидуальном понятии и т. д. и т. п. до бесконечности, восходя и опускаясь. В этот самый момент необходимо, чтобы Римская империя, которая, грубо говоря, возникает благодаря переходу Рубикона, и чтобы все, что Римскую империю продолжает, – необходимо, чтобы так или иначе это включалось в индивидуальное понятие Цезаря. Так, чтобы всякое индивидуальное понятие раздувалось до тотальности мира, которая в нем выражается. Понятие выражает тотальность мира. Вот так наша пропозиция становится все более странной.
В истории философии всегда бывают восхитительные моменты, и один из наиболее восхитительных – это когда крайняя точка разума, то есть когда рационализм, доведенный до крайности своих последствий, порождает своего рода бред, бред безумия; когда рационализм с этим бредом совпадает. В этот самый момент мы видим ту разновидность кортежа, дефиле, когда одним и тем же становится рационализм, дошедший до пределов разумности, и бред, но бред чистейшего безумия. Итак, всякое индивидуальное понятие: если верно, что предикат включается в понятие субъекта, то необходимо, чтобы всякое индивидуальное понятие выражало тотальность мира, а тотальность мира включалась во всякое понятие. Мы видели, что это привело Лейбница к необычайной теории, каковая является первой великой теорией в философии перспективы, или точки зрения, потому что о всяком индивидуальном понятии будет сказано, что оно выражает и содержит мир; да-да, но с определенной точки зрения, которая глубже, а именно: как раз субъективность и отсылает к понятию точки зрения, но понятие точки зрения не отсылает к субъективности. Это возымеет много последствий для философии, начиная с тех отзвуков, какие дойдут до Ницше при создании перспективистской философии.
Первая проблема такова: когда говорят, что предикат содержится в субъекте, то это предполагает, что здесь устранены всевозможные трудности, а именно, что отношения могут быть сведены к предикатам либо что события могут рассматриваться как предикаты. Как бы то ни было, примем это. Не соглашаться с Лейбницем можно лишь исходя из совокупности концептуальных координат самого Лейбница. Истинная пропозиция такова, что атрибут содержится в субъекте; мы прекрасно видим, что это может означать на уровне сущностных истин. Сущностные истины – это либо истины метафизические (касающиеся Бога), либо же истины математические. Если я говорю 2 + 2 = 4, то по этому поводу можно много дискутировать, но я сразу же понимаю, что Лейбниц имеет в виду, всегда независимо от вопроса, прав он или нет; мы с таким трудом узнаём даже то, что́ кто-либо собирается сказать, что если мы – сверх того – задаемся вопросом, прав ли он, то и это еще не всё. 2 + 2 = 4, аналитическая пропозиция. Напоминаю, что аналитическая пропозиция – это такая пропозиция, при которой предикат содержится в субъекте или в понятии субъекта, а именно: это тождественная пропозиция, или пропозиция, сводимая на уровень тождественной. Тождество предиката субъекту. На самом деле, – говорит нам Лейбниц, – я могу доказать, по завершении ряда конечных процедур, конечного количества оперативных процедур, что четыре, по определению, и 2 + 2, по определению, тождественны. Действительно ли я могу это доказать и каким образом? Очевидно, я не ставлю проблему – как это возможно? В общем и целом нам понятно, что это означает: предикат содержится в субъекте, это означает, что – по завершении некоей совокупности операций – я могу доказать единство того и другого. Лейбниц приводит один пример в небольшом тексте, который называется «О свободе». Он собирается доказать, что всякое число, делимое на двенадцать, делится тем самым на шесть. Всякое двенадцатеричное число является шестеричным. Заметьте, что в логицизме XIX и XX веков вы обнаружите доказательства такого типа; именно они составили славу Рассела. Доказательство Лейбница весьма убедительно: вначале он доказывает, что всякое число, делимое на двенадцать, тождественно делимому на два, умножаемому на два, умножаемому на три. Это нетрудно. С другой стороны, он доказывает, что делимое на шесть равно делимому на два, умноженному на три. Что он тем самым показал? Он показал включение, так как два, умноженное на три, содержится в двух, умноженных на два, умноженных на три.
Вот пример, и он дает нам понять на уровне математических истин, что мы можем сказать, что соответствующая пропозиция является аналитической, или тождественной. То есть что предикат содержится в субъекте. Это означает – буквально, – что я могу сделать в некоей совокупности, в некоем ряде детерминированных операций – на этом я настаиваю, – я могу доказать тождественность предиката субъекту, или я могу доказать включение предиката в субъект. Первое тождественно последнему. Я могу манифестировать это включение, я могу показать его. Либо я доказываю тождественность, либо я показываю включение. Он показал включение, когда показал, например… [нрзб.] чистая тождественность – это могло бы быть: всякое число, делимое на двенадцать, делимо на двенадцать [sic!], но тут мы встречаем другой случай сущностной истины: всякое число, делимое на двенадцать, делимо на шесть; на сей раз он не довольствуется доказательством идентичности, он показывает включение по завершении ряда конечных, хорошо обоснованных операций.
Вот каковы сущностные истины. Я могу сказать, что включение предиката в субъект доказывается анализом и что этот анализ соответствует условию «быть конечным», то есть что он имеет в виду лишь ограниченное количество хорошо обоснованных операций. Но когда я говорю, что Адам согрешил, или что Цезарь перешел Рубикон, – это что? Это уже не отсылает к сущностной истине, это имеет датировку, Цезарь перешел Рубикон «здесь и теперь», это имеет отсылку к существованию; Цезарь переходит Рубикон, только если он существует. А вот 2 + 2 = 4 истинно во всякое время и во всяком месте. Стало быть, уместно отличать сущностные истины от истин существования.
Истинность пропозиции «Цезарь перешел Рубикон» не того же типа, что 2 + 2 = 4. И все-таки в связи с принципами, с какими мы познакомились в прошлый раз, – как для истин существования, так и для сущностных истин – необходимо, чтобы предикат содержался в субъекте и был включен в понятие субъекта; итак, будучи от века включенным в понятие субъекта, в понятие Адама от века включено то, что Адам согрешит в таком-то месте или в такой-то момент. Это истина существования.
Как и в сущностных истинах, в истинах существования предикат должен содержаться в субъекте. Пусть так, но все-таки это не означает, что это происходит одним и тем же образом. И в действительности – и в этом наша проблема – каково первое значительное различие между сущностной истиной и истиной существования? Мы его сразу же ощущаем. Что касается истин существования, то Лейбниц говорит нам, что даже здесь предикат содержится в субъекте. Необходимо, чтобы «грешник» содержался в индивидуальном понятии Адама, правда вот что: если грешник содержится в индивидуальном понятии Адама, то в индивидуальном понятии Адама содержится весь мир; если мы восходим по цепочке причин и спускаемся по цепочке следствий, каковые и суть весь мир, то вы понимаете, что пропозиция «Адам согрешил» должна быть пропозицией аналитической, правда в этом случае анализ бесконечен. Анализ продолжается до бесконечности.
Ну и что же это означает? Вроде бы это означает следующее: чтобы доказать тождественность «грешника» и «Адама», или тождественность «переходящего Рубикон» и «Цезаря», на сей раз необходим бесконечный ряд операций. Само собой разумеется, что мы на них не способны, или же вроде бы не способны. Способны ли мы к анализу до бесконечности? Лейбниц очень формален: нет, вы не сможете; мы, люди, не можем. И тогда, чтобы сориентироваться в области истин существования, необходимо дождаться опыта. Но зачем же он нам приводит всю эту историю об аналитических истинах? Вот зачем: он добавляет, да, бесконечный анализ все-таки не только возможен, но и проводится в разуме Бога.
Помогает ли нам то, что Бог, у которого нет пределов и который бесконечен, может осуществить бесконечный анализ? Мы довольны, мы рады за Бога, но сразу же задаемся вопросом о том, что же Лейбниц рассказывает нам. Я прекрасно помню, что наша первая трудность такова: что такое бесконечный анализ? Всякая пропозиция является аналитической, однако существует целая область наших пропозиций, которая отсылает к бесконечному анализу. У нас есть надежда: если Лейбниц – один из великих творцов дифференциального исчисления или анализа бесконечно малых, то это, несомненно, касается математики, и он всегда отличал философские истины от истин математических, а следовательно, для нас не может быть и речи о том, чтобы смешивать все; однако невозможно думать, что когда Лейбниц обнаруживает в метафизике какую-нибудь идею бесконечного анализа, то здесь не существует определенных отголосков по отношению к известному типу исчисления, которое он сам и изобрел, а именно – к исчислению анализа бесконечно малых.
Итак, вот моя первая трудность: когда анализ продолжается до бесконечности, то какого типа, или какого модуса, включение предиката в субъект мы имеем? Каким образом «грешник» содержится в понятии Адама, если сказано, что тождественность грешника и Адама может предстать разве что в бесконечном анализе? Что означает бесконечный анализ, если представляется, что анализ может проводиться лишь в условиях хорошо обоснованной конечности? Это серьезная проблема.
Вторая проблема. Я только что вывел первое различие между сущностными истинами и истинами существования. В сущностных истинах анализ конечен, в истинах существования анализ бесконечен. Это не единственное различие, есть и второе: согласно Лейбницу, сущностная истина такова, что противоречащая ей истина невозможна, а именно невозможно, чтобы два и два не давали четыре. Почему? На том простом основании, что я смогу доказать тождество четырех и 2 + 2 по завершении ряда конечных процедур. Итак, 2 + 2 = 5: можно доказать, что здесь есть противоречие и что это невозможно. Адам-негрешник, Адам, который не согрешил: я, следовательно, беру нечто противоречащее грешнику. Это возможно. Доказательство – в том, что, согласно великому критерию классической логики, – а в этом отношении Лейбниц остается в рамках классической логики – я не могу ничего помыслить, когда говорю 2 + 2 = 5; я не могу помыслить невозможное, точно так же, как, согласно этой логике, я не мыслю чего бы то ни было, когда говорю «квадратный круг». Но я вполне могу помыслить Адама, который не согрешил. Истины существования называются контингентными истинами.
Цезарь мог бы и не переходить Рубикон. Ответ Лейбница восхитителен: разумеется, Адам мог бы и не грешить, Цезарь мог бы и не переходить Рубикон. Только вот что: это было бы не совозможно с существующим миром. Адам-негрешник свертывал бы в себе другой мир. Этот мир сам по себе возможен, но мир, где первый человек не согрешил, есть мир логически не совозможный с нашим миром. То есть Бог избрал именно такой мир, где Адам согрешил. Адам-негрешник имел бы в виду другой мир: этот мир был возможен, однако он был не совозможен с нашим.
Почему же Бог избрал именно этот мир? Сейчас Лейбниц объяснит это. Поймите, что на этом уровне понятие совозможности становится весьма странным: что заставляет меня сказать, что такие-то две вещи совозможны, а две другие – не совозможны? Адам-негрешник принадлежит к другому миру, нежели наш, но и если бы Цезарь не перешел Рубикон, то это был бы другой возможный мир. Что же такое эти очень странные отношения несовозможности? Поймите, что, может быть, это тот же самый вопрос, что и «что такое бесконечный анализ?», но он иначе выглядит. И вот отсюда можно извлечь некий сон, и сон этот можно видеть на многих уровнях. Вы видите сон, и там какой-то чародей вводит вас во дворец; этот дворец… (Лейбниц рассказывает сон Аполлодора.) Аполлодор видит некую богиню, и богиня эта вводит его во дворец, а этот дворец составлен из многих дворцов. Лейбниц обожает это: коробки, содержащие другие коробки. Он поясняет в тексте, который нам предстоит увидеть; он поясняет, что в воде полно рыб, а в рыбах – вода, а в воде этих рыб – рыбы рыб: вот бесконечный анализ. Образ лабиринта преследует Лейбница. Он непрестанно говорит о лабиринте непрерывности. Этот дворец имеет форму пирамиды, с острием, направленным вверх, и не имеет конца. А я замечаю, что каждая секция пирамиды также образует дворец. Затем я пристально вглядываюсь в пирамиду и в секции пирамиды в самом верху, рядом с острием, вижу персонажа, который нечто делает. А прямо внизу я вижу того же персонажа, который делает нечто совершенно иное и в ином месте. И еще внизу – опять тот же персонаж в иной ситуации, как если бы всевозможные театральные пьесы, совсем разные, одновременно разыгрывались в каждом из дворцов, с персонажами, имеющими некие общие сегменты. Это толстая книга Лейбница, которая называется «Теодицея», то есть божественная справедливость. Вы понимаете, что это означает: дело в том, что на каждом уровне имеется возможный мир. Бог избрал вывести на уровень существования «крайний» мир, ближе всего располагающийся к острию пирамиды. Чем он руководствовался, избирая это? Как мы увидим, не надо форсировать события, так как это будет серьезной проблемой: каковы критерии выбора Бога? Но раз уж мы сказали, что он избрал вот такой мир, то этот мир включал в себя Адама-грешника; в другом мире (очевидно, все это одновременно, перед нами – варианты) мы можем помыслить нечто иное, и всякий раз перед нами некий мир. Каждый из двух возможен. Друг с другом они не совозможны, и на уровень существования может перейти лишь один. Но ведь они всеми силами стремятся перейти к существованию! Та картина сотворения мира Богом, которую Лейбниц предлагает нам, становится весьма стимулирующей. Существуют все эти миры, содержащиеся в разуме Бога, и каждый мир, в свою очередь, спешит выступить с притязанием перехода с уровня возможности на уровень существования. В этих мирах есть некий вес реальности, в зависимости от их сущностей. В зависимости от сущностей, которые они содержат, они стремятся перейти к существованию. А это невозможно, так как они не совозможны друг с другом: перед существованием нечто вроде барьера. Пройдет одно-единственное сочетание. Какое? Вы уже предощущаете великолепный ответ Лейбница: лучшее! И лучшее не в смысле какой-то теории морали, а в смысле теории игр. И не случайно Лейбниц – один из основателей статистики и исчисления игр. И все это усложнится… Что же такое – эти отношения совозможности? Я как раз замечаю, что один знаменитый автор сегодня – лейбницианец. Что это значит – быть лейбницианцем сегодня? Я полагаю, что это означает две вещи, одна из которых не очень интересна, а другая – очень-очень интересна. В прошлый раз я говорил, что у концепта особые отношения с криком. Существует неинтересный способ быть лейбницианцем или спинозианцем сегодня, и это по профессиональной необходимости: такие типы работают над каким-нибудь автором – но ведь существует и иной способ заявлять о своих правах философа! На сей раз непрофессиональный. Такие типы могут и не быть философами. Что я считаю в философии великолепным, так это вот это: когда нефилософ обнаруживает своего рода близость, которую я уже не могу назвать понятийной, но когда он непосредственно схватывает близость между собственными криками и концептами философа. Я имею в виду Ницше: он очень рано прочел Спинозу, и в одном письме (а он только что перечитал Спинозу) он восклицает: я не могу опомниться! Я никак не приду в себя! У меня никогда не было отношений с философами, напоминающих те отношения, которые у меня были со Спинозой. И мне еще интереснее, когда речь идет о нефилософах. Когда английский романист Лоуренс в нескольких строчках говорит о потрясении, которое он испытал, читая Спинозу. Слава Богу, Лоуренс все-таки не стал философом! Он уловил – что? Что он имеет в виду? Когда Клейст столкнулся с Кантом, он – буквально – так и не опомнился. Что такое эта коммуникация? Спиноза потряс многих профанов… Борхес и Лейбниц. Борхес – это автор чрезвычайно ученый, он много прочел. У него всегда фигурируют две штуки: несуществующая книга…
[Конец пленки.]
…Oн любит детективные истории, Борхес. В его сочинениях есть новелла «Сад расходящихся тропок». Я кратко расскажу историю, а вы сохраняйте в голове знаменитый сон из «Теодицеи».
«Сад расходящихся тропок» – что это такое? Это бесконечная книга, это мир совозможностей. Идея о китайском философе, имевшем дело с лабиринтом, – это идея современников Лейбница. Она возникает в середине XVII века. Существует знаменитый текст Мальбранша, разговор с китайским философом, там есть очень любопытные вещи. Лейбниц зачарован Востоком, он часто цитирует Конфуция. Борхес же делает копию, соответствующую Лейбницу, но с существенным различием: по Лейбницу, все эти различные миры, где Адам грешит то одним, то другим способом, то вообще не грешит, все это бесконечное множество миров – они исключают друг друга, они несовместимы друг с другом. И выходит, что он сохраняет весьма классический принцип дизъюнкции: либо перед нами вот этот мир, либо какой-нибудь другой. А вот Борхес вкладывает все эти несовозможные ряды в один и тот же мир. Это позволяет осуществить приумножение следствий. Лейбниц никогда бы не согласился с тем, что несовозможности являются частью одного и того же мира. Почему? Сейчас я сформулирую две наши трудности: первая – что такое бесконечный анализ? и вторая – что такое эти отношения несовозможности? Лабиринт бесконечного анализа и лабиринт несовозможности.
Большинство комментаторов Лейбница, насколько мне известно, стремятся в конечном счете свести совозможность к простому принципу противоречия. В итоге существует-де противоречие между Адамом-негрешником и нашим миром. Но сама «буква» Лейбница предстает перед нами уже в таком виде, что это невозможно. Это невозможно потому, что Адам-негрешник сам по себе не противоречив, а отношения совозможности абсолютно несводимы к простым отношениям логической возможности. Итак, пытаться обнаружить простое логическое противоречие опять-таки означало бы сводить истины существования к сущностным истинам. Коль скоро это так, будет очень трудно определить совозможность.
В этой лекции о субстанции, мире и непрерывности я всегда стремлюсь ставить вопрос о том, что такое бесконечный анализ. Я прошу у вас побольше терпения. Тексты Лейбница не следует принимать на веру, так как они всегда приспособлены к его корреспондентам, к заданной ему публике, и если я вновь займусь его сном, то необходимо будет его варьировать, и одним из вариантов сна будет то, что даже в пределах одного и того же мира всегда есть уровни ясности или темноты – такие, что мир может быть представлен с той или иной точки зрения. И выходит, что, чтобы иметь возможность судить о текстах Лейбница, надо знать, к кому он их обращает. Вот первая разновидность текстов Лейбница, где он говорит нам, что во всякой пропозиции предикат содержится в субъекте. Только содержание это может быть in actu – актуальным – либо виртуальным. Не терпится сказать, что дела идут очень хорошо. Условимся, что в пропозиции существования типа «Цезарь перешел Рубикон» инклюзия всего лишь виртуальна, а именно переход Рубикона содержится в понятии Цезаря, но содержится всего лишь виртуально. Вторая разновидность текстов: бесконечный анализ, устанавливающий, что грешник содержится в понятии Адама, есть анализ неопределенный, а значит, подразумевается, что я буду восходить от грешника к иному термину, потом еще раз к иному и т. д. Как если бы грешник = 1⁄2 + 1⁄4 + 1⁄8 и т. д., до бесконечности. Это означало бы предоставление определенного статуса: я бы сказал, что бесконечный анализ есть анализ виртуальный, это анализ, продолжающийся до неопределенности. Существуют тексты Лейбница, которые говорят то же самое, например «Рассуждение о метафизике»{ Собр. соч. в 4-х томах, т. I.}; но в «Рассуждении о метафизике» Лейбниц представляет и предлагает свою систему людям, не склонным к философии. Я возьму еще один текст, который вроде бы противоречит только что упомянутому. В более ученом тексте «О свободе» Лейбниц употребляет слово «виртуальный», но не в связи с истинами существования; он использует его по поводу сущностных истин. Этого текста мне уже достаточно для того, чтобы сказать, что невозможно, чтобы различие между сущностными истинами и истинами существования сводилось бы к тому, что в истинах существования включение является только виртуальным, так как виртуальное включение – это один из случаев сущностных истин. И действительно, вы помните, что сущностные истины отсылают к двум случаям: простое и сугубое тождество, когда мы демонстрируем тождество предиката субъекту, и выделение включения типа «всякое число, делящееся на двенадцать, делится на шесть» (я показываю включение вслед за конечной операцией). Однако как раз для этого случая Лейбниц говорит: я выделяю виртуальное тождество. Итак, недостаточно утверждения о том, что бесконечный анализ виртуален.
Можем ли мы сказать, что такое неопределенный анализ? Нет, потому что неопределенный анализ – это все равно что такой анализ, который является бесконечным лишь из-за нехватки моих знаний. А вот Бог с его разумом дойдет до конца. Так вот оно что? Нет, невозможно, чтобы Лейбниц имел это в виду, так как неопределенное никогда у него не фигурировало. Понятия здесь несовместимы и анахроничны. Неопределенное – это не лейбницевская штуковина. Так что же такое «неопределенное», строго говоря? Какие различия существуют между неопределенным и бесконечным?
Неопределенное – это тот факт, что я всегда должен переходить от одного термина к другому, всегда и без остановки, но и без того, чтобы следующий термин, к которому я перехожу, предсуществовал. Это мои собственные приемы вызывают его к существованию. Если я говорю 1 = 1⁄4 + 1⁄8 и так далее, то не следует считать, что «и так далее» является предсуществующим, это мои действия всякий раз вызывают его к существованию, то есть неопределенное существует благодаря приему, которым я непрестанно отодвигаю предел, с каким встречаюсь. Нет ничего предсуществующего. Как раз Кант будет первым философом, который придаст некий статус неопределенному, и этот статус будет именно таким, что неопределенное отсылает к множеству, неотделимому от последовательного синтеза, через который оно проходит. Это значит, что термины неопределенного ряда не являются предсуществующими по отношению к синтезу, продвигающемуся от одного термина к другому.
Лейбниц ничего подобного не знает. Более того, неопределенное представляется ему чисто условным или символическим – почему? Существует автор, который очень хорошо сказал то, что выглядит так, словно принадлежит какому-то философу XVII века, – и это Мерло-Понти. Мерло-Понти написал небольшой текст о так называемых классических философах XVII века, и он пытается живо охарактеризовать их, сказав, что у этих философов есть нечто невероятное, а именно невинная манера мыслить, исходя из бесконечного и в зависимости от бесконечного. Вот он, классический век! Это гораздо умнее, чем говорить нам, что это была эпоха, когда философия смешивалась с теологией. Говорить это глупо. Необходимо сказать, что если философия еще смешивалась с теологией в XVII веке, то это как раз потому, что в ту пору философия была неотделима от невинной манеры мыслить о бесконечности.
Какие имеются различия между бесконечным и неопределенным? Дело в том, что неопределенное относится к области виртуального: в действительности последующий термин не существует до того, пока мои действия не сформируют его. Это означает – что? Бесконечное есть актуальное, бесконечное существует только in actu. И тогда могут существовать всевозможные разновидности бесконечного. Подумайте о Паскале. Перед нами век, который будет непрестанно различать разные порядки бесконечного, и мысль о порядках бесконечного является основополагающей на протяжении всего XVII века. Она вернется к нам, эта мысль, в конце XIX века и в XX веке как раз вместе с теорией так называемых бесконечных множеств. Вместе с бесконечными множествами мы обнаруживаем нечто, работавшее в глубине классической философии, а именно – различие в порядках бесконечного. А каковы великие имена в этих исследованиях порядков бесконечного? Очевидно, Паскаль, Спиноза со знаменитым письмом о бесконечном, а Лейбниц подчинит особый математический аппарат анализу бесконечного и порядку бесконечных. А именно: в каком смысле мы можем говорить, что один порядок бесконечного больше другого? Что это такое, когда одно бесконечное больше другого бесконечного? – и т. д. Невинный способ мыслить исходя из бесконечного, но отнюдь не беспорядочно, раз уж мы вводим всевозможные различения.
В случае с истинами существования анализ Лейбница, очевидно, является бесконечным. Но не неопределенным. Итак, когда Лейбниц употребляет слова, относящиеся к виртуальному, то можно привести формальный текст, который наделяет смыслом интерпретацию, каковую я пытаюсь вчерне набросать, – и это текст из сочинения «О свободе», где Лейбниц говорит буквально следующее: «Когда речь идет об анализе включения предиката „грешник“ в индивидуальное понятие „Адам“, то Бог, конечно, видит, но не конец решения, этот конец не имеет места». Иными словами, даже для Бога этому анализу нет конца. И тогда вы мне скажете: что, здесь есть что-то неопределенное даже для Бога? Нет, какая же здесь неопределенность, если все термины анализа даны! Если бы речь шла о неопределенном, то все термины не были бы даны сразу, а задавались бы постепенно. Они не были бы даны как нечто предсуществующее. Иными словами, в бесконечном анализе мы приходим вот к какому результату: у нас получается переход от одних бесконечно малых элементов к другим, а бесконечное количество бесконечно малых элементов дано. О таком бесконечном можно сказать, что оно актуально, так как дана тотальность бесконечно малых элементов. Вы мне скажете, что тогда мы можем добраться до конца! Нет, по природе вещей, вы не можете добраться до конца, так как это – бесконечное множество. Тотальность элементов дана, и вы переходите от одного элемента к другому, и вы, стало быть, получаете некое бесконечное множество бесконечно малых элементов. Вы переходите от одного элемента к другому: вы проводите бесконечный анализ, то есть анализ, в котором нет конца ни для вас, ни для Бога. Что вы видите, когда проводите этот анализ? Предположим, осуществить его может только Бог: вы ведь занимаетесь неопределенным анализом из-за ограниченности вашего разума, но вот Бог занимается бесконечным. Он не доводит анализ до конца, так как конца нет, но он занимается этим анализом. Более того, все элементы анализа даны ему в актуальном бесконечном. Следовательно, это означает, что «грешник» соотнесен с «Адамом». «Грешник» – это элемент. Он соотнесен с индивидуальным понятием Адама через бесконечное количество других актуально данных элементов. Согласен, вот существует целый мир, то есть весь этот совозможный мир стал существовать. Здесь мы касаемся чего-то очень глубокого. Когда я провожу анализ, я перехожу от чего к чему? Я перехожу от Адама-грешника к Еве-искусительнице, от Евы-искусительницы к зловредному змию, к яблоку. Вот он, бесконечный анализ, и именно этот бесконечный анализ показывает включение «грешника» в индивидуальное понятие «Адам». Что это означает: «бесконечно малый элемент»? Почему вдруг грех стал бесконечно малым элементом? Почему бесконечно малым элементом стало яблоко? Почему бесконечно малый элемент – «переход Рубикона»? Вы понимаете, что это означает? Бесконечно малого элемента не существует, а раз так, тогда «бесконечно малый элемент», очевидно, означает – нет необходимости об этом говорить, – бесконечно малое отношение между двумя элементами. Речь идет об отношениях, речь не идет об элементах. Иными словами, бесконечно малое отношение между двумя элементами. Чем оно может быть? Что мы выиграли, говоря, что речь идет не о бесконечно малых элементах, но о бесконечно малых отношениях между двумя элементами? И вы понимаете, что если я говорю с тем, у кого нет ни малейшего представления о дифференциальном исчислении, то вы можете сказать ему: оно занимается бесконечно малыми элементами. Лейбниц прав. Если перед вами тот, познания которого весьма смутны, то будет достаточным, если он поймет, что это бесконечно малые отношения между конечными элементами. Если же перед вами тот, кто обладает большой ученостью в дифференциальном исчислении, то я, возможно, смогу сказать ему нечто иное. Бесконечный анализ, в ходе которого мы собираемся продемонстрировать включенность предиката в субъект на уровне истин существования, не работает через доказательство тождества, даже виртуального. Дело не в этом. Но у Лейбница в другом выдвижном ящике есть другая формула, которую он вам представит: тождество управляет сущностными истинами, оно не управляет истинами существования; он все время говорит противоположное, однако это совершенно неважно, задайтесь вопросом о том, кому он это говорит. И в таком случае это что? То, что интересует его на уровне истин существования, – не тождественность предиката субъекту, а то, что мы переходим от одного предиката к другому, от него к третьему и опять от него к другому и т. д., – и все это с точки зрения бесконечного анализа, то есть максимума непрерывности. Иными словами, тождество управляет сущностными истинами, а истинами существования управляет непрерывность. А что такое мир? Мир определяется своей непрерывностью. А что разделяет два несовозможных мира? Факт, что между двумя мирами наличествует прерывность. А что определяет совозможный мир? Совозможность, на которую он способен. А что определяет наилучший мир? Это мир наиболее непрерывный. Критерием Божьего выбора будет непрерывность. Из всех миров, не совозможных друг другу и возможных сами по себе, Бог допустит к существованию тот, где реализуется максимум непрерывности.
Почему грех Адама включен в мир, обладающий максимумом непрерывности? Надо полагать, что грех Адама имеет какие-то грандиозные связи, что эти связи гарантируют непрерывность рядов. Существует прямая связь между грехом Адама и воплощением и искуплением Христа. Существует некая непрерывность. Здесь нечто вроде рядов, которые вкладываются друг в друга помимо пространственно-временных различий. Иными словами, в случае с сущностными истинами я демонстрировал такое тождество, где показывал некое включение; в случае же с истинами существования я собираюсь свидетельствовать о непрерывности, обеспечиваемой бесконечно малыми отношениями между двумя элементами. Два элемента войдут в отношения непрерывности, когда я смогу назначить некое бесконечно малое отношение между этими двумя элементами. Я перешел от идеи бесконечно малого элемента к [некоему] бесконечно малому отношению между двумя этими элементами, но этого недостаточно. Необходимо сделать еще одно усилие. Раз уж перед нами два элемента, то существует различие между двумя этими элементами: между грехом Адама и искушением Евы различие есть; только какова формула непрерывности? Можно будет определить непрерывность как акт различия, стремящегося к исчезновению. Непрерывность есть исчезающее различие.
Что же означает то, что существует непрерывность между соблазном Евы и грехом Адама? Это означает, что между ними существует различие, стремящееся к исчезновению. Я бы, стало быть, сказал, что сущностные истины управляются принципом тождества, а истины{ Здесь, очевидно, пропущено слово «d’existence», «существования».} управляются законом непрерывности, или исчезающими различиями, что сводится к одному и тому же. Следовательно, между грешником и Адамом вы никогда не сумеете доказать логическое тождество, но вы сможете доказать – и слово «доказательство» изменит тут смысл, – вы сможете продемонстрировать непрерывность, то есть одно или несколько исчезающих различий. Бесконечный анализ – это анализ непрерывного, работающий посредством исчезающих различий. Это отсылает к известной символике, к символике дифференциального исчисления, или анализа бесконечно малых. Но ведь Ньютон и Лейбниц создают дифференциальное исчисление в одно и то же время. А интерпретация дифференциального исчисления через категории исчезающе малого – особенность Лейбница. У Ньютона… если оба они придумывают дифференциальное исчисление в одно и то же время, то логический и теоретический каркас его у Лейбница и у Ньютона совершенно разный, а тема дифференциала как исчезающе малого различия – особенность Лейбница. К тому же он придает этой теме колоссальное значение, и существует значительная полемика между ньютонианцами и Лейбницем. У нашей истории вырисовываются более отчетливые контуры: что такое это исчезающее различие? [Жиль Делёз что-то чертит мелом.] Дифференциальные уравнения сегодня – это нечто фундаментальное. Не существует физики без дифференциальных уравнений. В математике сегодня дифференциальное исчисление очищено от каких бы то ни было рассмотрений бесконечного – своего рода аксиоматический статус дифференциального исчисления, где уже не идет абсолютно никакой речи о бесконечном, датируется концом XIX века. Но если мы поместим себя в эпоху Лейбница: поместите себя на место математика – что ему делать, когда он оказывается перед величинами или количествами с различными степенями, с уравнениями, переменные в которых возведены в разные степени, с выражениями типа ax2 + y? У вас некое количество во второй степени и некоторое количество – в первой. Как их сравнивать? Вы знаете всю историю несоизмеримых количеств. Тогда, в XVII веке, количества, возведенные в разную степень, назывались похожим словом: это были несравнимые количества. Вся теория уравнений в XVII веке сталкивается с этой проблемой, каковая является фундаментальной даже в простейшей алгебре: какой прок от дифференциального исчисления? Дифференциальное исчисление позволяет вам приступить к непосредственному сравнению величин, возведенных в разные степени. Более того, оно служит не только этому. Дифференциальное исчисление находит свой уровень применения, когда вы оказываетесь перед несравнимыми величинами, то есть перед величинами, возведенными в разные степени. Почему? Предположим, что из ax2 + y вы какими-то средствами извлекаете dx и dy. dx есть дифференциал от x, dy – дифференциал от y. Что это значит? Мы определим это словесно: принято говорить, что dx или dy – это бесконечно малая величина, и предполагается, что эта бесконечно малая величина прибавляется к x или y или вычитается из них. А вот и изобретение! Бесконечно малая величина… это означает наименьшая вариация рассматриваемой величины. Ее невозможно назначить по соглашению. Итак, dx = 0 для x – это наименьшая величина, до которой может варьироваться x, стало быть, она равна нулю. dy = 0 по отношению к y. Начинает «обретать плоть» понятие исчезающего различия. Это вариация или различие, dx или dy: это наименьшая из всех заданных или задаваемых величин. Это математический символ. В одном смысле это безумно, в другом – оперативно. По отношению к чему? Вот что грандиозно в символике дифференциального исчисления: dx = 0 по отношению к x, наименьшее различие, наименьшее приращение, на которое способна величина x или величина y, назначить невозможно: оно бесконечно мало.
Чудо: dy не равно нулю, и более того: dy – конечная величина и она вполне выразима. Это относится к отношениям, и только к отношениям. dx – ничто по отношению к x, dy – ничто по отношению к y, но вот: dy – что-то. Потрясающе, восхитительно: великое математическое открытие!
Оно – что-то, потому что в таком примере, как ax2 + by + с, у вас две степени, в которые возведены несравнимые величины: x2 и y. Если вы рассмотрите дифференциальное отношение, то оно не равно нулю, оно детерминированное, оно определенное. Отношение dy дает вам средство сравнивать две несравнимые величины, так как оно оперирует депотенциализацией{ То есть приведением величин, возведенных в разные степени, к одной и той же, первой, степени.} количеств. Стало быть, оно дает вам непосредственное средство для сопоставления несравнимых величин, возведенных в разные степени. Вот с этого момента вся математика, вся алгебра, вся физика будут вписываться в символику дифференциального исчисления… […] Именно это отношение между dx и dy сделало возможной эту разновидность взаимопроникновения между физической реальностью и математическим расчетом.
Существует небольшая трехстраничная заметка, которая называется «Обоснование исчисления бесконечно малых исчислением обыкновенной алгебры». Прочтя ее, вы поймете всё. Лейбниц пытается объяснить, что некоторым образом дифференциальное исчисление функционировало еще до того, как его открыли, и что дела не могли сложиться иначе, даже на уровне самой простой алгебры. [Подробное объяснение Жиля Делёза на доске, с чертежом сделанным мелом: построение треугольников.]
x не равно y ни в одном случае, ни в другом, потому что это противоречило бы самим данным построения проблемы. В той мере, в какой для этого случая вы можете написать x = с, y = e, c и e равны нулю.
Как говорит Лейбниц на своем языке, и то и другое – ничто, но не абсолютно, а относительно. То есть это такие ничто, которые сохраняют различие в отношениях. Следовательно, c остается равным e, так как оно остается пропорциональным x, а x не равно y.
Таково обоснование старого дифференциального исчисления, и интерес этого текста состоит в том, что здесь дано обоснование посредством простой, или обыкновенной, алгебры. Это обоснование совершенно не ставит под сомнение специфичность дифференциального исчисления.
Я читаю этот прекрасный текст: «Итак, в данном случае будет x – c = x. Предположим, что этот случай подчиняется общему правилу; тем не менее c и e не будут ничто в абсолютном смысле, потому что они вместе сохраняют отношение cx : xy, или отношение между целым синусом или лучом и касательной, которая касается угла в точке c, и угол этот, как мы предположили, всегда остается одним и тем же. Ибо если бы c и e были ничто в абсолютном смысле, в этом исчислении, в случае совпадения точек c, e и a, так как все ничто равны друг другу, то c и e были бы равны друг другу, а уравнение, или аналогия, x = c, имело бы вид x = 0 = 1. А y = e имело бы вид y = 0. А это все равно что сказать x = y, что было бы нелепостью».
«Итак, в алгебраическом исчислении мы находим следы трансцендентного исчисления различий (то есть дифференциальное исчисление), и сами его сингулярности, в каких некоторые ученые сомневаются, и даже алгебраическое исчисление не могли бы обойтись без этого, так как здесь сохраняются все преимущества, и одно из наиболее значительных – общий характер этого исчисления, дабы оно могло охватывать все случаи».
Точно так же я могу считать, что состояние покоя есть бесконечно малое движение или что круг есть предел бесконечного ряда многоугольников, количество сторон которых до бесконечности увеличивается. Что является сравнимым во всех этих примерах? Необходимо рассмотреть случай, где имеется один-единственный треугольник, как крайний случай двух подобных треугольников, у которых противостоят вершины. Здесь вы почувствуете, что, может быть, мы движемся к тому, чтобы наделить «виртуальное» искомым смыслом. Я мог бы сказать, что в случае с моей второй фигурой, где имеется лишь один треугольник, другой треугольник присутствует, но лишь виртуально. Он присутствует виртуально, потому что a виртуально содержит e и c, отличные от a. Почему же e и c остаются отличными от a, если они уже не существуют? e и c остаются отличными от a, когда они не существуют, потому что они входят в отношение – а оно-то продолжает существовать, когда его члены исчезли! Точно на том же основании покой будет рассматриваться как частный случай движения, а именно – как бесконечно малое движение. Относительно моей второй фигуры, xy, я бы сказал, что треугольник CEA отнюдь не исчез в обычном смысле слова, однако надо сказать, что теперь его невозможно построить, и все-таки он является вполне детерминированным, так как в этом случае с = 0, e = 0, но а не равно нулю.
c – это совершенно детерминированное отношение, равное x. Стало быть, оно является детерминируемым и детерминированным, но назначить его невозможно. Точно так же покой есть совершенно детерминированное движение, но назначить это движение невозможно; точно так же круг есть многоугольник, который невозможно задать, но все-таки вполне детерминированный. Вы видите, что означает «виртуальное». Виртуальное теперь отнюдь не означает «неопределенное» – и сюда можно привлечь все тексты Лейбница. Ни слова не говоря, он проделал дьявольскую операцию – это его право, – он дал слову «виртуальное» новое значение, вполне неукоснительное, но не сказал об этом ни слова. Он скажет об этом в других текстах: «виртуальное» теперь не означает «стремящееся к неопределенному», это означает «не назначаемое (inassignable){ То есть «не допускающее точного определения».}, но все-таки детерминированное». Эта концепция виртуального сразу и очень новая, и очень строгая. Еще надо было бы иметь технику и понятия, чтобы наделить смыслом выражение, поначалу слегка таинственное: не назначаемое, но все-таки детерминированное. Оно не назначаемо, так как c стало равным нулю и так как e стало равным нулю. Но все-таки оно вполне детерминировано, так как, хотя c включает в себя нуль, оно не равно ни нулю, ни единице, оно равно x. e включает в себя нуль и равно y.
Кроме того, Лейбниц был поистине гений преподавания. Ему удалось объяснить тем, кто имел дело только с элементарной алгеброй, что такое дифференциальное исчисление. Он не предполагает никакого понятия дифференциального исчисления.
Что касается идеи о том, что в мире существует непрерывность, то мне кажется, что слишком многие комментаторы Лейбница превращают ее в теологическую – больше, чем этого требует Лейбниц: они довольствуются утверждением о том, что бесконечный анализ – это анализ, проведенный в разуме Бога, и это верно, если брать букву текстов; но оказывается, что в дифференциальном исчислении перед нами прием, не приравнивающий нас к разуму Бога; это, разумеется, невозможно, но дифференциальное исчисление дает нам прием, чтобы мы могли осуществить весьма обоснованное приближение к тому, что происходит в разуме Бога, и приблизиться к этому мы могли бы благодаря вот этой символике дифференциального исчисления; ведь, в конце концов, Бог тоже оперирует символикой, правда другой. Итак, это приближение к непрерывности состоит в том, что максимум непрерывности обеспечивается, когда некий случай задан, а крайний, или противоположный, случай может с известной точки зрения считаться включенным в случай, определенный вначале.
Вы определяете движение, ну и ладно; вы определяете многоугольник, ну и ладно! – вы все равно рассматриваете крайний, или противоположный, случай – покой, или круг, лишенный углов. Непрерывность – это установление пути, согласно которому «внешний» случай: покой как противоположность движению, круг как противоположность многоугольнику – можно считать включенным в понятие случая внутреннего. Непрерывность существует, если внешний случай может рассматриваться как включенный в понятие случая внутреннего.
Лейбниц только что показал почему. Вы найдете формулу предикации: предикат включен в субъект.
Поймите хорошенько. Я называю «обобщенным внутренним случаем» концепт движения, включающего все движения. По отношению к этому первому случаю я называю «внешним случаем» покой, или же круг по отношению ко всем многоугольникам, или же один-единственный треугольник по отношению ко всем комбинированным тре угольникам. Я задаюсь целью построить понятие, которое включает всю дифференциальную символику; понятие, которое соответствует обобщенному внутреннему случаю, но, тем не менее, включает и внешний случай. Если мне это удастся, я смогу сказать, что, по всей вероятности, покой – это бесконечно малое движение, совершенно так же, как я говорю, что мой единственный треугольник представляет собой оппозицию между двумя подобными треугольниками с противостоящими вершинами, просто один из двух треугольников стал не назначаемым (inassignable). Вот в этот момент существует непрерывность от много угольника к кругу, существует непрерывность от покоя к движению, существует непрерывность двух подобных треугольников, противопоставленных вершиной – одному-единственному треугольнику.
В середине XIX века величайший математик, которого звали Понселе, создаст проективную геометрию в более современном смысле – совершенно лейбницианском. Вся проективная геометрия зиждется на том, что Понселе называл просто-напросто аксиомой непрерывности: если вы возьмете дугу окружности, отсеченную в двух точках прямой; если вы проведете прямую, то наступит момент, когда она будет касаться дуги окружности лишь в одной точке, а как только она выйдет из круга, она больше не будет касаться дуги ни в одной точке. Аксиома непрерывности Понселе говорит о возможности рассматривать случай с касательной как крайний, то есть считать, что одна из точек не исчезает, что обе точки всегда присутствуют, но виртуально. Когда происходит то, что мы рассматриваем, то две точки не исчезли, они всегда присутствуют, но виртуально. Это аксиома непрерывности, позволяющая построить целую систему проекции, так называемую проективную систему. Математика сохранит ее полностью – это грандиозная техника.
Во всем этом есть какая-то комичная бесшабашность, но это нисколько не стесняет Лейбница. Здесь тоже комментаторы ведут себя весьма любопытно. С самого начала они топчутся в области, где речь идет о том, чтобы показать, что истины существования – это не то же самое, что и сущностные, или математические, истины. Чтобы показать это – но ведь одна из весьма обобщенных и гениальных пропозиций Лейбница такова: разум Бога, бесконечный анализ, – и тогда что такое все это? И наконец, когда речь заходит о том, чтобы показать, в чем истины существования несводимы к математическим истинам, когда речь заходит о том, чтобы показать это конкретно, все, что Лейбниц говорит убедительного, сводится к математике. Забавно, не так ли?
Какой-нибудь «записной отрицатель» скажет Лейбницу: ты объявляешь нам, что говоришь о несводимости истин существования, а несводимость эту ты можешь определить конкретно, лишь используя сугубо математические понятия… И что ответил бы Лейбниц? «Во всевозможных текстах меня всегда заставляли говорить, что дифференциальное исчисление обозначает некую реальность. Я никогда не утверждал этого, – отвечает Лейбниц, – дифференциальное исчисление есть хорошо обоснованная условность». Лейбниц придает колоссальное значение тому, что дифференциальное исчисление лишь символическая система, она не «вычерчивает» никакой реальности, она обозначает способ отношения к реальности. А хорошо обоснованная условность – что такое? Не по отношению к реальности это условность, а по отношению к математике. Здесь нет никакого противоречия. Дифференциальное исчисление есть нечто символическое, но по отношению к математической реальности, а отнюдь не по отношению к реальной реальности. А вот по отношению к математической реальности система дифференциального исчисления есть вымысел. Лейбниц также употребляет словосочетание «хорошо обоснованный вымысел». Это вымысел, хорошо обоснованный по отношению к реальности математики. Иными словами, дифференциальное исчисление использует концепты, которые не могут обосновываться как с точки зрения классической алгебры, так и с точки зрения арифметики. Это очевидно. Величины, которые представляют собой ничто и которые равны нулю, суть арифметический нонсенс; тут нет ни арифметической, ни алгебраической реальности, это вымысел. Итак, на мой взгляд, Лейбниц отнюдь не имеет в виду того, что дифференциальное исчисление не обозначает ничего реального; он имеет в виду, что дифференциальное исчисление несводимо к математической реальности. Стало быть, в этом смысле перед нами вымысел, но, как раз потому, что это вымысел, Лейбниц может заставить нас помыслить существование этого. Иными словами, дифференциальное исчисление есть своего рода союз математики и существующего, то есть это символика существующего. И как раз потому, что это – хорошо обоснованный вымысел по отношению к математической истине, это еще и основополагающее и реальное средство исследования реально существующего. Вы, стало быть, видите, что означает «исчезающее», «исчезающее различие»: это отношение, которое продолжает существовать, когда исчезли члены отношения. Отношение c, когда c исчезло, то есть совпало с a. Итак, вы построили некую непрерывность с помощью дифференциального исчисления. Лейбниц с полным на то основанием настаивает: поймите, что в разуме Бога между предикатом «грешник» и понятием «Адам» действительно есть непрерывность. Непрерывность существует благодаря исчезающему различию – исчезающему до такой степени, что, когда Бог творит мир, он только и делает, что рассчитывает! И какое исчисление он использует? Очевидно, не математическое… В этом вопросе Лейбниц «плавает» между двумя объяснениями. Итак, Бог творит мир, исчисляя. Бог исчисляет, мир творится. Идею бога-игрока мы находим повсюду. Мы всегда можем сказать, что Бог сотворил мир играючи, но ведь весь мир об этом и говорит. Это неинтересно. Однако игры друг на друга не похожи. Существует текст Гераклита, [где] речь идет об играющем ребенке, который поистине создает мир. Он играет, но во что? Во что играют греки и дети греков? Разные переводы предлагают разные игры. Но Лейбниц этого не говорит: когда он объясняется по поводу игры, то дает два объяснения. В проблемах заполнения{ Буквально «мощения» (pavage).}, владея проблемами математики и архитектуры: если дана поверхность, то какая фигура ее заполнит лучше других? И вот более сложная проблема: если вы берете прямоугольную поверхность и хотите заполнить ее окружностями, то вы не заполните ее до конца. А квадратами вы ее заполните до конца? Это зависит от их размера. А прямоугольниками? Равными или неравными? И потом, если вы предполагаете две фигуры, то какие из них сочетаются между собой, чтобы полностью заполнить пространство? Если вы хотите заполнять пространство окружностями, то какой другой фигурой вы заполните пустоту? Или же предпочтете всего не заполнять… Вы видите, что это крепко связано с проблемой непрерывности. Если вы решите всего не заполнять, то в каких случаях и при помощи каких фигур вы достигнете заполнения возможного максимума? Здесь задействуются несоизмеримые величины, здесь задействуются величины несравнимые – это вдохновляет Лейбница. Когда Лейбниц говорит, что Бог вызывает к существованию и избирает лучший из возможных миров (это мы уже видели), то мы опережаем Лейбница, прежде чем он это скажет: вот вам лучший из возможных миров, вот вам кризис лейбницианства, вот вам общераспространенное антилейбницианство XVIII века: они не поддержали историю возможных миров.
Он был прав, Вольтер, к этой философии можно отнестись с той взыскательностью, какой Лейбниц, очевидно, не удовлетворяет – особенно с точки зрения политики.{ Как известно, Вольтер злобно высмеял идею Лейбница о наилучшем из миров в своей философской повести «Кандид».} И поэтому Вольтер не смог простить Лейбница. Но если мы проникнемся благочестием, то что же имел в виду Лейбниц, утверждая, что существующий мир есть лучший из возможных? Очень простую вещь: поскольку существует множество возможных миров и они всего лишь несовместимы друг с другом, то Бог выбирает лучший, а лучший мир не тот, где меньше всего страдают! Рационалистический оптимизм в то же время проникнут безграничной жестокостью: это отнюдь не тот мир, где не страдают, это мир, в котором реализуется максимальное количество кругов! Если я осмелюсь употребить бесчеловечную метафору, то очевидно, что круг страдает, когда он становится всего лишь аффектом многоугольника. А когда покой становится всего лишь аффектом движения, то вообразите страдание покоя… Итак, это лучший из миров, потому что в нем реализуется максимум непрерывности. Другие миры были возможными, но в них реализовалось бы меньше непрерывности. Этот мир самый прекрасный и гармоничный единственно в силу вот такой безжалостной фразы: потому что в нем осуществляется максимум возможной непрерывности. Если же это происходит ценой вашей плоти и крови, – ерунда. Поскольку Бог не только справедлив, то есть стремится к максимуму непрерывности, но к тому же еще и кокетничает, он хочет варьировать свой мир. И тогда Бог скрывает эту непрерывность. Он вычерчивает некий сегмент, который должен был бы быть в отношениях непрерывности к предыдущему, но прячет этот сегмент неизвестно куда, чтобы скрыть свои неисповедимые пути. Уж для нас-то нет возможности обнаружить его! Ведь этот мир творится у нас за спиной. И вот, очевидно, XVIII век обходится со всей этой историей Лейбница не слишком хорошо. Вы видите, каковы законы заполнения: лучший из миров будет тем, где фигуры и формы заполнят максимум пространства-времени, оставив минимум пустоты. А вот второе объяснение Лейбница, и тут он выглядит еще сильнее: шахматная игра. Так что получается, что между фразой Гераклита, где содержится намек на какую-то греческую игру, и Лейбницем, который намекает на шахматную игру, существует большая разница, и проявляется она в тот самый момент, когда обобщенная формула «Бог играет» могла бы внушить веру, что эта игра есть своего рода блаженство. Как Лейбниц понимает шахматную игру: шахматная доска – это пространство; фигуры – это понятия. Каков лучший ход в шахматах или какова лучшая совокупность ходов? Лучший ход или совокупность ходов – такие, которые способствуют тому, чтобы при определенном количестве и определенной ценности фигур они заняли максимальное пространство, максимум всего пространства шахматной доски. Ваши фигуры следует поставить так, чтобы они распоряжались максимальным пространством.
Почему это всего лишь метафоры? Здесь перед нами та же разновидность принципа непрерывности: максимум непрерывности. А вот что не получается как в метафоре шахматной игры, так и в метафоре заполнения? Дело в том, что в обоих случаях вы ссылаетесь на некое вместилище. Мы показываем ситуацию так, как если бы возможные миры соперничали между собой за то, чтобы воплотиться в определенном вместилище. В случае с заполнением это поверхность заполнения; в случае с шахматной игрой это шахматная доска. Однако в условиях сотворения мира нет предварительно данного вместилища!
Стало быть, надо сказать, что мир, который доходит до существования, – это тот мир, который реализует в себе самом максимум непрерывности, то есть содержит наибольшее количество реальности или сущности. Я бы не сказал «существования», так как существовать будет мир, содержащий наибольшее количество не существования, но сущности в виде непрерывности. Непрерывность – это на самом деле и есть средство, способствующее содержанию максимального количества реальности.
Итак, философия – это прекраснейшее зрелище. В этой лекции я ответил на вопрос, что такое бесконечный анализ. Я еще не ответил на вопрос, что такое совозможность. Вот так.
Лекция 3
(29.04.1980)
Сегодня мы должны рассмотреть вещи забавные, способствующие отдыху, но также и весьма тонкие.
Ответ на вопрос о дифференциальном исчислении: мне кажется, невозможно сказать, что в конце XVII века и в XVIII веке существуют люди, для которых дифференциальное исчисление представляет собой искусственный прием, и люди, для которых дифференциальное исчисление есть нечто реальное. Мы не можем сказать этого, потому что разрыв проходит не здесь. Лейбниц никогда не переставал говорить, что дифференциальное исчисление – это всего лишь прием, символическая система. Стало быть, по этому вопросу никаких разногласий нет. Разногласия начинаются в понимании того, что такое символическая система, но в том, что касается несводимости дифференциальных знаков ни к какой математической реальности, то есть к реальности геометрической, арифметической и алгебраической, существует всеобщее согласие. Расхождение появляется вот где: там, где одни полагают, что дифференциальное исчисление – это всего лишь условность, и условность очень хитрая, а другие считают, что, наоборот, его искусственный характер по отношению к математической реальности позволяет ему быть в некоторых аспектах адекватным по отношению к реальности физической. Лейбниц никогда не считал, что его анализ бесконечно малых, его дифференциальное исчисление в том виде, как он их задумал, достаточны для того, чтобы исчерпать область бесконечного в том виде, как он, Лейбниц, ее понимал. Возьмем, например, исчисление. Существует то, что Лейбниц называет исчислением минимума и максимума, которое совершенно не зависит от дифференциального исчисления. Стало быть, дифференциальное исчисление соответствует известному порядку бесконечного. Верно, что ни одно качественное бесконечное не может быть уловлено дифференциальным исчислением, однако Лейбниц настолько осознает это, что он устанавливает другие разновидности исчисления, соотносящиеся с другими порядками бесконечного. Это направление анализа качественного бесконечного, или даже, попросту говоря, актуального бесконечного, закрыл отнюдь не Лейбниц. Закрыла этот путь кантовская революция; именно кантовская революция навязала известную концепцию неопределенного и занялась наиболее безусловной критикой актуального бесконечного. Этим мы обязаны Канту, а вовсе не Лейбницу.
В геометрии, начиная с греков и до XVII века, вы сталкиваетесь с двумя типами проблем. Есть проблемы, где речь идет о том, чтобы найти так называемые прямые линии и так называемые прямолинейные плоскости. Здесь достаточно классической геометрии и классической алгебры. Вы берете проблемы и достигаете необходимых решений: это Евклидова геометрия. Еще у греков, а затем, разумеется, в Средние века геометрия непрестанно оказывается перед проблемой иного характера: это когда необходимо искать и определять кривые и криволинейные плоскости. Вот в чем все геометры согласны между собой: здесь классических методов геометрии и алгебры уже недостаточно.
Уже греки придумали особый метод, который называется методом исчерпания: он позволяет определять кривые и криволинейные плоскости, а также решать уравнения разных степеней, и предел здесь – бесконечность, бесконечность разнообразных степеней в уравнении. Вот эти-то проблемы делают необходимым дифференциальное исчисление и вдохновляют Лейбница на его открытие; дифференциальное исчисление принимает эстафету у старого метода исчерпания. Если вы сочетаете математическую символику с теорией, а не привязываете ее к проблеме, для которой эта символика создана, то вы уже ничего не сможете понять. Дифференциальное исчисление имеет смысл лишь тогда, когда перед вами уравнение, чьи члены возведены в разные степени. Если же у вас этого нет, то говорить о дифференциальном исчислении – нонсенс. Важно рассмотреть теорию, соответствующую некоей символике, но вы должны столь же полно рассмотреть и практику. Следовательно, в анализе бесконечно малых ничего понять невозможно, если мы не увидим, что все физические уравнения по природе своей уравнения дифференциальные. Иначе физические явления изучать невозможно – и Лейбниц здесь будет очень силен: Декарт располагал всего лишь геометрией, алгеброй и тем, что придумал сам Декарт, назвав аналитической геометрией, но, сколь бы далеко он ни продвигался в этом открытии, оно фактически предоставило ему средства схватывать фигуры и движение лишь в аспекте прямолинейности; а ведь множество явлений природы суть в конечном счете, феномены криволинейного типа, и здесь учение Декарта не работает. Декарт застрял на фигурах и движении. Лейбниц переведет это на свой язык: одно и то же – говорить, что природа работает криволинейным способом, и говорить, что помимо фигур и движения существует нечто, а именно – область сил. И на самом уровне законов движения Лейбниц все изменит как раз благодаря дифференциальному исчислению. Он скажет, что сохраняется не mv, то есть не масса и скорость; то, что сохраняется, есть mv2. Единственное различие в формуле – возведение v во вторую степень, и это стало возможным, потому что именно дифференциальное исчисление позволяет сравнивать степени. У Декарта не было технического средства сказать mv2. С точки зрения языка, геометрии, арифметики и алгебры mv2 есть сугубый нонсенс.
Имея то, что мы сегодня знаем в науке, мы всегда можем объяснить, что сохраняется именно mv2, без всякого обращения к анализу бесконечно малых. Это происходит в лицейских учебниках, но, чтобы доказать это и чтобы формула имела смысл, необходим весь аппарат дифференциального исчисления.
[Тут вмешивается Контесс.]
[Делёз продолжает]: хотя у дифференциального исчисления и у аксиоматики есть точка пересечения, но эта точка совершенно исключительна. В историческом отношении неукоснительный статус дифференциального исчисления подтверждается очень поздно. Что это значит? Это значит, что все, что является условностями, из дифференциального исчисления изгоняется. Но вот даже для Лейбница: что такое искусственный прием? Искусственный прием – это целая совокупность вещей: идея становления, идея предела становления, идея тенденции приближения к пределу – все это рассматривается математиками как абсолютно математические понятия. Идея, что существует количественное становление; идея предела этого становления; идея, что бесконечное множество малых величин приближается к пределу: все это рассматривается как понятия, о чистоте которых говорить невозможно; стало быть, они в реальном смысле не аксиоматичны и не аксиоматизируются. Итак, с самого начала, будь то у Лейбница, будь то у Ньютона или у их последователей, идея дифференциального исчисления неотделима и не отделяется от множества понятий, которые считаются нестрогими и ненаучными. Да и сами Лейбниц и Ньютон готовы это признать. И лишь в конце XIX и в начале XX века дифференциальное исчисление, или анализ бесконечно малых, получит строго научный статус, но какой ценой?
Из него изгонят все ссылки на идею бесконечного; из него изгонят все ссылки на идею предела; из него изгонят все ссылки на идею стремления к пределу. Кто же это сделает? Дифференциальному исчислению дадут весьма любопытные интерпретацию и статус, так как оно перестанет работать с обычными величинами, и ему придадут сугубо порядковую интерпретацию. А значит, это будет способом исследования конечного, конечного как такового. И сделает это величайший математик: Вейерштрасс. Но происходит это очень поздно. И вот он создает аксиоматику исчисления, но какой ценой? Сегодня, когда мы занимаемся дифференциальным исчислением, мы больше не делаем никаких ссылок на понятия бесконечного, предела и тенденции приближения к пределу. У нас статическая интерпретация. В дифференциальном исчислении больше нет никакого динамизма. Господствует статическая и порядковая интерпретация исчисления. Прочтите хотя бы книгу Вюйемена «Философия алгебры» (Vuillemin, «Philosophie de l’algèbre»).
Этот факт очень важен для нас, поскольку необходимо как следует показать, что дифференциальные отношения – да, но даже до аксиоматизации все математики были согласны с тем, что дифференциальное исчисление как метод исследования бесконечного было условностью, о чистоте которой говорить невозможно, и Лейбниц первым сказал это, но даже в этот момент необходимо знать, каково здесь символическое значение. Аксиоматические отношения и отношения дифференциальные: спасибо, не надо. Здесь есть оппозиция.
Бесконечное совершенно изменило смысл и природу и в конце концов оказалось полностью изгнано.
Дифференциальные отношения типа DY : DX таковы, что мы получаем их из X и Y.
В то же время нельзя сказать, что DY не отличается от Y, это бесконечно малая величина; и нельзя сказать, что DX не отличается от X, это бесконечно малая величина по отношению к X.
Зато DY : DX есть нечто.
Но это – нечто совершенно иное, нежели Y : X.
Например, если Y : X обозначает кривую, то D : DX обозначает касательную.
И притом не какую угодно касательную.
Итак, я бы сказал, что дифференциальные отношения таковы, что они не обозначают ничего конкретного по отношению к тому, из чего они произведены, то есть по отношению к X и к Y, однако они обозначают некое иное конкретное и именно посредством этого обеспечивают переход к пределам. Они обеспечивают нечто конкретное, а именно некое Z.
Это можно с таким же успехом перефразировать: дифференциальное исчисление совершенно абстрагируется от детерминации типа a/b, но зато оно детерминирует некое с. Если аксиоматические отношения совершенно формальны со всех точек зрения, если они формальны по отношению к a и к b, то они не детерминируют c, каковое является конкретным. Стало быть, они совершенно не обеспечивают никакого перехода. Вот вам вся классическая оппозиция между генезисом и структурой. Аксиоматика – это поистине общая структура для некоего множества областей.
В прошлый раз мы обращались к моему второму большому заголовку, и этот второй большой заголовок был: СУБСТАНЦИЯ, МИР И СОВОЗМОЖНОСТЬ.
В первой части лекции мы пытались говорить о том, что Лейбниц называл бесконечным анализом. И ответ был таков: бесконечный анализ выполняет следующее условие: он возникает в той мере, в какой непрерывность и малые, или исчезающие, различия заменяют тождество.
И вот тогда, когда мы оперируем бесконечностью и исчезающими различиями, анализ становится в собственном смысле бесконечным. Затем я сталкиваюсь со вторым аспектом этого вопроса. Итак, существует бесконечный анализ и существует материя для бесконечного анализа, когда я оказываюсь в области, которая больше непосредственно не управляется тождественным, тождественностью, но в области, управляющейся непрерывностью и исчезающими различиями. И тогда можно прийти к относительно ясному ответу. Отсюда второй аспект проблемы: что такое совозможность? Что означает, что две вещи совозможны или не совозможны? И еще раз: Лейбниц говорит нам, что Адам-негрешник – это само по себе возможно, но это не совозможно с существующим миром. Итак, он притязает на то, что открыл отношения совозможности, и вы чувствуете, что это крепко связано с идеей бесконечного анализа.
Проблема в том, что несовозможное – это не то же, что противоречащее. Это сложно. Адам-негрешник не совозможен с существующим миром; здесь потребовался бы иной мир. Если мы это говорим, я вижу только три возможных решения, чтобы охарактеризовать понятие несовозможности.
Первое решение: мы скажем, что необходимо, чтобы так или иначе несовозможность имела в виду своего рода логическое противоречие. Необходимо, чтобы существовало противоречие между Адамом-негрешником и существующим миром. Одно лишь это противоречие можно выявлять до бесконечности; его можно назвать бесконечным противоречием. Если между кругом и квадратом существует конечное противоречие, то между Адамом-негрешником и миром существует противоречие бесконечное. Некоторые тексты Лейбница имеют в виду это направление. Но опять-таки, все, что мы прежде сказали, имело в виду, что совозможность и несовозможность поистине представляют собой оригинальные отношения, несводимые к тождеству и противоречию. Противоречивое тождество.
Более того, мы видели, что бесконечный анализ, как сказано в нашей первой части, не был анализом, обнаруживавшим тождественное по завершении бесконечного ряда процедур. Все наши результаты, полученные в прошлый раз, были основаны на том, что, отнюдь не обнаруживая тождественное по завершении ряда, у предела бесконечного ряда процедур, и тем самым не пользуясь бесконечным анализом, мы замещали точку зрения тождества точкой зрения непрерывности. Итак, перед нами другая область, нежели область «тождество – противоречие».
А вот другое решение, которое я упомяну очень быстро, так как здесь его подсказывают определенные тексты Лейбница: оно не по силам нашему разуму, так как наш разум конечен, и поэтому хотя совозможность и вводила какие-то оригинальные отношения, но мы не знали, каковы их корни.
Лейбниц вводит для нас новую область: существует не только возможное, необходимое и реальное. Существует еще совозможное и несовозможное. Лейбниц притязал на охват всей сферы бытия.
Вот гипотеза, которую я хотел бы выдвинуть: Лейбниц всегда спешит, он пишет всевозможным адресатам, повсюду; он не публикуется при жизни или публикует очень мало. Лейбниц обладает всей материей, всеми материалами для того, чтобы дать сравнительно точный ответ на эту проблему. Это неизбежно, потому что именно он эту проблему придумал, именно он нашел ее решение. И потом: что способствовало тому, что он осуществил здесь перегруппировку? Я полагаю, что ответ на эту проблему, и одновременно на проблему бесконечного анализа, даст весьма любопытная теория; Лейбниц, наверное, первым ввел ее в философию, и ее можно назвать теорией сингулярностей.
У Лейбница теория сингулярностей «разбросана» повсюду, она везде. Можно даже прочесть какие-нибудь страницы Лейбница, не заметив ее присутствия, – настолько она замаскирована.
Теория сингулярностей, на мой взгляд, имеет у Лейбница два полюса: необходимо сказать, что это математико-психологическая теория. А наша сегодняшняя проблема такова: что такое сингулярность на математическом уровне, и что здесь создал Лейбниц? Верно ли, что он создал первую великую теорию сингулярностей в математике? И второй вопрос: что такое Лейбницева теория психологических сингулярностей?
И последний вопрос: как математико-психологическая теория сингулярностей, та, что намечена у Лейбница, дает нам ответ на вопрос, что такое несовозможное, и, стало быть, на вопрос, что такое бесконечный анализ? Что такое это математическое понятие сингулярности? Почему оно пришло в упадок? В философии всегда такая ситуация: сингулярность указывает на некий момент, а потом ее отбрасывают. Это случай с теорией: у Лейбница было чуть больше, чем эскиз, а потом продолжения не было, шансов не было, она «не пошла». Интересна ли она для нас, чтобы возобновить ее?
Относительно философии я всегда думал две противоречивые вещи: то, что она не требует специального знания, что в этом смысле кто угодно способен к философии, – и в то же время заниматься ею невозможно, если мы не будем чувствительны к известной философской терминологии, а терминологию вы всегда можете создать, но вы не можете создать ее, делая что угодно. Вы должны знать, что такое термины вроде следующих: категория, концепт, идея, априори, апостериори – совершенно так же, как мы не можем заниматься математикой, если нам неизвестно, что такое a, b, xy, переменные, константы, уравнения; вот минимум. Итак, вы можете наделять значением все эти пункты.
«Сингулярное» существует с незапамятных времен в определенном логическом лексиконе. «Сингулярное» есть то, что отличается от универсального и в то же время входит с ним в отношения. Существует и другая пара понятий: частное, соотносящееся с общим. Итак, сингулярное и универсальное друг с другом соотносятся; частное и общее также вступают в отношения. Суждение о сингулярности это не то же самое, что так называемое частное суждение, и это не то же самое, что так называемое общее суждение. Я буду прав, сказав, что в классической логике – формально – сингулярное мыслилось в соотношении с универсальным. Но нельзя сказать, что это понятие тем самым неизбежно исчерпывается: когда математики используют выражение «сингулярность», с чем они его соотносят? Необходимо руководствоваться словами. Существует философская этимология, или же философская филология. «Сингулярное» в математике отличается от «регулярного», или противостоит ему. Сингулярное есть то, что не подчиняется правилу, регулярности.
Есть и еще одна пара понятий, используемых математиками, и это «примечательное» и «обыкновенное». Математики говорят нам, что существуют сингулярности примечательные и сингулярности, которые примечательными не являются. Но для нашего удобства Лейбниц еще не проводит этого различения между сингулярным непримечательным и сингулярным примечательным; Лейбниц использует как эквиваленты «сингулярное», «примечательное» и «заметное». Так что если вы обнаружите у Лейбница слово «заметное», считайте, что здесь необходимо вглядеться, что это не означает «хорошо известное»; Лейбниц увеличивает это слово, наделяя его необычным значением. Когда он заговорит о заметном восприятии, поймите, что он имеет в виду нечто важное. Какой интерес в этом для нас? Дело в том, что математика по отношению к логике уже представляет собой некий поворот. Математическое употребление концепта «сингулярность» ориентирует сингулярность на отношения с обычным, или регулярным, а уже не с универсальным. Нас приглашают отличать то, что является сингулярным, от того, что является обычным, или регулярным. Какой нам от этого интерес? Представьте себе, что кто-то говорит: это не имеет силы для философии, так как теория истины всегда ошибается; относительно мысли мы прежде всего задавались вопросом, что в ней истинного и что ложного; но ведь вы знаете: в мысли идут в счет не истинное и ложное, а сингулярное и обычное. Что в мысли сингулярное, что приметное, что обыкновенное. Ну вот: что обыкновенное? Я думаю о Кьеркегоре, который – гораздо позднее Лейбница – скажет, что философия всегда пренебрегала важностью одной категории и это категория интересного! Может быть, это и неверно, что философия пренебрегала ею; существует по меньшей мере философско-математическое понятие сингулярности, и, может быть, оно скажет нам что-нибудь интересное о концепте интересного.
Важный математический ход состоял в том, что сингулярность больше не мыслилась по отношению к универсальному; дело в том, что она мыслилась по отношению к обыкновенному, или к регулярному. Сингулярное есть то, что выходит за рамки обыкновенного и регулярного. И если мы это скажем, то уже это уведет нас очень далеко, так как если мы это скажем, то превратим сингулярность в философский концепт, даже если мы найдем основания сделать это в такой благоприятной области, как математика. Однако в каком случае математика говорит нам о сингулярном и обыкновенном? Ответ прост: в связи с определенными точками, взятыми на кривой. Необязательно на кривой, но гораздо обобщеннее мы говорим о некоей фигуре, и о фигуре этой можно сказать, что характер ее таков, что она может включать сингулярные точки и другие, регулярные, или обычные. Зачем же нам эта фигура? Затем, что фигура есть нечто детерминированное! И тогда сингулярное и обычное – это часть детерминации: взгляните-ка, как это интересно! Вы видите, что, когда мы ничего не говорим и топчемся на месте, мы продвигаемся далеко вперед. Почему бы не определить детерминацию вообще, сказав, что это – сочетание сингулярного и обычного, и всякая детерминация будет такой!
Я беру очень простую фигуру: квадрат. Вашим законным требованием было бы спросить меня: каковы сингулярные точки квадрата? Существуют четыре сингулярные точки квадрата: это четыре его вершины: a, b, с и d. Мы стремимся определить сингулярность, но остаемся на уровне примеров; мы проводим ребяческие исследования, мы говорим о математике, но не знаем ни слова о ней. Мы знаем как раз то, что у квадрата четыре стороны, а, стало быть, четыре сингулярные точки, его экстремумы. И это как раз маркирующие точки – именно потому, что прямая линия конечна, а другая, с другой ориентацией, начинается под углом в 90° к ней. Чем же тогда будут обычные точки? Это – бесконечное множество точек, которые образуют каждую сторону квадрата, но четыре крайние точки будут называться сингулярными.
Вот вопрос: куб, сколько вы «дадите» ему сингулярных точек? Вижу ваше полное оцепенение! В кубе восемь сингулярных точек. И это то, что в наиболее элементарной геометрии мы сможем назвать сингулярными точками: точки, которые отмечают конец прямой линии. Вы чувствуете, что это только начало. Итак, я противопоставил бы сингулярные точки точкам обычным. Кривая, прямолинейная фигура: может ли быть так, что я мог бы сказать о них, что сингулярные точки с необходимостью образуют их экстремумы? Может быть, нет, однако предположим, что, на первый взгляд, я мог бы сказать что-нибудь подобное. Кривая портит всю ситуацию. Возьмем простейший пример: дугу окружности, по вашему выбору – выпуклую или вогнутую. Внизу я вычерчиваю вторую дугу, выпуклую, если первая вогнутая, и вогнутую, если первая выпуклая. Две дуги встречаются в одной точке. Под ними я вычерчиваю прямую линию, которую называю, в соответствии с природой вещей, ординатой. Я вычерчиваю ординату. Я провожу перпендикуляры. Это пример Лейбница из текста с изысканным названием «Tantanem anagogicum», это небольшое семистраничное сочинение, написанное по-латыни, и заглавие означает «анагогический опыт»{ Существует работа Лейбница «Анагогический опыт исследования причин» – Собр. соч. в 4-тт., т. III.}. Итак, AB имеет две характеристики, это единственный сегмент, проведенный от ординаты, который является уникальным; все остальные, как говорит Лейбниц, имеют двойника, маленького близнеца. На самом деле, xy имеет зеркало, образ в x1y1, и вы можете приближаться к AB с разными степенями исчезающих различий: только AB будет единственным, без близнеца. Второй пункт: об AB можно сказать, что это максимум или минимум: максимум по отношению к одной из дуг окружности, минимум по отношению к другой. Уф, вы всё поняли. Я бы сказал, что AB есть сингулярность.
Я ввел простейший пример с кривой: дугу окружности. А вот нечто посложнее: показанное мною состоит в том, что сингулярная точка не обязательно привязана к экстремуму или ограничена им, она вполне может находиться в середине, и в данном случае находится в середине. И это будет то минимум, то максимум, то оба сразу. Отсюда важность исчисления, которое Лейбниц продвинет очень далеко и которое он назовет исчислением максимумов и минимумов; и даже сегодня это исчисление имеет колоссальное значение, например в феноменах симметрии, в физических и оптических явлениях. Итак, я бы сказал, что моя точка A есть сингулярная точка; все остальные точки обычные, или регулярные. Они бывают обычными, или регулярными, двумя способами: дело в том, что они располагаются ниже максимума и выше минимума, и, наконец, у каждой существует двойник. Итак, мы немного уточняем это понятие обычного.
А вот другой случай; вот сингулярность другого случая: возьмите сложную кривую. Что мы назовем ее сингулярностями? Сингулярности сложной кривой – это в простейшем случае соседние точки, а вы знаете, что понятие соседства в математике, которое весьма отличается от понятия смежности, есть ключевое понятие для всей области топологии, и как раз понятие сингулярности способно объяснить нам, что такое соседство, – итак, по соседству с некоей сингулярностью нечто изменяется: кривая возрастает или убывает. Эти точки роста или убывания я и назову сингулярностями. Обычное – это ряд, это то, что находится между двумя сингулярностями; речь идет о соседстве той сингулярности, которая располагается рядом с другой сингулярностью: вот что называется обычным, или регулярным.
Вы видите, что эти отношения очень странны (словно свадьбы): разве так называемая классическая философия в каком-то относительном смысле не связала свою судьбу с классическими геометрией, арифметикой и алгеброй, то есть с прямолинейными фигурами, а те – с ней? Вы мне скажете, что прямолинейные фигуры уже включают сингулярные точки, – согласен, но стоит мне обнаружить и построить математическое отношение сингулярности, как я могу сказать, что в простейших прямолинейных фигурах его не было. Никогда простейшие прямолинейные фигуры не давали мне серьезного повода и реальной необходимости вводить понятие сингулярности. Это навязывает себя лишь на уровне сложных кривых. Стоит мне найти нечто подобное на уровне сложных кривых, тогда да, я отступаю, и я могу сказать: ага, это уже было в дуге окружности, это уже было в такой простой фигуре, как прямолинейный квадрат, но прежде – вы не сможете.
Реплика из зала: [Нрзб.]
Делёз [хрипит]: …Как жаль… о господи… из-за него у меня сел голос. Знаете ли, голос – хрупкая штука. Жаль… ах, жаль… я позволю себе говорить час, когда захочу, но не теперь… жаль… о-ля-ля… что за дрянь!
Я прочту вам небольшой текст Пуанкаре, который много занимался теорией сингулярностей, развивавшейся на протяжении всего XVIII и XIX веков. Существует две разновидности работ Пуанкаре: логико-философские и математические. Сам же он был прежде всего математиком. Существует статья Пуанкаре о дифференциальных уравнениях. Я прочту тот кусочек, где говорится о разновидностях сингулярных точек на кривой, отсылающих к дифференциальной функции или к дифференциальному уравнению. В этой статье он говорит нам, что существует четыре типа сингулярных точек: во-первых, седла. Это точки, через которые проходят две, и только две, кривые, определяемые уравнением. Здесь дифференциальное уравнение таково, что через точку можно провести две, и только две, кривые. Это первый тип сингулярности. Вот второй тип сингулярности: узлы, где пересекается бесконечное множество кривых, определяемых уравнением. Третий тип сингулярности: очаги, вокруг которых эти кривые изгибаются, приближаясь к ним на манер спирали. Наконец, четвертый тип сингулярности: центры, вокруг которых кривые предстают в форме замкнутого цикла. И Пуанкаре, продолжая статью, объясняет, что одна из его больших математических заслуг состоит в том, что он развил теорию сингулярностей в соотношении с теорией дифференциальных функций, или дифференциальных уравнений.
Почему я цитирую этот пример из Пуанкаре? Вы найдете соответствующие понятия у Лейбница. Там вырисовывается весьма любопытный пейзаж – с седлами, очагами, центрами. Это напоминает своего рода астрологию математической географии. Вы видите, что мы пришли от простейшего к более сложному: на уровне простого квадрата, прямолинейной фигуры, сингулярности были экстремумами; на уровне простой кривой перед вами были сингулярности, еще очень простые для определения; принцип их определения был прост, сингулярность была единственным случаем, у которого не было близнеца, или же это был случай, с каким отождествлялись максимум и минимум. Здесь, когда вы переходите к более сложным кривым, перед вами более сложные сингулярности. Стало быть, область сингулярностей, строго говоря, бесконечна. Какова будет ее формула? Пока вам приходится иметь дело с так называемыми прямолинейными проблемами, то есть действовать там, где речь идет об определении прямых или прямолинейных плоскостей, вам не нужно дифференциальное исчисление. У вас возникает потребность в дифференциальном исчислении, как только перед вами встает задача определения кривых и криволинейных плоскостей. Это означает – что? В чем сингулярность связана с дифференциальным исчислением? В том, что сингулярная точка – это точка, по соседству с которой дифференциальное отношение dy : dx меняет знак.
Например, вершина, относительная вершина кривой перед тем, как кривая начинает спускаться: итак, вы скажете, что дифференциальное отношение меняет знак. Оно меняет знак в этом месте – по мере чего? По мере того, как по соседству с этой точкой оно становится равным нулю или бесконечности. Здесь вы находите тему минимума и максимума.
Все это множество состоит вот в чем: вы видите, как соотносятся сингулярное и обычное, когда собираетесь определить сингулярное в зависимости от криволинейных проблем, соотносящихся с дифференциальным исчислением, – и это обнаруживается в напряжении, или в оппозиции между сингулярной точкой и точкой обычной, или между сингулярной и регулярной точками. Именно это математика дает нам в качестве базового материала, и опять-таки если верно, что в простейших случаях сингулярное есть экстремум, то в других простых случаях это максимум, или минимум, или даже оба сразу; сингулярности устанавливают здесь все более сложные отношения на уровне все более усложняющихся кривых.
Я сохраняю следующую формулу: сингулярность есть заранее избранная или детерминированная точка на кривой, точка, по соседству с которой дифференциальное отношение меняет знак, и свойство сингулярной точки состоит в том, чтобы продлеваться на целый ряд обычных, зависящих от нее точек, вплоть до соседства со следующими сингулярностями. Итак, я утверждаю, что теория сингулярностей неотделима от теории продления или от деятельности по продлению.
Не видим ли мы здесь элементы для возможного продления непрерывности? Я бы сказал, что непрерывность, или непрерывное, есть продление некоей примечательной точки на обычный ряд, вплоть до соседства со следующей сингулярностью. Внезапно я становлюсь очень довольным, так как наконец-то нашел первое гипотетическое определение того, что такое непрерывное. Это выглядит тем более причудливо, что для того, чтобы получить это определение непрерывного, я воспользовался тем, что внешне вводит дискретность, то есть сингулярность, когда нечто меняется; и, видите, это отнюдь не противостоит моему приблизительному определению, а, наоборот, позволяет мне его сделать.
Лейбниц говорит нам: мы знаем, что у всех нас есть восприятия, например я вижу красное, я слышу шум моря. Это восприятия; более того, за ними следовало бы зарезервировать особое название, так как они являются осознанными. Такое восприятие, наделенное сознанием, то есть восприятие, воспринятое как таковое неким «Я», мы называем апперцепцией, от слова apercevoir, апперципировать. Ведь в действительности я апперципирую восприятие. Апперцепция означает осознанное восприятие. Лейбниц говорит нам, что, коль скоро это так, должны быть неосознанные восприятия, коих мы не апперципируем. Мы называем их малыми восприятиями, это бессознательные восприятия. Зачем ему это? Действительно, зачем? Лейбниц приводит две причины: дело в том, что наши апперцепции, наши осознанные восприятия всегда являются глобальными. То, из чего мы апперципируем, всегда относится к некоему целому: вот к этому рассуждению Лейбниц постоянно прибегает – если есть сложное, то необходимо, чтобы было и простое, – и возводит его на уровень принципа; а это не само собой разумеется, вы понимаете, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что неопределенного не существует, а это само собой не доказывается, так как подразумевает актуальное бесконечное. Необходимо, чтобы существовало простое, так как существует сложное. Немало людей подумают, что целое является сложным до бесконечности, и это сторонники неопределенного, но Лейбниц по иным причинам думает, что бесконечное является актуальным, а значит, необходимо, чтобы существовало [нрзб.]. Раз это так, то, поскольку мы воспринимаем общий шум моря, когда сидим на побережье, необходимо, чтобы у нас были малые восприятия каждой волны – как обобщенно говорит Лейбниц – и, более того, каждой капли воды. Почему? Это своего рода логическое требование, и мы увидим, что оно означает.
То же самое рассуждение на уровне целого и частей – на сей раз он тоже прибегает к нему, ссылаясь не на принцип тотальности, а на принцип причинности: то, что мы воспринимаем, есть всегда следствие, необходимо, чтобы существовали причины. И необходимо, чтобы причины воспринимались сами по себе, иначе не будет восприниматься следствие. На сей раз капельки – это уже не частицы, которые составляют волну, а волны – не частицы, составляющие море, но капельки и волны «вступают в игру» как причины, производящие следствие. Вы скажете мне, что разница небольшая, но я как раз замечу, что во всех текстах Лейбница всегда существуют два отчетливых аргумента, которые непрерывно сосуществуют: аргумент, основанный на причинности, и аргумент, основанный на частях. Отношения «причина – следствие» и отношения «часть – целое». Вот так, стало быть, наши осознанные восприятия погружаются в поток малых неосознанных восприятий.
С одной стороны, необходимо, чтобы это было так логически, в связи с принципами и их требованиями, но великие моменты наступают, когда опыт подтверждает требование великих принципов. Когда происходит прекраснейшее совпадение между принципами и опытом, философия познает момент своего счастья, даже если это личное счастье философа. И как раз в этот момент философ говорит: все хорошо, все как надо. И тогда необходимо, чтобы опыт демонстрировал себя лишь при определенных условиях дезорганизации моего сознания, когда малые восприятия взламывают врата моего сознания и захватывают меня. Следовательно, когда мое сознание расслабляется, меня захватывают малые восприятия, которые все-таки не становятся восприятиями осознанными; они не становятся апперцепциями, потому что захватывают мое сознание, только когда оно дезорганизовано. Вот в этот момент меня заполняет целое море малых восприятий. И дело не в том, что эти малые восприятия перестают быть осознанными, дело в том, что я перестаю быть осознающим. Но я их переживаю, я пережил их неосознанно. Я не репрезентирую их, я их не воспринимаю, но они тут, они кишат. В некоторых случаях. Я получаю сильный удар по голове: оглушенность, вот пример, который все время возвращается у Лейбница. Я оглушен, я теряю сознание, и на меня наступает море малых неосознанных воспоминаний: шум в голове. Руссо знал тексты Лейбница, у Руссо будет жестокий опыт потери сознания после тяжелого удара, он рассказывает о возвращении в сознание и о кишении малых восприятий. Это знаменитейший текст Руссо из «Прогулок одинокого мечтателя»: возвращение в сознание.
Поищем опыт мысли: у нас даже нет необходимости ставить этот мысленный опыт, нам известно, что дела обстоят именно так, и тогда мы мысленно ищем тип опыта, соответствующий принципу исчезновения. Лейбниц же идет гораздо дальше и говорит: не это ли называется смертью? Здесь возникают проблемы для теологии. Смерть – это состояние живого, которое не перестает жить; смерть – это каталепсия, – Эдгар По, да и только! – просто жизнь, сведенная к уровню малых восприятий.
И опять-таки главное не в том, что они захватывают мое сознание, а в том, что мое сознание расширяется, утрачивает всю свойственную ему силу, разжижается, поскольку теряет самосознание, – дело еще и в том, что весьма причудливым образом оно становится бесконечно малым сознанием малых неосознанных восприятий. Вот где смерть. Иными словами, смерть есть не что иное, как некое обертывание: восприятия перестают развертываться в сознательные апперцепции, они оборачиваются бесконечностью малых восприятий. Или же, говорит Лейбниц, это похоже на сон без сновидений, где очень много малых восприятий.
Только ли о восприятии это следует говорить? Нет, не только. И опять-таки гений Лейбница… Существует психология, подписанная именем Лейбница. Это была одна из первых теорий бессознательного. Я сказал почти достаточно для того, чтобы вы поняли, в чем состоит эта концепция бессознательного, где нет совершенно ничего общего с концепцией Фрейда. Все это – для того, чтобы сказать, что нового у Фрейда: очевидно, не гипотеза о каком-то бессознательном, которую создали многие авторы, а способ, каким Фрейд замышляет бессознательное. Интересно, что среди учеников Фрейда будут встречаться весьма причудливые феномены возвращения к лейбницианской концепции, но об этом я вскоре скажу.
Впрочем, поймите, что он не может просто говорить о восприятии только что сказанное, так как, согласно Лейбницу, душа имеет две основополагающие способности: осознанную апперцепцию, которая, стало быть, состоит из малых неосознанных восприятий, и то, что он называет «аппетицией», аппетитом, желанием. И мы состоим из желаний и восприятий. Итак, получается, что аппетиция – это осознанный аппетит. Если глобальные восприятия состоят из бесконечного количества малых восприятий, то аппетиции, или обобщенные желания, состоят из бесконечного количества малых аппетиций. Вы видите, что аппетиции – это векторы, соответствующие малым восприятиям, и это становится весьма причудливым бессознательным. Капля моря, каковой соответствует капля воды, чему соответствует малая аппетиция того, кто хочет пить. И когда я говорю: «Боже, хочу пить, какая жажда!», то что я делаю? Я, в общем и целом, выражаю результат тысяч и тысяч пронзающих меня малых аппетиций. Что же это значит?
В начале XX века великий испанский биолог, преданный забвению, его звали Турро{ Имеется в виду каталонский философ и биолог Рамон Турро Дардер [Ramon Turró Darder] (1854–1926).}, написал книгу, которая по-французски называлась «Les origines de la connaissance» («Истоки познания», 1914), и эта книга великолепна. Турро писал, что, когда мы говорим «хочу есть»{ J’ai faim, буквально: «у меня голод».}, – а у него сугубо биологическое образование, и нам кажется, что тут проснулся Лейбниц, – так вот, Турро говорит, что когда мы говорим «хочу есть», то это поистине глобальный результат, это то, что он называет глобальным ощущением. Он использует свои понятия: «общий голод» и малые конкретные «голоды». Он говорит, что голод как обобщенный феномен представляет собой статистический эффект. Из чего состоит голод как обобщенная субстанция? Из тысячи малых голодов: голода белковых веществ, жирового голода, голода минеральных солей и т. д… Когда я говорю «хочу есть», я в буквальном смысле, утверждает Турро, беру интеграл, или интегрирую эту тысячу малых конкретных голодов. Малые дифференциалы суть дифференциалы осознанного восприятия, осознанное восприятие есть интеграция малых восприятий. Очень хорошо. Вы видите, что тысяча малых аппетиций – это тысяча конкретных голодов. И Турро продолжает, так как все-таки на животном уровне существует нечто причудливое: как животное знает, что ему нужно? Животное видит чувственно воспринимаемые качества, оно устремляется на них и ест их, оно ест всевозможные чувственно воспринимаемые качества. Корова ест зеленое. Она не ест траву, и все-таки она ест не все что угодно, так как она распознает зеленый цвет травы, и она ест только «зеленое» травы. Хищник ест не протеины, он ест «штуковину», которую видит, а протеины он не видит. Проблема инстинкта на простейшем уровне такова: как объясняется то, что животные почти всегда едят то, что им подходит? И действительно, животные, совершая «трапезу», едят количество жиров, количество соли, количество протеинов, необходимое для поддержания равновесия их внутренней среды. А их внутренняя среда – это что? Внутренняя среда – это среда всех малых восприятий и малых аппетиций.
Какая забавная коммуникация между сознанием и бессознательным! Каждый биологический вид ест примерно то, что ему нужно, за исключением трагических или комических заблуждений, которые всегда причиняют враги инстинкта: например, коты иногда едят то, что их отравляет, но это бывает редко. Вот она – проблема инстинкта.
Эта психология в духе Лейбница пользуется малыми аппетициями, которыми инвестируются малые восприятия; малая аппетиция совершает психическое инвестирование малого восприятия – и какой мир из этого получается? Мы непрестанно переходим от одного малого восприятия к другому, даже не зная этого. Наше сознание застревает на глобальных восприятиях и на больших аппетициях («хочу есть»), но когда я говорю «хочу есть», то существуют всевозможные разновидности переходов, метаморфоз; мой малый солевой голод переходит к другому голоду, к малому протеиновому голоду; малый протеиновый голод переходит к малому жировому голоду – это значит, что все, что смешивается, гетерогенно. Что делают дети, которые едят землю? Каким чудом получается так, что они едят землю, тогда как им потребен витамин, который эта земля содержит? Это, должно быть, инстинкт. Это монстры! Но даже Бог сотворил монстров в гармонии.
В таком случае, каков статус бессознательной психической жизни? Лейбницу приходилось встречаться с мыслью Локка, а Локк написал книгу «Опыт о человеческом понимании». Лейбниц чрезвычайно интересовался мыслью Локка, особенно когда он обнаружил, что Локк во всем ошибается. Лейбниц написал большую книгу, которую, отчасти в шутку, назвал «Новые опыты о человеческом разумении», где – глава за главой – он демонстрировал, что Локк – идиот. Лейбниц был неправ, но это была великолепная критика. И к тому же он не опубликовал эту книгу. Это была очень честная моральная реакция с его стороны, потому что к тому времени Локк уже умер. Вся его толстая книга была завершена, и он отложил ее в сторону и отправил друзьям. Я рассказываю все это потому, что Локк – на лучших своих страницах – придумал концепт, который я назову английским словом «uneasiness». Это, грубо говоря, неловкость, неловкое состояние. И Локк пытается объяснить, что это и есть великий принцип психической жизни. Вы видите, что это очень интересно, так как это выходит за рамки банальных поисков удовольствия или счастья. Локк, в общем и целом, говорит, что мы, вполне возможно, ищем свое удовольствие, ищем свое счастье; может быть, это и возможно, но это не так; существует своего рода беспокойство живого. Беспокойство – это и не страх, и не тоска. Лейбниц создает психологическое понятие беспокойства. Нашу «жажду» не утоляет ни удовольствие, ни счастье, ни страх; прежде всего, мы беспокойны. Нам не сидится на месте. И Лейбниц, на одной из прекрасных страниц, пишет, что мы всегда можем попробовать перевести это понятие, но, в конечном счете, перевести его очень трудно; это слово хорошо работает по-английски, и англичанин сразу же видит, что оно значит. Мы бы сказали: оно характеризует кого-то нервного. Вы видите, как он заимствует у Локка понятие и как собирается преобразовать его: это беспокойство живого – что это такое? Это отнюдь не несчастье живого. Дело в том, что, даже когда живой организм неподвижен, когда у него есть вполне кадрированное осознанное восприятие, – нечто кишит: малые восприятия и малые аппетиции, инвестируя в текучие малые восприятия, текучие восприятия и аппетиты, непрестанно шевелятся – вот что это такое. И тогда если существует Бог (а Лейбниц убежден, что Бог существует), то эта uneasiness является несчастьем в столь малой степени, что она образует единое целое с тенденцией развивать максимальное восприятие, и развитие максимального восприятия определит своего рода психическую непрерывность. Мы вновь обнаруживаем тему непрерывности, то есть неопределенно долгого прогресса сознания.
В чем же несчастье? Дело в том, что всегда могут происходить неудачные столкновения. Это как в случае с камнем, который вот-вот упадет: к примеру, он стремится упасть, пролетев, скажем, по прямому пути, – и потом он может столкнуться со скалой, которая измельчит его в порошок или раздробит его. Поистине это случай, связанный с законом наибольшей склонности. Тем не менее закон наибольшей склонности ведет к лучшему. Мы прекрасно видим, что это значит.
Итак, вот бессознательное, определяемое малыми восприятиями, а малые восприятия – это сразу и бесконечно малые восприятия, и дифференциалы осознанного восприятия. А малые аппетиты – это сразу и бессознательные аппетиты, и дифференциалы осознанной аппетиции. Существует генезис психической жизни, исходящий из дифференциалов сознания.
Отсюда лейбницианское бессознательное – это совокупность дифференциалов сознания. Это бесконечная тотальность дифференциалов сознания. Существует некий генезис сознания.
Идея дифференциалов сознания является фундаментальной. Капля воды и аппетит, направленный на каплю воды, малые конкретные голоды, мир оглушенности. Все это творит забавный мир.
Наскоро раскрою одну из скобок. Оказывается, у этого бессознательного долгая история в философии. В целом, можно сказать, что это, по существу, является открытием собственно дифференциального бессознательного и теоретизированием по его поводу. Вы видите, что это бессознательное крепко связано с анализом бесконечно малых, и именно поэтому я назвал бы эту область психоматематической. Аналогично тому как существуют дифференциалы кривой, существуют и дифференциалы сознания. Две области – психическая и математическая – оперируют символами. Если я буду искать здесь родословную, то обнаружу, что Лейбниц выдвигает великую идею, первую значительную теорию этого дифференциального бессознательного; впоследствии им не будет конца. Существует очень длительная традиция этого дифференциального бессознательного на основе малых восприятий и малых аппетиций. Кульминация здесь наступит у величайшего автора, которого, как ни странно, всегда недооценивали во Франции: у немецкого постромантика, которого звали Фёхнер. Это ученик Лейбница, и он разработает концепцию дифференциального бессознательного.
Какой вклад внес Фрейд? Разумеется, не бессознательное, которое уже имело за собой чрезвычайно мощную теоретическую традицию. Дело не в том, что у Фрейда нет бессознательных восприятий, но есть бессознательные желания. Вы помните, что у Фрейда есть идея, будто репрезентация может быть бессознательной, а в другом смысле бессознательным может быть также и аффект. Это соответствует восприятию и аппетиции. Однако нововведение Фрейда – в том, что он мыслит бессознательное, – и тут я говорю нечто поистине элементарное, чтобы отметить колоссальную разницу: он мыслит бессознательное в отношениях конфликта, или оппозиции, с сознанием, а не в каких-то дифференциальных отношениях. Одно дело – бессознательное, выражающее дифференциалы сознания, и совсем другое дело – бессознательное, выражающее силу, противостоящую сознанию и вступающую с ним в конфликт. Иными словами, у Лейбница имеется отношение между сознанием и бессознательным, отношение различия к исчезающим различиям, а у Фрейда – отношение оппозиции сил. Я мог бы сказать, что бессознательное притягивает репрезентации, оно вырывает их из сознания: вот уж поистине две антагонистические силы! Я мог бы сказать, что в философском смысле Фрейд зависит от Канта и Гегеля, это очевидно. Те, кто эксплицитно ориентировал бессознательное в направлении конфликта воли, а уже не дифференциала восприятия, – это представители школы Шопенгауэра, которого Фрейд превосходно знал и который представлял линию Канта. И все-таки необходимо сохранить оригинальность Фрейда: в действительности подготовку к фрейдизму можно усмотреть в некоторых философиях бессознательного, но уж точно не в лейбницианском течении.
Итак, наше осознанное восприятие состоит из бесконечного количества малых восприятий. Наш осознанный аппетит состоит из бесконечного количества малых аппетитов. Лейбниц собирается проделать причудливую операцию, и, если мы ее не поймем, у нас мгновенно возникнет желание выразить протест. Мы могли бы сказать ему: ну ладно, у восприятия есть причины, например мое восприятие зеленого или мое восприятие какого угодно цвета – оно имеет в виду всевозможные физические вибрации. Но ведь сами-то физические вибрации не воспринимаются. Пусть бесконечное множество элементарных причин имеется для осознанного восприятия, но по какому праву Лейбниц делает отсюда вывод, что и сами элементарные причины суть объекты бесконечно малых восприятий, – как это так? И что он имеет в виду, когда говорит, что наше осознанное восприятие состоит из бесконечного множества малых восприятий – совершенно так же, как восприятие шума моря состоит из восприятия всех капель воды?
Если вы посмотрите на его тексты пристально, то будет очень любопытно обнаружить, как в этих текстах сказаны две разные вещи, из которых одна говорится явно и через упрощение, а другая выражает подлинную мысль Лейбница. Существует две рубрики: иногда мы пользуемся рубрикой «часть – целое», и вот в этот момент это означает, что осознанное восприятие есть всегда восприятие некоего целого, а это восприятие целого не только предполагает бесконечно малые части, но еще и предполагает, что эти бесконечно малые части и сами должны восприниматься. Итак, что касается формулы «осознанное восприятие происходит благодаря малым восприятиям», то я говорю, что в данном случае «происходит благодаря» подобно «состоит из». Лейбниц очень часто так высказывается. Возьмем фразу «иначе мы не ощущали бы целое»… если бы не было этих малых перцепций, мы не осознавали бы целого. Органы чувств осуществляют тотализацию малых восприятий. Глаз – это то, что тотализирует бесконечное множество малых вибраций, а следовательно, составляет при помощи этих малых вибраций некое глобальное качество, которое я называю «зеленое» или которое я называю «красное» и т. д… Текст прозрачен, речь в нем идет об отношении «целое – части». Когда Лейбниц хочет двигаться быстро, его интерес – говорить именно так, но, когда он хочет действительно объяснить, «что к чему», он говорит совсем иное, он говорит, что осознанное восприятие – производное, дериватив малых восприятий. Это не одно и то же – «состоит из» или «является деривативом». В одном случае перед вами отношение «целое – части», в другом случае перед вами отношение совсем иного характера. Какого характера? Отношение деривации, то, что можно назвать «производным». Это тоже подводит нас к исчислению бесконечно малых: осознанное восприятие «производится» из бесконечного множества малых восприятий. В этот момент я уже не сказал бы, что органы чувств тотализируют. Заметьте, что в математическом понятии интеграла объединяются два понятия: интеграл – это то, что «производится из», а также то, что осуществляет интеграцию, своего рода тотализацию – но это весьма особая тотализация, это не тотализация, осуществляемая через добавления. Мы можем сказать, не рискуя впасть в заблуждение, что даже если Лейбниц этого и не отмечает, то последнее слово принадлежит второстепенным текстам. Когда Лейбниц говорит нам, что осознанное восприятие составлено из малых восприятий, то это – не подлинная его мысль. Зато его подлинная мысль состоит в том, что осознанное восприятие производится из малых восприятий. Что же это значит, «производится из»?
А вот еще один текст Лейбница: «Восприятие света или цвета, который мы апперципируем, то есть осознанное восприятие, состоит из некоторого количества малых восприятий, которые мы не апперципируем, и шума, который мы не апперципируем, и шум, перцепция которого у нас есть и которого мы не остерегаемся, становится апперципируемым – то есть переходит в состояние осознанного восприятия через малое добавление, или приращение».
Мы переходим от малых восприятий к осознанному восприятию не через тотализацию, как подсказывал первый вариант текста; мы переходим от малых восприятий к осознанному глобальному восприятию через небольшое добавление. Мы полагали, что всё поняли, и вдруг – мы ничего не понимаем! Небольшое добавление – это добавление малого восприятия; и тогда мы переходим от малых восприятий к осознанному глобальному восприятию через еще одно малое восприятие? Мы говорим себе, что это больше не работает. Внезапно у нас возникает стремление делать поправку за счет текстов другой разновидности, во всяком случае, это сделало бы мысль яснее. Это было бы яснее, но этого недостаточно. Достаточные тексты являются исчерпывающими, но мы в них больше ничего не понимаем. Превосходная ситуация, если, конечно, нам случайно не попадается соседний текст, где Лейбниц говорит нам: «Необходимо полагать, что мы думаем о большом количестве вещей одновременно. Однако мы обращаем внимание лишь на наиболее выделяющиеся мысли…»
Ибо то, что примечательно, должно быть составленным из непримечательных частей: тут Лейбниц собирается все перемешать, и действительно перемешивает. Мы перестали быть невинными, мы отметили слово «примечательный», и мы знаем, что всякий раз, когда он употребляет слова «замечательный», «примечательный», «выдающийся», он делает это в весьма техническом смысле и в то же время делает это везде{ Буквально: «во все кладет кашу» (met de la bouillie partout).}, так как идея о том, что существует «ясное» и «отчетливое», начиная с Декарта была повсеместно распространенной идеей. Лейбниц же вносит свою малую лепту, слово «выдающийся» – он говорит о «выдающихся» мыслях. Понимайте это как «выделяющееся», «примечательное», «сингулярное». И тогда это означает: мы переходим от неосознанных малых восприятий к осознанному глобальному восприятию благодаря некоему небольшому добавлению. Тогда, очевидно, это не какое угодно небольшое добавление. Это и не другое осознанное восприятие, и не малое бессознательное восприятие. Что же тогда это означает? Это означает, что ваши малые восприятия образуют ряд обычных восприятий, так называемый регулярный ряд: все малые капли воды, элементарные восприятия, бесконечно малые восприятия. Как же вы переходите к глобальному восприятию шума моря?
Первый ответ: через глобализацию/тотализацию. А вот реплика комментатора: это просто «для удобства сказанное». Вам никогда не придет в голову что-нибудь возразить! Надо просто слишком любить автора, чтобы знать, что он не ошибается, что он говорит вот так, чтобы продвигаться быстро.
Второй ответ: через небольшое добавление. Это не может быть добавлением малого обычного, или регулярного, восприятия; это не может быть и добавлением осознанного восприятия, потому что сознание вступает в игру только в этот момент. Ответ состоит в том, что я приближаюсь к соседству с примечательной точкой, а значит, я действую не через тотализацию, я действую через сингуляризацию. Это значит, что ряд воспринимаемых капелек воды приближается, или подходит, к соседству с некоей сингулярной точкой, с примечательной точкой, восприятие которой становится осознанным.
Это совершенно иная картина, потому что в этот момент значительная часть возражений, выдвигавшихся по поводу идеи дифференциального бессознательного, отпадает. Что это значит? Возьмем тексты, которые кажутся у Лейбница наиболее полными. С самого начала в них проводится идея того, что малые элементы – это также всего лишь манера речи, так как дифференциальное – это не элементы, это не dx по отношению к x, так как dx по отношению к x есть ничто.
Дифференциал – это dy : dx, это отношение.
Это то, что работает в бесконечно малом.
Вы помните, что на уровне сингулярных точек дифференциальные отношения меняют знак. Лейбниц способствует появлению Фрейда, сам того не ведая. На уровне сингулярности роста или убывания дифференциальное отношение меняет знак, то есть знак меняется на противоположный. Каково дифференциальное отношение в случае с восприятием? Почему речь идет не об элементах, а именно об отношениях? Отношения определяются как раз отношениями между физическими элементами и моим телом. Вибрациями и молекулами моего тела. Итак, у вас dy и dx. Это отношение физического возбуждения к моему биологическому телу. Это дифференциальное отношение восприятия. Вы понимаете, что на этом уровне мы больше не можем говорить о малых восприятиях в полном смысле. Мы будем говорить о дифференциальных отношениях между физическим возбуждением и физическим состоянием, напрямую уподобляя их dy : dx – пусть будет так!
Но ведь восприятие становится осознанным, когда дифференциальные отношения соответствуют некоей сингулярности, то есть изменяют знак. Например, когда возбуждение существенно растет.
Именно ближайшая к моему телу молекула воды определяет малое приращение, благодаря которому бесконечное множество малых восприятий становится осознанным восприятием. Это уже отнюдь не отношения между частями, это отношения деривации. Именно дифференциальные отношения между возбуждающим элементом и моим биологическим телом позволяют определить соседство с сингулярностью. Посмотрите, в каком смысле Лейбниц мог сказать, что инверсии знаков, то есть переходы от осознанного к бессознательному и от бессознательного к осознанному, отсылают к дифференциальному бессознательному, а не к бессознательному оппозиции.
Когда я намекал на продолжателей Фрейда, то, к примеру, у Юнга есть прямо-таки лейбницианская сторона, и как раз это он вводит к великому гневу Фрейда, и как раз из-за этого Фрейд считает, что Юнг – безусловный предатель психоанализа, так как понимает бессознательное дифференциальным образом. Этим он обязан также традиции немецкого романтизма, которая тоже связана с бессознательным Лейбница.
Итак, мы переходим от малых восприятий к бессознательному восприятию посредством добавления чего-то примечательного, то есть это происходит, когда ряд обычных восприятий оказывается по соседству со следующей сингулярностью, так что психическая жизнь, совсем как математическая кривая, будет подчинена закону складывания непрерывного.
Существует некое складывание непрерывного, потому что непрерывное есть продукт: продукт действия, благодаря которому одна сингулярность продлевается до соседства с другой сингулярностью. И это работает не только в мире математических символов, но и в мире восприятия, сознания и бессознательного.
Исходя из этого у нас остается лишь один вопрос: что такое совозможное и несовозможное? Этот вопрос напрямую вытекает из предыдущего. У нас есть формула совозможности. Возвращаюсь к моему примеру квадрата с четырьмя сингулярностями. Вы берете некую сингулярность, и это точка; вы берете ее как центр круга. Какого круга? Простирающегося до соседства с другой сингулярностью. Иными словами, в квадрате abcd вы берете a как центр круга, прекращающегося там, где периферия располагается по соседству с сингулярностью b. Вы проделываете то же самое с b: вы вычерчиваете окружность, которая заканчивается по соседству с сингулярностью a, и вы вычерчиваете еще одну окружность, заканчивающуюся по соседству с сингулярностью с. Эти окружности разрезают друг друга. Тем самым – от сингулярности к сингулярности – вы построите то, что сможете назвать непрерывностью. Простейший случай непрерывности есть прямая линия, но непрерывность также бывает и для непрямых линий. С вашей системой разрезающих друг друга кругов вы скажете, что непрерывность имеется, когда значения двух обычных рядов: ряда от a до b и ряда от b до a — совпадают между собой. Стало быть, вы можете построить непрерывность, состоящую из непрерывности. Вы можете построить непрерывность непрерывности, например квадрат. Если ряды ординарностей, становящихся сингулярностями, расходятся, то перед вами прерывность.
Вы скажете, что любой мир строится через непрерывность непрерывности. Это и есть складывание непрерывности. Прерывность же определяется, когда ряды ординарностей, или регулярностей, образующиеся из двух сингулярных точек, расходятся. Третье определение: существующий мир – лучший. Почему? Потому что это мир, обеспечивающий максимум непрерывности. Четвертое определение: что такое совозможное? Множество составных непрерывностей. Последнее определение: что такое несовозможное? Это когда ряды расходятся, когда вы больше не можете сочетать непрерывность этого мира с непрерывностью другого мира. Расхождение в рядах ординарностей, зависящих от сингулярностей: в этот момент они уже не могут быть частями одного и того же мира.
Вы получили закон складывания непрерывного, психоматематический закон. Почему мы не видим этого непрерывного? Зачем необходимо все это исследование бессознательного? Потому что, опять-таки, Бог перверсивен. Перверсивность Бога состоит в том, что он избрал мир, имея в себе максимум непрерывности; он избрал и вызвал к существованию мир, имея в виду максимум непрерывности; он составил избранный мир, наделив его этой формой, правда он рассеял в нем непрерывности, потому что мир состоит из непрерывностей непрерывностей. И Бог их рассеял. Это значит – что? У нас создается впечатление, говорит Лейбниц, что в нашем мире существуют прерывности, скачки и разрывы. Используя превосходный термин, он говорит, что у нас создается впечатление, будто это какие-то музыкальные каденции. Но фактически их нет. У некоторых из нас создается впечатление, будто между человеком и животным – бездна и разрыв. Это неизбежно, потому что Бог в своем чрезвычайном коварстве замыслил мир, избрав его формой максимум непрерывности; стало быть, существуют разнообразные промежуточные ступени между животным и человеком, но Бог поостерегся показывать их нам. По необходимости он разместил их на других планетах нашего мира. Почему? Потому что в конечном счете это было хорошо; для нас было хорошо то, что мы смогли уверовать в великолепие нашего господства над природой. А если бы мы увидели все промежуточные ступени между наихудшим зверем и нами, мы были бы менее тщеславными, хотя даже это тщеславие является хорошим, так как оно позволяет человеку поставить природу под свою власть.
В конечном счете дело не в перверсивности Бога; дело в том, что Бог непрестанно нарушал непрерывности, которые он построил для того, чтобы ввести разнообразие в избранный мир, чтобы скрыть целую систему малых различий, ускользающих различий. И тогда он предложил нашим органам чувств и нашей слабой мысли, он представил нам мир – наоборот, с ярко выраженными различиями. Мы тратим время, утверждая, что у животных нет души (Декарт) или что они не разговаривают. Однако ничего подобного: существуют разнообразные промежуточные ступени, всевозможные малые определения.
Здесь перед нами особые отношения: совозможность либо несовозможность. Я бы еще раз сказал, что совозможность получается, когда сходятся ряды ординарностей, ряды регулярных точек, производных от двух сингулярностей, и когда совпадают их значения, если только нет прерывности. В одном случае перед вами – определение совозможности, в другом – определение несовозможности.
Почему Бог избрал этот мир, а не другой, хотя и другой был возможен? Ответ Лейбница, становящегося здесь великолепным: потому что именно этот мир математически имеет в виду максимум непрерывности и единственно в этом смысле он – лучший из возможных миров.
Концепт – это всегда что-то очень сложное. Сегодняшнюю лекцию мы поставили под знак концепта сингулярности. Но ведь понятие сингулярности свойственно всевозможным языкам (langages), в нем объединяющимся. Концепт всегда и с необходимостью многозначен. Концепт сингулярности вы можете уловить лишь обладая минимумом математического аппарата: сингулярные точки как противоположность точкам обычным, или регулярным, на уровне мысленного опыта психологического типа: что такое оглушенность, что такое шелест, что такое шум и т. д… И на уровне философии – в случае с Лейбницем – перед нами построение этих отношений совозможности. Это не математическая философия, и математика философией не становится, но в философском концепте существуют всевозможные и разнообразные порядки, с необходимостью символические. У Лейбница философский ум, у Лейбница математический ум, и у Лейбница ум мысленного опыта. И это справедливо относительно всех его концептов. Великим днем для философии стало, когда кто-то привлек его внимание к этой необычной паре, и вот это я и называю творчеством в философии. Когда Лейбниц придумал эту штуковину – сингулярное, то это и есть творческий акт; когда Лейбниц говорит нам «сингулярное», то у него нет оснований для того, чтобы вы попросту противопоставили его универсальному. Будет гораздо интереснее, если вы вслушаетесь в то, что говорят математики, так как у них есть собственные основания для того, чтобы мыслить сингулярное не в соотношении с универсальным, а в соотношении с ординарным, или регулярным. Вот в этот момент Лейбниц не занимается математикой. Я бы сказал, что его вдохновение является математическим и он собирается создать философскую теорию, и притом целую концепцию истины, являющуюся радикально новой, так как она состоит в следующем: не обращайте чрезмерного внимания на историю истинного и ложного, не спрашивайте вашу мысль, что в ней истинное и что ложное, потому что истинное и ложное в вашей мысли всегда проистекает из чего-то гораздо более глубокого.
То, что идет в счет в мысли, это примечательные точки и точки обычные. Необходимы и те и другие: если в вашей мысли имеются только сингулярные точки, то у вас нет метода продления и вы приходите к нулю; если же у вас только обычные точки, то у вас есть интерес помыслить иное. И чем больше вы будете считать примечательными сами себя, тем меньше вы будете думать о примечательных точках! Иными словами, мысль о сингулярном есть самая скромная мысль в мире, и при этом мыслитель с необходимостью становится скромным, так как мыслитель – это продление сингулярности на ряд ординарностей, а мысль – мысль взрывается в стихии сингулярности, ведь элемент сингулярности есть концепт.
Лекция 4
Выведение принципов
(06.05.1980)
В прошлый раз я закончил вопросом: что такое совозможность и что такое несовозможность? Что представляют собой два этих отношения? Отношение совозможности, отношение несовозможности… Как определить их? Мы видели, что это ставило перед нами разнообразные проблемы и ввергало (lançait) нас в упражнения – пусть даже поверхностные – по анализу исчезающе малых величин. Сегодня я хотел бы объявить третью основную рубрику, которая будет состоять в показе того, до какой степени Лейбниц организует новую материю и даже создает подлинные принципы. Создавать принципы – это не будничное занятие. Эту третью большую главу введения в возможное прочтение Лейбница я назову «Выведение принципов». И как раз то, что принципы служат объектами конкретного выведения – выведения философского, – вот это само собой не разумеется.
У Лейбница существует чрезвычайное изобилие принципов, он все время ссылается на принципы, давая им при необходимости имена, каких прежде не существовало. Чтобы сориентироваться в его принципах, необходимо понять маршрут их выведения Лейбницем.
Первый принцип, который Лейбниц задает себе, наскоро его обосновывая, есть принцип тождества. Это минимум, тот минимум, который он себе задает. Что же такое принцип тождества? Всякий принцип есть основание. A есть A. Некая вещь есть определенная вещь. Вещь есть то, что она есть. Я немного забежал вперед. Вещь есть то, что она есть, – это лучше, нежели A есть A. Почему? Потому что это показывает, что она представляет собой область, управляемую принципом тождества. Если принцип тождества может выражаться в форме «вещь есть то, что она есть», то дело здесь в том, что этот принцип стремится явить тождество между вещью и тем, что вещь есть.
Если тождество управляет отношениями вещи с тем, что она есть, то есть с тем, чему вещь тождественна, а вещь тождественна тому, что она есть, то я могу спросить: что такое вещь? То, что такое вещь, всегда называли сущностью вещи. Я бы сказал, что принцип тождества есть правило сущностей. Правило сущностей, или, что то же самое, правило возможного. В действительности невозможное – это противоречивое. Возможное – это тождественное. И это верно в той мере, в какой принцип тождества есть некое основание, ratio. Какое ratio? Это ratio сущностей, или, как говорили во времена Рима и в Средние века задолго до Лейбница, ratio essendi. Я воспринимаю это как типичный пример, потому что считаю, что заниматься философией очень трудно, если у вас нет известной терминологической достоверности; никогда не говорите себе, что вы можете без нее обойтись, но и никогда не говорите себе, что ее трудно приобрести. Это полный эквивалент фортепьянных гамм. Если вы не знаете с достаточной точностью непреложность концептов, то есть смысл великих понятий, тогда все очень трудно. Необходимо относиться к этому как к упражнению. У философов – и это нормально – есть свои гаммы, это их умственное фортепьяно. Необходимо изменить вид категорий. Историей философии могут заниматься лишь философы, но – увы! – ее захватили профессора философии, а это нехорошо, потому что они занимаются материалом для рассмотрения, а не материалом для упражнения, не гаммами.
Всякий раз, когда я говорю о каком-либо принципе, согласно Лейбницу, я собираюсь дать ему две формулировки. Одна из них – простонародная, другая – ученая. Это – превосходное средство на уровне принципов: необходимые отношения между предфилософией и философией, это отношения экстериорности, где у философии есть потребность в предфилософии.
Вот простонародная формулировка принципа тождества: вещь есть то, что есть вещь: тождество вещи с ее сущностью. Вы видите, что уже в простонародной формулировке кроется много разного. А вот ученая формулировка принципа тождества: всякая аналитическая пропозиция истинна. А что такое аналитическая пропозиция? Это такая пропозиция, где предикат и субъект тождественны друг другу. Аналитическая пропозиция истинна: A есть A, это истинно. Вдаваясь в подробности формул Лейбница, мы можем даже дополнить ученую формулировку. Всякая аналитическая пропозиция истинна в двух случаях: либо через взаимность, либо через инклюзию. Вот пример инверсной{ Взаимнообразная пропозиция иначе называется инверсной.} пропозиции: треугольник имеет три угла. Иметь три угла – вот что такое треугольник. Второй случай – инклюзия: треугольник имеет три стороны. В действительности замкнутая фигура с тремя углами охватывает, включает, имплицирует три стороны. Можно сказать, что аналитические пропозиции взаимности являются объектами интуиции, и можно сказать, что аналитические пропозиции инклюзии являются объектами демонстрации.
Итак, принцип тождества, правило сущностей, или возможного, ratio essendi – на какой вопрос это отвечает? На какой крик отвечает принцип тождества? Патетический крик, постоянно возникающий у Лейбница и соответствующий принципу тождества, – почему это скорее нечто, нежели ничто? Это крик ratio essendi, raison’а d’être. Если бы тождества, понимаемого как тождество вещи тому, чем вещь является, не существовало, то в этот момент не существовало бы ничего.
Второй принцип, принцип достаточного основания, отсылает нас к целой области, которую мы обозначили как сфера существований. Ratio, соответствующее принципу достаточного основания, – это уже не ratio essendi, основание существования. Это уже не вопрос – почему скорее нечто, нежели ничто, но вопрос: почему скорее это, чем то? Каким здесь будет простонародное выражение? Мы видели, что всякая вещь имеет некое основание. Необходимо, чтобы у всякой вещи было свое основание. Каким здесь будет ученое выражение? Вы видите, что мы вроде бы вышли далеко за пределы принципа тождества? Почему? Потому что принцип тождества касается тождества вещи с тем, что она есть, но он не говорит, существует ли вещь. Факт, что вещь существует или не существует, совершенно отличен от факта того, чем вещь является. Я всегда могу определять то, чем вещь является, независимо от вопроса о знании, существует она или не существует. Например, я знаю, что единорога не существует, но я могу сказать, что такое единорог. Итак, необходим принцип, который помог бы нам мыслить существующее. Однако почему такой принцип, который кажется нам столь смутным, принцип «у всего есть основание», помогает нам мыслить существующее? Как раз ученая формулировка объяснит нам это. Мы находим эту ученую формулировку у Лейбница в следующем высказывании: всякая предикация означает деятельность суждения, атрибутирующего нечто некоему субъекту: когда я говорю «небо голубое», я атрибутирую голубизну небу и осуществляю предикацию; всякая предикация имеет основание в природе вещей. Это – ratio existendi. Попытаемся получше понять, каким образом всякая предикация имеет основание в природе вещей. Это означает: все, что говорится о некоей вещи, совокупность того, что говорится о некоей вещи, есть предикация, касающаяся этой вещи; все, что говорится о некоей вещи, охватывается понятием вещи, содержится в нем, включено в него. Это и есть принцип достаточного основания. Вы видите, что формула, которая только что представлялась «невинной» (всякая предикация имеет основание в природе вещей), что если вы возьмете эту формулу в буквальном значении, то она станет гораздо страннее: все, что говорится о некоей вещи, должно охватываться понятием вещи, содержаться в нем, включаться в него. Итак, все, что говорится о некоей вещи, – это что? Во-первых, это сущность. И действительно, «сущность» говорится о вещи. Только вот – на этом-то уровне нет никакой разницы между достаточным основанием и тождеством. И это нормально, так как достаточное основание принимает все достояние принципа тождества, только оно собирается сюда добавить еще нечто: то, что говорится о вещи, есть не только сущность вещи, но это и множество аффектов и событий, соотносящихся с вещью или вещи принадлежащих.
Итак, в понятии вещи будет содержаться не только сущность, но и наименьшее из событий, наименьший из аффектов, которые касаются вещи, то есть те из них, которые атрибутируются вещи как истинные, будут содержаться в понятии вещи.
Мы видели: перейти Рубикон – хотим мы того или нет – необходимо, чтобы это содержалось в понятии Цезаря. События, аффекты типа «любить», «ненавидеть» – необходимо, чтобы все это содержалось в понятии субъекта, который испытывает эти аффекты. Иными словами, всякое индивидуальное понятие – а существующее есть как раз объект, коррелят индивидуального понятия, – выражает мир. Это и есть принцип достаточного основания. «Все имеет свое основание» означает, что все, что происходит с некоей вещью, должно от века содержаться в индивидуальном понятии вещи.
Окончательная формулировка принципа достаточного основания совсем проста: всякая истинная пропозиция является аналитической, всякая истинная пропозиция – например, всякая пропозиция, состоящая в том, чтобы атрибутировать некоей вещи событие, которое действительно произошло и на самом деле касается этой вещи; и действительно, если пропозиция является истинной, то необходимо, чтобы в понятие вещи включалось событие.
Что это за область? Это область бесконечного анализа, тогда как на уровне принципа тождества перед нами – только конечный анализ. Бесконечное аналитическое отношение будет между событием и индивидуальным понятием, событие включающим. Словом, принцип достаточного основания является взаимнообратным по отношению к принципу тождества – только что происходит при взаимнообратном принципе? Взаимнообратный принцип завоевал для себя радикально новую область – область существований. Достаточно было обратить, вывернуть наизнанку формулу тождества, чтобы получить формулу достаточного основания; достаточно было обратить формулу тождества, которая касается сущностей, чтобы получить новый принцип, принцип достаточного основания, касающийся существований. Вы скажете мне, что это было несложно. А это было колоссально сложно. Почему? Взаимнообратная величина станет возможной, только если мы сумеем довести анализ до бесконечности. И при этом понятие, концепт бесконечного анализа является абсолютно оригинальным понятием. Равнозначно ли это тому, чтобы сказать, что данный анализ происходит исключительно в разуме Бога, который бесконечен? Разумеется, нет. Это имеет в виду определенную технику дифференциального анализа или исчисления бесконечно малых. Третий принцип: правильно ли, что взаимнообратная величина взаимнообратной величины дает первую? Не уверен. В зависимости от ситуации существует столько точек зрения! Попытаемся варьировать формулировки принципа достаточного основания. Я настаивал на том, что в принципе достаточного основания все, что происходит с какой-либо вещью, должно быть охвачено понятием вещи, включено в понятие вещи, а это имеет в виду бесконечный анализ. Иными словами, для всего, что происходит, или для всякой вещи, существует некий концепт.
Я на этом настаивал: что важно для Лейбница, так это отнюдь не способ заимствования знаменитого принципа. Наоборот, он отнюдь не стремится к тому, что можно было бы назвать принципом причинности. Когда Лейбниц говорит, что у всего есть свое основание, то это отнюдь не означает, что у всего есть своя причина. У всего есть своя причина – это означает, что A отсылает к B, B отсылает к C и т. д. Все имеет свое основание – означает, что необходимо найти основание самой причинности, то есть «все имеет свое основание» означает, что отношения, которые A поддерживает с B, должны быть тем или иным способом включены в понятие B. Совершенно так же, как отношения, которые B поддерживает с C, должны быть так или иначе включены в понятие B. Стало быть, принцип достаточного основания так или иначе преодолевает принцип причинности. Именно в этом смысле в принципе причинности выражается только необходимая причина, но не достаточное основание. Причины суть только необходимости, которые отсылают к самим себе и предполагают достаточные основания. Итак, я мог бы выразить принцип достаточного основания в следующей форме: для всякой вещи существует некий концепт, который учитывает как саму вещь, так и ее отношения с другими вещами, включая ее причины и ее следствия.
Для всякой вещи существует свой концепт, и это – отнюдь не само собой разумеющееся. Масса людей полагает, что главное свойство существования – в том, что для него нет концепта. Для всякой вещи существует концепт – а каким будет взаимнообратное утверждение? Поймите, что у взаимнообратного утверждения совсем не тот же смысл. У Аристотеля есть трактат по логике, который касается единственно таблицы оппозиций. Что такое противоречащее, что такое противоположное, что такое подчиненное и т. д. Вы не можете сказать «противоречащее», когда перед вами «противоположное»; вы не можете сказать что угодно. Здесь я использую слово «взаимнообратное», не уточняя его. Когда я говорю, что для всякой вещи существует свой концепт (опять-таки этого нельзя сказать с уверенностью обо всем), то предположим, что вы со мной согласны. Здесь я не могу избежать взаимнообратного концепта. И чем же здесь будет взаимнообратный концепт?
Для теории концепта следовало бы исходить из пения птиц. Важнейшее различие между криками и пением: крики тревоги, крики голода, а потом пение птиц. И мы можем акустически объяснить, в чем различие между криками и пением. Точно так же, на уровне мысли, существует крик мысли и пение мысли. Как отличить крик от пения? Мы не сможем понять, как философия развивается как пение, или что такое философическая песнь, если не соотнесем это пение с координатами, каковые суть разновидности криков, криков, которые продолжаются. Это сложно – крики и пение. Если я вернусь к музыке, то все время напрашивается один пример: две великие оперы Берга, два великих крика смерти. Крик Марии и крик Лулу. Оба раза это – крики смерти. Когда умирают, не поют, и все-таки существует та, кто поет по поводу смерти: плакальщица. Тот, кто теряет любимое существо, – поет. Или кричит, не знаю. В «Воццеке» это си, это сирена. Когда вы помещаете сирен в музыку, вы помещаете туда крик. Это любопытно. Однако эти два крика – не одного и того же типа, даже акустически: один крик взмывает ввысь, другой стелется по земле. И потом существует пение. Первая подруга Лулу воспевает смерть. Это фантастично. Это подписано «Берг». Я сказал бы, что подпись философа чем-то похожа. Когда философ велик, то, сколько бы он ни писал абстрактнейших страниц, абстрактными они являются лишь потому, что вы не сумели уловить момент, когда он кричит. Под его словами всегда крик, крик, внушающий ужас. Вернемся к пению достаточного основания. «У всего есть свое основание» – это песнь. Это мелодия, и ее можно гармонизировать. Это гармония понятий. Но под ней – ритмические крики: нет-нет-нет. Возвращаюсь к своей пропетой формулировке принципа достаточного основания. Можно фальшиво петь философию. Люди, фальшиво поющие философию, знают ее очень хорошо, но она совершенно мертва. Говорить можно до бесконечности. Пение достаточного основания: для всякой вещи существует свой концепт. А какой концепт будет взаимнообратным ему? В музыке мы можем говорить о ракоходных рядах{ Ракоходные ряды в музыке начинаются с последнего тона и заканчиваются первым.}. Поищем утверждение, взаимно обратное утверждению «для всякой вещи существует свой концепт». Взаимнообратным будет: для всякого концепта – одна-единственная вещь. Почему это будет взаимнообратным для «у всякой вещи свой концепт»? Предположим, что одному концепту соответствуют две вещи, что существует вещь, для которой нет концепта, и в этот самый момент попирается принцип достаточного основания. Я не могу сказать «для всякой вещи свой концепт». А коль скоро я сказал: «для всякой вещи свой концепт», я с неизбежностью сказал и то, что для одного концепта с необходимостью будет одна, и только одна вещь, так как если бы одному концепту соответствовали две вещи, то существовала бы такая вещь, для которой не было бы своего концепта, и, стало быть, я не мог бы больше сказать: «для всякой вещи свой концепт». Следовательно, подлинная взаимнообратная формулировка принципа достаточного основания у Лейбница будет выражаться вот так: для всякого концепта – вещь, и притом одна-единственная. Это взаимнообратное утверждение, в забавном смысле. Но в этом случае взаимного обращения достаточное основание переходит в другой принцип, а именно: для всякой вещи – концепт, а для всякого концепта – вещь, и притом одна-единственная; я не могу сказать одно, не сказав другого. Взаимное обращение безусловно необходимо. Если бы я не признавал второго утверждения, я аннулировал бы первое.
Когда я говорил, что достаточное основание взаимнообратно принципу тождества, то смысл был другим, так как если вы вспомните, как формулируется принцип тождества, а именно: «всякая аналитическая пропозиция истинна», то я могу взять взаимнообратный ему принцип и получу достаточное основание, а именно: «всякая истинная пропозиция аналитична»; здесь нет никакой необходимости. Я могу сказать, что всякая аналитическая пропозиция истинна, не говоря тем самым, что не существует истинных пропозиций, кроме аналитических. И я вполне мог бы сказать, что существуют истинные пропозиции, не являющиеся аналитическими. Стало быть, когда Лейбниц осуществил взаимнообратную операцию по отношению к тождеству, он показал фокус. Он показал этот фокус, потому что у него были средства для этого фокуса, то есть средства испустить некий крик. Он сам создал весь метод бесконечного анализа. Без крика он бы его не создал.
А вот в случае, промежуточном от достаточного основания к третьему принципу, которому я еще не придумал название, взаимное обращение безусловно необходимо. Следовало бы только открыть его. Что это значит: «для всякого концепта существует одна, и только одна вещь»? Тут ситуация становится причудливой, и ее надо понять. Это означает, что не существует двух абсолютно тождественных вещей, или что всякое различие в конечном счете является концептуальным. Если у вас две вещи, то необходимо, чтобы у вас было два концепта, иначе двух вещей не будет. Что это означает: то, что не существует двух вещей, абсолютно тождественных в том, что касается концепта? Это означает, что не существует двух тождественных капель воды, не существует двух тождественных листьев дерева. Здесь Лейбниц совершенен, он до глубины души радуется этому принципу. Он говорит, что вот вы, очевидно, полагаете, будто две капли воды тождественны друг другу, но это потому, что в своем анализе вы не продвинулись достаточно далеко. Они не могут иметь один и тот же концепт. Здесь нечто очень любопытное, так как вся классическая логика скорее того типа, что она говорит нам, будто концепт – по природе – включает бесконечное множество вещей. Концепт капли воды применяется ко всем каплям воды. Лейбниц говорит: разумеется, но это – только если вы блокировали анализ концепта в определенный момент, в некий конечный момент; но если вы продвинетесь в анализе, то наступит момент, когда концепты больше не будут одинаковыми. Вот почему овца распознает своего ягненка. Это пример Лейбница: как овца распознает своего ягненка? Многие полагают, что с помощью концепта. У ягненка нет другого концепта, кроме индивидуального: именно поэтому концепт простирается до уровня индивида, до другого ягненка. Что означает этот принцип: существует лишь одна-единственная вещь; с необходимостью концепту соответствует одна-единственная вещь? Лейбниц называет его принципом неразличимых. Итак, мы можем сформулировать его: существует одна-единственная вещь, выражаемая через концепт, или: всякое различие в конечном счете является концептуальным.
Нет различий, кроме концептуальных. Иными словами, если вы назначите различие между двумя вещами, то это различие с необходимостью будет в концепте. Лейбниц называет этот принцип принципом неразличимых. А если я привожу к нему в соответствие некое ratio, то что это такое? Вы прекрасно чувствуете, что это соответствует утверждению о том, что мы познаём только при помощи концептов. Иными словами, мне кажется, что принцип неразличимых соответствует третьему ratio, ratio как ratio cognoscendi, разуму{ Здесь raison означает как «основание», так и «разум».} как основанию познания.
Посмотрим следствия этого принципа. Если бы этот принцип неразличимых, то есть «всякое различие концептуально», был истинен, то не существовало бы различий, кроме концептуальных. Здесь Лейбниц просит нас согласиться с чем-то колоссально важным. Проследуем по порядку. Какой еще существует тип различия, кроме концептуального? Мы сразу же видим: существуют различия числовые. Например, я говорю: «одна капля воды, две капли, три капли». Я различаю капли solo numero. Только числом. Я считаю элементы множества: один, два, три, четыре; я пренебрегаю их индивидуальностью, я различаю их по числу. Вот первый тип весьма классического различения: различение числовое. Второй тип различения – я говорю: «Сядьте на этот стул»; кто-нибудь вежливый садится на стул, а я говорю: «Не на этот, а вон на тот!» На сей раз перед нами пространственно-временное различение типа «здесь – теперь». Вещь, находящаяся здесь в такой-то момент, и другая вещь, находящаяся там, в другой момент. Наконец, существуют различения в том, что касается фигуры и движения: у чего-то три угла, или что-нибудь другое. Я бы сказал, что это – различения по протяженности и движению. Протяженность и движение.
Поймите, что это вовлекает Лейбница в забавную штуковину, которую он проделывает не с чем иным, как со своим принципом неразличимых. Ему необходимо показать все эти типы неконцептуальных различений – и действительно, это неконцептуальные различения, так как две вещи могут различаться по числу, когда они имеют один и тот же концепт. Вы берете концепт «капля воды» и говорите: первая капля воды, вторая капля воды. Это – один и тот же концепт. Существуют первая и вторая капли. Существует одна, которая здесь, и другая, которая там. Существует одна, которая течет быстро, и другая, которая течет медленно. Мы практически рассмотрели множество неконцептуальных различений. Приходит Лейбниц и спокойно говорит нам: нет-нет. Это чистая видимость, то есть это предварительные средства выражения различия, имеющего совсем иную природу, и различие это всегда концептуальное. Если существуют две капли воды, то у них не один и тот же концепт. Что это означает? Это очень важно для проблем индивидуации. Знаменитый пример, когда Декарт говорит нам, что тела различаются между собой фигурой и движением. Многие мыслители оценили это. Заметьте, что в картезианской формуле то, что сохраняется в движении (mv – произведение массы и движения), зависит исключительно от такого мировоззрения, согласно которому тела различаются фигурой и движением. И тут вмешивается Лейбниц и говорит нам: нет, необходимо, чтобы все эти неконцептуальные различия соответствовали различиям концептуальным; первые лишь несовершенный «перевод» последних. Все неконцептуальные различия только и делают, что несовершенно выражают некое глубинное концептуальное различие.
Лейбниц берется за физическую задачу. Необходимо, чтобы нашлось основание, в силу которого тело либо было бы в таком-то количестве, либо было бы здесь и теперь, либо обладало бы такой-то фигурой и такой-то скоростью. Он очень хорошо выразит это в своей критике Декарта, когда скажет, что скорость – понятие сугубо относительное. Декарт обманулся, он принял нечто сугубо относительное за принцип. Стало быть, фигуру и движение необходимо преодолевать по направлению к чему-то более глубокому. Это имеет колоссальное значение для философии XVII века.
А именно: нет протяженной субстанции, или: протяженность не может быть субстанцией. Протяженность – это исключительно феномен. И она отсылает к чему-то более глубокому. К тому, что не существует концепта протяженности, что концепт имеет другую природу. Необходимо, стало быть, чтобы фигура и движение находили основание для себя в чем-то более глубоком – ведь протяженность совершенно недостаточна. Отнюдь не случайно, что то, что создает новую физику, полностью пересоздает физику сил. С одной стороны, сила противопоставляется фигуре, а с другой – протяженности: ведь фигура и протяженность всего лишь манифестации силы. И именно сила – истинный концепт. Не существует концепта протяженности, потому что истинный концепт – это сила. Сила – вот основание для фигуры и движения в протяженности. Отсюда важность следующей операции, которая кажется сугубо технической, когда говорят, что то, что сохраняется в движении, – не mv, а mv2. Возведение скорости в квадрат – это перевод понятия силы. То есть все меняется. Именно физика соответствует принципу неразличимых. Не существует двух подобных, или тождественных, сил, и именно силы являются истинными концептами, которые должны объяснить или дать нам основание всего, что является фигурой или движением в протяженности.
Сила – не движение, а основание движения. Итак, полное обновление физики сил, а также геометрии и кинематики. Все происходит только так, что скорость возводится в квадрат. mv2 – это формула сил, а не формула движения. Вы увидите, что это существенно.
Чтобы подытожить сказанное, я с таким же успехом мог бы утверждать, что фигура и движение преодолевают сами себя по направлению к силе. Необходимо, чтобы число преодолевало само себя по направлению к концепту. Необходимо, чтобы пространство и время также преодолевали сами себя по направлению к концепту.
Но вот – мелкими шажками – выдвигается четвертый принцип. Перед нами то, что Лейбниц называет законом непрерывности. Почему он говорит «закон»? Это как раз проблема. Когда Лейбниц говорит о непрерывности, которую он считает основополагающим принципом и одним из главнейших своих открытий, он уже не использует термин «принцип», он использует термин «закон». Это необходимо объяснить. Если я ищу простонародную формулировку закона непрерывности, то она совсем проста: природа не делает скачков. Не существует прерывности. Но что касается ученых формулировок, то их две. Если две причины сближаются настолько, насколько нам угодно, так, чтобы различаться лишь через различие, убывающее до бесконечности, то необходимо, чтобы то же самое касалось следствий. Я сразу же скажу, о чем думает Лейбниц, потому что он всегда питает неприязнь к Декарту. Что нам говорят о законах передачи движения? Вот два случая: два тела с одной и той же массой сталкиваются между собой, у одного из двух тел больше, чем у второго, масса или скорость, и, значит, оно побеждает. Лейбниц же утверждает, что такого не может быть. Почему? Перед вами – два состояния причины. Первое состояние причины: два тела с одинаковой массой и с одинаковой скоростью. Второе состояние причины: два тела с различными массами. Лейбниц говорит, что вы можете уменьшать различие до бесконечности, вы можете сделать так, чтобы два этих состояния приблизились друг к другу в том, что касается причин. Однако нам говорят, что два следствия совершенно различны: в одном случае два тела отскакивают друг от друга, в другом случае второе тело уносится первым, по направлению к первому. Перед нами – прерывность следствий, тогда как в причинах мы можем наблюдать непрерывность. Именно непрерывным способом мы можем перейти от различных масс к одинаковым. Стало быть, невозможно, чтобы в фактах наличествовала прерывность, если в причинах возможна непрерывность. Это уводит нас к очень важным физическим исследованиям движения, которые будут сосредоточены на замене физики движения физикой сил. Я прошу, чтобы вы это запомнили.
Но вот другая ученая формулировка того же принципа, и вы поймете, что это – то же самое, что и предыдущая формулировка: если дан некий случай, то концепт этого случая завершится противоположным случаем. Это – чистое высказывание о непрерывности. Вот пример: если в качестве случая дано движение, то концепт движения завершится противоположным случаем, то есть покоем. Покой – это до бесконечности малое движение. Это то, что мы видели относительно бесконечно малого принципа непрерывности. Или же я бы сказал, что последняя возможная ученая формулировка непрерывности такова: если дана сингулярность, то она продлевается на целый ряд ординарностей, до соседства со следующей сингулярностью. На сей раз перед нами закон складывания непрерывности. Мы его уже рассматривали на прошлой лекции.
Но как только мы посчитаем, что покончили с проблемами, возникнет еще одна очень важная проблема. Что-то заставляет меня сказать, что между третьим и четвертым принципами имеется противоречие, то есть противоречие существует между принципом неразличимых и принципом непрерывности. Первый вопрос: в чем заключается это противоречие? Второй вопрос: факт состоит в том, что Лейбниц никогда не усматривал здесь ни малейшего противоречия. Мы попали в ситуацию, когда мы любим философа и до глубины души им восхищаемся, но у нас неловкое положение, потому что тексты нам кажутся противоречивыми, а он даже не видит того, что мы можем иметь в виду. Где может быть противоречие, если таковое есть? Я возвращаюсь к принципу неразличимых: всякое различие концептуально, не существует двух вещей с одним и тем же концептом. Я бы сказал, в предельном случае, что всякая вещь соответствует определенному различию, и не просто определенному, но и назначаемому в концепте. Различие не только определено или определимо, но оно и назначаемо в самом концепте. Не существует двух капель воды с одним и тем же концептом, то есть различие между первой и второй должно включаться в концепт. Оно должно быть назначено в концепте. Итак, всякое различие есть различие, назначаемое в концепте. Что говорит нам принцип непрерывности? Он говорит нам, что в вещах действуют ускользающие различия. Различия бесконечно малые, то есть неназначаемые.
Это становится ужасным. Можем ли мы сказать, что в каждой вещи есть неназначаемое различие? И в то же время сказать, что всякое различие назначаемо и должно назначаться в понятии? Ага! Что, Лейбниц противоречит сам себе? Можно как раз чуть-чуть продвинуться вперед, поискав ratio принципа непрерывности, потому что я нашел ratio для каждого из трех первых принципов. Тождество – это основание сущности, или ratio essendi; достаточное основание – это основание существования, или ratio existendi; неразличимые – это основание познания, или ratio cognoscendi; принцип непрерывности – это ratio fiendi, то есть основание становления, и т. д. Вещи становятся благодаря непрерывности. Движение становится покоем, покой становится движением и т. д. Многоугольник, приумножая свои стороны, становится кругом и т. д. Это – основание становления, и оно явно отличается от оснований бытия или от основания существования. Для ratio fiendi имелась потребность в некоем принципе, и это – принцип непрерывности.
Как примирить непрерывность с неразличимыми? Более того: необходимо показать, что способ, каким мы собираемся их примирить, должен в то же время учитывать то, что Лейбниц имел основание не усматривать ни малейшего противоречия между ними. Здесь мы проведем мысленный эксперимент. Я возвращаюсь к пропозиции: всякое индивидуальное понятие выражает весь мир. Адам выражает мир. Цезарь выражает мир, каждый из вас выражает мир. Эта формула очень причудлива. Концепты в философии – это не просто слова. Значительный философский концепт – это комплекс, это пропозиция, или пропозициональная функция. Необходимо заниматься упражнениями по философской грамматике. Философская грамматика могла бы состоять в следующем: если дан некий концепт, найдите глагол. Если вы не нашли глагол, вы его не динамизировали. Вы не умеете переживать его. Концепт всегда подвластен некоему движению, движению мысли. В счет идет одно-единственное: движение. Когда вы занимаетесь философией, вы рассматриваете только движение, просто это движение особого типа, это движение мысли. А что такое глагол? Иногда философ говорит это эксплицитно, иногда не говорит этого. Собирается ли это сказать Лейбниц? В каждом индивидуальном концепте выражает себя мир, там есть глагол, глагол «выражать». Но что это означает? Означает это две вещи сразу – как если бы сосуществовали два движения.
Лейбниц говорит нам сразу: Бог не создает Адама-грешника, он создает мир, где Адам согрешил. Бог не создает Цезаря, переходящего Рубикон, он создает мир, где Цезарь переходит Рубикон. Итак, то, что создает Бог, есть мир – а не индивидуальные концепты, мир выражающие. Вторая пропозиция Лейбница: мир только и существует, что в индивидуальных понятиях, его выражающих. Если вы поставите одно индивидуальное понятие в привилегированное положение по отношению к другому… Если вы это примете, у вас будет нечто вроде двух взаимодополнительных и одновременных прочтений или схватываний – схватываний чего? Вы можете рассматривать мир, но опять-таки мир не существует сам по себе, он существует лишь в понятиях, его выражающих. Однако вы можете произвести это абстрагирование, вы рассматриваете мир. Как вы его рассматриваете? Вы рассматриваете его как сложную кривую. Сложная кривая имеет сингулярные и обычные точки. Сингулярная точка продлевается через обычные точки, которые от нее зависят, вплоть до соседства с другой сингулярностью и т. д. и т. п., и вы проводите кривую непрерывным способом через продление сингулярностей на ряды ординарностей. Для Лейбница это и есть мир. Непрерывный мир – это распределение сингулярностей и регулярностей, или сингулярностей и ординарностей, которые как раз и составляют множество, избранное Богом, то есть то, которое характеризует максимум непрерывности. Если вы остаетесь при этом взгляде, то мир управляется законом непрерывности, потому что непрерывность – это как раз складывание сингулярностей постольку, поскольку они продлеваются на ряды зависящих от них ординарностей. Вы получаете ваш мир, который буквально развертывается в форме кривой, где распределяются сингулярности и регулярности. Это первая точка зрения, и она полностью подчинена закону непрерывности.
Только вот что: этот мир сам по себе не существует, он существует лишь в индивидуальных понятиях, этот мир выражающих. Это означает, что некое индивидуальное понятие, монада, причем каждая из них, охватывает небольшое определенное количество сингулярностей. Она включает в себя небольшое количество сингулярностей. Итак, небольшое количество сингулярностей… Вы припоминаете, что индивидуальные понятия, или монады, суть точки зрения на мир. Не субъект объясняет точку зрения, а точка зрения объясняет субъекта. Отсюда необходимость задаться вопросом: что такое эта точка зрения?
Точка зрения определена вот этим небольшим количеством сингулярностей, выделенных на кривой мира. Это, по существу, и есть индивидуальное понятие. Вот из-за чего возникает различие между вами и мной: дело в том, что на вымышленной кривой такого типа вы строитесь вокруг таких-то и таких-то сингулярностей, а я – вокруг таких-то и таких-то сингулярностей. А то, что вы называете индивидуальностью, есть комплекс сингулярностей, формирующих некую точку зрения.
[Конец пленки.]
Лекция 5
(20.05.1980)
Я хотел бы закончить эти лекции о Лейбнице, сформулировав проблему, к которой я намереваюсь приступить. Я возвращаюсь к вопросу, который ставил в самом начале, а именно, что означает этот образ: «здравый смысл часто занимается философией»; что означает: «здравый смысл иногда пользуется философией» как своего рода местом для дискуссии, притом что философы расходятся между собой в самих основах? Своеобразная философская атмосфера, когда люди спорят между собой, «дерутся» друг с другом, тогда как в науке они по крайней мере знают, о чем говорят. Нам также скажут, что все философы говорят одно и то же: либо все они согласны между собой, либо говорят противоположные вещи. Именно в связи с Лейбницем я хотел бы привести весьма конкретные примеры. Что означает, когда две философии не согласны между собой? Вот полемика как определенное положение вещей, проходящее через определенные дисциплины: я не считаю, что в философии полемики больше, чем в науке или в искусстве. Что такое философ, критикующий другого философа? Что такое эта функция критики? Лейбниц приводит нам такой пример: чтобы узнать, что означает оппозиция между философами, необходимо также оценить их отношение к таким оппозициям. Отношения бывают разные. Может быть, существует такое, которое глубже другого; существует такое, которое решительнее. Если вы рассмотрите, как у вас организованы оппозиции, то я буду считать, что вы стали более способными к пониманию того, о чем идет речь в полемике.
Первая оппозиция – между Лейбницем и Кантом с точки зрения познания. Я даю слово Лейбницу. Лейбницианская пропозиция: все пропозиции являются аналитическими, и познание может оперировать только аналитическими пропозициями. Вы припоминаете, что мы называем аналитической пропозицией такую, когда один из двух членов пропозиции содержится в понятии другого. Это философская формула. Мы уже можем предчувствовать, что на этом уровне дискутировать несложно. Почему? Потому что здесь нечто уже имплицировано, а именно – что имеется определенная модель познания. Такова пресуппозиция, но в науках тоже есть пресуппозиции; предполагается, что существует определенная идея познания, то есть «познавать» означает обнаруживать то, что включено в концепт. Таково определение познания. Мы довольны, что получили определение познания, но почему именно это, а не иное?
С другой стороны, приходит Кант и говорит: существуют синтетические пропозиции. Вы видите, что такое синтетическая пропозиция: это пропозиция, один из членов которой не содержится в понятии другого. Это крик или пропозиция? Кант говорит Лейбницу: «нет»; он говорит, что существуют синтетические пропозиции и нет иного познания, кроме осуществляемого при помощи синтетических пропозиций. Эта оппозиция кажется убедительной. И тут тысячи вопросов приходят мне на ум. Что означает «дискутировать», дискутировать о том, кто прав и кто кого победил? Доказуемо ли это, относится ли это к области решаемых пропозиций? Я как раз говорю, что Кантово определение должно заинтересовать вас, потому что если вы основательно исследуете его, то выясните, что оно имеет в виду также определенную концепцию познания, и оказывается, что эта концепция познания весьма отличается от лейбницевской. Когда мы говорим, что познание оперирует только синтетическими пропозициями, то есть такими пропозициями, один из членов которых не содержится в понятии другого, то перед нами – синтез двух членов. Тот, кто говорит это, уже не может составить себе лейбницианскую концепцию познания.
Он скажет нам, что познавать – это, наоборот, совсем даже не обнаруживать то, что включено в концепт; познавать с необходимостью означает выходить за пределы концепта, чтобы утверждать нечто иное. Мы называем синтезом действие, посредством которого мы выходим за рамки некоего понятия, чтобы утверждать о нем нечто иное. Мы называем синтезом действие, посредством которого мы выходим за рамки некоего понятия, чтобы атрибутировать ему – или утверждать о нем – нечто иное. Иными словами, «познавать» всегда означает выходить за рамки концепта. Познавать – это преодолевать. Поймите все, что здесь разыгрывается. Согласно первой концепции, познавать означает иметь некий концепт и открывать, чтó в этом концепте содержится, – я сказал бы здесь о познании, что оно смоделировано по конкретному образцу – претерпевания или восприятия. Познавать – это в конечном счете нечто воспринимать; познавать – это апперципировать; такова пассивная модель познания, даже если многие виды деятельности зависят от нее. В другом случае, наоборот, познавать – это выходить за рамки концепта, чтобы утверждать нечто иное; такова активная модель познания.
Возвращаюсь к двум моим пропозициям. Предположим, мы выступаем в роли арбитров. Мы видим две этих пропозиции и говорим себе: я выбираю что? Во-первых, я говорю: разрешимо ли это? Что это означает? Это может означать, что перед нами вопрос факта. Необходимо обнаруживать факты, которые давали бы основание первой или второй пропозиции. Очевидно, фактов нет. Философские пропозиции – определенным образом – невозможно обосновать верификацией фактов. Вот почему философия всегда различала два вопроса – и в общем и целом Кант заимствует это различение.
Это различение было сформулировано по-латыни: quid facti, что де-факто?, и quid juris, что де-юре? И если философии приходится иметь дело с правом, то как раз тогда она ставит вопросы, которые называются правовыми. Что означает, если две мои антиномичные пропозиции, лейбницевская и кантовская, не могут быть обоснованы фактическим ответом? Это означает, что фактически проблемы не существует, так как мы все время встречаемся с феноменами, являющимися феноменами синтеза. На самом деле я провожу время, выдвигая наипростейшие суждения, оперируя синтезом. Например, я говорю, что эта прямая линия – белая.
Совершенно очевидно, что я утверждаю здесь о прямой линии нечто, не содержащееся в понятии прямой линии. Почему? Нельзя сказать, что всякая прямая линия – белая. То, что эта прямая линия белая, есть, очевидно, некая встреча в опыте – я не смог бы сказать этого заранее. Итак, в опыте я встречаю прямые линии, являющиеся белыми. Это синтез; такой синтез мы назовем апостериорным, то есть данным в опыте. Стало быть, существуют фактические синтезы, но это не решает проблему. Почему? На очень простом основании: дело в том, что это не составляет познания. Это протокол опыта. А познание – нечто иное, нежели составление протоколов опыта. Когда мы познаём? Мы познаём, когда некая пропозиция притязает на некое право. То, чем определяется право пропозиции, есть универсальное и необходимое. Когда я говорю, что прямая линия есть кратчайший путь от одной точки до другой, я утверждаю правовую пропозицию. Почему? Потому что мне не нужно измерять каждую прямую линию, чтобы узнать, что она представляет собой самый короткий путь, если она прямая. Всякая прямая линия заранее, априори, то есть независимо от опыта, является кратчайшим путем от одной точки до другой, иначе она не была бы прямой линией. Итак, я бы сказал, что именно такая пропозиция образует пропозицию познания. Я не дожидаюсь опыта, чтобы признать, что прямая линия есть кратчайший путь; наоборот, я детерминирую опыт, потому что кратчайший путь от одной точки до другой есть мой способ вычерчивать прямую линию опытным путем. Всякая прямая линия есть с необходимостью кратчайший путь от одной точки до другой. Это пропозиция познания, а не протокольная пропозиция. Возьмем эту пропозицию: это априорная пропозиция. Можем ли мы здесь, наконец, поставить вопрос о разделении между Лейбницем и Кантом, а именно: это аналитическая пропозиция или же синтетическая?
Кант говорит очень простую вещь: это с необходимостью синтетическая пропозиция a priori. Почему? Потому что когда вы утверждаете, что прямая линия есть кратчайший путь от одной точки до другой, вы выходите за пределы концепта «прямая линия». Разве не содержится в прямой линии свойство быть кратчайшим путем от одной точки до другой? Само собой разумеется, что Лейбниц сказал бы, что оно содержится в прямой линии. Кант же говорит: нет, концепт прямой линии, согласно Евклидову определению, таков: линия ex aequo{ Буквально: поровну, в равных условиях (лат.).} во всех своих точках. Отсюда вы не извлечете кратчайшего пути от одной точки до другой. Необходимо, чтобы вы вышли за рамки концепта, чтобы утверждать нечто иное. Это неубедительно. Почему же Кант это говорит? Кант ответил бы: я предполагаю, что кратчайший путь от одной точки до другой – это концепт, имеющий в виду сравнение, сравнение кратчайшей линии с другими линиями, каковые являются либо ломаными, либо искривленными, то есть кривыми. Я не могу сказать, что прямая линия есть кратчайший путь от одной точки до другой, не подразумевая сравнения, отношения прямой линии к кривым. Этого для Канта достаточно, чтобы сказать, что здесь есть некий синтез: вы вынуждены выйти за рамки концепта прямой линии, чтобы добраться до концепта кривой линии, и ваше утверждение – о сравнении прямых линий с линиями кривыми… Это синтез, стало быть, познание есть синтетическая операция.
Могло ли это помешать Лейбницу? Нет, он сказал бы, что, очевидно, у вас в сознании присутствует концепт кривой линии, когда вы говорите, что прямая линия есть кратчайший путь от одной точки до другой, – но Лейбниц был создателем дифференциального исчисления, согласно которому прямую линию надо рассматривать как предел кривых. Существует некий процесс и его предел. Отсюда тема Лейбница это аналитическое отношение, правда как бесконечный анализ. Прямая линия есть предел кривой, точно так же, как покой есть предел движения. Продвинулись ли мы? Либо мы больше ничего не можем отсюда извлечь, либо же Лейбниц и Кант говорят одно и то же. Они говорят одно и то же, но что именно? Это означает, что то, что Лейбниц называет бесконечным анализом, есть то же самое, что Кант называет конечным синтезом. Внезапно перед нами предстает лишь вопрос о словах. В этой перспективе, на вот этой стадии похоже, что Лейбниц и Кант соглашаются между собой ради установления характерного различия. Один – между конечным анализом и анализом бесконечным, другой – между анализом и синтезом. Это сводится к одному и тому же: то, что Лейбниц называет бесконечным анализом, Кант назовет конечным синтезом.
Вы видите идею здравого смысла, когда философский диспут неразрешим, потому что мы не можем решить, кто прав, – и в то же время совершенно неважно знать, кто прав, потому что оба они говорят одно и то же. С тем бóльшим основанием здравый смысл может заключить: единственная хорошая философия – это я. Трагическая ситуация. Раз уж здравый смысл осуществляет цели философии лучше, чем это делает сама философия, то нет оснований утруждать себя занятиями философией. И что тогда?
Поищем что-нибудь вроде бифуркации, так как если эта первая великая оппозиция между Лейбницем и Кантом сейчас предстает перед нами очевидной, то не потому ли, что она преодолевается по направлению к более глубокой оппозиции, а если мы не видим более глубокой оппозиции, то мы ничего не можем понять? Какова же эта вторая, более глубокая, оппозиция? Мы видели, что существует великая лейбницевская пропозиция, и называется она принципом неразличимых, то есть утверждает, что всякое различие в конечном счете является концептуальным. Всякое различие – в концепте. Если две вещи различаются, то они не могут различаться просто по числу, по фигуре, по движению; необходимо, чтобы их концепт не был одним и тем же. Всякое различие концептуально. Смотрите, в чем эта пропозиция является поистине пресуппозицией предыдущей пропозиции Лейбница. Если он прав в этом отношении, если всякое различие концептуально, то вполне очевидно, что происходит это при анализе известных нам концептов, так как познавать означает познавать через различия. Итак, если всякое различие в конечном счете является концептуальным, то именно анализ концептов помогает нам познавать различия, а значит, помогает просто познавать. Мы видим, в какую сложнейшую математику это увлекало Лейбница, и математика эта состояла в показе того, что различия между фигурами и числовые различия отсылают к различиям в концептах.
Ну ладно, какова пропозиция Канта, противостоящая второй пропозиции Лейбница? Тут тоже забавная штуковина. Кант выдвигает весьма любопытную пропозицию: если вы вглядитесь в мир, который вам предстает, вы увидите, что он состоит из двух разновидностей нередуцируемых детерминаций: у вас есть понятийные детерминации, всегда соответствующие тому, чем вещь является, – и я бы мог даже сказать, что концепт – это репрезентация того, чем вещь является. У вас есть вот эти детерминации, например лев – это рычащее животное; такова концептуальная детерминация. И потом перед вами совершенно иной тип детерминации. Кант выдвигает знаменитую штуку: он говорит, что детерминации являются уже не концептуальными, а пространственно-временными. Пространственно-временные детерминации – это что? Это факт того, что вещь находится здесь и теперь, что она справа или слева, что так или иначе она занимает некое пространство, что она описывает некое пространство, что она длится определенное время. Ну что ж, сколько бы вы ни продвигали анализ концептов, вы никогда не доберетесь до области пространственно-временных детерминаций. Вы можете продвигать анализ концепта хоть до бесконечности, но вы никогда не найдете в концепте такой детерминации, которая учтет, справа или слева эта вещь.
Что Кант имеет в виду? Сам он приводит примеры, на первый взгляд весьма убедительные. Рассмотрите две руки. Каждый знает, что две руки обладают не одними и теми же линиями, у них по-разному распределены поры. В действительности не существует двух тождественных рук. И здесь слово Лейбницу: если существуют две вещи, то необходимо, чтобы они различались по концепту, это их принцип неразличимых.
Кант говорит, что на самом деле это вполне возможно, но совершенно неважно. Он говорит, что никакого интереса здесь нет. Дискуссии никогда не проходят через вопросы об истинном и ложном, они проходят через вопрос: представляет ли это какой-нибудь интерес или же это трюизм? Безумный вопрос – это не вопрос фактический, это также вопрос quid juris. Безумец не тот, кто говорит неправильные вещи. Существует куча математиков, которые придумывают совершенно безумные теории. Они безумны почему? Потому, что они ложные или противоречивые? Нет, они определяются тем, что пользуются колоссальным концептуальным математическим аппаратом, например для пропозиций, лишенных всякого интереса.
Кант посмел бы сказать Лейбницу, что то, что вы рассказываете о двух руках с их различиями в порах, совершенно неинтересно, так как вы можете помыслить quid juris, де-юре, а не де-факто, вы можете помыслить две руки, принадлежащие одному и тому же человеку, с совершенно одинаковым распределением пор, с одинаковым узором линий. Логического противоречия здесь нет, даже если де-факто этого не существует. Но – говорит Кант – как бы там ни было, существует нечто весьма любопытное: если вы продолжите свой анализ сколь угодно долго, то эти две руки будут тождественными, но не взаимоналожимыми. Это знаменитый парадокс, парадокс симметричных объектов, которые не накладываются друг на друга. Перед вами две совершенно одинаковые руки, вы можете их выделить, чтобы показать какую-то степень радикальной подвижности. Вы не можете заставить их совпасть между собой; вы не можете их наложить друг на друга. Почему? Вы не можете наложить их друг на друга – говорит Кант, – потому что одна правая, а другая левая. В остальном они могут быть совершенно тождественными, но одна рука правая, а другая – левая. Это означает, что существует пространственная детерминация, несводимая к порядку концепта. Концепт ваших двух рук может быть строго тождественным, но когда вы будете продвигать анализ дальше, то окажется, что одна рука будет у вас справа, а другая – слева. Вы не можете заставить их наложиться друг на друга. При каком условии вы осуществляете взаимное наложение двух фигур? При условии того, что вы располагаете неким измерением, дополнительным по отношению к измерению фигур… Как раз потому, что существует третье измерение пространства, вы можете способствовать взаимоналожению двух плоскостных фигур. А два объема вы могли бы наложить друг на друга, если бы располагали четвертым измерением. Существует несводимость порядка пространства. И то же самое для времени: существует несводимость порядка времени. Стало быть, сколь бы далеко вы ни продвигали анализ концептуальных различий, один порядок различия всегда останется внешним по отношению к концептам и к концептуальным различиям, и это будут пространственно-временные различия.
Не побеждает ли здесь Кант в состязании? Вернемся к прямой линии. Мы догадывались, что идея синтеза для Лейбница заключалась не в словах. Если бы мы оставались на уровне различия «анализ – синтез», у нас не было бы средства отыскать ее.
Сейчас мы узнаем, в чем перед нами нечто иное, нежели словесная дискуссия. Кант говорит: сколь бы далеко вы ни заходили в анализе, у вас останется несводимый порядок пространства и времени, несводимый к порядку концепта. Иными словами, пространство и время – это не концепты. Существуют два типа детерминаций: детерминации концептуальные и детерминации пространственно-временные. Что имеет в виду Кант, когда говорит, что прямая линия есть кратчайший путь от одной точки до другой? Что это синтетическая пропозиция. Вот что он хочет сказать: прямая линия – это, конечно, концептуальная детерминация, но кратчайший путь от одной точки до другой – это не концептуальная, а пространственно-временная детерминация. Эти две детерминации несводимы, вы никогда не сможете вывести одну из другой. Между ними наличествует некий синтез.
А познавать – это что такое? Познавать означает осуществлять синтез между концептуальными детерминациями и детерминациями пространственно-временными. И вот Кант собирается вырвать пространство и время из сферы концепта, из концепта логического. Разве не случайно эту операцию он сам назовет эстетикой? Разве – даже на самом грубом уровне эстетики, на уровне известнейшего выражения «теория искусства», – это освобождение пространства и времени от отношений к логическим концептам не послужит основой для всех так называемых эстетических дисциплин?
Вы видите, как теперь, на этом втором уровне, Кант определил бы синтез. Он сказал бы, что синтез – это акт, посредством которого я выхожу за рамки всякого концепта, чтобы утверждать нечто, к концептам несводимое. Познавать – это осуществлять некий синтез, так как это с необходимостью означает выходить за рамки всякого концепта, утверждая нечто внеконцептуальное. Прямая линия, концепт, за пределы которого я выхожу, представляет собой кратчайший путь от одной точки до другой; такова пространственно-временная внеконцептуальная детерминация. В чем различие между этой второй кантовской пропозицией и пропозицией первой? Полюбуйтесь на прогресс, сделанный Кантом. Первое определение Канта, когда он говорил, что познавать означает работать посредством синтеза, высказывать синтетические пропозиции, первая пропозиция Канта сводилась к следующему: познавать означает выходить за пределы некоего концепта, утверждая о нем то, что в нем не содержалось. Однако на этом уровне я не мог бы узнать, прав ли он. И вот пришел Лейбниц и сказал, что при бесконечном анализе в концепте будет всегда содержаться то, что я об этом концепте утверждаю. Второй, более глубокий, уровень: Кант уже не говорит нам, что познавать означает выходить за рамки некоего концепта, утверждая нечто подобное другому понятию; нет, познавать означает выходить за рамки концепта, с тем чтобы утверждать нечто несводимое к порядку концепта вообще. Это гораздо более интересная пропозиция.
И опять до решения далеко. Разрешимая ли это проблема? Один говорит нам, что всякое различие в конечном счете концептуально, стало быть, вы не можете ничего утверждать о концепте, который выходит за рамки концепта вообще; другой говорит нам, что существуют две разновидности различий: концептуальные и пространственно-временные – и поэтому, наоборот, познавать – это с необходимостью выходить за рамки концепта, чтобы утверждать нечто несводимое ни к какому концепту вообще, то есть нечто касающееся пространства и времени.
В этом месте мы догадываемся, что мы никуда не пришли, так как у Канта есть нечто натянутое, и хотя он здесь и не был вынужден сказать этого, но спустя сто страниц Кант сможет сказать, что пропозицию о несводимости пространственно-временных детерминаций к концептуальным он может утверждать лишь с помощью некоего трюка. Чтобы его пропозиция получила смысл, необходимо радикально изменить традиционное определение пространства и времени.
Надеюсь, вы становитесь чувствительнее. Кант предлагает совершенно новую детерминацию пространства и времени. И что же это означает?
Мы приходим к третьему «столпу» оппозиции «Кант – Лейбниц». Эта оппозиция лишена всякого интереса, если не видеть, что лейбницианские и кантовские пропозиции распределяются в двух совершенно отличных друг от друга пространствах-временах. Иными словами, пространство-время, о котором Лейбниц сказал: все эти детерминации пространства и времени сводимы к детерминациям концептуальным, и другое пространство-время, о котором Кант говорит нам, что детерминации пространства-времени совершенно несводимы к порядку концептов. Именно это надо было бы показать простым способом: почувствуйте, что это момент, когда мысль колеблется.
Очень долго пространство определяли как, некоторым образом, порядок сосуществований. Порядок сосуществований или одновременностей. А время определяли как порядок последовательностей. Но разве случайно Лейбниц доводит эту весьма древнюю концепцию до предела, до своего рода безусловной формулировки? Лейбниц добавляет, и делает это формально: пространство – это порядок возможных сосуществований, а время – это порядок возможных последовательностей. Почему, добавляя слово «возможных», он доводит эту формулировку до абсолютной? Потому что она отсылает к его теории совозможности и мира. Итак, он схватывает старую концепцию пространства и времени, пользуясь ею для собственной системы. На первый взгляд, это неплохо: в действительности всегда возникает деликатная ситуация, когда меня спрашивают, не повторяю ли я как рефлекс то, что время есть порядок последовательностей, а пространство есть порядок существований, – и все-таки тут есть некий пустяк. Что же смущает Канта? И эта страница относится к прекраснейшим у него… Он говорит: ну нет же! Кант говорит, что это не работает; он говорит, что, с одной стороны, я не могу определить пространство через порядок сосуществований, а с другой – я не могу определить время через порядок последовательностей. Почему? Потому что в конечном счете это принадлежит времени. Само слово «сосуществование» отсылает к времени. Иными словами, это модус времени.
Время есть форма, в которой происходит не только то, что сменяет друг друга, но и то, что существует в одно и то же время. Иными словами, сосуществование, или одновременность, – это модус времени.
Пройдет много времени, прежде чем возникнет знаменитая теория, теория относительности, одним из основополагающих аспектов которой будет попытка помыслить одновременность в терминах времени. Я отнюдь не говорю, что это Кант придумал теорию относительности; я говорю, что такая формула – в том, что в ней было для нас уже понятным, – не была бы понятной, если бы за несколько столетий до этого не существовал Кант. Кант был первым, кто сказал нам, что одновременность не принадлежит к пространству, но принадлежит к времени.
И это уже переворот в порядке концептов. Иными словами, Кант скажет, что время имеет три модуса: то, что длится сквозь него, мы называем постоянством; то, что в нем сменяет друг друга, мы называем последовательностью; а то, что в нем сосуществует, мы называем одновременностью, или сосуществованием.
Я не могу определить время через порядок последовательностей, так как последовательность есть всего лишь один из модусов времени, и у меня нет никаких оснований ставить этот модус в привилегированное положение по отношению к другим. И в то же время еще один вывод: я не могу определять пространство через порядок сосуществований, так как сосуществование не принадлежит к пространству.
Если бы Кант сохранял классическое определение времени и пространства как порядков сосуществований и последовательностей, то он не мог бы – или, по крайней мере, в этом не было бы никакого интереса, – критиковать Лейбница, так как если я определяю пространство через порядок сосуществований, а время – через порядок последовательностей, то само собой получается, что пространство и время отсылают в конечном счете к тому, что следует друг за другом, и к тому, что сосуществует, то есть к тому, что выразимо в порядке концепта. И нет никакой разницы между пространственно-временными и концептуальными различиями. В действительности порядок последовательностей получает смысл существования благодаря тому, что следует друг за другом, а порядок сосуществований – благодаря тому, что сосуществует.
Именно в этот момент концептуальному различию принадлежит последнее слово в сфере всех различий. Кант не смог бы порвать с классическими концепциями, доведенными Лейбницем до абсолюта, если бы не предложил нам иную концепцию пространства и времени. Эта концепция совершенно необычная и вполне знакомая. Что такое пространство? Пространство – это форма. Это означает, что пространство не субстанция и не отсылает к субстанциям. Когда я говорю, что пространство – это порядок возможных сосуществований, то порядок возможных сосуществований в конечном счете объясняется сосуществующими вещами. Иными словами, пространственный порядок должен найти основание в порядке вещей, заполняющих пространство. Когда Кант говорит, что пространство – это форма, то есть не субстанция, это означает, что оно не отсылает к вещам, его заполняющим. Это форма, которую следует определить – но как? Он говорит нам, что это – форма экстериорности. Это форма, в которой к нам приходит все, что является внешним по отношению к нам, – ну ладно! – но и не только это: это еще и форма, в которой происходит все, что является внешним по отношению к самому себе. Здесь Кант вновь совершает прыжок в традицию. Традиция всегда определяла пространство как partes extra partes, одни части пространства являются внешними по отношению к другим. Но это было всего лишь одним из свойств пространства, и вот приходит Кант и делает из этого сущность пространства. Пространство есть форма экстериорности, то есть форма, в которой к нам приходит то, что является внешним по отношению к нам, и происходит то, что остается внешним по отношению к самому себе. Если бы не существовало пространства, не существовало бы и экстериорности. Совершим прыжок во время. Кант дает симметричное определение, он бьет нас дубиной: время будет формой интериорности. Это означает – что? Во-первых, что это форма того, что приходит к нам изнутри. Но и не только это. Вещи располагаются во времени, и это предполагает, что у них есть какая-то интериорность. Время – это способ, каким вещь является внутренней по отношению к самой себе.
Если мы совершим скачки и если мы осуществим сближения, то увидим, что гораздо позже будет существовать философии времени и, более того, время станет главной проблемой философии. А ведь длительное время дела обстояли иначе. Если вы возьмете классическую философию, то, конечно, существовали философы, всерьез интересовавшиеся проблемой времени, и они кажутся чудаками. Так почему же нам всегда преподносят так называемые незабываемые страницы Блаженного Августина о времени? Главная проблема классической философии – это проблема протяженности, а именно: каковы отношения между мыслью и протяженностью, раз сказано, что мысль не относится к протяженности.
И хорошо известно, что так называемая классическая философия придает большое значение соответствующей проблеме – единству мысли и протяженности – в конкретном аспекте единства души и тела. Стало быть, это отношение мысли к тому, что предстает наименее прозрачным для мысли, а именно – к протяженности.
Известным образом, некоторые считают, что философия Новейшего времени испытала своего рода изменение проблематики, и мысль в ней имеет дело со временем, и в меньшей степени, – с протяженностью. Проблема соотношения мысли и времени непрестанно сотрясала философию. Ситуация выглядела так, словно единственная вещь, с которой сталкивалась мысль, была форма времени, а не форма пространства.
Кант осуществил своего рода революцию: он вырвал пространство и время из порядка концептов, так как наделил пространство и время двумя абсолютно новыми детерминациями: формой экстериорности и формой интериорности. Лейбниц – это конец XVII и начало XVIII веков; Кант – это XVIII век. Между ними – не столь большой период времени. Что же произошло? В процесс вмешалось многое: научные изменения, так называемая ньютонианская наука, политическая ситуация. Когда произошли такие изменения в порядке концептов, мы не можем поверить в то, что ничего не произошло с социальной точки зрения. Среди прочего произошла даже Французская революция! Действительно ли она имела в виду другое пространство-время – нам неизвестно. Существовали ли изменения повседневной жизни? Допустим, что порядок философских концептов выражает это на свой лад, даже если он опережает события.
Еще раз, мы исходили из первой оппозиции «Лейбниц – Кант» и сказали себе, что она неразрешима. Я не могу выбрать между пропозицией и другой пропозицией, когда познание действует посредством синтетических пропозиций. Необходимо отступить. Первое отступление: у меня снова две антитетичные пропозиции: всякая детерминация в конечном счете концептуальная, и кантовская пропозиция: существуют пространственно-временные детерминации, несводимые к порядку концепта. Необходимо отступить еще дальше, чтобы обнаружить своего рода пресуппозицию, а именно: оппозиция «Лейбниц – Кант» действует лишь в той мере, в какой мы считаем, что пространство и время определяются отнюдь не одинаково. Любопытно, но эту идею, согласно которой пространство есть то, что открывается нам вовне, ни разу не высказал ни один классик. Здесь уже – экзистенциальные отношения с пространством. Пространство – это форма того, что приходит к нам извне. Если я, например, хочу установить отношения между поэзией и философией, то что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду открытое пространство. Если вы определяете пространство как среду экстериорности, то это открытое пространство, а не пространство замкнутое{ Bouclé, то есть «застегнутое» или «закрытое пробкой».}. Лейбницианское пространство – пространство замкнутое, это порядок сосуществований. Форма Канта есть форма, которая открывает нас для x, это форма неких вторжений. Это уже романтическое пространство. Это пространство эстетическое, так как оно избавлено от логического порядка концепта; это пространство романтическое, так как это пространство вторжений. Это пространство открытого.
И когда вы увидите у гораздо более поздних философов вроде Хайдеггера своего рода великую песнь на тему открытого, вы увидите, что Хайдеггер ссылается на Рильке{ Открытому у Хайдеггера и Рильке посвящено несколько глав в книге Дж. Агамбена «Открытое. Человек и животное». М., 2012.}, который сам заимствовал это понятие «открытого» у немецкого романтизма. Вы лучше поймете, почему Хайдеггер ощутил потребность написать книгу о Канте. В этой книге глубокой валоризации подвергнется понятие открытого. В то же время поэты изобретают это понятие как ритмическую или эстетическую ценность. И одновременно ученые изобретают его как научное пространство.
Оттуда, где я сейчас нахожусь, очень трудно сказать, кто ошибался и кто прав. Хочется сказать, что Кант соответствует нам больше. Он лучше соотносится с нашим способом бытия в пространстве: пространство есть моя форма открытости. Но можем ли мы сказать, что Лейбниц устарел? Это не так просто.
Четвертый пункт. Может быть, до крайней точки того, что является новым, в философии происходит то, что называют [нрзб.]. В конечном счете, ни один автор никогда не дошел до конца своих намерений. Это не Кант дошел до конца своих идей – появятся постканцианцы, которые станут великими философами немецкого романтизма. Это они, доведя Канта до предела, ощутят такую странную вещь, как возвращение к Лейбницу.
[Конец пленки.]
Я ищу глубокие изменения, которые влечет за собой кантовская философия как по отношению к так называемой классической философии, так и по отношению к философии Лейбница. Мы видели первое изменение, касающееся пространства-времени. Существует и второе изменение, на сей раз касающееся понятия феномена. Вы увидите, почему оно отсюда проистекает. В течение очень долгого времени феномен противопоставляется чему? И что он означает? «Феномен» зачастую переводят словом «явление». Явления… А явления – это, допустим, чувственное. Чувственные явления. А явление отличается от чего? Оно образует дуплет, оно формирует пару с соотносительным понятием сущности. Явление противостоит сущности. И платонизм разработает двойственность явления и сущности – чувственные явления и умопостигаемые сущности. Он выведет отсюда знаменитую концепцию: концепцию двух миров. Существует два мира, чувственный мир и мир умопостигаемый. Пленники ли мы мира явлений, из-за наших органов чувств и наших тел?
Кант использует слово «феномен», и у читателя складывается впечатление, что когда он пытается подставить старое понятие «явление» под кантианское слово, то это не работает. В том ли дело, что на уровне феномена не получится столь же важная революция, как для времени и пространства? Когда Кант использует слово «феномен», он заряжает его гораздо более мощным смыслом: уже не явление отделяет нас от сущности, а явленность. То, что является так, как оно является. Феномен у Канта – это не явление (apparence), это явленность (apparition).
Явленность есть манифестация того, что является так, как оно является. Почему явленность непосредственно связана с предшествующей революцией? Когда я говорю, что нечто является в том виде, как оно является, то что это означает? Это означает, что то, что является, с необходимостью является в пространстве и во времени. Это непосредственно «спаяно» с предыдущими тезисами. «Феномен» означает: то, что предстает в пространстве и во времени. Это уже не означает «чувственное явление», это означает «пространственно-временную» явленность. Где то, что показывает, до какой степени это не одно и то же? А если я буду искать дуплет, с каким соотносится явленность? Мы видели, что явление соотносится с сущностью до такой степени, что могут существовать два мира: мир явлений и мир сущностей. Но явленность – она входит в отношения с чем? Явленность соотносится с условием. Все, что является, является при условиях своей явленности. Условия заставляют явленность явиться. Именно условия способствуют тому, чтобы являющееся явилось. Явленность отсылает к условиям явленности, подобно тому как явление отсылало к сущности. Кое-кто скажет, что явленность отсылает к смыслу. Дуплет – это явленность и смысл явленности. Феномен больше не мыслится как явление в соотношении с его сущностью, но мыслится как явленность в соотношении со своими условиями, или со своим смыслом.
Новый удар грома: существует не один-единственный мир, образованный тем, что является, и смыслом того, что является. То, что является, уже не отсылает к сущностям, которые крылись за явлением; то, что является, отсылает к условиям, обусловливающим явленность того, что является. Сущность уступает место смыслу. Концепт уже не сущность вещи, это смысл явленности. Поймите, что «феномен» – совершенно новый концепт в философии, откуда будет исходить детерминация философии под именем новой дисциплины, а именно феноменологии. Феноменология будет дисциплиной, которая станет рассматривать феномены как явленности, отсылая к условиям или к смыслу, вместо того чтобы рассматривать их как явленности, отсылающие к сущностям. Феноменология получит столько смысла, сколько вы захотите, но она составит, по крайней мере, это единство, и ее первый великий момент возникнет именно у Канта, притязающего на занятия феноменологией как раз потому, что, изменив концепцию феномена, он сделал его предметом феноменологии, вместо того чтобы превратить его в объект некоей дисциплины, изучающей явления. Первым великим моментом в превращении феноменологии в автономную дисциплину станет Гегель, который назовет свой знаменитый текст «Феноменологией духа». Именно это словосочетание очень необычно. Ведь «Феноменология духа» – это как раз та великая книга, которая провозглашает исчезновение двух миров; отныне существует лишь один-единственный мир. Формула Гегеля такова: за занавесом ничего не увидишь. С философской точки зрения это означает, что феномен – это уже не явление, за которым располагается некая сущность; феномен – это явленность, отсылающая к условиям своей явленности. Существует один-единственный мир. В этот-то момент философия разрывает последние узы, привязывавшие ее к теологии. Вторым моментом феноменологии будет момент Гуссерля, который обновит феноменологию благодаря теории явленности и смысла.
Он придумает присущую феноменологии форму логики. Но положение вещей, очевидно, гораздо сложнее. Я предлагаю вам чрезвычайно простую схему: Кант – тот, кто рвет с простой оппозицией между явлением и сущностью, чтобы основать соотношение «явленность – условия явленности», или «явленность – смысл». Но полностью избавиться от некоторых вещей здесь очень трудно. Кант сохранит кое-что от старой оппозиции. У него есть забавная штуковина, различение феномена и вещи в себе. «Феномен» – «вещь в себе» – у Канта здесь кое-что сохраняется от старого «явления». Но совершенно новый аспект у Канта – это конверсия в другой паре понятий: «явленность – условия явленности». И вещь в себе – это отнюдь не условия явленности. Это нечто совершенно иное. И второе уточнение: от Платона до Лейбница нам говорили, что существуют не просто явления и сущности. Более того, уже у Платона возникает весьма любопытное понятие, которое он называет хорошо обоснованным явлением, то есть сущность от нас скрывается, однако известным образом явление тоже выражает ее. Отношения между явлением и сущностью очень сложны, и Лейбниц пытается их продвинуть в весьма любопытном направлении: он создает для этого теорию символизации. Лейбницианская теория символизации причудливым образом готовит кантовскую революцию. Феномен символизирует сущность. Эти отношения символизации уже не отношения, связывающие явление с сущностью.
Попытаюсь продолжить. Новый переворот на уровне концепции феномена. Вы видите, в чем он тут же образует цепную реакцию с переворотом пространства-времени. Наконец, основополагающий переворот на уровне субъективности.
Здесь тоже забавная история. Когда оно возникает, это понятие субъективности? Лейбниц доводит до конца – на путях гения и бреда – пресуппозиции классической философии. Такая точка зрения, как принадлежащая Лейбницу, дает нам немного выбора. Она относится к философиям творения. Что означает «философия творения»? Это такие философии, которые вступают с теологией в известный союз – до такой степени, что даже атеисты, сколь бы атеистичными они ни были, без Бога не обходятся. Это работает не на уровне слова: очевидно, они завязывают этот союз с теологией, способствующий тому, что известным образом они будут исходить из Бога. Это означает, что их точка зрения является в своих основах креационистской. И даже философы, которые занимаются чем-то другим, нежели креационизм, то есть которые не интересуются концептом творения или заменяют концепт творения чем-то иным, борются против творения, будучи зависимыми от концепта творения. Как бы там ни было, они исходят именно из бесконечного. У философов был невинный способ мыслить, исходя из бесконечного, и они себе всегда задавали бесконечное. Существовало бесконечное. Бесконечное было повсюду, и в Боге, и в мире. Это позволяло философам делать такие штуки, как анализ бесконечно малых. Невинный способ мыслить, исходя из бесконечного, – это означает мир творения. Они могли зайти очень далеко, но не до конца. Субъективность… Чтобы продвинуться в этом направлении, потребовалось совершенно иное множество. Упомянутые философы не смогли дойти до предела открытия субъективности, и все-таки они зашли очень далеко.
Декарт изобретает собственный – знаменитый – концепт. А именно: он открывает субъективность, или мыслящего субъекта. Его открытие – в том, что мысль отсылает к некоему субъекту. Идея мыслящего субъекта: греки бы даже не поняли, о чем с ними говорят. Лейбниц ее не забудет – существует лейбницианская субъективность. И как правило, философию Нового времени определяют через открытие субъективности. Они{ Очевидно, имеются в виду только что упомянутые Декарт и Лейбниц.} не могут дойти до конца этого открытия субъективности по очень простой причине: дело в том, что сколь бы далеко они ни продвигали эту субъективность в исследованиях, ее можно полагать только как сотворенную – как раз потому, что у них был невинный способ мыслить исходя из бесконечного.
Мыслящий субъект как субъект конечный может быть мыслимым только как созданный, сотворенный Богом. Мысль, соотнесенную с субъектом, можно помыслить только как созданную, это означает – что? Это означает, что мыслящий субъект есть субстанция, он вещь. Res. Это не протяженная вещь, как о ней говорит Декарт, а вещь мыслящая. Это не протяженная вещь, но это вещь, это субстанция, и она обладает статусом сотворенных вещей, это сотворенная вещь, сотворенная субстанция. И вот это блокирует мысль упомянутых мыслителей. Вы мне скажете, что это нетрудно, им надо всего лишь поставить мыслящего субъекта на место Бога, и в этой смене мест нет ничего интересного. Вот в этот момент следовало бы говорить о бесконечном мыслящем субъекте, по отношению к которому конечные мыслящие субъекты сами были бы созданными субстанциями. Мы ничего бы не выиграли. И все-таки их сила, а именно этот невинный способ мыслить в зависимости от бесконечного, подводит упомянутых философов к самым вратам субъективности и мешает им войти в эти врата.
В чем состоит разрыв Канта с Декартом? Каково различие между кантианским cogito и cogito картезианским? У Канта мыслящий субъект не есть субстанция, он не определяется как мыслящая вещь. Он будет чистой формой, формой явленности всего, что является. Иными словами, это условие явленности всего, что является в пространстве и во времени.
Новый удар грома. Кант собирается найти новые отношения мысли с пространством и временем. Чистая форма, пустая форма – здесь Кант становится великолепным: он доходит до того, что заявляет: это – наиболее бедная мысль. Правда, это условие всякой мысли о какой-либо вещи. «Я мыслю» есть условие всякой мысли о какой-либо вещи, которая является в пространстве и во времени, но сами пространство и время суть пустые формы, обусловливающие всякую явленность. Это становится чрезвычайно суровым миром, миром-пустыней. Пустыня растет. То, что исчезло, это мир, населяемый божественным, бесконечным; мир стал миром людей. То, что исчезло, это проблема творения, на смену которой приходит совершенно иная проблема – которая станет главной проблемой романтизма. Проблема основания, или обоснованности. И вот теперь возникает мысль хитрая, пуританская, пустынная, которая задает себе вопрос: если сказано, что мир существует и что он является, то как обосновать его?
Вопрос о творении изгнан, и теперь возникает проблема обоснованности. Если действительно существовал философ, который придерживался рассуждений (discours) Бога, то это Лейбниц. Теперь образцом философа стал герой, герой-основатель. Это тот, кто обосновывает нечто в существующем мире, а не тот, кто мир создает.
Основатель есть тот, кто обусловливает условия того, что является в пространстве и во времени. Здесь все взаимосвязано. Изменение в понятии пространства-времени, изменение в понятии субъекта. Мыслящий субъект как чистая форма будет всего-навсего актом обоснования мира, такого, каким он является, и познания мира, такого, каким он является. Это совершенно новое предприятие. Го д назад я пытался отличить художника-классика от художника-романтика. Художник-классик и представитель барокко суть два полюса одного и того же предприятия. Я бы сказал, что художник-классик есть тот, кто организовал стихии и кто – некоторым образом – попал в ситуацию Бога: это творение. Художник-классик постоянно возобновляет творение, организуя стихии и непрестанно переходя от одной стихии к другой. Он попадает из воздуха на землю, он отделяет землю от вод. Это как раз занятие Бога при сотворении мира. Они обращаются к Богу со своего рода пари, они собираются делать то же самое – это и есть художник-классик. Романтик, на первый взгляд, менее безумен, и его проблемой является проблема основания; это уже не основание мира, а основание земли; это уже не основание стихии, а основание территории. Выйти за пределы своей территории, чтобы обнаружить центр земли, – вот что такое основание. Художник-романтик отказался творить, потому что существует гораздо более героическая задача, и эта героическая задача есть основание. Это уже не творение и стихия, это: я покидаю свою территорию. Эмпедокл… Основание безосновно. Вся посткантианская философия Шеллинга сложится вокруг этой разновидности повсеместно встречающегося концепта – или основания, обоснованности – безосновности. Песня (Lied) всегда представляет собой следующее: это чертеж территории, посещаемой героем, и герой отправляется туда, он устремляется к центру Земли, он дезертирует. Песнь о земле. Малер… Намечена оппозиция между песенкой о территории и песнью о земле.
Этот музыкальный дуплет «территория – земля» (territoire – terre) есть точное соответствие тому, что в философии представляют собой феномен явленности и условия явленности. Почему же философы отбрасывают точку зрения творения?
Почему герой – не тот, кто творит, но тот, кто основывает? Если и существовал момент, когда западная мысль чуть подустала от обращения к Богу и от мыслей в терминах творения, то зерно этого, должно быть, здесь. Подходит ли нам образ героической мысли сегодня? Со всем этим покончено.
Поймите колоссальную важность этой замены мыслящей субстанции формой «Я». Мыслящая субстанция – это была еще точка зрения Бога: это конечная субстанция, но она сотворена в зависимости от бесконечного – и сотворена Богом.
А вот когда Кант говорит нам, что мыслящий субъект не вещь, он подразумевает вещь сотворенную; это форма, обусловливающая явленность всего, что является в пространстве и во времени, то есть то, что представляет собой форму основания. Так что же Кант вот-вот сделает? Он возведет конечное «Я» в первопринцип.
Это страшно – поступать так. История Канта в большой степени зависит от Реформации. Конечное «Я» есть подлинное основание. И вот первопринцип становится конечностью. Для классиков конечность – это последствие, это ограничение чего-то бесконечного. Сотворенный мир конечен – скажут нам классики, – так как он ограничен. Конечное «Я» обосновывает мир и познание мира, потому что само конечное «Я» есть основание, составляющее то, что является. Иными словами, конечность и есть основание мира. Отношения между бесконечным и конечным полностью переворачиваются. И уже не конечное будет ограничением бесконечного; нет, бесконечное будет преодолением конечного. Но ведь конечное должно преодолеть само себя. Понятие самопреодоления начинает формироваться как философия. Оно пройдет через всего Гегеля, оно дойдет до Ницше. Бесконечное уже неотделимо от акта преодоления конечного, ибо только конечное может преодолевать само себя.
Все, что мы называем диалектикой, представляет собой операцию бесконечного по самотрансформации, когда бесконечное становится и стало актом, посредством которого конечность преодолевает сама себя, составляя или основывая мир. И бесконечное как раз подчинено действию конечного.
Что же отсюда проистекает? У Фихте есть страница, образцовая для этой полемики Канта с Лейбницем. Вот что говорит нам Фихте: я могу сказать, что A есть A, но это всего лишь гипотетическая пропозиция. Почему? Потому, что она имеет в виду, что A существует. Если A существует, то A есть A, но если не существует ничего, то A не есть A. Это очень интересно, потому что Фихте собирается опровергнуть принцип тождества. Он говорит, что принцип тождества – это гипотетическое правило. Отсюда он выдвигает свою великую тему: преодолеть гипотетическое суждение по направлению к тому, что он называет тетическим суждением. Преодолеть гипотезу по направлению к тезису. Почему же A есть A, если A существует? – Очевидно, потому, что, в конечном счете, пропозиция «A есть A» отнюдь не является ни последним, ни первым принципом. Она отсылает к чему-то более глубокому, а именно к тому, что необходимо сказать, что A есть A потому, что оно так мыслится. А именно: то, на чем основывается тождество мыслимых вещей, есть тождество мыслящего субъекта. Но ведь тождество мыслящего субъекта есть тождество конечного «Я». Стало быть, первопринцип – не «A есть A», а «Я есть Я». Этот немецкий философ будет загромождать свои книги магической формулой: «Я есть Я». Почему же эта формула столь причудлива? Это синтетическое тождество, так как «Я есть Я» отмечает тождество «Я», мыслящего себя как условие всего, что является в пространстве и во времени и [нрзб.] что само является в пространстве и времени. Здесь – синтез, который является синтезом конечности, а именно мыслящий субъект, первое «Я», формирует все из того, что является в пространстве и во времени; оно само должно явиться в пространстве и во времени, стало быть «Я» есть «Я». Так синтетическое тождество конечного «Я» заменяет аналитическое бесконечное тождество Бога.
Я заканчиваю двумя вещами: что может означать – быть лейбницианцем сегодня? Ведь Кант, безусловно, создал радикально новое множество концептов. Это совершенно новые концептуальные философские координаты. Но в случае с этими новыми координатами Кант в некотором смысле обновляет все, хотя в том, что он демонстрирует, существует множество непроясненных штуковин. К примеру: какие точные отношения существуют в условиях явленности самого феномена в том виде, как он является?
Я повторяю: мыслящее «Я», конечное «Я» обусловливает и обосновывает явленность феномена. Феномен является в пространстве и во времени. Как это возможно? Что такое эти отношения обусловливания? Иными словами, какова форма познания, которое обусловливает явленность всего, что является?
Как это возможно, каковы отношения между обусловленным и условием? Условие есть форма [нрзб.]. Кант очень упрям. Он говорит, что это факт разума. Он, который так много боролся за то, чтобы возвести этот вопрос на уровень quid juris, – и вот он ссылается на то, что сам он называет factum; конечное «Я» складывается так, что то, что для него является, то, что перед ним предстает, соответствует условиям явленности в том виде, как их определяет его собственная мысль. Кант скажет, что это согласие между обусловленным и условием представляет собой гармонию наших способностей и может объясняться только ими: имеются в виду наша пассивная чувствительность и наша активная мысль. Что делает Кант? Это патетично: он намеревается поставить Бога у нас за спиной. Сам Кант скажет, чтó гарантирует эту гармонию: идея Бога.
А что же сделают посткантианцы? Посткантианцы – это философы, которые скажут прежде всего, что Кант – это гениально; но что касается нас, мы не можем больше останавливаться на внешних отношениях между условием и обусловленным, ибо, если мы останемся при этих фактических отношениях – а именно, что существует гармония между обусловленным и условием, и только так, – мы будем вынуждены воскрешать Бога как гаранта гармонии.
Кант еще застревает на точке зрения внешнего обусловливания; он не доходит до подлинной точки зрения генезиса. Необходимо показать, как условия явленности суть в то же время генетические элементы того, что является. Что же необходимо сделать, чтобы показать это? Необходимо принять всерьез одну из кантовских революций, на которую Кант обращает мало внимания, а именно на то, что бесконечное есть воистину акт конечности, преодолевающей саму себя. Кант обращал на это мало внимания, потому что он довольствовался редукцией бесконечного к неопределенному. Чтобы вернуться к сильной концепции бесконечного, но не в духе классиков, надо показать, что бесконечное есть бесконечное в сильном смысле, но, будучи таковым, это еще и акт преодолевающей себя конечности, а преодолевая себя, она образует мир явленностей. Это и означает заменять точку зрения творения точкой зрения условия. Но ведь делать это означает возвращаться к Лейбницу. Однако на других основах, нежели у Лейбница. Все элементы для того, чтобы осуществить генезис – такой, на который притязают посткантианцы, – все эти элементы виртуально есть у Лейбница. Идея дифференциала сознания: вот в этот момент необходимо, чтобы сознание погрузилось в бессознательное и чтобы существовало бессознательное мысли как таковое. Классики сказали бы, что только Бог преодолевает мысль. Кант сказал бы, что существует мысль как форма конечного «Я». Здесь необходимо назначить бессознательное мысли, которое содержало бы дифференциалы того, что является в мысли. Иными словами – которое осуществляет творение обусловленного в зависимости от условия. Вот это и будет великой задачей Фихте, заимствованной Гегелем из других оснований.
Вы видите, они{ Имеются в виду немецкие романтики.} – в предельном случае – могут вновь обрести всего Лейбница. А мы? Произошло много разнообразных вещей. Итак, я определяю философию как деятельность, состоящую в создании концептов. Создавать концепты столь же творческий процесс, как искусство. Но подобно всему остальному, создание концептов происходит в соответствии с другими модусами творения. В каком смысле нам необходимы концепты? У них есть некое материальное существование. Концепты – это духовные звери. Как происходят такого рода обращения к концептам? Старые концепты будут служить нам при условии их заимствования в новых концептуальных координатах. Существует своего рода философская чувствительность, и это – искусство оценивать непротиворечивость некой совокупности концептов. Работает ли это? Как это функционирует? У философии нет истории отдельной от остального. Ничто, никогда, никто не преодолевается. Нас никогда не преодолевают в том, что мы создаем. Нас всегда преодолевают в том, чего мы не создаем, – по определению. Что произошло в нашей современной философии? Я полагаю, что герои перестали считать себя героями-основателями в романтическом духе.
Основополагающее в том, что в общем и целом мы можем назвать нашей эпохой модерна, и что стало своего рода провалом романтизма в той его части, которая касается нас. Гёльдерлин и Новалис для нас больше не работают, а если и работают, то в рамках наших новых координат. Мы перестали считать себя героями. Образец философа и художника теперь отнюдь не Бог, ставящий перед собой цель создать эквивалент некоего мира; это отнюдь не герой, ставящий перед собой цель основать мир, – он стал чем-то совсем иным. Существует небольшой текст Пауля Клее, где он пытается показать, в чем он видит собственное отличие от предшествующих стилей живописи. Мы уже не можем обращаться к мотиву. Существует своего рода непрерывный поток, и в этом потоке есть некая кривизна. А затем и поток перестает проходить через места кривизны. Координаты живописи изменились.
Лейбниц – это бесконечный анализ; Кант – это великий синтез конечности. Предположим, что сегодня мы живем в эпоху синтезатора: это будет похлеще.
1986/87 Лекция 1
Складка, повторение
(16.12.1986)
Произошло столько всего, что мы с трудом узнаём сами себя. Я не слишком хорошо знаю, что вы помните из того, что мы делаем. Если уж нам сказали, что не надо, чтобы студенческое движение утрачивало силу, то можно мне посоветовать, чтобы вы написали петицию в адрес президента университета, опровергая гипотезу совместимости с безопасностью барьеров, которые вам поставили? В случае если это вспыхнет, как вы будете спасаться? С другой стороны, история с ключами, то с закрытыми, то с открытыми, то с незакрытыми, то с неоткрытыми дверьми серьезно вредит вам в ваших интеллектуальных усилиях. Необходимо написать петицию, и очень вежливую. Тем не менее – барьеры, подумайте! Ладно. На предыдущих лекциях, когда вас было очень-очень мало, мы говорили о том, что произошло, и я не думаю, чтобы было бы необходимо возвращаться к этому вопросу, разве что кто-нибудь захочет сделать заявление.
Я повторяю, хотя это для всех очевидно: чтó реально важно, так это то, что студенческое движение продолжается, длится, что оно не ослабевает. Вот поэтому я полагаю, что очень важны всевозможные попытки студентов на уровне каждого университета – даже для того, чтобы составить контрпроект организации университета. Преподаватели (profs) также могут немного поучаствовать. Ну ладно…
Мы возобновляем занятия, будучи удивлены тому, что это уже четвертая лекция. На следующей неделе начинаются каникулы, они продолжатся с 20-го по 6-е. Мне говорят, что 6-е, как обычно, вторник; всякий раз, как мы возвращаемся, у нас вторник, вот мы и встретимся 6-го. Сегодня я хотел бы предпринять все усилия, чтобы закончить с первой частью, даже если придется сокращать; впрочем, это несложно, и я хотел бы приступить к пронумерованным замечаниям.
Мое первое замечание: вы помните, в чем состоит вводная часть, и я говорил вам: это очень просто, она состоит в том, что барочная философия Лейбница предстает на двух этажах. То, чего я не говорил: уже здесь, в идее двухэтажного мира, есть нечто, что должно поразить нас, поскольку это затрагивает философскую рефлексию в общем и целом. А именно то, что этот двухэтажный барочный мир, к которому я возвращаюсь, имеет в виду философскую рефлексию, взятую в общем, потому что – может быть, именно это очень важный момент в проблеме, которая вот в этот момент, спустя очень долгое время, волнует метафизику, а именно: знаменитая проблема двух миров. Мир умопостигаемый и мир чувственный. Можно ли сказать, что философия барокко или точнее: можно ли сказать, что Лейбниц, показывая нам двухэтажный мир, не вписывается в эту традицию, хотя очень глубоко перетряхивает ее? Как распределяются два этих этажа?
[Двух фраз недостает.]
Лейбниц очень глубоко перераспределяет различие между двумя мирами. Тем более что мы видели, из чего состоят эти два этажа, и я говорил вам, что барочный мир – это мир складки, которая доходит до бесконечности, и мир этот прежде всего дифференцируется, раздваивается на две разновидности складок.
На одном этаже перед нами складки материи, на другом – сгибы в душе. Складки материи и сгибы в душе. А этаж складок в материи – это нечто вроде мира чего-то сложного, составного до бесконечности – ведь материя без конца складывается и развертывается; а другой этаж есть этаж простого. Души просты. Отсюда выражение «сгибы в душе». Мы рассмотрели смутную программу изучения складок материи, а затем погрузились в анализ того, что же означает «сгибы в душе».
Второе замечание. Чтобы ответить на вопрос, что же такое эти сгибы в душе, мы исходили из одного предположения: необходимо, чтобы два этих этажа сообщались между собой, и это касалось некое го идеального генетического элемента складок материи.
На первой лекции мы изучали складки материи, то, почему материя представляет собой некую потенцию, которая непрестанно образует складки, а потом мы перешли к гипотезе об идеальном генетическом элементе складок материи. И наверное, если существует такой элемент, то он уже образует часть второго этажа. И вот, нашим ответом было то, что генетический элемент складок материи – это что? Это переменная кривизна, или сгиб (inflexion). У Лейбница мир основополагающим образом «затронут» некоей кривизной. Мы видели важность этого с точки зрения физики материи, но также и помимо физики материи, в математике и в математических идеальностях. Дело в том, что математическая идеальность есть кривая: кривизна мироздания. Это очень глубокая тема Лейбница.
Вы помните, что это не удивляло нас, – когда мы поняли, что сгиб, или переменная кривизна, доходит до бесконечности. Я вам очень кратко напомню: мы видели это благодаря самим качествам иррационального числа, или «глухого» числа, как говорили в XVII веке; иррациональное, или глухое, число сразу и неотделимо от кривизны на прямой порождает некий бесконечный ряд. Итак, переменная кривизна, или сгиб, доходит до бесконечности. Идее бесконечного ряда предстояло послужить определением для одной из важнейших глав математики Лейбница.
Третье замечание – о сгибе, то есть о переменной кривизне; от сгиба – к точке зрения. Вероятно, понятие сгиба уже напомнило нам о величайшей оригинальности, характерной для философии Лейбница; согласитесь также, что введение точки зрения как философского понятия должно было иметь чрезвычайную важность для философии. От сгиба к точке зрения – почему? Потому, что переменная кривизна отсылает к неким центрам. К центрам кривизны, со стороны вогнутости кривой. Итак, переменная кривизна неотделима от векторов вогнутости. А центр, понимаемый как центр переменной кривизны, – что это такое? Это вершина, это точка зрения. Что означает «это вершина»? Это означает, что он представляет собой место, где сходятся касательные к каждой точке переменной кривой. Вы помните? Я говорил, что такой центр кривизны есть точка зрения на часть кривой, определяемой вектором вогнутости. Но ведь это и было существенным. Я хотел бы, чтобы вы поняли – независимо от чего бы то ни было слишком научного или слишком философского, – как отчетливо мы переходим от идеи сгиба, или переменной кривизны, к идее точки зрения…
Я попытался показать, в каком смысле это было очень важно, и Мишель Серр в своей книге о Лейбнице{ Имеется в виду книга: Serres Michel. Le Système de Leibniz. P., 1968.} превосходно показал, в каком смысле очень важным было то, что в конечном счете у Лейбница произошла замена центра, понимаемого как центр конфигурации некоей регулярной фигуры, – это понятие центра оказалось заменено понятием точки зрения. Центр круга оказался заменен вершиной конуса, вершина конуса есть точка зрения. Итак, мы как бы через необходимую дедукцию переходим от идеи переменной к идее точки зрения, или вершины. Геометрия центра заменяется геометрией вершин, геометрией точек зрения.
Ну как? Это ясно?
Четвертое замечание – но опять-таки относительно всех сегодняшних замечаний верно, что это этапы дедукции. Хорошенько представьте себе, что мы как бы перешли от идеи сгиба к идее точки зрения. Вот это мне кажется основополагающим. Понимаете, если мы начали с того, что задали себе понятие точки зрения у Лейбница, то мы могли бы сказать: ну разумеется, это все интересно, но мы не поняли того, что сюда привело. Когда философ обнаруживает новые концепты, то это происходит не так, не сразу, не у него в голове. Его подводят сюда разнообразные проблемы. Для начала необходимо, чтобы вселенная была «поражена» некоей кривизной, и более того – кривизной переменной: это эластичный мир, это физика эластичности, по Лейбницу. Необходимо, чтобы мироздание было поражено переменной кривизной, чтобы понятие точки зрения получило отсюда поистине конкретное обоснование.
Почувствуйте, как мы переходим от сгиба к точке зрения. Центр переменной кривизны – больше не центр в смысле центра круга, то есть центра правильной конфигурации, это вершина. Вершина, в зависимости от которой я вижу, то есть это нечто показывающее.
Четвертое замечание: но тогда что такое точка зрения?
1. Первое свойство: мне кажется, точка зрения всегда соотносится с некоей вариацией или неким рядом. Более того, она сама представляет собой потенцию постановки в ряд, потенцию упорядочивания, потенцию распределения случаев. Мы видели: в простых математических примерах вершина конуса есть точка зрения, потому что она обладает потенцией упорядочивать кривые второй степени. Окружность, эллипс, параболу, гиперболу… Вершина арифметического треугольника Паскаля – вы помните этот забавный треугольник? Впрочем, в конце концов, неважно… Вершина арифметического треугольника Паскаля соотносится с потенцией распределения степеней числа «два». Таково первое свойство точки зрения.
2. Второе свойство точки зрения: прежде всего, она не означает, что все относительно, или, по крайней мере, она означает, что все относительно лишь при условии, если относительное станет абсолютным. Что я имею в виду? Я имею в виду, что точка зрения не означает относительности того, что мы видим. Это вытекает из предшествующего свойства: если точка зрения – это на самом деле потенция распределения случаев, потенция выстраивания феноменов в ряды, то точка зрения тем самым становится условием возникновения или манифестации некоей истины в вещах. Вы не найдете никакой истины, если у вас не будет детерминированной точки зрения. Именно кривизна вещей требует точки зрения. Мы не можем сказать ничего иного: эта вселенная у Лейбница изгибается, необходимо из этого исходить. В противном случае все остается абстрактным. Иными словами, истины нет, если вы не нашли той точки зрения, при которой она возможна, то есть при которой возможна истина такого рода. Так что теория точки зрения вводит в философию то, что вполне можно назвать перспективизмом. У Ницше как раз такой перспективизм, и у Ницше, как и у Лейбница, перспективизм не означает «каждому – своя истина», но он означает точку зрения как условие проявления истинного. У другого великого перспективиста, романиста Генри Джеймса, точка зрения и техника точек зрения никогда не означали, что истина относительна для каждого, но означали, что существует некая точка зрения, исходя из которой организуется хаос или раскрывается секрет.
3. Третье свойство точки зрения: точка зрения – это отнюдь не фронтальная перспектива, которая могла бы позволить уловить форму при наилучших условиях; точка зрения есть основополагающим образом барочная перспектива. Почему? Дело в том, что точка зрения никогда не бывает инстанцией, исходя из которой мы схватываем форму, но точка зрения есть инстанция, исходя из которой мы схватываем ряд форм в их взаимных переходах: либо как метаморфозы форм, как переходы от одной формы к другой; либо как анаморфоз, как переход от хаоса к форме. Таково свойство барочной перспективы.
4. Последнее свойство точки зрения: точка зрения затронута основополагающим плюрализмом; кто говорит «точка зрения», говорит «многообразие точек зрения». Точка зрения неотделима от плюрализма – допустим, но в каком смысле? Заметьте, что здесь у нас будет маленькая трудность. То, что точка зрения является, по существу, множественной, что всякая философия точки зрения плюралистична, – мы знаем, по крайней мере то, чего это не означает: это, конечно, не означает «у каждого своя истина»; дело не в этом, не на этом основан плюрализм точки зрения. Опять-таки наоборот: мы видели, что это – потенция упорядочивать и выстраивать ряды, выстраивать в ряды множество форм. Точка зрения открывается на бесконечный ряд.
Допустим, да, но тогда… Это немного затруднительно. Почему если точка зрения открывается на бесконечный ряд, то есть допустим, в предельном случае, что всякая точка зрения охватывает ряд рядов, – то есть если всякая точка зрения есть точка зрения на мир (а это не удивительно, потому что кривизной затронут именно мир)… Я пытаюсь сказать вам в совсем простых словах о том, что Лейбниц показывает в гораздо более сложной разработке концептов… если всякая точка зрения есть точка зрения на мир, то почему же существует много точек зрения? Если точка зрения есть точка зрения на бесконечный ряд, то почему существует много точек зрения? Может быть, здесь нам нужно учесть трудности… И все-таки вполне можно утверждать: имеется сущностная множественность точек зрения. Может быть, достаточно многое объяснено на моем рисунке 2: если мир есть сгиб, а точка зрения определяется со стороны вогнутости, то, очевидно, имеется некая дистрибуция точек зрения вокруг точки сгиба. Стало быть, с необходимостью имеется множество точек зрения. По поводу этого краткого замечания я уверен в двух вещах. Я уверен, что всякая точка зрения открывается на бесконечный ряд, а в предельном случае – на ряд рядов, то есть на мир; и я также уверен, что существует множество точек зрения. Небольшая трудность здесь опять-таки заключается в том, что – в силу первого свойства – точка зрения открывается на бесконечный ряд. Почему существует не единственная точка зрения, которую следует попросту обнаружить и до которой необходимо добраться? Да нет же, с необходимостью существует множество точек зрения из-за кривизны, сгиба, изменчивой кривизны. Необходимо все это уяснить. Мы чувствуем, что существует нечто, что следует уяснить. Тем не менее сугубый плюрализм есть пока что последнее примечательное свойство для точки зрения. Таким было мое четвертое замечание. Это четвертое замечание дает элементы, чтобы определить то, что необходимо иметь в виду под барочной перспективой. Сделав эти четыре первых замечания, я говорю, что мы перешли от изменчивой кривизны, или сгиба, к точке зрения.
Пятое замечание. Мы собираемся перейти от точки зрения к включению, или присущности (слово постоянно встречается у Лейбница, по-латыни – inesse). Что такое inesse? Это означает «бытие-в». Быть присущим кому– или чему-либо… Недостаточно перейти от переменной кривизны, или от сгиба, к точке зрения; необходимо продвигаться от точки зрения к включению и к присущности. Вот о чем пятое замечание… Так что наша цель в полном виде – показать, как мы с необходимостью переходим от переменной кривизны, или сгиба, к включению, или присущности.
Пока что мое пятое замечание таково: как мы переходим от точки зрения к включению? Я говорил вам, что Лейбниц часто берется за следующую тему: вы всегда можете построить в круге прямой угол. И это не центр круга, это вершина; в лейбницианской технике перевода центров в вершины – это вершина прямого угла. Где начинается прямой угол? Чем больше вы будете приближать дугу окружности к самóй вершине, тем с бóльшим успехом вы сможете констатировать, что этот угол уже есть прямой угол. В предельном случае факт, что этот угол – прямой, включен в S, включен в вершину, включен в точку зрения. Вы скажете мне, что – как бы там ни было – это немножко убого, но ведь вот этого я и ищу, вещей, которые поистине сами собой разумеются. Так или иначе, угол прямой уже в точке вершины S – по определению. Ну ладно.
Или еще я сказал бы: переменная кривизна располагается в соответствующем ей центре кривизны. Почему? Потому что как раз этот центр есть место точек, где касательные пересекаются между собой в каждой точке переменной кривой. Это причудливая идея; вот как теперь это следовало бы назвать: видимое, или – если вы предпочитаете то, что проявляется, – феномен. Или, если вы предпочитаете кривую: видимая кривая находится в точке зрения на кривую. Видимая кривая – как бы в центре кривизны, видимая кривая – в точке зрения на кривую. Ладно. Читать философию означает делать две вещи сразу: быть очень внимательным к нанизыванию концептов, и это философское чтение; однако не существует философского чтения, которое не удваивалось бы чтением нефилософским. А нефилософское чтение, без которого философское чтение остается мертвым, – это разного рода чувственные интуиции, которые вы должны пробудить в себе, но чувственные интуиции крайне зачаточные и тем самым чрезвычайно живые.
Видимое включено в точку зрения.
Попытаемся повторить. Какая чувственная интуиция соответствует всему этому? Будем исходить из нашей переменной кривизны. Наша переменная кривизна – это складка, или генетический элемент складки. Мы видели, что материя непрестанно складывается сама в себе, и, обобщенно говоря, мир складчат. Позвольте мне спросить: почему нечто складчато? Это вполне совпадает с вопросом Лейбница: хорошо известно, что Лейбниц спрашивал об основании для всякой вещи, это философия, которая сама предъявляет себя как философия достаточного основания. У всего есть основание. Мы еще увидим, что имеется в виду под основанием, но и тут мы не можем из этого исходить: это слишком абстрактно. Нельзя сказать, что это слишком трудно: если бы это было так, то Лейбниц сразу бы умер. У нас было бы что-то вроде мертвого Лейбница. Вы можете вызвать к жизни философа только с помощью нефилософского прочтения, которому вы его подвергаете. Так что наиболее философским из всех философов является – некоторым образом – наименее философский из философов, а в истории философии наиболее философским из всех философов, который был также наименее философским, то есть доступным и нефилософам, был Спиноза.
У нас нет возможности поговорить о Спинозе – мы говорим о Лейбнице, а нам на ум приходит Спиноза. Этот автор подлежит чрезвычайно сложному философскому чтению и в то же время самому что ни на есть безудержному нефилософскому чтению. Перед тем как появился Ницше, был Спиноза. Но предположим, что был еще и Лейбниц.
Почему нечто складывается?
На уровне нефилософской чувственной интуиции я скажу нечто совсем простое: я не знаю, складываются ли вещи. Лейбниц говорит нам: «Да, вселенная поражена кривизной» – но почему? Какой прок в том, чтобы быть складчатым? Какой прок в том, чтобы быть согнутым? Если вещи складчаты, то это потому, что они вложены внутрь друг друга. Вот хотя бы какой-то ответ. Вещи складчаты только потому, что они обволакиваются другими вещами. Вещи складчаты, потому что они включены в другие, потому что они вложены в них. И вот это очень любопытно. Складка отсылает к оболочке. Складка есть то, что вы вкладываете в оболочку{ Или «конверт» (enveloppe).}, иными словами: оболочка есть основание складки. Вы бы ничего не складывали, если бы это не предназначалось для вложения в оболочку. Оболочка есть конечная цель (cause finale) складки.
Перевожу это в философские концепты. Включение есть основание для сгиба. Сгиб есть основание для кривизны. Необходимо как следует складывать вещи, чтобы влагать их внутрь чего-либо. И мы еще не закончили [нрзб.]. То, что сложено, – я продвигаюсь очень медленно, так как хотел бы, чтобы вы это постепенно поняли, – то, что сложено, или, если вы предпочитаете, то, что согнуто, раз уж сгиб показался нам генетическим элементом складки, – итак, то, что сложено, или изогнуто, или искривлено при переменной кривизне, тем самым чем-то обволакивается.
Вы спросите меня «почему?», но останови́тесь, хватит спрашивать «почему?», не надо спрашивать «почему?», надо спрашивать «работает ли это?».
Таков мир Лейбница.
То, что сложено, с необходимостью чем-то обволакивается, иначе оно не было бы сложено. То, что сложено, – сложено, а то, что искривлено, – искривлено лишь потому, что оно обволакивается. Обволакиваться по латыни – involvere, или implicare. Имплицируемый и обволакиваемый – одно и то же. Implicare – это что? Это состояние складки, которая чем-то обернута, которая во что-то завернута. То, что сложено, тем самым во что-либо завернуто. Все это очень красиво, это столь же прекрасно, как произведение искусства. А по сравнению с произведением искусства у этого есть преимущество: дело в том, что это еще и истинно. Истинно, так как вещи именно таковы. Продолжим. То, что сложено, plicare, соотносится тем самым с implicare; то, что сложено, – в нечто включено. Сделаем еще шажок: то, что сложено, не существует за пределами того, что его включает, что его имплицирует, что его обволакивает. Продолжим делать шажки. То, что сложено, невозможно развернуть – разве что идеально. Развернуть то, что сложено, – возможно, но это абстракция. Вы совершаете абстракцию в самый момент развертывания. Иными словами, то, что сложено, существует лишь в том, что его обволакивает. Но тогда – что за чехол мы сделали?! В этом пятом замечании мы сделали сложный чехол.
Можно сделать вывод: в этом пятом замечании то, что сложено, отсылает не только к точке зрения (это было предметом предыдущих замечаний), но с необходимостью обволакивается некоей вещью, которая занимает точку зрения. Здесь мы пока еще не измерили, насколько мы только что продвинулись вперед. То, что сложено, отсылает к точке зрения, но, кроме того, оно имплицируется, с необходимостью обволакивается той вещью, которая занимает точку зрения.
Мы не измерили все эти мелкие продвижения, так как вы прекрасно ощутили, что когда мы только что сказали: видимое включено в точку зрения, обволакивается ею, то это было приближение, тут что-то не клеилось, именно приблизительно я могу сказать, что прямой угол находится в вершине. Но я уже этого не говорю, это был такой способ выражения, а другого в тот момент не было. А теперь мы все-таки можем немного уточнить, сказать, что это было почти так, но не совсем так. Ибо то, что сложено, то, что сгибается или складывается, – обволакивается некоей вещью, занимающей эту точку зрения…
[Конец пленки.]
А это нечто, которое занимает точку зрения, Лейбниц может – для удобства и для быстрого продвижения – то отождествлять с самой точкой зрения, то, наоборот, отличать от точки зрения.
Итак, я завершаю это пятое замечание и говорю, что теперь перед нами две пропозиции, между которыми устанавливаются отношения прогрессии.
Первая пропозиция: то, что сложено, с необходимостью отсылает к некоей точке зрения, так как сгиб, или переменная кривизна, отсылает к точке зрения.
Вторая пропозиция: то, что сложено, с необходимостью обволакивается чем-то занимающим точку зрения.
Шестое замечание имеет своим объектом уточнение того, в чем состоит прогрессия. До каких пор это работает? Нет ли тут проблем? Я бы хотел, чтобы – если это вам подходит – вы почерпнули отсюда метод для вашего чтения. Я на этом настаиваю, на этой необходимости. Что я сейчас собираюсь произвести, так это едва ли не некую операцию по дефилософизации. Я на самом деле полагаю, что «полностью» философское чтение существует лишь тогда, когда вы способствуете его сосуществованию с чтением нефилософским. Вот почему философия совсем не то, что годится только для специалистов: это сразу и нечто для специалистов, и в то же время нечто для совсем даже не специалистов. Необходимо сохранять одновременно и то и другое. Хорошая философия есть нечто в высшей степени пригодное для специалистов, так как она состоит в создании концептов, – но она основополагающим образом и для неспециалистов, потому что концепты суть на самом деле чертежи чувственных интуиций.
А вот новая инстанция. Сгиб преодолевал себя по направлению к идее точки зрения, а теперь идея точки зрения преодолевает себя по направлению к тому, что занимает точку зрения. Я бы сказал о точке зрения, что она является чем-то обволакивающим, имплицирующим. Складка имплицирована имплицирующим. И это обволакивающее, как мы заранее знаем, есть в общем и целом субъект.
Субъект, или, следуя словам Уайтхеда (нам следовало бы перейти к нему, но обстоятельства пока не позволили… – существует своего рода параллелизм «Лейбниц – Уайтхед»), суперъект{ Здесь игра слов, так как «superjet» – это «сверхзвуковой самолет».}. Именно субъект обволакивает, именно суперъект обволакивает, имплицирует. Что же он обволакивает? Он обволакивает то, что сложено. А что сложено? Мы видели, что у нас есть причины называть его не объектом, а объектилем{ Это слово образовано по модели слова «projectile» – «снаряд».}, так как объектиль – это объект в той мере, в какой он описывал переменные кривые или переменную кривую. Представьте себе это с философской точки зрения: если мы перескакиваем от одной интерпретации к другой – здесь философ впервые определяет субъект как точку зрения, вершину, суперъект. Это очень любопытно: субъект – это тот, кто занимает некую точку зрения.
И я говорю: иногда Лейбниц утверждает, что субъект и точка зрения – одно и то же, но иногда он становится очень формальным, очень точным, и он говорит нам, что точка зрения – это модальность субъекта, и мы не можем сформулировать лучше, чем так: субъект должен получить определение независимо от точки зрения, он оказывается в точке зрения, точка зрения – неотделимый от него модус, но не субъект определяет точку зрения. Здесь у меня складывается впечатление, что комментаторы Лейбница не видят эту прогрессию и довольствуются понятием точки зрения для определения субъекта. Субъект должен быть независимым… Почему? Потому что субъект – это не точка зрения, он обволакивает ее. Он имеет точку зрения, однако – говоря по-ученому – в своей конституции он точкой зрения не является. Он складывается, располагается в некоей точке зрения и неотделим от этой точки зрения, но точка зрения не есть сама его конституция.
Иными словами, какова наша прогрессия? Вначале я сказал, что точка зрения есть точка зрения на бесконечный ряд, то есть что точка зрения есть точка зрения на конституированный ряд, а бесконечный ряд конституирован состояниями мира. Вот что такое точка зрения, она соотносится с бесконечным рядом состояний мира.
Вы видите, что у меня на первом этаже, выше материи, вырисовывается нечто вроде разнообразных малых ярусов; я бы сказал, что если я остаюсь на уровне точки зрения, то я остаюсь там как на шкале перцепции; это мир перцепта. Точка зрения «смотрит» на бесконечный ряд состояний мира. Но и, более того, я говорю: мир, ряд мира, бесконечный ряд мира обволакивается некоей вещью, исходящей из точки зрения, то есть обволакивается субъектом.
Вот в этот момент заметьте, что статус мира изменился; только что он представлял собой бесконечный ряд состояний мира, а теперь уже не совсем так: теперь он обволакивается субъектом – и это что? По природе это то, что мы называем предикатом, или – если вы предпочитаете – атрибутом. Бесконечный ряд состояний мира теперь стал бесконечным рядом предикатов субъекта. Бесконечный ряд предикатов охватывающего их субъекта. Мы перешли от бесконечного ряда состояний к бесконечному ряду предикатов, или атрибутов. Действительно, если бесконечный ряд состояний мира находится в субъекте, охватывается субъектом, то состояния мира суть также предикаты, или субъекты, атрибуты, или субъекты. Все это влечет за собой много разнообразного, но мы пока еще этим не занялись; а именно, мы не занялись устрашающим и прекраснейшим вопросом: что такое атрибут субъекта?
Я говорю вот что: если состояния мира охватываются субъектом, то надо полагать, что состояния мира суть предикаты субъекта, который их охватывает. Вы всегда видите небольшой прогресс, мы находимся уже не в области видимого, мы перешли от видимого к читаемому. С определенной точки зрения я вижу мир, но в самом себе я его читаю. Отсюда текст, который кажется мне столь очаровательным: Лейбниц, «Монадология», параграф 36… Нет, не то, нужен параграф 61; я вам его читаю: душа (то есть субъект) может читать в самой себе лишь то, что представлено в ней отчетливо (неважно, что означает этот текст. Нам пока еще не по силам комментировать его, но мы вполне можем заметить, что Лейбниц никогда не скажет – когда он говорит строго, хотя ему случается говорить и нестрого, чтобы продвигаться быстрее, – он никогда не скажет, что душа видит внутри себя, он скажет, что душа читает в самой себе)… То, что она охватывает, суть состояния мира как предикаты субъекта. Душа читает собственные предикаты, и в то же время в точке зрения, где она находится, она видит состояния мира. Это усложняется, но в этом следует разобраться, потому что на уровне охвата мы уже не находимся в сфере перцепта. На уровне точки зрения мы находимся в области перцепта, но на уровне охвата «субъект – предикат» мы находимся в области концепта. Именно концепта. С точностью до одного основополагающего замечания: при условии того, чтобы мыслить, конципировать концепт как индивида. Субъект индивидуален.
Почему? Как раз потому, что он не существует, не переходя к точке зрения. Иными словами, что такое субъект? Это концепт, это понятие, и всякий раз, когда Лейбниц говорит «субъект», вам необходимо корректировать, подставляя «понятие», у Лейбница это всегда понятие субъекта. А что такое понятие субъекта? Это индивидуальное понятие, говорит он. Иными словами, концепт доходит до уровня индивида. И более того, индивид – это концепт, это понятие. Вот какая причудливая штука, и нам пока совершенно не по силам понять ее. Но интересно отметить то, что необходимо будет понять на будущее. Я могу сказать, что Лейбниц – это, вероятно, древний, относительно древний, философ, но он в высшей степени современный с точки зрения логики.
Если мы спросим у Лейбница, что такое субъект, то он ответит, что это то, что обозначается именем собственным. Вы знаете, до какой степени в современной логике после Рассела велико значение теории имен собственных… Мы еще увидим это в подробностях. Лейбниц – первый, кто сказал нам, что подлинное имя индивидуальной субстанции, подлинное имя субъекта есть имя собственное. И вероятно, как раз с Лейбница начинается подлинная логика имен собственных. Что такое субъект? Это Цезарь, Адам, вы, я. Это индивидуальное понятие каждого из нас, так как только индивидуальное понятие включает в себя предикаты. А что такое «все предикаты, которые включаем мы»? Все состояния мира!
Иными словами, что занимает точку зрения? То, что занимает точку зрения, есть субъект, понимаемый как индивидуальное понятие. То, что занимает точку зрения, есть то, что обозначается именем собственным. Я вижу с некоей точки зрения, и я читаю в субъекте.
Видеть и читать. Перцепт и концепт.
Иными словами, мы уже перешли – если я возобновлю предыдущее замечание, – от сгиба к присущности. Но какой ценой? Ценой того, что обнаружили, что не только сгиб отсылал к некоей точке зрения, но и точка зрения отсылала к тому, что эту точку зрения занимало. Нечто, занимающее эту точку зрения, назовем его душой, вот она, душа, субстанция, суперъект, если говорить как Уайтхед, а не как Лейбниц, потому что это слово принадлежит Уайтхеду; индивидуальное понятие, имя собственное.
Мы совершенно упустили одну значительную трудность, не надо удивляться, что мы не понимаем того, что пока непонятно: что же такое, на самом деле, предикат, или атрибут, – субстанция или субъект? Мы только что видели, что в той мере, в какой имеется охват, состояния мира стали предикатами индивидуального субъекта. Существует только индивидуальный субъект, и это нечто весьма странное в философии. Прежде всего остального: что обсуждалось в вопросе о том, индивидуальна или не индивидуальна душа, и что влекло за собой все это?
Приходит Лейбниц и совершенно спокойно ошеломляет нас: всякий субъект индивидуален и, более того, концепт доходит до уровня индивида и существует не иначе как доходя до уровня индивида. Все это не происходит само собой, но здесь есть трудности, которые необходимо разрешить впоследствии. Итак, мы постепенно подходим к тому, что способны решить, и отсюда мое шестое замечание. Надо, чтобы вы почувствовали необходимость перейти от точки зрения к присущности, то есть к включению, то есть к идее чего-то индивидуального, которое занимает точку зрения, а следовательно, включает, охватывает бесконечный ряд.
Я догадываюсь, что вы очень хорошо поняли это. А так как вы ничего не выражаете, по вашим лицам ничего не расшифруешь… Лейбниц говорил, что в вашей душе, – а вы прекрасно видите разницу между точкой зрения и душой, – в вашей душе вы великолепно читаете. На первый взгляд, вы ничего не видите… в вашей душе.
Седьмое замечание. Необходимо знать, что мы способны понять. Мы видели то, что были пока еще не способны понять; но к седьмому замечанию относится целый ряд текстов Лейбница, которые мы встречаем повсюду и которые теперь для нас уже не представляют реальной проблемы. Во-первых, и это мы видели на предыдущей лекции, тема зеркала: каждый субъект есть зеркало мира со своей точки зрения. Вы видите, что он не смешивает субъекта с точкой зрения, то есть субъекта с «зеркалом мира» в модусе той точки зрения, которую он занимает.
Уточним, что «зеркало» необходимо понимать как вогнутое зеркало. Все предшествующее обосновывает это – добавление вогнутости. Вторая проблема: это всего лишь метафора, и необходимо преодолеть эту метафору. Зачем преодолевать эту метафору? Потому что она застревает на середине пути. Не следует говорить, что каждый субъект есть зеркало, смотрящее на мир, так как это было бы приблизительно тем же, что и сказать, что мир существует сам по себе. Но ведь вспомните: он существует только как сложенный, то есть он существует как запертый в каждой душе, он существует только как охватываемый каждой душой или каждым субъектом. Значит, необходимо сказать, как я предлагал в прошлый раз: субъект – это скорее не зеркало, открытое миру, а экран, на котором показывают фильм. Но это было бы еще недостаточно, так как фильм прокручивается и отсылает к экстериорности, пусть даже предполагаемой. Поэтому нам следовало бы сослаться на непрозрачную таблицу, на непрозрачную информационную таблицу, куда вписываются данные, без отсылки к экстериорности.
Мир охватывается каждым субъектом и существует, только будучи охваченным каждым субъектом. Именно в этом смысле «Монадология» скажет нам: субъекты, индивидуальные субстанции – «без дверей и окон». Они ничего не получают извне. Вы видите, почему они ничего не получают извне: ведь все, что они имеют, все, что они читают, или все, что с ними происходит, они охватывают, они включают. Иными словами, мир не существует помимо субъектов, которые его включают; мир не существует помимо субъектов, которые его охватывают.
Как лейбницианский символ я предлагал вам в прошлый раз знаменитую картину Раушенберга, где есть все, что нам подходит: поверхность картины как информационная таблица, которую следует воображать слегка вогнутой, и туда вписывается зашифрованная переменная кривизна. По сути, такова репрезентация лейбницианского мира. В этом седьмом примечании мы перешли от текстов Лейбница, где он говорит нам, что субъект, индивидуальная субстанция, есть зеркало, смотрящее на мир, к другому, более глубокому типу текста: индивидуальный субъект охватывает мир, мир не существует помимо охватывающих его субъектов.
Восьмое замечание. Настал час для того, чтобы решить трудность: почему несколько точек зрения, почему несколько субъектов? Почему не существует одного-единственного субъекта, который располагался бы в одной точке зрения, и эта точка зрения указывала бы на бесконечный ряд состояний мира, а стало быть, охватывала бы целую совокупность предикатов, имела бы атрибутом один термин: бесконечный ряд состояний мира; один-единственный субъект был бы Богом. Определенным образом это был бы Спиноза: одна-единственная субстанция, Бог… который охватывает, который содержит всевозможные модификации, который включает всевозможные конститутивные модификации мира, бесконечный ряд конститутивных модификаций мира. Это означает, до какой степени Лейбниц привержен множественности субъектов и множественности точек зрения! Впрочем, мы пройдем от второй к первой, от множественности точек зрения к множественности субъектов.
Но опять-таки, если верно, что одна точка зрения схватывает бесконечный ряд мира, или – что то же самое – если верно, что субъект включает мир, охватывает мир, то это странно! Почему множество точек зрения? Напомню, что на последней лекции я попытался предложить вам ответ, и он таков: дело в том, что бесконечный ряд, по существу, подвержен бесконечному количеству вариаций. Вариации одного ряда – необходимо к ним вернуться, необходимо помыслить их разнообразные типы: ритмические вариации, мелодические вариации, противоположно направленные движения, когда восходящее становится нисходящим, а нисходящее – восходящим. Ретроградные (ракоходные) движения, когда вы начинаете с конца и получаете другой ряд. Стало быть, существует бесконечное множество вариаций бесконечного ряда.
Тогда что означает, что каждый субъект соответствует некоей вариации? Вероятно, именно то, что не существует двух субъектов, которые начинали бы бесконечный ряд с одного и того же члена либо заканчивали бы его одним и тем же членом. Именно поэтому с необходимостью существует бесконечное множество субъектов. Но тогда здесь существует и некое основание, а именно: каждый субъект охватывает бесконечный ряд мира, но каждый субъект определяется неким регионом этого ряда, регионом, который он может прочесть ясно и отчетливо. Я выражаю мир, или, – если угодно, – я его охватываю, я выражаю мир наподобие зеркала, и я охватываю его наподобие субъекта. И потом еще вы, все мы выражаем мир – очень хорошо. Только вот что: ясно мы выражаем не одну и ту же его часть. Каждый субъект обладает конечной способностью к ясному прочтению, а остальное – что? Необходимо сказать, что каждый субъект буквально дислексичен. Вы видите, кто великий читатель. Великий читатель мира – это Бог. Ну а мы, индивидуальные субъекты? Вы скажете мне: ну да, Бог – это индивид, разумеется, но тогда перед нами встают проблемы: в каком смысле это индивид и в каком смысле мы тоже индивиды? Но мы пока еще до этого не дошли. Бог охватывает весь ряд мира ясно и отчетливо, а мы? Это уже довольно-таки красиво: малая часть нашего чтения является ясной и отчетливой, а остальное мы невнятно бормочем. Мы охватываем весь мир – да, но запутанно, смутно, так что ничего прочесть нельзя. И у нас есть наша малая часть, наш малый ясный и отчетливый свет, освещающий мир, наш малый регион мира – вот моя комната. Это уже неплохо, если я охватываю свою комнату! Не надо больше задавать многочисленных вопросов. Я выражаю весь мир, я охватываю весь мир, но я ясно охватываю лишь небольшую его часть.
Что отличает меня от вас, а вас от меня? То, что ясно мы выражаем не одну и ту же часть. Вы скажете мне: у нас есть некая общая сфера, и тем самым мы принадлежим к одному и тому же миру, мы со-существуем. Вы понимаете: у каждого из нас есть своя часть, но она может заходить на часть соседа; например, когда мы собираемся в этом замкнутом месте, мы ясно выражаем малую часть пространства. Но если мы рассеиваемся, то каждый обретает собственную комнату. Мы можем объединяться, разлучаться, и это похоже на складывающийся и раздвигающийся аккордеон. Но, как бы то ни было, наша часть ясного и читабельного охвата остается крайне ограниченной.
Итак, с необходимостью существует несколько точек зрения, или – если угодно – с необходимостью существует множество индивидуальных субстанций. Теперь у меня есть ответ, ибо даже если верно, что всякая индивидуальная субстанция охватывает весь мир, она способна ясно прочесть лишь часть мира, с необходимостью отличающуюся от другой части читабельного мира. И в то же время этого недостаточно, так как мы сейчас окажемся перед неразрешимой проблемой. Из нее следует хотя бы немного выпутаться.
Какой бы великой ни была данная проблема для Лейбница, он всегда думал только об этом: об индивидуации. Вот в чем его проблема. По счастью, удалось сохранить небольшую его диссертацию, точное ее заглавие написано по-латыни, потому что в те годы в университетах писали по-латыни, и озаглавлена она «Рассуждение о принципе индивида»; ему было 17–18 лет. В ту пору это было преждевременно, это небольшая записка, и неслучайно, что с самого начала это стало его проблемой. Это очень интересная дискуссия с несколькими философиями Средневековья, с Аристотелем, но прежде всего с Фомой Аквинским и Дунсом Скоттом – и именно это сохранится во всей философии Лейбница до самой старости.
Здесь мы попадаем в невозможную ситуацию, так как вы видите, чтó творит индивидуацию у Лейбница.
Первый ответ, который напрашивается: точка зрения. Он наделил понятие точки зрения непротиворечивостью, достаточной для того, чтобы это был возможный ответ. Это совершенно ново – определять индивидуацию через точку зрения: необходимо было иметь для этого средства, необходимо было пройти через всю теорию сгиба, кривизны. Ответ: может быть и так, но это не последнее слово, потому что, строго говоря, точка зрения не может определять индивидуацию, точка зрения не может определять индивида, потому что точка зрения есть всего лишь модальность индивида. Это всего-навсего модус индивида…
[Конец пленки.]
…Что же определяет индивидуальность индивида? Что же такое индивидуация? У нас уже есть два возможных ответа, они возможны, но не удовлетворительны.
Повторим: весь мир охватывается каждым субъектом, субъект – это индивид, это индивидуальная субстанция, или индивидуальное понятие, это концепт, доходящий до индивида. Индивидуальное понятие – это то, что заслуживает имени собственного; субъект – это то, что заслуживает имени собственного. Почувствуйте: забавная история с этой логикой собственных имен. Это забавная история, потому что, вообразите – сколь бы мало вы ни знали, – до какой степени это порывает со всей философией, до какой степени это вносит новое. Вообразите Платона… Нет, это предполагает, что вы знаете Платона. Платон – это идеи. Платону случалось спрашивать: существуют ли идеи индивидов? Существует ли идея Сократа, идея Алкивиада? И все такое. Но он сталкивается с проблемами. И тут приходит Лейбниц и говорит нам, что понятие индивидуально, что концепт доходит до самого индивида. Почему он может сказать это – вот что нельзя отложить про запас, потому что на это надо отвечать. Необходимо срочно на это отвечать, необходимо отвечать сегодня. Может быть. Предполагаю, что у нас не будет времени, но ответить следовало бы сегодня. Почему?
Здесь есть нечто необычайное. Можно было бы подумать о Декарте. Все картезианцы непрестанно размышляют о «Я» у Декарта, о «Я мыслю». И что же такое это «Я»? Существует очень интересная диссертация, написанная о понятии индивида у Декарта. Но это чрезвычайно сложная тема, потому что надо глубоко зарываться в тексты. «Я» из «Я мыслю» – это что, индивидуальный субъект? Нет, это трудно, мы уже не можем сказать, кто именно обозначен именем собственным: «Я мыслю» не означает, что я, Декарт, мыслю! А вот что говорит нам Лейбниц: «субъект» может иметь лишь один смысл – это то, что имеет в виду имя собственное. Цезаря, Августа, вас, меня. Субъект индивидуален.
Я возобновляю рассуждения. Каждый мир охватывается каждым субъектом – мы видели, как именно, по мнению Лейбница, различаются субъекты: малой частью. Заметьте, что уже здесь у нас два ответа: вариацией в ряду, или, что сводится к тому же самому, малой частью. Я говорю, что в конечном счете это сводится к тому же самому, потому что малая, ясная и отчетливая часть, охватываемая каждым субъектом, варьируется сообразно субъекту; это вариация бесконечного ряда. Итак, два ответа хорошо работают, но они хорошо работают, если включаются в то, что представлялось нам их недостаточностью.
Если я говорю, что мир существует, будучи охватываемым каждым субъектом, то, очень хорошо, он существует не иначе как будучи охватываемым каждым субъектом. Мир не существует за пределами охватывающих его субъектов, мир не существует за пределами имплицирующих его, включающих его субъектов. Можно ли сказать, что это идеализм? Это будет очень трудно представить: даже если это отчасти идеализм, то необходима осторожность – почему? Потому, что, к счастью, существует несводимое множество субъектов. Видите трансформацию проблем, которые Лейбниц нам навязывает? Я бы сказал, трансформацию на двух уровнях: отношения, которые я мог бы назвать отношениями восприятия, отношения «видимое – точка зрения» заменяются отношениями точек зрения между собой. Или же – что сводится к тому же самому – отношения «мир – субъект» заменяются взаимоотношениями субъектов. Мир не существует независимо от субъектов, которые его охватывают; мир существует лишь как охваченный субъектами. Да. Но тогда основополагающей проблемой становится проблема взаимоотношения субъектов, так как объективность и реальность мира неукоснительно совпадают со взаимоотношениями субъектов.
Девятое замечание. Наконец настала пора. Ее следовало бы назвать как в английских романах, где бывают названия глав вроде следующей: «Как складываются события, в результате коих Лейбниц будет говорить с нами о понятии монады?». Как монада, это типично лейбницианское понятие, проистекает из всего этого? Именно по этому монада – термин, которого я до сих пор не смел произнести.
Отдохните, но, прошу вас, возвращайтесь…
…Об этом переходе от сгиба к присущности – нет вопросов? Нет проблем?
Вопрос: [о незнании…]
Жиль Делёз: Он продумал все, ваш вопрос очень уместен. Речь, наверное, идет, если я правильно понимаю, о том, можно ли иметь в виду нечто находящееся вне субъекта из-за того, что субъект об этом не знает. Ответ Лейбница, который мы пока не можем как следует оценить, потому что у нас будет еще несколько лекций на эту тему: незнания не существует, существуют только степени знания, эшелонированные до бесконечности. И фактически ваше замечание очень хорошее: существовало ли для Лейбница незнание? Необходимо сказать, что в мире есть нечто, что ускользает от субъекта, что не охватывается субъектом. Но для Лейбница не существует незнания; существуют лишь степени более или менее ясного, более или менее темного, более или менее смутного знания – то есть либо нечто ясно и мы знаем, либо же, как Лейбниц все время говорит, мы слышим какой-то гул. Когда вы говорите: «Я не знаю», речь идет о состоянии гула, о состоянии плеска, о своего рода космическом плеске в глубине каждого из нас. И тогда возможно, что все субъекты общаются при помощи этого космического плеска, но сам он – не за пределами субъектов. Но ваше замечание весьма справедливо. Лейбниц не мог бы ничего извлечь из него, если бы он не разработал теорию, которая является теорией не знания, а бесконечного множества степеней знания.
Вопрос: [нрзб.].
Жиль Делёз: Речь идет, конечно, о бесконечном множестве. Нет никакой оппозиции между множеством и бесконечным. У Лейбница бесконечное представляет собой необходимый статус множественного, множественное доходит до бесконечного. Тут нет проблемы. И у Лейбница [сказано] гораздо больше: нет конечных множеств.
Вопрос: Я не понимаю, в чем разница между индивидуальным понятием и концептом, который доходит до уровня индивида?
Жиль Делёз: Никакой разницы, это два эквивалентных выражения. Я говорил, что я накапливаю, а иногда и приумножаю выражения, потому что некоторые из вас могут понять одно и не понять другое, а могут и много разного добавить. Я пытаюсь объяснить вам Лейбница. Я как раз нахожусь в ситуации незрячей головы, которая пытается достучаться до ясной части в сознании каждого. Но ясная часть в сознании одного индивида сильно отличается от ясной части в сознании всех остальных – благодаря чему? Все объясняется просто: дело в вашей культуре. У тех, кто уже читал Лейбница, есть ясная часть в сознании – это не для того, чтобы разозлить других, – есть ясная часть, которая больше части, что есть у тех, кто совсем его не читал. И однако в той мере, в какой все субъекты содержатся в каждом субъекте, необходимо, чтобы Лейбниц, даже если вы его не знаете, находился в вашем сознании – в состоянии гула. Вы слышали, что говорил Лейбниц. Он произносил слово «монада». И тогда вас можно свести к этой минимальной части, а если существуют те, кто прочел Лейбница, то у них – бóльшая ясная часть. Ваша задача такова: улавливайте идеи Лейбница ясной частью вашего сознания. Почему у Лейбница мы увидим некий прогресс? Почему это один из первых философов, выдвинувших понятие прогресса? Потому что каждое индивидуальное сознание обладает свойством – увы, довольно ограниченным – увеличивать свою ясную зону. Узнать это означает повышать степени знания по шкале.
Вопрос (возможно, Контесс): Как ты смотришь на следующую вещь касательно Лейбница: он сразу утверждает, что субъект как индивидуальная субстанция, центр (?) индивидуального единства, ничего не получает извне, и, однако, он определяет индивидуального субъекта через имя собственное, а это как раз имеет в виду получение чего-то извне?
Жиль Делёз: Уф… Я говорю, что необходимо различать – здесь я ничего не придумываю, потому что тексты сами приходят ко мне на ум, – необходимо различать номинальное собственное имя. Номинальное собственное имя есть имя конвенциональное. Если Цезарь зовется Цезарем, а Август зовется Августом, а каждый из вас зовется так, как он зовется, то вот это – конвенциональная операция, о которой некоторым образом можно сказать, что она приходит извне, но, согласно Лейбницу, она ничего не затрагивает в субъекте. Более того, в одном тексте из «Новых опытов о человеческом разумении» есть небольшая глава, посвященная именам собственным, где он говорит нам: имена собственные образуются от имен нарицательных, это имена видовые и родовые. Например, вы зоветесь «пахарь» или кто-нибудь зовется «пахарь». Это означает, что Лейбниц не верит в имена собственные в этом смысле. Когда я говорю: «имя собственное обозначает индивидуальную субстанцию», то это означает, что конвенциональное имя собственное символизирует нечто – но всего лишь символизирует. Имя собственное означает то, что включено в бесконечное множество пропозиций. К примеру, я говорю: x перешел Рубикон, был убит своим сыном или зятем. Здесь индивидуальный субъект обозначается именем собственным, которое служит его внутренней детерминацией. И тогда, если ты спрашиваешь меня: что такое имя собственное «Цезарь», то я говорю: это внутренняя детерминация Цезаря. Условно мы скажем, что внутренняя детерминация Цезаря, то, посредством чего она его охватывает, конвенционально обозначается именем собственным «Цезарь». Фактически это имя нарицательное применительно к индивидуальной субстанции.
Девятое замечание. Сегодня мы уже к нему обращались. Откуда берется «монада», это странное слово? И лучше этого слова, действительно, не придумаешь, так как, если вы откроете «Монадологию», то первым словом «Монадологии», после заглавия, будет (абзац 1): «Монада, о которой мы будем здесь говорить, есть не что иное, как простая субстанция». «Монада» звучит очень причудливо, так что – всякий раз, как мы слышим слово «монада», – мы добавляем: «Как говорил Лейбниц». И откуда оно берется? Необходимо заметить, что он воспользовался им довольно поздно. Специалисты отмечают первое употребление слова «монада» в 1697 году. Стало быть, существует изрядная часть произведений Лейбница, где он говорит об индивидуальной субстанции, о душе, о понятии индивида, но пока еще не пользуется словом «монада». Грубо говоря, оно должно было бы ему нравиться, но он еще не придумал слово. Слово «монада» становится предметом систематического, непротиворечивого философского применения у весьма интересных авторов, какими являются неоплатоники. Греческое слово – monas, это дает «монаду», так как оно относится к склонению на «d»{ Дело в том, что «d» появляется в косвенных падежах.} (monado), Monas. Надо бы хорошенько поискать, так как я говорю вещи, в которых не слишком уверен, потому что эти исследования провел не я и у меня нет необходимых словарей. Слово встречается у Плотина. Но в каком смысле? В смысле «единицы». Не то чтобы в каком угодно смысле «единицы», но в переменном смысле «единицы». Могу сказать, что, по-моему, ни Платон, ни даже Плотин, являющийся основателем неоплатонизма, не употребляли его систематически. Зато его систематическое употребление отмечается у неоплатоников, то есть у учеников Плотина, из которых первый и величайший зовется Прокл. Monаs означает «единственный», «один-единственный». Мы видим, читая очень короткую книгу Прокла, а именно «Основы теологии», – мы прекрасно видим в «Основах теологии», что monas означает нечто очень конкретное, потому что monas – это единица, но существует и другой термин. Monas – это единство. Но «Один» (с заглавной «О») по-гречески не monаs, один – En, E + n. И в греческом есть существительное, образованное от En, Henas, и его передают как Энада. Стало быть, любопытно – вы видите: монада, энада, monas, henas – что это такое? Либо все это ничего не означает, и тогда оно бесполезно, либо же монада означает особый тип единицы, который мы сейчас выделим и который получает особый, все более строгий статус начиная с Прокла.
Об этом необходимо знать чуть больше: каков этот особый смысл единицы? Прокл много говорит нам об определенной стадии Единого. Вы знаете, что неоплатонизм – если его надо определить – это философия, выделяющая в качестве основополагающих категорий Единое и Множественное. В этом его задача. Начиная с Платона, имеется два основных направления: аристотелизм, берущий у Платона пару «форма – материя», и неоплатонизм, берущий – начиная с Плотина – пару «Единое-множественное».
Аристотелевская традиция будет рассматривать композиты из формы и материи, образующие твердые тела. Плотинизм, или неоплатонизм, будет изучать композиты Единого и множественного, из чего образуются фигуры света. Если у Плотина и есть какая-нибудь фигура, то это фигура света. Это великий философ света. До вещей существует свет, и свет эманирует из Единого, из En. В скобках: здесь я становлюсь чересчур ученым, в пифагорейской традиции Monas – это огонь. Вы видите, почему я это говорю?
У Прокла мы прекрасно видим, что Monas не обозначает какой угодно тип единицы. Monas в общем и целом имеет два особых свойства. Она обозначает ту стадию единства, которая уже может породить виртуальную множественность. И в действительности неоплатонизм состоит из ряда ярусов, причем на последнем ярусе, на самом верху, располагается Единое, или Свет. Единое превыше всего. Единое, о котором мы не можем ничего сказать. Единое больше Бытия. Единое, которое до такой степени единое, что мы даже не можем сказать, что оно есть, потому что, если бы мы сказали, что оно есть, оно было бы двумя – Единым и Бытием. Но Единое, которое не есть, это Единое выше Бытия – выше всего. И из этого Единого, в той форме, в какой оно предстает в философии Плотина – а она не является нашим предметом в этом курсе – я бы даже не сказал, что все проистекает, но течет подобно свету, подобно лучам света, течет лучами – и мы можем отметить вырожденные стадии Единого.
И одна из стадий Единого – это когда Единое перестает быть просто Единым, чтобы имплицировать, involvere, как говорят латинские переводы, чтобы охватывать множественное, и это охваченное множественное есть множественное виртуальное. Пока еще не перешедшее в действие. Единства, готовые породить виртуальное множественное, – вот что будет называться Monas. А ниже Monas, как и выше Monas, располагается Единое, которое является всего лишь Единым, Единым без множественности, сугубо Единым. Существует такое единое, которое представляет собой всего лишь арифметический элемент, числовой элемент в множественности, перешедшей в действие, в актуальную множественность, – и вот это и есть числовая единица.
Вот очень приблизительно, потому что Прокл чудовищно сложен, я говорю в общем и целом; монада означает в первую очередь единство, когда единство готово породить виртуальную множественность. Во вторую очередь монада означает единицу, когда та является основой вырождающегося (регрессивного) ряда. Вот пример: в тексте «Основ теологии» я читаю: «Монада, играя роль принципа, порождает множественность, которая ей свойственна. Вот почему каждый ряд (неоплатоники первыми представляют философию ряда. – Ж.Д.) – один и каждый порядок – Един». В греческом тексте тут слово En. Вы видите: монада, играя роль принципа, порождает свойственную ей множественность; вот почему каждый ряд – один, и каждый порядок – един. Тот, кто полностью зависит от своей монады, спускается к множественности, так как если сама монада остается бесплодной, то он не относится ни к порядку, ни к ряду. Иными словами, монада – это единство (единица) как принцип вырождающегося (регрессивного) ряда. Примеры: из чистой души проистекают ду́ши богов, и сами души богов образуют целый ряд. Здесь неоплатоники показывают, на что они способны, так как есть юпитерическая душа, душа ареическая{ От имени бога Арес (Марс).}, душа титаническая и т. д. Процессия душ величественна, но для нас малозначительна. Из чистой души проистекают души богов. Из душ богов проистекают души людей, то есть разумные души; в некоторых случаях проистекают души животных и т. д.
Перед вами – вырождающийся ряд. Начало этого ряда будет называться Monas. Аналогичным образом, если вы производите ряд Enas, ряд Единых, вы начнете сверху: Единое больше чем Бытие, затем Единое, которое включает, охватывает потенциальную множественность, затем Единое, которое всего лишь единица в актуальной множественности; перед вами ряд. Вы скажете, что существует Monas как начало ряда Энад. Вы видите: все это очень мило. А я все-таки говорю: если оставаться в рамках Прокла и неоплатонизма, то Monas означает единство (единицу), но при двух условиях: это единство должно быть полным, готовым породить виртуальную множественность, которую оно охватывает. Второе условие: Monas – начало проистекающего из нее вырождающегося ряда. Мне нет нужды возвращаться к тому, что мы рассмотрели, чтобы сказать, что два этих свойства как нельзя лучше подходят к Лейбницу.
Среди редких вещей Прокла, которые дошли до нас, есть превосходный комментарий к диалогу Платона «Парменид», где мысль Прокла развертывается гораздо нагляднее, – и это, очевидно, некое резюме его представлений. Итак, в прокловском комментарии к «Пармениду» перед нами – целая теория монады, и превосходнейшая.
Вы видите, что́ нравится Лейбницу. Само слово – меня удивило, что он познакомился с ним очень поздно: он ведь знал его с самого начала, но, должно быть, своего рода вдохновение побудило его воскликнуть: «Боже мой! Почему я не пользовался этим словом раньше? Оно-то мне и необходимо». И в то же время он полностью «пересаживает» его, так как собирается сохранить два его свойства: монада – это единица как начало ряда и единство как нечто, готовое породить виртуальную множественность. Мы видим: готовое породить виртуальную множественность, потому что оно охватывает все состояния мира; и начало ряда, потому что благодаря своей точке зрения оно открыто бесконечному ряду. Итак, это вполне нам подходит, и все-таки весьма гротескным было бы сказать, что Лейбниц подвергся неоплатоническому влиянию, так как хотя и совершенно верно, что Лейбниц испытал неоплатоническое влияние, но он совсем не похож на Прокла, ибо, пользуясь словом «монада», он ставит его в иную ситуацию, наделяет его иной, совершенно оригинальной, функцией, о которой неоплатоники не имели ни малейшего представления.
Если необходимо подвести итог: вот что было бы непостижимым для неоплатоника – Лейбниц говорит нам: монада есть индивидуальное понятие, это сам индивид, индивид, взятый как его понятие, – или, если угодно, это субъективное единство, это субъективность. Это субъект. Иными словами: единство (единица) как монада есть индивид. И как Лейбниц до этого доходит? Необходимо заметить, что существуют два тесно связанных между собой понятия у Лейбница, которые ускользают от неоплатонизма. Это бесконечное и индивид. Почему два этих понятия взаимосвязаны? Потому что Лейбниц скажет нам: «индивид охватывает бесконечное». Этот текст вы найдете в «Новых опытах о человеческом разумении». Необходимо, чтобы я дал вам номер параграфа, чтобы вы посмотрели сами: но там все очень наскоро, он не анализирует того, что имеет в виду; стало быть, вот сам текст Лейбница: «Индивид охватывает бесконечное». Что же это все-таки означает? Это означает нечто очень простое, но, по-моему, оно могло возникнуть лишь в перспективе христианства. Индивид охватывает бесконечное – что это значит?
Отношение «индивид – бесконечное» мы легко поймем, если зададим понятие концепта. Концепт определяется как? Как то, что имеет некое содержание [comprehension] и некую протяженность. Содержание концепта есть вещь, концептом обозначаемая: совокупность предицируемых ему атрибутов. Пример: лев – храброе животное. Я бы сказал, что «храброе животное» образует часть содержания концепта «лев». Предположим, другие свойства содержания концепта – «иметь гриву», «рычать», «много спать» и т. д., но вы скажете мне: вы забываете основное. И это ясно: я забываю свойства, посредством которых мы определяем концепт «лев». Впрочем, я ими пренебрегаю: млекопитающее и т. д. – ну и пусть, я ими пренебрегаю. Итак, содержание есть совокупность предикатов, которые мы можем атрибутировать объекту, обозначенному концептом.
Протяженность концепта – это количество экземпляров, количество объектов, подводимых под этот концепт, вложенных в этот концепт. Сколько существует львов? «Сколько существует львов» соответствует протяженности концепта. Ну хорошо…
Логика концепта говорит нам – что? Она говорит нам, что по мере уменьшения протяженности увеличивается содержание, и наоборот. По мере уменьшения протяженности – что это значит? По мере уменьшения протяженности – то есть нечто стремится к единице по мере увеличения содержания. «По мере увеличения содержания» – то есть стремится к бесконечности; «по мере уменьшения протяженности» – то есть стремится к одному. Вот это надо знать. Пример: концепт «лев». Я предполагаю, что сейчас существует десять тысяч львов; я говорю: протяженность = 10 000, содержание – вот это, вон то, такие-то и такие-то предицируемые атрибуты «льва». Я делаю еще один шаг в движении, которое мы назовем спецификацией понятия, – это надо знать. Я беру львов Сахары, они составляют часть концепта «лев». Все львы Сахары обладают атрибутами, атрибутируемыми «льву». Это львы, но они имеют и нечто большее, а именно: они имеют конкретные свойства львов Сахары, каких нет у прочих львов. Их не имеют, например, львы… в конце концов, львы других мест: например, иметь на кончике хвоста более пушистую кисточку, чем у остальных. Я бы сказал: это свойство содержания львов Сахары, которого у прочих львов нет – итак, я добавляю его. Я бы сказал, что львы Сахары обладают бо́льшим содержанием, чем львы вообще, но тем самым они обладают и меньшей протяженностью. Существует меньше львов Сахары, чем львов вообще. Ладно.
Продолжим. Биологи, или, скорее, специалисты по естественной истории, натуралисты, могут быть подведены к тому, чтобы сказать: «Но ведь в таком-то оазисе Сахары существует тип льва, которого не найдешь в других регионах Сахары», и вот вам больше содержания и меньше протяженности.
Посмотрите на этот великий и совсем простой принцип: если дан концепт, то его протяженность и содержание находятся в обратно пропорциональных отношениях – то есть, чем больше содержание, тем меньше протяженность. Следите за мной, потому что здесь будет нелегко.
Что происходит? Здесь я колеблюсь, я собираюсь сделать то, чего никогда не люблю делать: своего рода обзор философии с птичьего полета; здесь это безусловно необходимо.
Что происходило с концептом, с этим законом, до Лейбница? Я полагаю, что все философы – насколько мне известно, без исключения (хотя существуют очень сложные тексты), – говорили нам: да, но вот этот концепт сейчас не работает. Бывает логический момент, когда концепт не работает; когда содержание концепта «стопорится». На самом деле здесь не надо «останавливать» концепт, на мгновение надо остановиться самому. Например (я возвращаюсь к своему льву) лев такого-то оазиса, африканский лев, лев из Сахары, лев такого-то оазиса из Сахары.
[Конец пленки.]
Он говорит: здесь вы никогда не догоните концепт, вы можете идти неопределенно долго (я взвешиваю свои слова), вы можете продолжать содержание концепта неопределенно долго, вы никогда не достигнете индивида. Почему? Потому что индивид зависит от случайностей материи, а не от свойств концепта. И получается, что, как бы вы ни продвигались относительно содержания или спецификации концепта, он всегда будет иметь в виду нескольких индивидов. Пусть только де-юре: концепт всегда будет включать нескольких возможных индивидов. Даже если я дойду до состояния мира, когда выживет один-единственный лев, концепт не «спустится» до его индивидуальности. На самом деле – благодаря концепту – всегда будет бесконечное множество возможных львов, но концепт не дойдет до бесконечности. Вы можете продолжать неопределенно долго, вы можете неопределенно долго продлевать содержание концепта, вы никогда не дойдете до протяженности, равной единице. Всякий концепт как концепт имеет протяженность, равную x.
Но тогда из чего получается индивид, раз это не концепт? Иными словами, концепт всегда общий. Он всегда имеет протяженность. Лев Сахары имеет концепт, лев такого-то оазиса имеет концепт – концепт льва можно продлевать сколько вам угодно, но индивидуация не то же самое, что спецификация. Вы можете специфицировать ваш концепт так долго, как захотите, – вы не достигнете индивида. Что производит индивидуацию? Ответ некоторых аристотеликов: не форма, каковая является формой концепта, а материя, акциденция. Иными словами, они оказываются перед следующей проблемой: индивид не есть конечная форма, соотносимая с концептом. Индивид не есть конечная форма, другими словами, концепт «стопорится» перед индивидом. Вы можете продлевать концепт неопределенно долго, но вы не достигнете индивида. Отсюда такая проблема: что производит индивидуацию, если она не является сложной спецификацией? Итак, я говорю вам: первый ответ – необходимо вмешательство акциденций, контингентностей, то есть атрибутов, которые не принадлежат концепту. Другой, гораздо более сложный ответ: индивидуация хоть и зависит от формы, но сама формой не является. Это и есть очень красивая теория индивидуации у Дунса Скотта, где индивидуация, как говорит он нам, определяется так: это не форма, которая добавляется к форме, как вид добавляется к роду. Иными словами: формы индивида не существует. И все-таки индивидуация не есть акциденция материи. Она, говорит нам Скотт, – конечный акт формы. Это не просто: здесь не форма добавляется к форме, а конечный акт конечной формы. Что такое «конечный акт формы»? В конце концов, я этим не занимаюсь, это тема иного курса.
Это для того, чтобы попросту сказать вам, что все согласны с тем, что, в конечном счете, форма или концепт – так или иначе – «стопорится» перед индивидом, не догоняет индивида, даже если я могу продлевать содержание концепта неопределенно долго. Ладно. Пусть говорит Лейбниц. Мы никогда не наблюдали такого спокойствия и вместе с тем – отваги. Он разъяснит, что неопределенного не существует. Существует только актуальное бесконечное. Он сразу же определит индивида как концепт. Индивид – это концепт по преимуществу. Индивид – это концепт, так как его содержание бесконечно, а его протяженность равна единице. Концепт, чье содержание актуально бесконечно: вы видите, именно актуальное бесконечное позволяет Лейбницу утверждать это. Если бы он сказал: «Индивид – это концепт с неопределенным содержанием», это не имело бы ни малейшего смысла. Именно потому, что, согласно Лейбницу, повсюду имеется актуальное бесконечное, это определение возможно. Следовательно, оно было бы невозможным для неоплатоников, у которых не было ни малейшего представления об актуальном бесконечном. Я каюсь, что пока еще не могу рассказать вам, что такое актуальное бесконечное. Но все равно: достаточно, чтобы у вас было небольшое аффективное чувство. Лейбниц скажет нам: я не только примиряю индивида с концептом, но они еще и тождественны друг другу, так как индивид есть концепт, поскольку он имеет актуально бесконечное содержание, а стало быть, протяженность, равную единице. Вы видите: индивид охватывает бесконечное. Что позволило Лейбницу сказать, что индивид охватывает бесконечное? Откуда это берется? Мы это видели; по меньшей мере один раз мы видели это. Тут вся предшествующая теория, где монада, то есть индивидуальная субстанция, охватывает бесконечное множество предикатов, которые образуют состояния мира. Итак, концепт доходит до бесконечного, или понятие индивидуально: это одно и то же. Монада – это индивидуальное единство, готовое породить бесконечное множество. Иными словами, если бы у меня был математический символ для индивида, я бы сказал: возможно, вы всё поймете благодаря символу 1/бесконечность; единица, деленная на бесконечность. Вы мне скажете: а в чем здесь интерес?
Интерес вы сейчас увидите, он колоссален!
И потом, после того как вы поймете интерес, вы не сможете сразу отправиться спать. Все это любопытно – эта индивидуальность, это понятие индивидуации, которая захватила философию. Почему я говорю, что это предполагает христианство? Потому что христианство – в его философской форме – как известно, затрагивает очень интересную проблему, которая совершенно не утратила свою актуальность, а именно: доказательства существования Бога. А из доказательств существования Бога, как хорошо известно, – об этом мы много говорить не будем, хотя это чрезвычайно интересует Лейбница, – самое благородное называется онтологическим. И хорошо известно, что онтологическое доказательство высказывается следующим образом: я определяю Бога (не знаю, существует ли Он, – иначе здесь был бы изъян) как бесконечно совершенного и через бесконечное совершенство. Бесконечно совершенное… Отсюда я делаю вывод, что Бог существует, так как, если бы Он не существовал, Ему недоставало бы совершенства. Следите за мной. Вот поэтому-то все мы думаем, что Бог существует. А вот где у нас начинаются неприятности: когда кто-нибудь, подобно Лейбницу, говорит: не следует так спешить, потому что «бесконечно совершенный», – собственно говоря, что это означает? Чтобы доказательство было убедительным, говорит Лейбниц, необходимо как минимум доказать, что «бесконечно совершенный» не включает в себя противоречие. Предположим, что «бесконечно совершенный» есть понятие, подобное круглому квадрату. В этот момент я не мог бы извлечь отсюда идею, что существует соответствующее существо. Я не мог бы – это было бы неразумно. «Наибольшая скорость», говорит Лейбниц, есть противоречивое понятие – почему? Потому что, в силу определения «скорости», если скорость дана, то это всегда самая большая скорость из возможных. Стало быть, наибольшая скорость есть нонсенс. Что говорит нам, что бесконечно совершенное Существо не есть нонсенс? Итак, Лейбниц утверждает: онтологическое доказательство может привести к существованию Бога, только если мы вначале докажем, что «абсолютно совершенный» есть понятие когерентное, которое не имеет в виду противоречия.
Лейбниц берется доказать это. Он доказывает это, показывая, что «бесконечно совершенное» есть omnitudo, совокупность всех возможностей, и что совокупность всех возможностей возможна. Дело выглядит так, будто я удаляюсь, но вы скоро увидите: это не упадет нам на голову в момент, когда мы его не ждем. Совокупность всех возможностей возможна – вот что надо доказать, чтобы онтологическое доказательство могло проследовать от бесконечно совершенного существа к существованию Бога.
Ладно, это произойдет прямо сейчас! Ведь если совокупность всех возможностей возможна, то в этот момент Бог с необходимостью существует, так как онтологический аргумент работает. А именно: Бог есть Существо бесконечно совершенное; если бы Его не существовало, Ему недоставало бы совершенства – значит, я противоречил бы своему определению, отказывая Ему в существовании. Итак, онтологическое доказательство становится легитимным, согласно Лейбницу, при условии если мы докажем, что совокупность всех возможностей не есть нонсенс; при этом условии – в скобках: Лейбниц упрекает Декарта за то, что он не произвел необходимого доказательства, – Лейбниц может перейти от совокупности всех возможностей к идее существа, существующего с необходимостью. Существо сингулярное, существо индивидуальное, уникальное, которое мы называем Богом. Итак, онтологическое доказательство, согласно Лейбницу, продвигается от бесконечного множества всех возможностей к сингулярному существованию соответствующего существа, к сингулярному существованию соответствующей реальности, которую мы называем Богом.
Иными словами, какова формула Бога? Я продвигаюсь от бесконечного множества всех возможностей к сингулярному существованию соответствующего существа, которое наделено всеми совершенствами и которое я называю Богом. Бог – Его имя собственное. Все происходит между именами собственными. Какова математическая формула онтологического доказательства? Математическая формула онтологического доказательства есть «бесконечность, деленная на единицу». Бесконечность⁄1.
Почему?
Бесконечность = совокупность всех возможностей. Я делаю отсюда вывод: если возможно множество всех возможностей, существует индивидуальное существо, ему соответствующее; индивидуальное и сингулярное существо, которое соответствует этому концепту. Я продвигаюсь от бесконечности к индивиду. В случае с Богом я сказал бы: бесконечное охватывает индивидуальность. Вот оно, онтологическое доказательство. Если бы необходимо было дать его формулировку, которая нас устроила бы, то онтологическое доказательство, доказательство существования Бога, было бы таким: бесконечное охватывает индивидуальность. Подразумевается индивидуальность Бога, сингулярность Бога. Бесконечность, деленная на единицу. Вы только что видели, исходя из других оснований, почему монада имеет математическим символом единицу, деленную на бесконечность (1/бесконечность). На самом деле, на сей раз я исхожу из индивидуального единства, и это индивидуальное единство включает в себя бесконечное множество предикатов 1/бесконечность.
Я спросил бы: что располагается между Богом (бесконечность/1) и монадой, индивидуальным субъектом (1⁄бесконечность), каковы их отношения? Вот вопрос. Это позволяет мне сказать, что монада инверсивна по отношению к Богу. Инверсивное? Но что это такое? «Инверсивное» означает нечто весьма определенное, здесь это необходимо знать. Именно в этом смысле философия имеет в виду знание. Необходимо знать смысл слов. Почему, например, я не говорю «противоположное»? Почему я не говорю, что монада есть противоположность Бога, или наоборот? Нет, это не просто так. Логика дает нам очень строгую картину противоположностей, и мы знаем, что оппозиция контрарного типа совсем не то, что оппозиция контрадикторная. Мы знаем, что существуют всевозможные типы оппозиций. Например, инверсия – это тип оппозиции? да, но не какой угодно тип. Здесь у вас нет права… Насколько у вас есть право создавать концепты, если вы это можете, настолько же у вас нет права пренебрегать наукой, необходимой для философии, – точно так же, как если бы вы занимались математикой, то у вас не было бы права пренебрегать наукой, необходимой для того, чтобы заниматься математикой.
Поскольку мы говорим о математике, то в математике существует понятие «инверсивных», то есть обратно пропорциональных, чисел. Если дано целое число два, то какое будет обратно пропорциональное для него? Обратно пропорциональное двум? Контрарное 2 = –2. Обратно пропорциональное двум равно половине. Почему? Потому что не существует целого числа, которое вы могли бы записать в форме числитель/знаменатель. Итак, число два есть 2/1; обратно пропорциональное 2/1 есть 1/2. Знаменатель становится числителем, а числитель – знаменателем. Итак, 1/2 есть обратно пропорциональное от 2/1.
Я говорю: буквально монада как 1⁄бесконечность есть обратно пропорциональное по отношению к Богу, бесконечность⁄1. Это верно буквально. Итак, все происходит на этом уровне. Все происходит между индивидами. Раз уж сказали, что бесконечное есть повсюду, то это не одно и то же бесконечное. Вы понимаете, что когда Лейбниц говорит нам: «Все бесконечно, и все бесконечно в действии», то неопределенного не существует, есть только бесконечное. Тем не менее существуют разнообразные типы бесконечного. Так, бесконечное Бога есть не то же самое, что и бесконечное мира, охватываемого каждым индивидом, – отнюдь нет.
Но я могу сказать, что индивид в точном смысле инверсивен Богу; всякий раз у вас есть бесконечное и индивидуальность. Благодаря паре «бесконечное – индивид» Лейбниц переворачивает всю философию. Он утверждает, что концепт доходит до индивида. Он буквально первый, кто примирил концепт с индивидом, так как содержание концепта не только может продлеваться неопределенно долго, но и стремится к бесконечности.
Все это выглядит очень произвольно. Лейбниц принял здесь решение. Но поймите, к чему оно обязывает его. Когда другие говорили, что они не видят средства продлить концепт до индивида, когда они полагали, будто необходимо, чтобы концепт останавливался, не доходя до индивида, даже если его содержание можно было продлевать неопределенно долго, то дело здесь в том, что у них был забавный способ разрабатывать проблему индивидуации. И здесь я чуть ли не позволяю себе высказать личное мнение, хотя и в надежде помочь вам понять кое-что из Лейбница. Мне кажется, что все теории индивидуации до Лейбница имели катастрофическую пресуппозицию. Их катастрофическая пресуппозиция заключалась в том, что индивидуация происходит «задним числом». Она происходит после спецификации. А спецификация – это разделение понятия на роды, все уменьшающиеся. И мыслители вбили себе в голову, что совершенно нормально начинать с наиболее обобщенного, и в этом ошибка Платона и остальных, а в конечном счете ничья, раз всех и каждого. Они исходят из наиболее универсального и тогда форсированно не доходят до индивида. А поскольку индивидуация не есть спецификация, индивида мы не найдем, если будем продлевать спецификацию неопределенно долго. И тогда если они говорят, что индивид находится после последнего вида, после наименьшего вида, то они заранее проиграли: они никогда не смогут построить мост через пропасть между наименьшим видом и индивидами. А необходимо было сделать противоположное, [нрзб.]. Необходимо было осознать, что всякая спецификация, то есть всякое назначение вида или рода, не скажу «предполагает» индивидуальные объекты – нет, это уже сделано, это то, что называют знаменитым [нрзб.], – нет, речь идет о совершенно ином: всякая спецификация предполагает сферы индивидуации. Всякое назначение видов и родов предполагает процессы индивидуации, которые, следовательно, не могут «накладываться» на определенный тип спецификации. Иными словами, индивидуация первична.
Если индивидуация первична, то, по сути, все само собой разумеется. Отношение «индивид – бесконечное» я называю «двоякое отношение»: в случае Бога – «бесконечноеединство»; в случае монады – «единствобесконечное». В этом случае мы сохраняем эти в буквальном смысле инверсивные отношения между монадой и Богом, что позволяет нам ставить разные виды проблем: если верно, что всякая индивидуальная субстанция есть точка зрения, верно ли, что Бог есть точка зрения? Могу ли я говорить о Боге как о просто-напросто бесконечной точке зрения? Есть ли Он нечто иное, нежели точка зрения? Очень странно, но тексты Лейбница колеблются по этому вопросу. Вероятно, возможны оба ответа: Бог, безусловно, есть точка зрения, проходящая через все остальные точки зрения, – но в то же время наиболее содержательные точки зрения утверждают, что существуют взгляды Бога, которые порождают точки зрения, но точки зрения Бога не существует. Вы понимаете, в каком смысле точки зрения Бога не существует? Дело в том, что бесконечное⁄1 не есть формула точки зрения. Формула точки зрения есть 1⁄бесконечное. Тем не менее Бог может проницать все точки зрения как раз потому, что точки зрения инверсивны по отношению к позиции Бога. Позиция точки зрения инверсивна по отношению к позиции Бога.
Больше здесь ничего не возможно.
Нам остается, наконец, сказать, что мы завершили нашу первую часть. Мы почти показали, как строится верхний этаж. Правда, мы еще можем сделать вывод, что, по существу, перед нами полное переворачивание традиции двух миров. Два этажа, конечно, есть, но вот есть ли еще два мира? На верхнем этаже находятся индивидуальные субстанции, которые охватывают мир. Они охватывают мир, так как их атрибутами служат все состояния мира. Внизу располагается материя и тысячи ее складок. А между этажами – что? Я показал, как два этажа сообщаются между собой – я показал, что сгиб причастен сразу и верхнему этажу, так как представляет собой идеальный генетический элемент, – и что, исходя из сгиба, мы добирались до точки зрения и до присущности; это принадлежит к верхнему этажу, но также отсылает и к нижнему, так как это генетический элемент складок материи. Стало быть, тут два этажа сообщаются между собой.
Что совершенно ново, так это то, что на нижнем этаже существуют только субъекты как индивидуальные понятия. Правда, еще и Бог. Существует бесконечное множество 1/бесконечность, и один-единственный, включающий всё, один-единственный бесконечность/1.
Что такое этот барочный мир? В прошлый раз я говорил вам о живописи Тинторетто. Вы занимали оба этажа. Двух миров уже нет, необходимо об этом поразмыслить; двух миров нет, есть два этажа: этаж, куда все падает, падают тела, и этаж, куда возносятся души. Этаж складок материи, которая непрестанно выходит за пределы самой себя, где тела утрачивают равновесие и падают вниз, и все такое. И затем на верхнем этаже – танец душ; между двумя этажами тысячи путей коммуникации. Возьмите типичную барочную картину, Эль Греко, «Погребение графа Оргаса», эту знаменитую картину Эль Греко. Там представлены два этажа: внизу – погребение и участники погребения, а вверху, на самом верху полотна, – необыкновенная спонтанность субъективных форм, так называемые небесные субъективные формы, но хватит… Возьмите Тинторетто: на одном этаже все падает, на другом этаже – своего рода невероятный танец. Это даже не движение, а скорее весьма оживленная спонтанность – и все-таки разве эти картины не похожи? Почему два этих художника считаются двумя гениями барокко? Мы не должны отменять лекцию, которую могли бы посвятить этому, ради экономии времени, но мы можем предощутить, что два этих этажа не способ называть два мира по-новому. Это очень-очень мощная постановка двух миров под сомнение. На верхнем этаже вы найдете лишь индивидуальные понятия, индивидуальных субъектов; на нижнем этаже вы найдете лишь складки. Итак, это уже не два мира, а отношения между этажами. Какие? Зарождается величайший оригинальный концепт Лейбница: эти отношения всегда будут называться гармонией. Гармония. Почему гармония? Когда мы дойдем до этого, до разговора о гармонии у Лейбница, потому что это один из величайших его концептов, нельзя будет забывать о том, что мы сегодня сделали. Моя мечта состояла бы в том, чтобы найти… – настолько глупо, что это не было сделано, стало быть, еще одна причина сделать это нам; по-моему, никто не пытался составить список значений слова «гармония». Мы как-то говорили, что у Лейбница все они присутствуют. А именно: если вы помните коммунальную школу (это, может быть, лучше, чем «коммуналка»{ Имеется в виду «la communale», разговорное обозначение коммунальной школы.}), может быть, вы помните, что существует среднее гармоническое чисел и это не то же самое, что среднее арифметическое. Среднее арифметическое – это нетрудно, но среднее гармоническое? Необходимо вспомнить наши детские терзания, потому что это не пустяк. Необходимо вновь понять, что такое «среднее гармоническое». Это, говоря наскоро, среднее гармоническое чисел и инверсивных им чисел, и среднее гармоническое проходит через отношения между числом и инверсивным ему числом, вроде 2 и 1⁄2. Именно рассмотрение обратно пропорциональных чисел определяет среднее гармоническое, в отличие от среднего арифметического. Над этим следует поразмыслить.
После каникул нам придется рассмотреть отношения между Лейбницем и Уайтхедом.
Лекция 2
(20.01.1987)
Сначала резюме, потом пойдем вперед.
Возвратимся назад: чем дальше мы уходим вперед, тем больше меня поражает то, на что поначалу я обращал недостаточно внимания. Это тот знаменитый текст о монадах, которые без дверей и окон; эти тексты всегда рассматривались, этих текстов много, в частности я имею в виду конкретный текст из «Монадологии», хотя существует много текстов, подхватывающих эту идею. В большинстве прочих текстов сказано: «без отверстия», «без дверей и окон, без отверстия». И вот то, что все более меня удивляет: внезапно мне показалось, что этого не замечали; я отношу это на свой счет, потому что это до меня внезапно дошло; я знал этот текст очень давно, однако все-таки в нем есть нечто поразительное – когда читаешь его, говоришь себе: очевидно ли, к чему это отсылает? Это не отсылает к метафизике, хотя полагали, будто это в высшей степени метафизическая пропозиция Лейбница, пропозиция в высшей степени парадоксальная: монада без дверей и окон, то есть у субъекта нет дверей и окон. Но я говорю, что тут возможно совершить скачок, и каждый из нас упрекает себя за то, что не подумал об этом сразу: это отсылает к весьма конкретному обустройству пространства.
Но ведь это и есть наша отправная точка, это тема нашей работы на этот год: преимущественно барочное обустройство пространства. Комната без дверей и окон! А в чем здесь барокко? Вы видите, что, отсылая к прошлому, мы исходили из идеи о том, что барокко – это складка к складке, это складка, устремленная к бесконечности.
Второе определение: барокко – это комната без дверей и окон. А в чем здесь конкретно барокко? Я имею в виду, что это идеал: небольшое отверстие всегда должно быть, но мы говорим об идеальном.
Возьмите барочную архитектуру. Здесь даже нет необходимости приводить примеры, потому что это константа для барокко – у Гварини{ Гварини Гварино (1624–1663) – итал. архитектор, математик и богослов. Его радикальное барокко известно как «architecture oblique» – криволинейное зодчество.}, у Борромини, у Бернини. В конечном счете, «без дверей и окон» – на какие мысли это вас наводит? Это, очевидно, идеал, но чего? Это идеал, я бы сказал, также и кельи, дарохранительницы, часовни, театра, то есть всех тех мест, где то, что следует увидеть, либо обращается к духу, как в келье монаха, либо же оно находится внутри комнаты, как в театре. И когда я говорю «монах», «келья монаха», то это не случайно, потому что монах и есть monas, это одно и то же слово – монах и монада. Но, разумеется, ни в монашескую келью, ни в профанный театр барокко не проникло. Конечно. Зато архитектурный идеал комнаты без дверей и окон – вот где барокко.
Конкретно – что такое «комната без дверей и окон»? Конкретно это «камера-обскура». Камера-обскура тоже специально не дожидалась барокко, но верно, что в барочную эпоху камера-обскура приобретает для всех искусств определяющую важность. Что такое камера-обскура в подробностях ее механизма, вы найдете, например, в книге Сары Кофман{ Имеется в виду книга: Kofman Sarah. Camera obscura. De fidéologie. P., 1973. Сара Кофман (1934–1994) – франц. философ.}, которая и называется «Камера-обскура»; преимущество этой книги в том, что в приложении она приводит текст XVIII века, где дано подробное – а стало быть, для нас это ценно – описание камеры-обскуры. Вы видите, это комнатка, в которую вводится индивид, например, художник, и он воспринимает свет через цилиндрическое отверстие в потолке, стало быть отверстие есть, но это отверстие регулируется – или свет, поступающий сквозь это отверстие, регулируется – взаимодействием наклонных зеркал и сообразно позиции, которую художник хочет придать своей картине по отношению к предметам-моделям, поступающим к нему через зеркало; в зависимости от того, требуется ли ему перпендикулярное, параллельное или наклонное положение картины, будет действовать конкретный тип наклона зеркал. Вы узнаёте также лейбницианскую тему монады, зеркало города, и здесь также весьма поразительно, что напрашивается сравнение, сопоставление с камерой-обскурой, когда Лейбниц говорит нам: монада – зеркало города. Но ведь это и есть непосредственно камера-обскура. И притом очень важно, что в эпоху барокко камера-обскура будет объектом систематического применения у некоторых художников, например, у Караваджо.
Продолжим. Камера-обскура, дарохранительница. В Риме есть одна дарохранительница, в которой нет буквально ничего, кроме миниатюрного входа. Все остальное создает великая техника барокко, все остальное – обманки. Окна выполнены как обманки, плафон расписан как обманка и т. д… Использование обманок в барочную эпоху не представляет для нас ни малейшей проблемы, потому что это как раз и есть монада без дверей и окон. Как описывают капеллу Святой Плащаницы в Турине, даже в путеводителях по этому городу? Я не знаю, описывают ли ее как монаду, но это ничего не значит; хорошо известно, что ее описывают именно так: она вся из черного мрамора. Вы помните важность мрамора в барокко, и притом в очередной раз этот мрамор – с прожилками. Капелла эта вся из черного мрамора, она очень-очень темна, и она действительно имеет минимальное количество отверстий, и опять-таки идеальное в этих отверстиях – то, что сквозь них ничего не видно. Все, что надо увидеть, находится внутри комнаты. Но так как там черно, то в предельном случае там – даже не то, что необходимо увидеть, а то, что необходимо прочесть. Вы мне скажете, что для чтения необходим свет – да, свет необходим, но сугубо как физическое условие; чтение есть работа духа, чтение есть восприятие духом; и это Кабинет для чтения. К тому же монада читает мир еще в большей мере оттого, что она его не видит. В прошлый раз мы рассматривали весь переход от ви́дения к чтению у Лейбница. Интерьер без дверей и окон – действительно, один из вас говорил мне, исходя из барокко, об этой архитектурной монашеской теме кельи без дверей и окон, или взять ту же тему дарохранительницы: вероятно, здесь один из вкладов барокко в архитектуру. Один из вас приводил мне пример знаменитого творения Ле Корбюзье, он хорошо его проанализировал: это аббатство Ла Турет, близ Лиона, где часовня, – он объяснил это очень хорошо; если бы он там был, он бы при желании добавил кое-что еще – часовня в предельном случае без дверей и окон. Это комната, которая буквально, в точности реализует формулу: «интерьер», в предельном случае, – интерьер без экстерьера. И тогда, конечно, отверстия существуют, но отверстия настолько скошенные, настолько искривленные – в часовне Ле Корбюзье, – что свет проходит сквозь эти отверстия, но мы ничего не видим снаружи, и проходит исключительно свет, расцвеченный внутренними элементами, так что сами эти отверстия не позволяют увидеть ничего снаружи. Я говорю об отверстиях наверху либо о боковых отверстиях. Я не имею в виду того, что это аббатство Ле Корбюзье – барочное, я имею в виду, что этого замысла не существовало бы без барочной архитектуры.
Вы, наконец, видите, как всевозможные разновидности приемов, которыми оперирует барокко, подобно обманкам или трансформируемым декорациям в театре, следует понимать исходя из барочного идеала интериорности. Интериорность без дверей и окон, то есть все, что необходимо видеть, находится внутри. А если то, что необходимо видеть, находится внутри, то то, что необходимо видеть, следует читать. Но, в конце концов, каков коррелят этого интерьера без дверей и окон? Коррелят этого интерьера – экстерьер, в котором есть двери и окна, – но как раз барочный парадокс в том, что он уже не соответствует никакому интерьеру. И что это такое? Это фасад! Фасад пронизан дверями и окнами, только фасад больше не выражает интерьера. Наше последнее определение барокко пока что таково: фасад обретает независимость в то самое время, когда обрел автономию интерьер. По поводу соответствия между фасадом и интерьером можно было бы, например, сказать, что – некоторым образом – архитектура Ренессанса подразумевает, что это соответствие между интерьером и экстерьером, фасадом и интерьером, заменяется на напряжение между фасадом, унизанным дверьми и окнами, и интерьером без дверей и окон. Как если бы два элемента обрели: один – независимость, независимость фасада по отношению к интерьеру, другой – автономию, автономию интерьера по отношению к фасаду. Тем не менее здесь необходимы отношения, и это уже не будут отношения соответствия, либо надо будет придумать соответствия нового типа. Итак, вот перед нами новая характеристика барокко: напряжение между интерьером и экстерьером, учитывая их относительную взаимную независимость. В этом смысле, например, такой литературный критик, как Жан Руссе, который много написал о барочной литературе, по-моему, очень хорошо кое-что разглядел. Свою вторую книгу, – хотя, как ни странно, эта его вторая книга представляет собой в каком-то смысле прощание с барокко, в ней накоплены сомнения по поводу понятия барокко, – он очень хорошо называет ее: «Интерьер и экстерьер». В первой же книге Руссе, которая называется «Литература эпохи барокко во Франции»{ «Littérature de l’âge baroque en France». P., 1953. Жан Руссе (1910–2002) – швейц. литературовед. Книга «Интерьер и экстерьер» – не вторая, а третья его книга (1968).}, он в последней части задается вопросом: но что же такое барокко? И начинает ответ очень хорошо, утверждая: это независимость фасада. А затем он переходит ко второму пункту, и так как фасад является независимым, то есть уже не выражает интерьера, то, следовательно, барокко образует «взорванный» интерьер.
Здесь мне представляется, что это больше не работает, и примером «взорванного» интерьера Руссе считает декоративную перегруженность. Это больше не работает, но в то же время он прав: все это очень сложно, это отнюдь не «взорванный» интерьер, и декор, даже будучи псевдоперегруженным, не имеет ничего общего со взрывом. С необходимостью мы имеем декорацию, которая с определенной точки зрения может показаться чрезмерной – но это единственно потому, что все, что следует увидеть в интерьере, находится в интерьере; ведь интерьер – без дверей и окон; стало быть, это отнюдь не «взорванный» интерьер, это, наоборот, интерьер, сосредоточенный на себе.
И получается, что Руссе гораздо более прав, когда он отмечает это напряжение между интерьером и экстерьером, между фасадом и интерьером. И, внимательно читая [нрзб.], мы находим фразу, которая кажется мне определяющей (с. 71 французского издания): «Как раз этот контраст между агрессивным языком фасада и просветленным спокойствием интерьера образует один из мощнейших эффектов, которые мы ощущаем благодаря искусству барокко». Невозможно сказать лучше: напряжение фасада стало независимым от интерьера, а интерьер стал независимым по отношению к фасаду.
Тогда соответствия больше нет, но в каком смысле? И опять-таки: как сложатся отношения? Какими будут отношения между независимым фасадом и автономным интерьером? Вот это-то и станет великой проблемой барокко. Я говорю «напряжение фасада» – и поэтому я хотел бы вернуться назад: я полагаю, что напряжение между фасадом и интерьером не может разрешиться – в том смысле, в каком мы говорим о разрешении напряжения, оно может разрешиться лишь через различение двух этажей. Интерьер будет отправлен на первый этаж, тогда как фасад займет весь верхний этаж. Именно сочленение между двумя этажами, то есть складка между ними, сделает возможным новый модус соответствия между независимым фасадом и автономным интерьером. Если вам угодно – то, что видно снаружи, так как фасад рассматривается снаружи, потому что в нем нет интериорности; соответствие между тем, что мы видим снаружи, и тем, что читаем изнутри. Верхний этаж – это кабинет чтения, обманка; все, что вы хотите, вы получаете при чтении, камера-обскура есть кабинет чтения.
И получается, что барочное единство опять-таки будет тем, что мы видим снаружи на нижнем этаже, и тем, что мы читаем изнутри на верхнем этаже. Однако что такое единство «чтение – видение», «чтение – зрение»? Да, сегодня мы сказали бы, что блок «чтение – видение» есть мультфильм. Ладно. Но ведь это существует и в эпоху барокко. Хорошо известно, что эпоха барокко – это эмблематичная эпоха по преимуществу. Но что такое эмблема в теории знаков? Эмблема – это блок «чтение – видение». Например, геральдическая эмблема – это что? Девиз и фигура: единство «девиз – фигура», оно старо как мир. Почему же именно барокко разрабатывает циклы эмблем? Почему именно эмблема так развивается в барочную эпоху?
Я почти что перефразирую вопрос на эту тему: что нам говорит Вальтер Беньямин в книге о барокко, о драме и барокко; что такое барокко? Он говорит нам: мы очень плохо поняли, что такое аллегория, потому что судили о ней с позиции ценностного суждения; считалось, что аллегория – это плохой символ. Но он говорит: нет, аллегория есть нечто отличающееся от символа по природе. Необходимо было бы противопоставить аллегорию и символ. Ладно. Неважно, как в нем – в тексте Беньямина – определяется аллегория. Дело не в этом, в конце концов, мне не удалось вовремя заглянуть в этот текст… Но, в конце концов, некоторые из вас, конечно, смогут заглянуть туда, это прекрасный текст, хотя неважно, какое в нем определение. Что я подчеркиваю, так это различие по природе между символом и аллегорией. Почему? Потому, что, со своей стороны, я бы сказал очень просто: символ – это прямое соответствие между интерьером и экстерьером. Аллегория же предполагает разрыв, дизъюнкцию между интерьером и экстерьером.
Экстерьер показывает себя в некоей фигуре, интерьер дает себя прочесть в некоем шрифте, и соответствие больше не является непосредственным. Итак, соответствие, больше не являющееся непосредственным, – это что? Вот в чем будет вся проблема Лейбница. Определять косвенные соответствия между уровнями, то есть между этажами. Это он и назовет Гармонией. Следовательно, аллегория заполняет весь барочный мир как синтез видимых фигур и читаемых букв, это неизбежно! Вот это-то я и имел в виду. У вас есть что добавить?
Вопрос: А как же архитектура?
Делёз: Для архитектуры это мне кажется очевидным. Мы исходили из определения складок, «складка, которая устремлена к бесконечному», но, исходя из этого определения, мы переходим ко второму: экстерьер стал независимым – притом что интерьер стал автономным. Без дверей и окон. И складка – это поистине то, что проходит между ними, между фасадом и интерьером, коль скоро то, что соединяет два этажа, опять-таки напряжение между фасадом и интерьером, может быть разрешено только через различение между двумя этажами. Вот на этом-то я и настаивал. Нет проблем? Все хорошо? Нет, да?
Вопрос: Кое-что меня немножко беспокоит…
Делёз: Ну?
Вопрос: …Камера-обскура – в принципе, она служит для проецирования того, что мы видим, на óси, тогда как на самом деле проекция происходит на сферу, на кривую. Это использование камеры-обскуры как будто бы входит в явное противоречие с тем, что вы говорили об использовании кривых в барокко.
Делёз: Это не на одном и том же уровне, понимаете? Нельзя все сводить на один уровень. В текстах Лейбница постоянно встречаются прямолинейные приемы, не следует стремиться, чтобы… Как я хотел дать вам почувствовать: например, если вы возьмете такую фигуру, как треугольник, то она будет, очевидно, прямолинейной. Что касается Лейбница или барочной математики, то не надо полагать, будто это подразумевает, что прямых линий нет или что прямолинейных фигур не существует; что нет прямолинейных структур. Все, чего требует барокко, это предположить, что прямолинейные структуры вторичны по отношению к криволинейным. Тогда то, что сама камера-обскура является прямолинейной, совершенно неважно; идет в счет лишь то, что на другом уровне физики кривизна будет первичной по отношению к всевозможным прямым линиям; однако это не предполагает избегания всевозможных прямых линий. Аналогично этому, когда я говорил вам, что происходит в барокко со сгибом: он служит тому, чтобы замаскировать прямой угол, и это вы постоянно встречаете в барочной архитектуре; и все-таки это не препятствует существованию прямых углов. Все, что вы можете сказать: сгиб закругляет угол, но угол присутствует…
[Конец пленки.]
…Он все время говорит это в методах, использующих предел. Мы фактически можем представить себе кривую как предел ряда прямых углов.
Пункт второй.
Коль скоро это так, мы вынуждены различать всевозможные типы инклюзии сообразно рассматриваемым пропозициям. И прежде всего основополагающая двойственность пропозиций: это были сущностные пропозиции и пропозиции существования. Сущностная пропозиция: два плюс два – четыре; пропозиция существования: Цезарь перешел Рубикон или Адам согрешил. Будем называть анализом операцию, которая показывает инклюзию. Если я показываю, что такой-то предикат содержится в понятии, то я занимаюсь анализом; различие между двумя типами пропозиций, сущностной пропозицией типа два плюс два равно четырем и пропозицией существования типа «Цезарь перешел Рубикон», может быть представлено в следующей форме: в случае с сущностными пропозициями анализ является конечным, то есть серией операций показывается, что предикат включен в субъект, а в случае с пропозициями существования анализ является неопределенным. Ответ: нет, только первое противоречие можно назвать действительно досадным. Почему? Потому что в сущностных пропозициях анализ не может быть конечным (хотя мы называли его конечным), так как сущностные пропозиции, по сути, касаются наиболее глубинных слоев разума Бога.
Но ведь Бог бесконечен и имеет дело только с бесконечным. Сущностные пропозиции не могут подлежать конечному анализу, что бы мы здесь ни говорили. И даже если Лейбниц вроде бы говорит о конечном анализе, он невозможен! Невозможен. Даже если он это и говорит, это только слова. Это невозможно. С другой стороны, пропозиции существования не могут быть неопределенными. Почему? Потому, что даже для Бога растворение предиката в субъекте является бесконечным. И здесь слова Лейбница формальны: Сам Бог не видит конца этого рассмотрения, потому что Он Сам бесконечен. Включение предиката в субъект имеет в виду бесконечный анализ, и во всех случаях я полагаю, что анализ с необходимостью бесконечен. Ну ладно…
Относительно вышеописанного рассмотрим случай сущностных пропозиций типа «два плюс два – четыре». В чем состоит включение? Здесь это очень важно, здесь, мне кажется, все пронизано противоречиями, и поэтому я прошу сразу и вашего благоволения, и вашего внимания. Мне необходимо убедить вас, но это ваше дело – судить, убеждены вы или нет. Первый тип включения: в сущностных пропозициях – взаимнообратные включения. Что такое «взаимнообратное включение», у Лейбница сказано отчетливо: это отношение между определяемым и его определением, при условии что определение будет реальным. Что такое «реальное определение» – это необходимо знать наизусть: реальное определение – это определение, показывающее возможность определяемого. Оно противостоит номинальному определению: это – определение, которое позволяет распознать определяемое, но не показывает его возможность. Пример реального определения: вы определяете три через двойку и единицу. Почему это определение – реальное? Это определение реальное, потому что оно определяется первыми слагаемыми, первыми числами. Между определяемым и реальным определением существует взаимнообратное включение. Вы можете заменять одно другим. Если вы нанизываете реальные определения, вы осуществляете доказательство: в предельном случае вы дойдете до того, что Лейбниц называет тождествами. Что такое тождества? Это последние члены анализа. И все-таки я только что сказал, что последнего члена не существует. Итак, это только оборот речи, последний член: это члены, сами по себе бесконечные, а значит, абсолютно простые, а следовательно, между ними нет ничего общего. Это Лейбниц называет абсолютно простыми первичными понятиями. Что такое абсолютно простые первичные понятия – я дам вам ответ Лейбница: это формы, непосредственно возвышаемые до бесконечности. Пример: всякий раз мы будем проверять, можно ли помыслить бесконечную скорость. Если да, если мы можем помыслить бесконечную скорость, то скорость будет абсолютно простым понятием. Можно ли помыслить белое до бесконечности белым? Если да, то белое относится к той же категории. Но ведь до бесконечности белое помыслить нельзя, и неважно почему. Белое всегда будет представлять собой некую степень белого. Итак, мы, по-видимому, не можем помыслить бесконечный цвет. А можем ли мы помыслить бесконечную протяженность? Декарт, например, скажет: «Да». Лейбниц, может быть, сказал бы: «Нет». Разве можем мы помыслить протяженность, бесконечную, саму по себе, непосредственно бесконечную – может быть, нет.
Что же мы можем помыслить как бесконечное; можем ли мы помыслить бесконечный разум? По Лейбницу, да. Впрочем, все это неважно.
Достигну я таких форм или нет, я буду называть абсолютно простыми понятиями бесконечные формы, формы, непосредственно бесконечные. Я бы сказал, что здесь это уже не взаимнообратные включения, так как каждая имеет дело только сама с собой. Два абсолютно простых понятия никак не соотносятся между собой. Они являются разрозненными. Они тождественны – не в смысле того, что одни тождественны другим, а в том, что каждое тождественно самому себе. В действительности оно отсылает только к себе самому. Это уже не область взаимнообратных включений, это область автовключений. Тождественное есть автовключение. Оно относится к самотождественностям. Абсолютно простые первичные понятия являются разрозненными, то есть не имеют ни малейшего отношения друг к другу, и парадоксальное рассуждение Лейбница – я попытался объяснить его в прошлый раз, вот почему он черпает из него новое доказательство существования Бога, – состоит в том, что как раз потому, что бесконечные формы, абсолютно простые понятия не имеют ничего общего между собой, они могут принадлежать одному и тому же Существу: ведь противоречить друг другу может означать еще и нечто показывать. Они могут с тем бóльшим основанием принадлежать одному и тому же Существу, что у них нет ничего общего между собой.
Я говорю: аналогичное рассуждение у Спинозы поистине в духе времени. Именно потому, что между мыслью и протяженностью, строго говоря, нет ничего общего, они обе могут быть атрибутами Бога, то есть атрибутами одного и того же Существа. Итак, автовключение первичных форм позволяет сделать вывод о сингулярном существовании некоего бесконечного существа, которое, стало быть, обладает всеми бесконечными формами. Иными словами, если угодно, следовало бы сказать: абсолютно простые понятия, или бесконечные первичные формы, формально различаются, но онтологически образуют Единое. Вот новое доказательство существования Бога. Формально различные, но онтологически Единое.
В принципе, мы восходим по взаимнообратным включениям вплоть до автовключений, то есть мы восходим по цепочке определений вплоть до тождеств, а тождества неопределимы, поскольку каждое тождество содержит лишь само себя.
Итак, это объект того, что Лейбниц называет «комбинаторным». Предполагается, что мы исходим из простых понятий, чтобы добраться до сложных. Но что касается нас, то опять-таки: раз уж мы не добираемся до абсолютно простых понятий, находящихся в глубине Божьего разума, то мы – конечные создания, но это не имеет ни малейшего значения. Никакого значения не имеет то, что мы не добрались, так как мы удовольствуемся относительно простыми понятиями. А что такое «относительно простые понятия», которые, стало быть, – и вы это чувствуете – образуют символы? Это то, что Лейбниц называет реквизитами той или иной области. Реквизиты той или иной области – вот реальное определение объектов заданной категории. Реквизиты суть относительно простые понятия, до которых мы добираемся.
Пример: я беру область, которая является дисконтинуальным количеством, или числом, и спрашиваю: каков реквизит этой области? Ответ Лейбница таков: это первые числа. Первые числа суть реквизиты каждого числа. Но вы скажете мне, что первые числа – это числа. С точки зрения Лейбница – и да, и нет: это весьма сингулярные числа, это числа, которые являются реквизитами всякого числа. Я беру другую область: организм. Каков реквизит сил весьма своеобразного типа, который я могу определить, – или который Лейбниц определяет забавным словосочетанием «пластические силы»? Мы очень бегло рассматривали, в чем состоят пластические силы: это силы, обладающие способностью свертывать до бесконечности и развертывать части некоего организма, раскручивать и скручивать данные части. Именно пластические силы определяют жизнь.
Если я беру область неодушевленной материи, материи неорганической, то на сей раз реквизиты будут эластичными силами, из-за которых все тела являются эластичными. Всякий раз и для всякой области я получаю относительно простые реквизиты. А значит, я вывожу вот этот новый пункт: Лейбниц говорит нам, что предикат включен в субъект, – хорошо! Но то, что я собираюсь сказать, – очень запутанно, потому что у меня пока еще не хватает элементов, чтобы сказать это яснее. И это как раз для того, чтобы дать вам почувствовать проблему. Опять-таки два плюс два равно четырем. Я говорил вам о том способе, каким Лейбниц доказывал это в «Новых опытах», он доказывает это очень хорошо: будем ему верить. Он доказывает это как раз через разложение на первичные слагаемые. Я говорю: где включение в «два плюс два равно четырем»? Оно не там, где думают. И это объясняет – мне кажется, что здесь видно, до какой степени Лейбниц плохо понят, – возражения, которые выдвигались ему в ответ на это. Включение хотели расположить там, где Лейбниц никогда о нем не думал, так как Лейбниц не говорит ни того, что «четыре» содержится в «2 + 2», ни того, что «2 + 2» содержатся в «4». В таком случае где включение? Почему оно здесь? Поймите, дело в том, что «2 + 2 = 4» следует записать, как всегда у Лейбница, с восклицательным знаком: это событие. Это идиотизм, когда, соглашаясь наделить важностью у Лейбница понятие события, исследователи имели склонность зарезервировать его за пропозициями существования, ведь это неверно! Что касается сущностных пропозиций, то здесь у Лейбница тоже нет ничего, кроме событий.
До Лейбница первой великой философией события был стоицизм. До стоиков таковой не было. Это уже творческий акт в философии – говорить: смотри-ка, я собираюсь превратить событие в концепт. Аристотель может говорить о событии, но у него это не концепт; это – понятие производное и зависящее от концептов Аристотеля, но делать событие предметом ни к чему не сводимого концепта – вот уж поистине гениальный ход! В конечном счете, философия всегда творится гениальными ходами вроде этого, когда нечто внезапно восходит на уровень концепта. Концепт события – это сигнатура стоиков. По этому поводу можно сказать, что концепт события имеет весьма прерывистую историю. Вторым великим философом, который возобновляет проблему события и концепт события, является Лейбниц. Третьим здесь будет Уайтхед. Прекрасно: три философа для одного концепта – достаточно!
И тогда я говорю: «2 + 2 = 4»! Поймите, что это – событие, или предикат, так что, прежде всего, не надо говорить, что «2 + 2» – это субъект, а «четыре» – это предикат. Когда так говорят, хорошо видно, что это неверно. Рассел, написавший о Лейбнице восхитительную книгу, все-таки демонстрирует здесь своего рода радикальное непонимание, но это Рассел, а стало быть, это не страшно, это стоит тысячи истин какого-нибудь остолопа{ В оригинале – неприличное слово «connard», которое можно переводить и как «мудак».}… хмм… Рассел, очевидно, скажет: вы прекрасно видите, что неверно, что всякое суждение есть суждение включения: 2 + 2 дают четыре, но вы не можете выделить включение.
Очевидно, Рассел полагал, что, по Лейбницу, либо 2 + 2 содержатся в «четыре», либо же «четыре» в 2 + 2. Один, два и три. В действительности, чтобы доказать, что «2 + 2 = 4», – вы, может быть, вспомните – Лейбниц использует три дефиниции. Доказательство того, что «2 + 2 = 4», представляет собой нанизывание трех дефиниций, эти три дефиниции задействуют «один», «два» и «три». Я бы сказал, что «2 + 2 = 4» есть предикат, отсылающий к субъекту «один, два и три».
И вдруг все идет насмарку. Почему насмарку? Потому что это все равно что сказать то, что я уже говорил: предикат – это то же самое, что и событие, или отношение. Мы далеки от тех, кто говорят, что Лейбниц не может учитывать отношения или соотношения. Почему? Мне кажется, что то, что Лейбниц называет предикатом, есть как раз то, что мы называем отношением: вот откуда берется двусмысленность. Я пытаюсь закончить свою тему, потому что все происходит сразу. Я говорю, что «2 + 2 = 4» – это совокупность отношений, вот это-то Лейбниц и называет предикатом. Он атрибутируется – чему? Он атрибутируется реквизитам, о нем говорят, говоря о реквизитах; он включен в реквизиты. Реквизиты – это что такое? Это три первых числа с использованием определений «один», «два» и «три».
«2 + 2 = 4» содержатся в «один», «два» и «три».
Но вы тут же скажете мне, что это означает насмехаться над миром, потому что надо еще помыслить «один», «два» и их вместе. А если ты мыслишь «один», «два» и «три» вместе, ты уже задал себе отношения, а отношение не может быть субъектом других отношений, значит, все это похоже на шутку, правда? Это неразумно, это несерьезно. И все-таки – да!
Перехожу к пропозициям существования. «Цезарь переходит Рубикон» – вы не видите, что это отношение. Я говорю: предикат содержится в субъекте, в понятии субъекта. Да, но предикат есть само отношение, он сам включен в субъект «Цезарь». Ладно. Но вы мне скажете, что субъект «Цезарь» – по меньшей мере он, – он сам по себе. Тогда как «один», «два», «три» – это три субъекта. Но ведь нет, субъект «Цезарь» тоже не сам по себе, так как субъект «Цезарь» включает целый мир, а целый мир составлен не только субъектом «Цезарь», но и субъектом «Адам», субъектом «Александр», субъектом «Нерон», субъектом «вы», «я» и т. д…
Иными словами, необходимо различать два плана: вы можете мыслить термины дистрибутивно, то есть вы мыслите их вместе и каждый в отдельности. Отношения пока еще нет. Если мы не проведем этого различия, то, по-моему, все распадется. Именно поэтому для Лейбница недостаточным будет сказать: я мыслю термины вместе, чтобы между ними были отношения; вы можете мыслить их вместе, но и каждый в отдельности, как дистрибутивные единства. Вы мыслите 1, 2, 3, но каждое в отдельности; вместе, и каждое в отдельности. Вы мыслите монаду «Цезарь» и монаду «Цицерон» вместе, но каждую в отдельности, как самодостаточные единицы.
Второй уровень, вы говорите: «Цезарь переходит Рубикон», здесь есть отношения между монадой «Цезарь» и монадой «Цицерон», так как Цицерон вскоре очень опечалится от того, что Цезарь делает это…
[Конец пленки.]
…Так что ответ на вопрос: откуда могут у Лейбница возникнуть отношения? – этот вопрос задают все логики – по-моему, очень прост. Никакой проблемы нет. Отношения суть предикаты. Как только что-нибудь предицируется, возникают отношения. Отношение и предикат отнюдь не противостоят друг другу – как думает Рассел, – отношение и есть предикат. Как только что-либо полагается в качестве предиката, возникает отношение. Что такое предикат? Отношения, то есть события. Вы мне скажете, что это неясно: почему отношения и события – это одно и то же? Вы это сейчас увидите.
Необходимо сказать все сразу. Ладно. Так что это очень важно, я могу сказать, что 2 + 2 = 4! Это совокупность отношений; именно совокупность отношений является предикатом «один», «два», «три»
взятых как дистрибутивное единство. Не существует такого отношения, которое в то же время не было бы предикатом, не осуществлялось бы через предикат и в предикате, так как отношение и есть предикат.
Вот, стало быть, система трех типов включения, соотносящихся с сущностными истинами: самовключения, или тождественности, взаимнообратные включения, или дефиниции, невзаимнообратные включения, или реквизиты. С этим всем мы занимались логикой сущности. Мы переходим к логике существования, то есть к пропозициям существования. И здесь возникает большая проблема: каковы отношения между двумя типами понятия у Лейбница? Речь уже не идет о простых понятиях вроде первичного, абсолютно простого понятия либо реквизита, то есть относительно простого понятия. Речь идет об индивидуальных понятиях. Они также являются простыми, но принадлежат к совершенно иному типу. Это понятия индивида. Я бы сказал – понятия с именем собственным: Цезарь, вы, я и т. д. И тут тоже есть включение. Это уже четвертый тип включения. Почему? На сей раз я бы сказал – и это то, что я предложил бы в качестве термина: четвертый тип включения – это нелокализуемые включения. Почему? Потому что индивидуальное понятие не включает предиката без включения всего мира. Следовательно, такое включение не локализуемо. Что же это означает? Если существует предикат, который включает понятие обо мне, то он таков: то, что я делаю в этот момент. Это означает: речь здесь идет не об атрибутах, речь идет о событиях.
Когда Лейбниц хочет показать, в чем состоит включение в индивидуальном понятии, он говорит: что я делаю сейчас? И в «Монадологии» дается ответ: «Я пишу». Но я пишу – это что? Пусть мне не говорят, что это атрибут! Это глагол. А что Лейбниц называет предикатом? То, что он называет предикатом, есть глагол: «Я пишу». И Лейбниц говорит: если «я пишу», или предикат «я пишу», или другой предикат, «Цезарь переходит Рубикон», является глаголом, то это событие. Глагол – это указатель события. Предикаты – это глаголы. Если вы этого не поддерживаете, по-моему, рушится весь Лейбниц. И рушится в действительности при множестве противоречий, какой ужас! «Я пишу», «я умираю», «я грешу», «я совершаю грех» – все это глаголы. Просто когда в письмах к Арно Лейбниц хочет привести пример включения предиката в субъект, он дает что? «Я совершаю путешествие», «я еду из Франции в Германию». Вот что говорит Лейбниц. «Я еду из Франции в Германию», и все-таки любопытно, чтó заставляют его говорить по этому поводу; когда предъявляют тезисы о Лейбнице, говорят: включение предиката означает, что суждение существования – это имя субъекта + связка, глагол «быть» + качественное прилагательное. Я вам клянусь, что он никогда-никогда этого не говорил! А сказал бы, если бы захотел. Он говорит: «я пишу», «Цезарь перешел Рубикон», «Адам согрешил», «я путешествую»; иными словами, надо слушать его: предикаты – это глаголы, это не атрибуты, это не прилагательные. Это глаголы, а глагол есть свойство некоего события. Всякая монада, которая включает что угодно, с необходимостью включает весь мир. На этом простом основании это не будет работать на уровне атрибутов, вот именно! Дело в том, что всякое событие имеет причину: если я пишу, то это на таком-то и таком-то основании. Я пишу своей кузине: «Дорогая кузина, как твои дела?», и тому есть причина: я слышал, что дела ее плохи. Существует причина этой причины, затем существует причина вот этой причины и т. д. Стало быть, я не могу включить ни одного глагола, не включив бесконечный ряд причин, каковые тоже являются глаголами. Иными словами, причинность есть отношение одного глагола к другому глаголу. Такова связь глаголов, или связь событий между собой. Вот это-то и будет причинностью. С неизбежностью включение не будет локализуемым, если я включаю что угодно, то есть если я включаю некое событие, которое теперь меня касается, – «я пишу», – то я тем самым включаю всю тотальность мира, от причины к причине. В конечном счете все глаголы взаимосвязаны. Ладно…
Воспользуемся этим, чтобы внести здесь ясность. Часто считают, будто теория включения у Лейбница имела в виду редукцию суждения к суждению атрибутивному, – и это главная тема Рассела в его книге о Лейбнице. По этому поводу Рассел говорит, что Лейбниц запутывается, так как, будучи математиком и логиком, он прекрасно знает, что существуют отношения, а отношения – не атрибуты. Предположим, что в «небо голубое» «голубое» является атрибутом, хотя и в этом нет уверенности; зато 2 + 2 = четырем – здесь атрибута нет. Или же: «Цезарь переходит Рубикон» – это не атрибут, так как в противном случае придется формулировать «Цезарь является переходящим Рубикон», а «я пишу» придется формулировать как «я являюсь пишущим». Мы прекрасно видим, что это не одно и то же, что это надуманные редукции. И тогда Рассел добавляет: Лейбниц запутывается, потому что его теория включения подводит его к тому, чтобы сводить всякое суждение к суждению атрибуции. Но, будучи математиком и логиком, он первым узнал, что математика и логика – системы отношений, несводимых к атрибутам. Итак, Лейбницу понадобилось найти статус для таких отношений. Он чрезвычайно запутался, говорит Рассел. И, в конечном счете, сформулировал отношение: атрибут субъекта, сравнивающего вещи. Это смехотворное утверждение Рассела, потому что Лейбниц никогда ничего подобного не делал. Рассел не догадывается, что Лейбниц может поступить иначе, так как…
Впрочем, все неверно с самого начала. Рассел спутал включение предиката с атрибуцией, тогда как между ними, строго говоря, ничего общего. Иными словами, Рассел перепутал предикацию и атрибуцию, а для логика это досадно.
Атрибуция – это как раз отношения между субъектом и атрибутом, то есть качеством, – через посредничество связки «быть». Например: небо (есть) голубое. Это то, что мы называем суждением атрибуции. С точки зрения атрибуции, но только с точки зрения атрибуции, предикат есть атрибут. Так что получается, что суждение атрибуции предстанет в форме: субъект, связка «быть», предикат, который и есть атрибут. Но предикат – это атрибут только с точки зрения субъекта атрибуции. Если суждение не атрибутивное, оно все-таки вполне может иметь предикат. Предикат есть то, что сказано. Это нетрудно: то, что сказано. 2 + 2 = 4 – это предикат. По этому поводу логики говорят: ну нет, это не предикат, потому что нет субъекта. Они идиоты. Недостаточно не найти субъекта, чтобы не было предиката! Если мы спросим, каков субъект в «2 + 2 = 4», то это будет «один», «два» и «три», вот как… «2 + 2 = 4» – это отношения между «один», «два» и «три», рассмотренными сами по себе. «Один», «два» и «три», рассмотренные сами по себе, имеют предикат, каковой является отношением «2 + 2 = 4». Но «предикат» не означает «атрибут», это означает «то, что говорится о какой-либо вещи». По Лейбницу, предикат – это событие. Суждение не является атрибутивным, предикация – это когда говорят о событии, в котором участвует субъект. Я прочту интересующий меня конец фразы из письма к Арно: Арно спрашивает, что же такое вся эта история с включением, включением предиката в субъект.
Я цитирую эту небольшую фразу. Необходимо, чтобы вы выучили ее наизусть и держали в вашем сердце, это даст вам гарантию от всякой бессмыслицы: индивидуальное понятие (то есть Цезарь, вы или я) включает (он мог бы сказать «атрибут», но нет, он совсем даже этого не говорит, никогда! Впрочем, если он иногда говорит «атрибут», то это совершенно неважно, так как в этот момент здесь синоним предиката. Необходимо сказать: атрибут – это событие. Но это ничего не меняет) – он говорит: «Индивидуальное понятие включает то, что соотносится с существованием и временем». Что это значит: «то, что соотносится с существованием и временем»? Это и есть предикат. То, что соотносится с существованием и временем, – говорится о субъекте. Но то, что соотносится с существованием и временем, – не атрибут, если использовать слово «атрибут» во всей строгости его значения. А что? Это событие. Это даже превосходное определение события, правда номинальное: оно не показывает, как возможно событие. Это очень хорошее номинальное определение события, когда говорят: событие есть то, что соотносится с существованием и временем. В этом смысле нет события без отношений. Событие есть всегда отношение, и не только отношение с существованием и временем, но и отношение к существованию и времени. Стало быть, прежде всего не считайте, что предикация у Лейбница может сводиться – как полагает Рассел – к атрибуции. Если бы было так, то Лейбниц, по существу, впал бы во всевозможные противоречия. Однако, далеко не будучи атрибутом, предикат есть отношение, или событие, то есть отношение к существованию и времени в случае с пропозициями существования. Но ведь это очень близко к стоикам. Существует прецедент, и это была новая логика стоиков, которую – увы! – мы знаем очень плохо, нам доступны лишь жалкие фрагменты античных стоиков; увы! – не было бы кощунством сказать: мы могли бы иметь чуть меньше сочинений Платона и чуть-чуть больше – стоиков. И все-таки подобных вещей говорить не надо, следует довольствоваться тем, что имеешь, но – понимаете ли – наша иерархия античных мыслителей, она очень связана с тем, что до нас дошло. Ввиду того, что все это было утрачено, мы не можем как следует подвести итоги. До нас дошли более великие вещи, но та малость, которая до нас дошла, – она дошла до нас прежде всего благодаря комментаторам, комментаторам Античности; мы видим новую логику, которой они занимались.
В каком смысле они порывают с Аристотелем? Атрибутивное суждение – по существу, мы можем сказать, что оно вытекает из традиции: здесь я не хочу вмешиваться в Аристотеля, тут можно начать и не кончить, но я могу в общем и целом сказать, что оно совершенно напрямую вытекает из Аристотелевой традиции: субъект + глагол «быть» + качество. Это атрибутивное суждение. Великий разрыв стоиков состоял в том, что они сказали: нет, события; мир творится из событий, а события не соответствуют этой схеме. Что такое «предикат пропозиции»? Это не качество, атрибутируемое субъекту, это событие, событие, о котором сообщается в пропозиции. Событие типа «настает день!» (il fait jour!). А связь между двумя событиями образует подлинный предмет логики, например: «Когда настает день, становится светло!»; взаимосвязь событий. Диалектика определяется стоиками как взаимосвязь событий.
События и являются предикатами в суждении, в пропозиции. Отсюда и логика совершенно иного типа, нежели Аристотелева. С совершенно новым типом проблем. Например: что означает «пропозиция, относящаяся к будущему»? Будущее событие? «Морское сражение состоится завтра». Имеет ли эта пропозиция смысл или она не имеет смысла? Какой у нее смысл? А когда морское сражение закончится, изменит ли пропозиция модальность? Стало быть, пропозиция может менять модальность в зависимости от времени? Всевозможные проблемы: то, что соотносится с существованием и временем. Иными словами: событие – это то, что может выражаться в пропозиции. Предикат это или событие – оно выражено в пропозиции.
Видите ли, я на этом настаиваю, так как здесь содержится основополагающее противоречие: включение предиката в субъект у Лейбница. Тем не менее я делаю такой переход: Лейбниц возобновит эту логику события, будет ею вдохновляться и придаст этой логике новую ориентацию. В какой форме? В форме (вот это не имеет ни малейшего отношения к стоикам) следующего: события, или предикаты, или отношения, – все это подобно друг другу, события включаются в индивидуальное понятие того, с кем они происходят. Вот он, основополагающий вклад Лейбница в логику события. Событие включено в индивидуальное понятие того, с кем оно происходит, или тех, с кем они происходят. Трудно? Не трудно, наоборот, очень ясно. Вы видите, что включение предиката в субъект у Лейбница – это основополагающий шаг в теории события, которая не имеет ничего общего с теорией атрибуции и с атрибутивным суждением. Вот что я хотел бы сказать со всей определенностью, поскольку, опять-таки, ни один текст Лейбница, как мне известно, не позволяет проводить редукцию суждения или пропозиции к атрибутивному суждению. Вы понимаете?
Отсюда явствует нечто очень важное, а именно то, что в переписке с Арно есть абзац, где Лейбниц – а вы знаете, в переписке Лейбница с его корреспондентами присутствует много недоверия, но это нормально, это вполне легитимно… Арно в какой-то момент в их переписке – Арно очень коварен, потому что он очень умен – говорит Лейбницу: «Ну, вы знаете, ваша штука основана на том, что вы даете довольно новое определение субстанции, и тогда, если мы определяем субстанцию так, как делаете вы, то, очевидно, вы заранее правы. Но разве возможно определять ее так?» И Лейбниц переходит к упражнениям вольтижировки: «Как это новое? То, что я говорю, отнюдь не ново. О чем идет речь?» Арно отвечает ему: «Вы определяете субстанцию через ее единицу; и то, что вы называете „субстанцией“, является в конечном счете некоей единицей. В сущности, monas, как мы видели, и есть единство». Тут Лейбниц отвечает немедленно и говорит: «Вы сказали мне довольно странную вещь, вы говорите мне, что определение субстанции через ее единицу удивительно, однако это делали все и всегда». Арно в конечном счете, говорит: «Согласен, может быть, весь мир это и делал. Но это совершенно неубедительно». И у него все основания не сделаться убежденным. Ответственность за это перекладывается на Декарта. А Декарт отнюдь не определяет субстанцию через какое-то единство. Как же определяется субстанция у классиков, в XVII веке? Ее определяли через ее сущностный, хотя и неопределимый атрибут. Так, мыслящая субстанция определяется через сущностный атрибут, каковой есть мысль и от которого она неотделима. И как раз сущностный атрибут «мысль» определяет мыслящую субстанцию. А сущностный атрибут «протяженность» определяет у Декарта протяженную, или телесную, субстанцию. Субстанция неотделима от своего сущностного атрибута и, взаимно, субстанция определяется своим сущностным атрибутом. Я бы сказал, что в этом моменте вся классическая эпоха является эссенциалистской. Заметьте, что сущностный атрибут – это действительно атрибут. Это всего лишь атрибут. Но – какое чудо – я прав, осмеливаясь утверждать: именно Лейбниц не любит этого определения. Иными словами, для него суждение как таковое не является суждением атрибуции. Он не хочет определять субстанцию через ее сущностный атрибут. Почему? Потому что для него это абстракция, а субстанция конкретна. Иначе говоря, он отвергает сущностные суждения до такой степени, что не хочет иметь их вообще. А субстанцию определяет через что? Субстанция – это действительно единица (единство). Она одна (едина). И тогда Лейбниц может сказать: «Да, но ведь все всегда говорили, что субстанция едина». Но для остальных – там, где начинается диалог с «глухим» Арно, – для остальных единство – это свойство субстанции, а не ее сущность. Сущность есть сущностный атрибут. Это атрибут, от которого она неотделима. Отсюда проистекало, что сущность была определенным образом единой, однако это было лишь одним из свойств субстанции – «быть единой», тогда как у Лейбница сущность – и единственная сущность субстанции – быть единой. Она – монада. Она – monas. Именно единство (единица) определяет субстанцию: вот это-то и ново.
Коль скоро это так, что будет соответствовать у Лейбница находимому нами у Декарта соотношению «субстанция – сущностный атрибут»? Совершенно иной тип соотношения: субстанциальное единство, которое будет соотноситься со всеми способами существования этого единства. Я имею в виду что субстанция соотносится уже не с атрибутом, она соотносится со способами существования. Она уже не соотносится с сущностью, со своей сущностью, сущность у нее «за спиной», она едина. У нее нет другой сущности. Зато у нее есть способы существования. Основополагающее отношение теперь не «субстанция – атрибут», основополагающее отношение – «субстанция – способы существования». Будет ли преувеличением утверждать, что классическому эссенциализму противостоит маньеризм Лейбница? Ибо что мы будем называть маньеризмом? Мы будем называть маньеристской (маньеристским) такую концепцию или мировидение, философскую концепцию или живописное ви́дение, которые характеризуют бытие через его способы. Эти способы (manières) необходимо воспринимать в самом буквальном значении слова: манеры бытия. Отношение «субстанция – сущностный атрибут» Лейбниц заменяет отношением «субстанциальное единство – манеры бытия». Еще раз надо повторить, до какой степени это не имеет ничего общего с суждением атрибуции.
[Конец пленки.]
Так или иначе, каждая монада выражает тотальность мира. Каждая монада выражает мир, каждое субстанциальное единство выражает мир – иными словами, мир есть манера бытия субстанциальных единств. Мир – это предикат субъекта. Это манера бытия субстанциального единства. Что же это такое? Назовем это порцией или узлом. Это большой барочный узел. Большой барочный узел – это знаменитый узел в мифологической истории, и мы называем его Гордиевым узлом. А что такое Гордиев узел? Он воспроизведен в медицинском кадуцее. Гордиев узел – это две сплетшиеся змеи. Я имею в виду: Гордиев узел – это узел, который не начинается и не кончается. Это узел, который великий царь Гордий соорудил для своей царской колесницы: ярмо и дышло неразрывно соединены. Вы знаете, что в мифологии существует целая история основополагающих узлов, это магические знаки по преимуществу, и Гордиев узел – один из прекраснейших магических знаков. Это узел без начала и конца, то есть из него ничего не выходит. Это совершенный узел, это узел вокруг самого себя, это совершенно замкнутый узел. И он говорит нам, что великий царь Александр в присутствии Гордиева узла, раздраженный из-за того, что его не удавалось распутать (а это очень трудно – распутать узел, в котором нет конца), взял меч и рассек его. Вот что он сделал, Александр. Иными словами, два элемента Гордиева узла, возможно, неразделимы.
Лейбниц вместе с Арно; это удивительно: он показал Гордиев узел Арно, однако у Арно нет времени, он очень раздражен, он говорит, что ему надо заниматься другими делами; он говорит: «Мне необходимо поразмышлять над Святой Троицей, а то ваша метафизика мне наскучила». Лейбниц воспринимает это очень болезненно и говорит: «Но если вы понимаете мою метафизику, вы поймете и Святую Троицу». Впрочем, это, конечно, верно, но появляется и другое преимущество. Лейбниц любил составлять списки всевозможных преимуществ, которые несло с собой понимание его философии. Он тратит свое время, объясняя: внимание, Бог создал не монады, то есть индивидуальные понятия, Он создал мир. Бог создал мир, где Адам грешит. Бог не создал Адама-грешника – это способ сказать то, что не вина Бога, если Адам грешит: Он создал мир, где Адам согрешил. Следуйте за моей мыслью. Но эта пропозиция бессмысленна, если вы не согласны со второй пропозицией. Итак, Бог не создает индивидуальные понятия; Он создает мир, к которому отсылают эти индивидуальные понятия. Вторая пропозиция… но, внимание, мир не существует за пределами индивидуальных понятий, которые он включает, которые он охватывает. Как это систематизировать? Это всегда состоит в следующем: монады для мира, субъекты для мира, мир в монадах, в субъектах. Если вы отвергнете одну из двух пропозиций, все пропало.
Итак, попытаемся проверить. Чтобы объяснить Лейбницев узел, на первый взгляд, необходимо сделать вот это. [Чертит на доске.] Почему? Потому что я делаю мир больше субъекта, так как в нем бесконечное множество субъектов. Вы видите, здесь нечто светозарное, это Гордиев узел, совсем маленькая петля. Это большая барочная скрученность, это маньеризм; это фотография маньеризма, ее просто надо дополнить. Я дополняю ее двумя малыми стрелками, означающими, что индивидуальное понятие существует для мира. Мир не существует за пределами индивидуального понятия, и я обозначаю его, это пунктир. Мой большой круг теперь пунктирный. Тут сразу становится очевидным, что монада – для мира, но мир в монаде, если только я добавляю стрелки, способствующие возвращению мира в монаду. У Лейбница это сделано с совершенством. Но существует не одна монада, существует не одно индивидуальное понятие; их – бесконечное множество: все вы, Цезарь, Александр и т. д., и каждая из них включает весь мир с собственной точки зрения; необходимо, чтобы это я тоже пояснил. Всякая малая петля будет индивидуальным понятием. Что такое барочная скрученность, по преимуществу? Это хиазм, это плетеные узоры. На самом деле это какая-то бесконечность. Мир – индивидуальные субстанции, индивидуальные понятия, одно для другого, одно в другом. Еще раз: перед нами отношения субъектов с миром.
Я говорю наскоро то, что представляется мне очень интересным, – это история, напоминающая Мерло-Понти. Отношения субъекта с миром – вы знаете, до какой степени они были воспроизведены феноменологией и Хайдеггером: родиться в мире. Общая тема Хайдеггера и Мерло-Понти такова: вначале у Гуссерля и его учеников отношения субъекта с миром предстают в форме интенциональности. Хайдеггер очень рано отмежевывается от Гуссерля и гуссерлианцев, порывая с интенциональностью, и замещает ее тем, что называет «бытие-в-мире». В действительности это довольно хорошо соотносится с текстом Мерло-Понти, где утверждается: необходимо порвать с интенциональностью, потому что интенциональность сама по себе, в том виде, как она определена Гуссерлем, не гарантирует нам, что это – нечто иное, нежели простое «learning», простое обучение психологии. Итак, если мы хотим ускользнуть от психологии, то интенциональности недостаточно. Но как же от нее ускользают? Как это делает Мерло-Понти вслед за Хайдеггером? Вам надо только взять такой текст, как «Видимое и невидимое»; он говорит это сам: то, что заменяет интенциональность, есть хиазм, плетеные узоры, своего рода скрученность «мир – субъект». И как раз это Хайдеггер называет складкой. Все эти понятия, приходящие нам на ум, любопытны. И вдобавок под конец жизни в своих заметках Мерло-Понти непрестанно ссылается на Лейбница; это любопытно. Возьмите длинную посмертную заметку, опубликованную в конце «Видимого и невидимого», длинную и очень интересную заметку о Лейбнице, страница 276 «Видимого и невидимого», целая страница о Лейбнице, где Мерло-Понти говорит: «Выражение вселенной в нас (то есть то, что каждая монада включает в себя или выражает вселенную), конечно, не является гармонией между нашей монадой и другими монадами (это против Лейбница, но Мерло-Понти использует лейбницианский язык), но она есть то, что – как мы констатируем – мы принимаем в перцепции таким, как оно есть, вместо того чтобы объяснять его». Очень интересно, потому что то, чем Хайдеггер заменяет гуссерлевскую интенциональность, будет складкой между бытием и сущим, а у Мерло-Понти это будет хиазм. В конце Мерло-Понти как бы колеблется между Лейбницем и Хайдеггером. Вот это все, что я хотел бы сказать в заключение.
Мы прибываем сюда: вот оно, включение в пропозиции существования; это, стало быть, та самая скрученность, каковую мы только что видели. И тогда мы добрались до великого различия между сущностными пропозициями и пропозициями существования. Различие таково: в сущностных пропозициях контрарное является контрадикторным, то есть сказать, что 2 + 2 не равно четырем – контрадикторно, или невозможно. В пропозициях же существования вы говорите, что мир находится в монаде. Это вполне возможно: мир находится в индивидуальном понятии; но еще надо объяснить вот это: то, что вы всегда можете помыслить Адама не грешащим, и это – контрарное. Мир, где Адам согрешил, является внутренним для Адама; конечно, именно поэтому Адам грешит. Но в конечном счете Адам-негрешник не является контрадикторным. Тогда как вы не можете сказать, что 2 + 2 не равно четырем, не впадая в противоречие, и вы не можете сказать без противоречия: круг является квадратным, тогда как вы можете сказать без противоречия: Адам не грешит, и вы можете помыслить Адама-негрешника. Итак, здесь контрарное не является контрадикторным, оно не контрадикторно само по себе. Это-то и следует пояснить. Адам-негрешник – не невозможен. Адам-негрешник возможен. Его необходимо так или иначе пояснить. И больше ничего не возможно.
Я мыслю Адама-негрешника. Попытаемся поставить вопрос конкретно: Адам-негрешник – он противоположен Адаму-грешнику. Отношения между Адамом-грешником и Адамом-негрешником – отношения противоречия. Мой вопрос таков: можем ли мы локализовать иной тип отношений? Да, это необходимо. Эта история не слишком сложная, вы видите, что я проникаю в весьма своеобразный лейбницианский концепт: это концепт несовозможности. Совозможное и несовозможное у Лейбница – это не то же самое, что возможное и невозможное. Но где расположить эти отношения совозможности и несовозможности, если между Адамом-грешником и Адамом-негрешником отношения противоречия? Невозможно, чтобы Адам был сразу и грешником, и не грешником. И тогда где разместить другие, более сложные отношения? Если вы следовали за моей мыслью, то поймете: необходимо, чтобы существовали более сложные отношения. На сей раз это – не отношения между Адамом-негрешником и Адамом-грешником, но отношения между Адамом-негрешником и миром, где Адам согрешил. Тут – отношения не противоречия, а не совозможности. Впрочем, у нас нет выбора; в противном случае мы не увидели бы того, что имеет в виду Лейбниц своими отношениями совозможности или несовозможности.
Я должен сказать: Адам-грешник и Адам-негрешник противоречат друг другу. Но Адам-негрешник не противоречит миру, где согрешил Адам: он несовозможен с этим миром. И получается, что Адам-негрешник возможен, в противоположность 2 + 2 равняется пяти. Просто он несовозможен с миром, где Адам согрешил.
Стало быть, существует целая сфера, целая зона, где несовозможность отличается от противоречия. Быть несовозможным – не то же самое, что быть противоречащим, контрадикторным, это другие отношения. Отсюда: что такое «быть несовозможным»? Знаменитая формулировка Лейбница «Адам-негрешник несовозможен с нашим миром», то есть с миром, где Адам согрешил, выходит за рамки противоречия: это отношения несовозможности.
Чрезвычайно любопытное понятие: несовозможность. Это – понятие, которое имеется только у Лейбница. И что поразительно, так это то, что существует один особенно отчетливый текст Лейбница о несовозможности. Я читаю его: «Но ведь мы не знаем, откуда берется несовозможность (он утверждает несводимость несовозможного к противоречию. – Ж.Д.) разнообразного: то есть мы не знаем того, что заставляет разнообразные сущности отталкиваться друг от друга». Он говорит: «Мы не знаем». Существует несовозможность, она не сводится к противоречию, и мы не знаем, откуда берется несовозможное; в чем Адам-негрешник несовозможен с миром, где согрешил Адам, мы не знаем. Мы понимаем противоречия, мы не понимаем несовозможности: мы можем только констатировать их. По счастью, существует другой текст, где Лейбниц кое-что говорит: сошлюсь на научное издание «Gerhard», философские сочинения, по-моему, в семи томах. Существует несколько изданий, подобных этому, – я вам рассказал о состоянии рукописей; стало быть, это грандиозное издание. Кто хочет проверить – это в томе 7, страница 195. С другой стороны, вы этих книг не найдете, так как их невозможно достать. Хотя нет, их только что переиздали. Стало быть, вы сможете найти «Gerhard», но это трудно во Франции, скорее его придется высылать из Германии. В конце концов, надо попросить у вашего книгопродавца – а как же! Итак, 7, 195, клянусь вам, что это так, это по-латыни, я перевел без ошибок и бессмыслицы. И есть еще другой текст, в «Теодицее», очень хороший текст, где сказано: можно сколько угодно не понимать, мы можем уловить нечто обобщенное, что в таком случае позволяет нам «разок» стать бо́льшими лейбницианцами, чем сам Лейбниц; вы понимаете, мой текст позволяет нам это, он дает нам разрешение. Вот что там сказано по поводу благодати, проблемы благодати: «Если кто-нибудь спросит, почему Бог не дает всем благодати обращения… и т. д.; то мы уже некоторым образом ответили: не для того, чтобы найти основания Бога (вы видите: нет и речи о том, чтобы найти основания Бога, это слишком смутно; мы видели, что это нам не под силу, это бесконечно. – Ж.Д.), но чтобы показать, что без них было бы невозможно (это чудо)». Речь идет не о том, чтобы нам, бедным конечным тварям, найти основания Бога; но для нас речь идет о том, что у Бога в любом случае есть основания. А поскольку нам не дано знать, каковы они, то все, что мы знаем, это что они есть, а остальное – уже Его дело. Это дает мне право сказать то же самое о несовозможности: мы не знаем, в чем состоит это отношение, основания есть у Бога. Но мы все-таки можем показать, что это не перестает быть отношением, и отношением, не сводимым к противоречию. Сюда можно пойти и выдвинуть гипотезу – на том основании, что ее поддерживают известные тексты Лейбница: будем исходить из моей монады «Адам». Я исхожу из индивидуального понятия «Адам». [Чертит на доске.] Будет крайне любопытная штуковина. Так как сейчас вы очень устали, я всего лишь дам схему, а затем, в следующий раз, мы рассмотрим ее повнимательнее. Мы встретимся в следующий раз, мы не будем заниматься повторением, это я клятвенно обещаю.
Я говорю: в монаде «Адам» Адам выражает мир и существует для мира; весь мир включен в него, но вы помните идею Лейбница: как получается, что два индивидуальных субъекта различаются между собой, тогда как каждый выражает весь мир? Ладно: каждый выражает тотальность мира, но каждый также ясно выражает всего лишь малую часть мира. Итак, даны два индивидуальных понятия, и оба они выражают весь мир, но ясно выражают лишь малую его часть: если у меня есть монада без дверей и окон, то каждая монада имеет принадлежащую ей ясную зону. Вот так, на первый взгляд, различаются две монады: у них не одна и та же зона включения, или ясного выражения; эти зоны соседствуют между собой.
Иными словами: вот у вас малая зона ясного выражения, и она не такая же, как у меня. И тогда получается иерархия душ: представьте себе, что мы оказываемся перед монадой, у которой большая, очень объемистая зона ясного выражения; я бы сказал, что она ценнее (при соблюдении всех пропорций), чем та монада, у которой такая зона очень мала; и совершенствоваться, то есть заниматься философией, означает «увеличивать нашу зону ясного восприятия».
Мы интересуемся только ясным восприятием Адама. Я попытаюсь разметить его вехами; мы увидим, какова это разметка. Первая черта: Адам – это первый человек. Что это за первая черта? Это предикат, это не атрибут, это событие: «И сотворил Бог первого человека», это очень даже важное событие. Вторая черта: «Жить в саду». Досюда идет текстуальный Лейбниц. Третья черта: «Иметь женщину, рожденную из ребра…».
[Конец пленки.]
Лекция 3
(27.01.1987)
Вот мы где – мы оказались перед тремя вопросами.
Первый вопрос, мы сталкивались с ним в прошлый раз, – это чрезвычайная важность понятия «сингулярность», и я полагаю, что «сингулярность», или «сингулярная точка», – это одно из начальных понятий математики, которое возникает у истоков теории функций. Историки математики справедливо считают, что теория функций – это, вероятно, первая великая теория, от которой зависит то, что называют математикой Нового времени. Теория аналитических функций… Так вот, Лейбниц стоит у истоков этой теории функций. Значение Лейбница для математики, наверное, состоит в том, что в своих математических произведениях он разрабатывает теорию функций, в которой он – я бы не сказал: «Ничего не будет разрабатывать», но я бы сказал: «Очень мало изменит». Итак, это основополагающее для математики деяние, ориентирующее математику на теорию функций. Но ведь сингулярные точки, или сингулярности, суть основной инструмент этой теории, только Лейбниц не довольствуется тем, что становится первым великим математиком, разрабатывающим всю теорию функций, – не скажу, что он ее создает, потому что в XVIII веке вырисовываются контуры великой теории функций; но он, Лейбниц, не только таков; концепт сингулярности встречается у него очень часто, становясь философско-математическим – и в каком смысле? В точном смысле – или в общем и целом – мы можем сказать: мы уже видели, что сингулярности бывают нескольких типов, и нашей целью будет классифицировать сингулярности в лейбницианском смысле термина «сингулярность». Но ведь в первом значении слова – что такое для Лейбница сингулярность? Я бы сказал очень схематично: сингулярность – это сгиб, или, если вы предпочитаете, точка сгиба; но ведь мир и есть бесконечный ряд возможных сингулярностей. Мой первый вопрос-вывод таков: что такое сингулярность, или что такое сингулярная точка, если сказано, что в общем и целом мы можем утверждать, что сингулярность – это сгиб, или сингулярность находится там, где с кривой что-то происходит? Стало быть, с самого начала наша идея поверхности с переменной кривизной, которая показалась нам основополагающей темой у Лейбница, неотделима от техники и философии сингулярностей и сингулярных точек. Я думаю, мне нет необходимости настаивать на новизне смысла такого понятия, так как оно, конечно, употреблялось до того, как логика познакомилась с универсальным, всеобщим, частным и сингулярным. Но сингулярность в смысле «сингулярной точки», или того, что происходит с линией, – вот нечто совершенно новое, и, по сути, оно имеет математический исток.
Итак, с этого уровня я могу философски определять событие как совокупность сингулярностей. В этот момент я бы сказал, что данное понятие – даже не только математического, но и физического происхождения. Критическая точка в физике: испарение, кристаллизация, все, что угодно, – критическая точка в физике предъявляет себя как сингулярность. Все это, как вы чувствуете, влечет за собой множество проблем; за появление этого математико-физико-философского понятия воздадим хвалу Лейбницу.
Вот первая группа вопросов, которые, с нашей точки зрения, уже поставлены; но вы чувствуете, что эта материя должна разрабатываться, способствовать исследованиям.
Второй вопрос, или второе предчувствие, которое у нас есть: возможно, что между двумя сингулярностями существует тип совершенно оригинальных отношений, и логика события требует, чтобы этот тип отношений был конкретизирован. Что это за отношения, и какого типа отношения существуют между сингулярностями? В прошлый раз я выдвинул гипотезу, исходя из следующей идеи: столь причудливое понятие, как то, что придумывает Лейбниц, говоря нам: если вы возьмете множество возможностей, то они не обязательно будут совозможными; стало быть, отношения совозможности и несовозможности будут тем самым типом отношений между сингулярностями. Адам-негрешник несовозможен с миром, где Адам согрешил. Еще раз поймите как следует: это неважно, что Адам-негрешник противоречит Адаму-грешнику, но не противоречит миру, где Адам согрешил. Просто между миром, где согрешил Адам, и миром, где Адам не грешит, наличествует несовозможность. Положение Бога, когда Он творит мир, вы видите, очень причудливо – и это относится к самым знаменитым идеям Лейбница: положение Бога, когда Он творит мир, состоит в том, что Бог оказывается в ситуации, когда Он выбирает из бесконечного множества возможных миров, Он делает выбор между бесконечным множеством в равной степени возможных миров, которые, однако, несовозможны друг с другом. В Божьем разуме существует бесконечное множество миров, и Бог среди возможных миров, которые несовозможны друг с другом, выберет один.
И какой же? К счастью, мы еще не занимались этим вопросом, но ответ Лейбница легко угадать: Бог выберет лучший мир. Наилучший. Он выберет лучший из возможных миров. Он не может выбрать все сразу, они несовозможны. Значит, Он выберет лучший из возможных миров. Идея очень-очень любопытная, но что означает «лучший», и как Он выберет лучший? Тут необходим своего рода расчет. Каков будет лучший из возможных миров, и как Он его выберет? Не вписывается ли Лейбниц в длинную цепочку философов, для которых высшей деятельностью является игра? Правда, сказать, что для многих философов высшей, или божественной, деятельностью является игра, – не бог весть что такое, потому что надо еще определить, о какой игре идет речь. И все меняется сообразно характеру игры. Хорошо известно, что уже Гераклит ссылался на игру игрока-ребенка, – но дело зависит от того, во что он играет, этот игрок-ребенок; играет ли Бог Лейбница в ту же игру, что и ребенок Гераклита? Можно ли сказать, что это та же игра, которую упоминает Ницше? Будет ли это той же игрой, что и игра Малларме? Лейбниц заставит нас создать некую теорию игр, но даже и без теории его увлекали игры.
В XVII веке начинаются великие теории игр. Лейбниц тоже участвует в их создании, и я могу привести нижеследующее ученое замечание: дело в том, что Лейбниц знал игру го, и вот это очень интересно [смех], он знал го, и в небольшом, но весьма поразительном тексте он проводит параллель между го и шахматами; и он говорит, что существует большая разница между го и шахматами, и говорит он нечто очень справедливое, а именно то, что шахматы входят в те игры, где необходимо брать. Мы берем фигуры. Вы видите обрисованную Лейбницем классификацию игр: в шахматах и в шашках взятие осуществляется разными способами, стало быть, существует несколько способов взятия; итак, это игры взятия. А вот в го речь идет о том, чтобы изолировать, нейтрализовать, окружать, но отнюдь не брать, не лишать активности. Итак, я говорю «ученое замечание», и дело в том, что в изданиях Лейбница XIX века игра го столь малоизвестна, что в связи с этим текстом Лейбница существует примечание, например, в издании Кутюра в начале XX века, а Кутюра – очень хороший специалист сразу и по математике, и по Лейбницу; существует примечание Кутюра о намеке Лейбница на эту китайскую игру; Кутюра утверждает, что это отсылает к тому, что он приводит в кратком описании и говорит: «Согласно тому, что сказал нам один специалист из Китая». Стало быть, это весьма любопытно, так как, если верить примечанию Кутюра, то в те годы игра го была совершенно неизвестна. Она стала важной для Франции совсем недавно. Ну ладно, хватит, а то я теряю время. Я это говорил для того, чтобы сказать вам… чтобы сказать вам что? Итак, прибегнув к какому исчислению, к какой игре, Бог изберет мир, определяемый как лучший? Ладно, это мы оставим в стороне, поскольку это несложно; ответ не труден, а теперь мы подплываем к трудностям.
Что нам важно, так это мой второй вопрос, вот он: какой тип отношений позволяет определять совозможность и несовозможность? В прошлый раз я был вынужден сказать, что в текстах Лейбница кое-чего в этом отношении недостает, но у нас есть право предложить гипотезу, и предложенная нами гипотеза была такой: не можем ли мы сказать, что имеется несовозможность между двумя сингулярностями, когда продолжение одной до соседства с другой позволяет возникнуть сходящемуся ряду, и, наоборот, такая несовозможность, когда ряды расходятся? Итак, именно конвергенция и дивергенция рядов позволили бы мне определить отношения совозможности и несовозможности. Стало быть, совозможность и несовозможность можно считать прямыми последствиями теории сингулярностей, и это моя вторая проблема, я на этом настаиваю – это проблемы. Это вторая проблема, которую можно было бы извлечь из нашей последней лекции.
Третья, и последняя, проблема – в том, что, следовательно, у меня было бы как минимум неоценимое преимущество… впрочем, мы увидим: у меня была бы как минимум последняя гипотеза об этом основополагающем вопросе у Лейбница: что такое индивидуальность или индивидуация? Почему это основополагающий вопрос у Лейбница? Правда, мы уже видели, – если верно, что всякая субстанция является индивидуальной, если верно, что субстанция есть индивидуальное понятие, обозначаемое именем собственным, как вы, я, Цезарь, Адам и т. д… Вопрос, в чем состоит индивидуация, что индивидуирует субстанцию, если всякая субстанция индивидуальна, остается основополагающим. Мой ответ, или моя гипотеза, могли бы быть такими: разве нельзя сказать, что индивид, индивидуальная субстанция представляет собой сгущение, сгусток совозможных, то есть конвергентных, сингулярностей? В конечном счете это было бы определением индивида, а нет ничего более сложного для определения, нежели индивид, – если это можно сказать, то я бы сказал: «почти что», – что индивиды – это сингулярности второго рода. Что же это означает – сгусток сингулярностей? Например, я определяю индивида Адама через первую сингулярность и воспроизвожу тексты писем к Арно: «первый человек»; вторая сингулярность: «в саду»; третья сингулярность: «иметь женщину, рожденную из его собственного ребра»; четвертая сингулярность: «поддаться искушению». Вы видите своего рода [один-два слова неслышны, возможно «сингулярность»], она предсуществует субъекту, и в каком смысле? Существует одно великолепное для нас выражение: о сингулярностях мы скажем, что они доиндивидуальны. Поэтому нет никакого порочного круга (что было бы очень обидно), если мы определим индивида как сгусток сингулярностей, если сингулярности доиндивидуальны. Что значит «сгусток»? Всевозможные тексты Лейбница говорят и напоминают нам, что у точек есть возможность совпасть, и как раз поэтому точки не являются составными частями протяженности. Если у меня есть, например, бесконечное количество треугольников, если у меня есть бесконечное количество углов, то я могу сделать так, чтобы совпали их вершины. Я бы сказал, что «сгусток сингулярностей» означает, что сингулярные точки совпадают между собой. Индивид – это точка, как говорит Лейбниц, но точка метафизическая; метафизическая точка – это совпадение некоей совокупности сингулярных точек. Отсюда важность – хотя именно это мы делали с самого начала, но я хочу утвердить это раз и навсегда, – разумеется, Лейбниц все время повторяет нам: только и существуют что индивидуальные субстанции. В конечном счете реального не существует; это надо понимать так, что реальны лишь индивидуальные субстанции. Но, как мы видели, это не препятствует тому, что следует исходить из мира (а только это мы и делали), то есть следует исходить из сгиба. Следует исходить из бесконечного ряда сгибов. И только во-вторых мы догадываемся, что сгибы – или же сам мир – только и существует, что в выражающих его индивидуальных субстанциях. И при этом индивидуальные субстанции возникают из мира, и вот то, что я вам говорил: необходимо безусловно придерживаться двух пропозиций сразу: индивидуальные субстанции – для мира, а мир – в индивидуальных субстанциях. Или, как говорит Лейбниц: Бог не создал Адама-грешника – это ключевой текст для меня, так как без этого текста все, что мы проделали в первом триместре, дойдя от мира до индивидуальной субстанции, оказалось бы неверным, – Бог не сотворил Адама-грешника, Он сотворил мир, где согрешил Адам, – раз уж мы сказали, что мир, где согрешил Адам, только и существует, что в выражаемых им индивидуальных понятиях, в понятии Адама и в понятиях всех нас, живущих в условиях первородного греха.
Ладно… Итак, вы видите… Мой третий пункт – это вся сфера проблемы индивидуации, и я полагаю, что Лейбниц и здесь был первый. Если я подведу итог трем перечисленным пунктам, то скажу, что среди всех основополагающих вещей, внесенных Лейбницем в философию, на первом месте располагается вторжение математико-физико-философского понятия сингулярности; здесь надо поставить вопрос: «Но – в конечном счете – что такое сингулярность?» – потому что тем самым мы навсегда разделаемся с сингулярностью как составной частью событий. Логика событий, математика событий – это и есть теория сингулярностей. Хотя в математике это совпадает с теорией функций, но мы заявляем здесь притязание не только на теорию функций; мы притязаем также на логику события.
Второй пункт типов отношений между сингулярностями: совозможность, несовозможность, сходящиеся ряды, расходящиеся ряды; каковы последствия всего этого для разума Божьего, а также для сотворения мира и для Божьей игры? Если Бог творит, то это значит, что Он избирает лучший из миров, пользуясь своего рода расчетом, или игрой. Третий пункт: что такое индивидуальность, если мы исходим из идеи о том, что в ней сгущается определенное количество сингулярностей или бесконечное множество сингулярностей и т. д… и потому эти сингулярности с необходимостью являются доиндивидуальными?
Это ставит три серьезных проблемы. Хотя здесь все легко, и я бы хотел просто извлечь отсюда основополагающие последствия. Вы видите, что эта ситуация весьма любопытна: совозможное, несовозможное… В Божьем разуме перемешивается бесконечное множество возможных миров. Лейбниц здесь идет до конца. Я прошу прощения у тех, кто были здесь два года назад; я уже говорил об этом по иному поводу, по поводу проблемы, касающейся истинного и ложного, и, по всей видимости, мне необходимо ее повторить – но я собираюсь это сделать довольно быстро. Я говорю для отсутствовавших. Существует три основополагающих текста, которые вам придется рассмотреть; первый весьма знаменит, это текст самого Лейбница «Теодицея». Посмотрите «Теодицею», часть третья, параграфы 413 и следующие; это в высшей степени барочный текст. Что мы называем барочным повествованием? Например, этим занимаются Жерар Женетт и другие критики; в общем и целом все они согласны между собой, говоря нам, что барочные повествования – на первый взгляд – характеризует взаимовложение повествований, с одной стороны, а с другой – варьирование отношений между повествователем и повествованием, когда из двух получается одно. Каждому повествованию, вложенному в другое, по сути соответствуют отношения «повествователь – повествование» нового типа. Если, начиная с параграфа 413, вы возьмете весьма любопытную историю, которую рассказывает Лейбниц и которая прекрасна, как и всё в «Теодицее», то вы увидите, что это – типично барочное повествование, так как оно исходит из диалога между философом Ренессанса по имени Валла…
[Конец пленки.]
…Фигурирует один римский персонаж, Секст, последний римский царь, который продемонстрировал дурные страсти, а именно – изнасиловал Лукрецию; некоторые говорят, что Лукрецию изнасиловал его отец – ну и ладно, а в традиции, коей пользуется Лейбниц, Лукрецию насилует Секст. И вопрос таков: по вине ли это Бога? Бог ли несет ответственность за зло? В этот первый текст, в диалог между Валлой и Антонием, в это первое повествование вкладывается второе, в нем Секст идет за советом Аполлона, чтобы спросить: скажи наконец, Аполлон, что произойдет со мной? Затем добавляется и третье повествование: Секст не удовлетворен тем, что ему говорит Аполлон, и идет искать самого Юпитера. Он обращается к самому Юпитеру, чтобы получить ответ из первых рук. Таковы вариации повествования. Здесь, при свидании Секста с Юпитером, вмешивается новый персонаж, и это великий жрец Теодор – возлюбленный Юпитера. И новое повествование: Теодор присутствовал при диалоге между Секстом и Юпитером, и он говорит Юпитеру: ты неправильно ему ответил. Юпитер же говорит Теодору: сходи к моей дочери Палладе. Стало быть, вот последнее повествование: Теодор идет к Палладе, дочери Юпитера. Как видите, здесь получается изрядное взаимовложение. И вот [Жиль взрывается хохотом] он засыпает, Теодор! Вот типичное барокко. Барочные романы всегда пишутся вот так. И все-таки я не могу поверить, будто Лейбниц… Ведь он прекрасно знает, что делает: в этом конце «Теодицеи», который совершенно безумен, он прекрасно знает, что делает. Эта великая барочная имитация, и опять-таки он знает ее.
Итак, Теодор спит, но он видит сон. Ему снится, будто он разговаривает с Палладой, и вот Паллада говорит: вставай и следуй за мной! И это еще не конец. Она подводит его к великолепной прозрачной пирамиде. Это сон Теодора. В пирамиде – дворец судеб. Итак, начинается архитектурная тема, которая должна доставить нам радость. «Дворец судеб, который я охраняю», – говорит Паллада. Она утверждает, что Юпитер иногда посещает эти места, чтобы получить удовольствие от перечисления вещей и перемены собственного выбора. Итак, Бог посещает памятник этой архитектуры, этой прозрачной архитектуры. А что же такое эта прозрачная архитектура? Это колоссальная пирамида, у которой есть вершина, но нет конца. Вы сразу же чувствуете, что что-то происходит, а именно, что в бесконечном множестве возможных миров существует лучший мир, но нет такого, какой был бы худшим. К бесконечности мы устремляемся с нижней, а не с верхней стороны. Там есть максимум, но нет минимума. Это интересует нас потому, что все необходимо воспринимать математически. Мы увидим, что в списках сингулярных точек существует момент, когда возникнет – и прочно – идея существования максимума и минимума. По-моему, максимумы и минимумы у Лейбница – явления разных порядков. Так, на уровне миров существует лучший, но нет такого, который был бы худшим. Итак, у меня есть пирамида без конца, но с вершиной, и устремленная ввысь… Но, заметьте, здесь есть проблема, потому что как же организовать ее, даже если я попытаюсь сделать чертеж? В самом верху есть квартира – Лейбниц употребляет именно слово «квартира». Вы помните нашу историю, этаж вверху, этаж внизу, все такое, вы вскоре увидите это воспроизведенным в нашем превосходном тексте. Существует квартира с крышей, которая заканчивается острием, и – если я правильно понимаю, – она занимает всю верхнюю часть пирамиды. И в этой квартире живет некий Секст. Ладно… Ниже – говорит нам Лейбниц – есть и другие квартиры. Я рассматриваю все эти квартиры, и это нелегко; как они организованы? На мой взгляд, невозможно, чтобы были квартиры «вниз головой»; иными словами, подумайте: как заполнить пирамиду и какими фигурами? А я бы еще спросил: какова форма квартир? Это проблема, хорошо знакомая математикам, и волнующая. Если на самом простом уровне дана некая поверхность, то как разделить ее так, чтобы не осталось ни одной свободной части? Проще говоря: как замостить пространство? Проблемы мощения – здесь есть проблемы архитектуры, но также и математики. Например, можете ли вы «замостить» круг одними окружностями, или же в нем будут пустые части? А если дана поверхность, то чем вы можете ее замостить? Это выглядит как пустяк, ремесло мостильщика, но ведь это одно из прекраснейших ремесел в мире, ага. Это божественная деятельность – мощение. Доказательство состоит в том, что Лейбниц в знаменитом тексте, озаглавленном «О корневом истоке вещей», – а он гениально придумывал заглавия: что может быть прекраснее написания книги, названной «О корневом истоке вещей», особенно когда в этой книге пятнадцать страниц? – так вот Лейбниц в связи с сотворением мира Богом откровенно упоминает мощение. Это означает, что он предполагает (хотя в это и не верит, ну и пусть), что пространство можно уподобить некоей заданной поверхности – и он говорит: Бог с необходимостью избирает мир, который заполняет это пространство лучше всего и по максимуму. Иными словами, Бог выбирает мир, который лучше всего мостит пространство творения. Итак, как я собираюсь мостить свою пирамиду квартир таким образом, чтобы не было пустоты? Это интересно. Надо предполагать, что это маленькие пирамиды, в которых ни одна из квартир не имеет острия вниз, иначе это не работает. Вы видите, я говорю все это, чтобы поставить перед вами колоссальные проблемы. Но тогда в самых нижних квартирах… А каждая квартира, как говорит Лейбниц уже не помню где, но поверьте мне: каждая квартира есть некий мир.
Я вновь достаю текст, хе-хе: «После этого богиня Паллада ввела Теодора в одну из квартир. Когда он туда зашел, это была уже не квартира, это был некий мир». У меня складывается впечатление, что это вход в барокко. Вы входите в барочную комнату, и в момент, когда вы туда входите, это уже не комната, это некий мир. Вы входите в первую квартиру, где перед вами некий Секст, а затем входите в другую квартиру, внизу – внизу нет последнего этажа, там всегда есть и более нижние этажи, но существует самый верхний этаж. Итак, на верхнем этаже перед вами некий Секст, на следующих этажах – другие Сексты. Предчувствуйте проблему, почему это Сексты; здесь для нас будет проблема.
Итак, там, где это усложняется, – впрочем, в этом, столь веселом тексте все важно, в нем сказано: каждый из Секстов – в квартирах – имеет число на лбу: 1000, 10 000, и так как бесконечность устремлена вниз, там у вас будет Секст с числом 1 000 000. А Секст из самой верхней квартиры – с единицей. Почему же у них числа? Дело в том, что в то же время – вы помните, что я вам говорил, – верхняя комната служила в барокко кабинетом чтения. В каждой квартире был какой-то большой том с текстами? Теодор не смог устоять перед тем, чтобы спросить: что это означает? Зачем здесь большие тома с текстами? «Это история мира», – отвечает Паллада. «Это история мира, который мы теперь посещаем», – говорит ему богиня. Это книга его судеб. Вы видели число, написанное на лбу Секста, поищите в этой книге место, которое оно обозначает. Теодор стал искать его и нашел историю Секста. Но ведь я уже видел Секста в его прозрачной квартире, ну да! Да-да, я видел его, и он изображал некую последовательность; например, он насиловал Лукрецию, или – гораздо более приемлемое – его короновали как римского царя. Вот я видел его в театре. Но он вошел туда лишь одной своей ипостасью. Иными словами: множество того мира, с каковым вот этот Секст, тот, который насилует Лукрецию и которого коронуют как римского царя, – мира, с каким этот Секст совозможен, я не видел; я читаю о нем в книге.
Вы видите: свойственное барокко сочетание «видеть – читать», то, что в последний раз мы назвали эмблемой, сказав, что барокко эмблематично, – мы полностью находим его здесь. Я продолжаю бродить.
Секст наверху, ладно… Но внизу я вижу такого Секста, который идет в Рим, но отказывается короноваться. Как говорит Лейбниц, он покупает садик и становится богачом и уважаемым человеком. Это другой Секст, и у него другое число на лбу. Я бы сказал: этот Секст номер два не совозможен с квартирой вверху, с верхним миром, с миром номер один. И потом я вижу третьего Секста, который отказывается идти в Рим, а идет в другое место, во Фракию, и его коронуют как фракийского царя. И он не насилует Лукрецию. Предположим… и т. д. и т. д., до бесконечности. Вы видите, все эти миры возможны, но они несовозможны между собой, это значит – что? Это значит, что существует точка расхождения, момент, когда они расходятся. Зачем все эти Сексты? Мы повторим проблему, потому что это очень важно, но мы можем предположить, что именно потому, что очень небольшое количество сингулярностей для них является общим. Все они – сыновья Тарквиния и преемники римского царя; но в одном случае Секст действительно наследует своему отцу, в другом случае он отказывается от преемства и покидает Рим, а в третьем он отказывается стать наследником, но остается в Риме. Вы видите, что расхождения не переходят из одного мира в другой; расхождения, определяющие несовозможность, не обязательно встречаются в одном и том же месте.
Что здесь очень важно, так это то, что у меня есть сеть расхождений, которые начинаются не с одной и той же сингулярности, или начинаются не при прохождении одной и той же сингулярности через другую.
Вот перед вами чрезвычайно радостная картина несовозможных миров: множество, связанное с совозможностью; множество совозможных сингулярностей, определяющих некий мир; а Бог выбирает, Он выбирает лучший из возможных миров.
Очень бегло я хочу всего лишь намекнуть на два основополагающих текста; вы встретитесь с двумя типично лейбницианскими литературными текстами. Один не представляет никакой проблемы, потому что его автор обладает колоссальной ученостью и исповедует один из вариантов типично лейбницианского учения; впрочем, это любопытно, хотя мне нет надобности его цитировать; это Борхес, новелла «Сад расходящихся тропок». Несовозможность под пером Борхеса превратилась в бифуркацию, расходящиеся тропки. Эта новелла помещена в сборник, озаглавленный «Fictions»; я читаю один абзац, в нем идет речь о романе, который написал один таинственный китайский автор: «Как правило, в художественной литературе стоит герою романа очутиться перед несколькими возможностями, как он выбирает одну из них, отметая остальные. (Заметьте, что именно таково положение Бога у Лейбница: из несовозможных миров. Он выбирает один и исключает другие. – Ж.Д.) В неразрешимом романе Цуй Пеня он выбирает все разом (представьте себе лейбницианского первертированного Бога: Он вызвал бы к существованию все несовозможные миры. А что сказал бы Лейбниц? Лейбниц сказал бы, что это невозможно! Но почему это невозможно? Потому что в тот самый момент Лейбниц отверг бы собственный излюбленный принцип, а это принцип лучшего. Выбирать лучшее. Представьте себе Бога, которому нет дела до лучшего; это невозможно, очевидно невозможно, – но представьте себе такого Бога, и тогда мы попадем от Лейбница к Борхесу. – Ж.Д.), тем самым он творит различные будущие времена, которые, в свою очередь, множатся и ветвятся». Отсюда противоречия романа. «Скажем, Фан (это персонаж, подобный Сексту. – Ж.Д.) владеет тайной, к нему стучится незнакомец. Фан решает его убить. Есть, видимо, несколько вероятных исходов. Фан может убить незваного гостя; гость может убить Фана; оба могут уцелеть; оба могут погибнуть и т. д. и т. д… Так вот, в книге Цуй Пеня реализуются все исходы, и каждый из них дает начало точке новых развилок»{ Цит. по: Борхес Хорхе Луис. Проза разных лет. Пер. Б. Дубина. М. 1984. С. 93.}. Я бы сказал, что разум Бога – точно то же самое. В разуме Бога развертываются все возможные миры. Правда, есть и преграда: Бог может допустить к существованию лишь один из этих миров. Но в его разуме присутствуют все развилки; это такой взгляд на разум Бога, какого мы никогда не видели. Я имел в виду как раз то, что Борхес превращает в стилистический прием, в нечто прикладное мотив, идущий непосредственно из «Теодицеи».
Но еще больше меня интересует роман, на который я вам намекал; он является еще более лейбницианским, лейбницианским в буквальном смысле. Этот роман принадлежит перу того, от которого мы ничего подобного не ожидали, но он оказывается крупным философом: это Морис Леблан, великий популярный романист XIX века, хорошо известный как создатель сыщика Арсена Люпена. Но помимо Арсена Люпена он пишет превосходные романы, особенно один, который был переиздан в книге карманного формата и который называется «Причудливая жизнь Балтазара». Вы увидите, до какой степени этот роман извилист. Я вкратце перескажу его: его герой – Балтазар, а Балтазар – это молодой человек, работающий профессором повседневной философии, а повседневная философия – это весьма своеобразная, но очень интересная философия, которая состоит в том, чтобы говорить: нет ничего необычайного, все правильно, все обычно. Все происходящее является обычным; иными словами, сингулярностей не существует, и это очень важно. С Балтазаром на протяжении романа происходят всевозможные устрашающие несчастья, и всякий раз его преследует робкая возлюбленная, которую зовут Колоквинта. И Колоквинта говорит ему: но, господин Балтазар, мало ли что утверждает повседневная философия; ведь то, что с нами происходит, не банально; Балтазар же ворчит на нее и говорит ей: Колоквинта, ты ничего не понимаешь, все это вполне обычно, как мы вскоре в этом убедимся. И сингулярности упраздняются. Вы помните общий смысл моей темы: сингулярности развиваются – как? Продлеваясь рядом ординарностей вплоть до соседства с другой сингулярностью. А что побеждает? Ординарности ли зависят от сингулярностей или же сингулярности от ординарностей?
Одним текстом Лейбница я очень дорожу. В «Новых опытах» (и это я цитировал в прошлый раз – можно считать, что ответ сложный) Лейбниц говорит нам: то, что примечательно (имеется в виду сингулярность), должно быть составлено из непримечательных частей. То, что примечательно, должно быть составлено из непримечательных частей – иными словами, сингулярность состоит из ординарностей. Что это значит? Это не очень сложно. Возьмите такую фигуру, как квадрат, у него четыре сингулярности, четыре вершины, наконец, четыре «то-не-знаю-что», четыре «как-бишь-его», где он меняет направление, четыре сингулярные точки; я могу сказать, что это A, B, C и D, я могу сказать, что каждая из этих ординарностей представляет собой двойную ординарную точку, так как сингулярность B представляет собой совпадение ординарности, которая является частью AB, и другой ординарности, части BC. Ладно…
Должен ли я сказать, что все ординарно, и даже сингулярность, или же я должен сказать, что все сингулярно, и даже ординарное? Балтазар избрал первый взгляд и говорит: все ординарно, даже сингулярности… И все-таки с Балтазаром происходят забавные вещи, ибо, например, выясняется, что он не знает, кто его отец. Балтазару – в противоположность героям модернистских романов – совершенно все равно, кто его отец; но оказывается, что существует проблема наследства, и необходимо, чтобы он знал отца. И Леблан, бессмертный автор этой столь прекрасной книги, этого великого романа, приводит три сингулярности, определяющие Балтазара: у него свои отпечатки пальцев, и это сингулярность, потому что отпечатки его пальцев не похожи ни на чьи. Итак, первая сингулярность – его отпечатки пальцев. Вторая сингулярность – татуировка, которую он носит на груди и которая состоит из трех букв: m, t, p; mtp. С другой стороны, третья сингулярность – ясновидящая, с которой он собирается встретиться; как бы там ни было, ясновидящая говорит ему: твой отец без головы. Итак, три сингулярности Балтазара таковы: иметь отца без головы, иметь свои собственные отпечатки пальцев и иметь татуировку mtp. Это похоже на три сингулярности Адама: быть первым человеком, находиться в саду и иметь женщину, рожденную из его ребра. Можно отсюда исходить. После этого перед Балтазаром проходит целая вереница отцов. Вот первый отец, граф де Куси-Вандом, он довольно хорошо соответствует условиям, так как он убит, ему перерезали горло, это сделал бандит, и его голова практически отрезана. Его ли сын Балтазар? Исходя из трех заданных сингулярностей, можно ли сказать, что они продлеваются, и если да, то до какого соседства с вот этой сингулярностью: быть сыном убитого графа? Вероятно, да, в одном из миров. В одном из миров это так. Эта версия доводится до конца. Но после этого, в момент, когда Балтазар вот-вот соприкоснется с наследством графа де Куси, его похищает бандит, который говорит ему…{ Чем кончилась эта история, можно узнать на стр. 108–109 книги Ж. Делёза «Складка: Лейбниц и барокко». М., 1998.}
[Конец пленки.]
Лекция 4 Часть первая. Таверна
(24.02.1987)
Ну хорошо. Вы здесь. И вот, вы, может быть, помните, что мы начали рассматривать то, что Лейбниц говорил нам о свободе, а точнее – о нашей с вами свободе. Не могу сказать точно, кажется, я начал довольно давно, и я очень бегло повторю ту проблему, которая вырисовывается. То, что говорит нам Лейбниц, необычайно конкретно. Я надеюсь, что за истекший промежуток времени вы, исполняя мою просьбу, прочли или перечитали Бергсона, и я хотел бы, чтобы вы пришли к наиболее конкретной из возможных концепций. Вы, может быть, помните, как формулируется проблема. Дело в том, что на уровне пропозиций существования, как все время говорит Лейбниц, противоположное не имеет в виду противоречия; контрарное не является контрадикторным. А это означает: на уровне так называемых сущностных пропозиций контрадикторным является то, что 2 + 2 не равняется четырем (как говорит Лейбниц). Но на уровне пропозиций существования отнюдь не контрадикторно то, что Адам не будет грешником. Нет противоречия в том, что Адам не грешит. Адам-негрешник, Цезарь, не переходящий Рубикон, не невозможны, они просто несовозможны с миром, который избрал Бог. Ладно. По этому мы скажем: нет необходимости в том, чтобы Цезарь переходил Рубикон, нет необходимости в том, чтобы Адам грешил, – и все-таки несомненно, что Адам согрешит или что Адам грешит; несомненно, что Цезарь перейдет Рубикон или что он переходит Рубикон. Несомненно почему? Это зависит от избранного мира, так как «переходить Рубикон» есть предикат, или событие, как говорит Лейбниц, включенные в монаду «Цезарь». Итак, несомненно, что Цезарь перейдет Рубикон или переходит Рубикон. Это несомненно – почему? В связи с избранным миром, так как «переходить Рубикон» есть предикат, или событие, как говорит Лейбниц, включенные в монаду «Цезарь». Итак, несомненно, что Цезарь перейдет Рубикон, но, в конце концов, это не означает необходимости такового перехода, потому что возможен был и другой Цезарь. Да, но он был возможен в другом мире, а этот другой мир несовозможен с нашим. Я бы сказал вам, что все это, конечно, очень хорошо, – но чьей свободы это касается? Или свободы чего? Я могу, строго говоря, утверждать, что эта история, это различение между несомненным и необходимым – это касается свободы Бога; иными словами, это, по существу, значит, что Бог делает выбор между мирами и что в творении присутствует свобода Бога. Но вот моя свобода в этом мире, свобода Цезаря в этом мире – ведь как бы там ни было, слабое утешение говорить самому себе: ах да, я бы мог сделать и иначе, нежели сделал, но было бы это в каком-то ином мире, а этот иной мир несовместим с нашим, и, в конечном счете, сделал бы это другой я. И Лейбниц сам говорит то же самое: такой Цезарь, который не переходит Рубикон, это и есть другой я. Итак, вот что произойдет с нашим вопросом, вот чего мы хотим, и мы не бросим тексты Лейбница, пока у нас не будет на него ответа; и вот какова наша свобода в этом мире без отсылки к другим, несовозможным мирам. Ведь на самом деле Лейбниц очень хорошо различает проблемы, и, насколько я понимаю, с Лейбницем не всегда можно соглашаться – это очень любопытно, так как большинство текстов Лейбница, где ставится вопрос о свободе, расходятся между собой по вопросу о свободе Бога и довольствуются утверждением: ну что же, да, как видите, мы сделали вот это, и, видимо, здесь есть достоверность, но нет необходимости. Опять-таки, тема «достоверно, но не необходимо», очевидно, не образует моей свободы в мире, но именно на этой теме основана и сформирована свобода Бога в том, что касается множественности возможных миров. Я бы сказал вам: к счастью, есть два текста, где нет расхождений по поводу свободы Бога, длинный и короткий; маленький текст взят из переписки с Кларком (Кларк был учеником Ньютона), а с другой стороны, перед нами восхитительный длинный текст в «Новых опытах о человеческом разумении», книга 2, главы 20 и 21, где речь только и идет, что о нашей свободе – о вас, обо мне, о Цезаре, об Адаме и т. д. Если же мы попытаемся как следует разобрать это сочинение, то прекрасно увидим: вот то, что я говорил в прошлый раз, это первая феноменология мотивов. Именно на феноменологии мотивов Лейбниц основывает свою концепцию свободы – и в какой же форме? Речь идет о нашей свободе. И, поистине изобличая двойную иллюзию, касающуюся мотивов, Лейбниц говорит нам: первая вещь – мы не сможем ничего понять в свободе, мы не сможем ничего уловить в человеческой свободе, если будем понимать мотивы словно гири на весах. Это сводится к следующему: не объективируйте мотивы, не делайте из мотивов того, что было бы за пределами сознания или даже в его пределах, чего-то вроде объективных представлений, ведь мотивы – это не объекты и не репрезентации объектов, это не гири на весах, относительно которых вы могли бы подумать, какой мотив победит другие при всех остальных одинаковых условиях. Итак, вот первая опасность: объективировать мотивы, рассматривать их будто гири на весах. Иными словами, именно сознание творит мотивы, а не мотивы заставляют вас что-то сделать; прежде всего сознание, ваше сознание творит мотивы. Мотивы – это профили сознания, а не гири на весах. Если вам угодно, это предрасположенности души, как говорил Лейбниц в переписке с Кларком. Вторая иллюзия: это означало бы раздваивать мотивы, и было бы уже не иллюзией объективации, а иллюзией раздвоения, и эта вторая иллюзия нанизывается на одну цепочку с первой. Если у вас мотивы подобны гирям на одних и тех же весах, то есть, если вы объективировали мотивы, то вам придется ссылаться на новые субъективные мотивы, которые объяснят, почему вы избираете такие-то мотивы скорее, нежели другие. Иными словами, если вы объективируете мотивы, то вы вынуждены раздваивать их, потому что вам будет необходим другой ранг субъективных мотивов, чтобы объяснить ваш выбор объективных мотивов. Иными словами, вы наткнетесь на глупую идею того, что надо хотеть хотеть. Вам понадобится раздвоить предрасположенности души; вам понадобятся субъективные предрасположенности, чтобы выбрать ту или иную из объективных предрасположенностей. Коль скоро это так, что это означает? Мы не можем хотеть хотеть, а это означает, что мотивы не раздваиваются. Они не раздваиваются, потому что мотивы не являются ни объективными, ни объективируемыми. И фактически они образуют саму ткань души. А что это значит – ткань души?
Лейбниц объясняет, что, относительно того, что образует ткань души, не следует полагать, будто душа есть своего рода весы, на которые ставятся гири. Ткань души – это кишение, роение мелких наклонностей – запомните это выражение как следует: кишение мелких наклонностей, и это (возобновляя нашу тему) не метафора, которая сгибает и складывает душу во всех направлениях. Кишение мелких наклонностей… Впоследствии, когда мы посвятим этому как минимум одну лекцию, мы рассмотрим то, что является у Лейбница основополагающей темой: это то, что Лейбниц называет малыми восприятиями и мелкими наклонностями. Вы припоминаете, что «дно» монады представляет собой что-то вроде ковра или обоев, но в то же время эти обои формируют складки. Вы обнаружите здесь ту же тему, ткань души, кишение, то есть складки, которые каждое мгновение появляются и разглаживаются. Множественность. Множество малых тенденций, малых восприятий. Очень хорошо. Это ткань души, это множество, которое ей принадлежит; вы помните, что «Новые опыты» возобновляют книгу Локка, озаглавленную «Опыты о человеческом разуме», и что Лейбниц, в свою очередь, обозначит как «ткань души», пользуясь словом, которое ввел Локк, а именно словом «беспокойство». Лейбниц скажет, что то, что Локк называет «беспокойством», есть как раз это ни на миг не прекращающееся кишение, словно действуют тысячи мелких пружинок (глава 20 второй книги). Вы вспомните: в самом начале у Лейбница была постоянная тема пружины, и это зависит от эластичной силы… Если сила является эластичной, то вещи как бы движимы малыми пружинами. Здесь мы находим тысячи малых пружин. Иными словами, в вас не прекращается кишение. А это – как если бы упомянутая разновидность живой ткани души непрестанно складывалась во всех направлениях. Это своего рода чесотка. Беспокойство – это чесотка. Душа постоянно находится в упомянутом состоянии чесотки. И Лейбниц в одном прекраснейшем тексте говорит нам: это коромысло, а «коромысло» по-немецки как раз обозначается словом «беспокойство»{ Ни одно из немецких слов, означающих «коромысло» – ни «Schulterjoch». ни «Waagejoch», ни «Schwengel» – не значат «беспокойство».}!
Это означает, что перед нами уже не объективные весы. Как это понимать? Я возьму один пример – даже если придется попытаться немножко его продолжить, извлечь из него максимум, – в главе 21 второй книги «Новых опытов», – тот самый пример, который приводит Лейбниц: таверну. И попытаюсь дополнить его, чтобы он стал более ясным. Он говорит нам – вы понимаете, я сказал бы что-то не так, говоря «идти в кафе», что было бы анахронизмом для XVII века, это было бы ошибкой, которую вы исправили бы: тогда ходили в таверны. Итак, собираюсь ли я пойти в таверну? Типичный пример человеческой свободы! Собираюсь ли я по-прежнему работать, собираюсь ли я по-прежнему читать курс, или же я пойду в таверну? Надо посмотреть. Надо понять. Существуют люди, которые говорят вам: ну ладно, если уподобить таверну гире A, а работу гире B, то вы при прочих равных условиях сделаете выбор; но ведь в моей душе никогда ничего не бывает равного! В противном случае моя душа никогда не была бы в состоянии беспокойства. Итак, противоречия умножаются.
Именно в это время мотивы наделяются объективным существованием, как если бы это были гири на весах, а душу «отмывают» от всяческого беспокойства, как если бы это были нейтральные весы, готовые показать вес гирь. Это неразумно. В действительности ткань моей души вот в этот момент, в момент A, состоит из чего? Я говорю: тысячи малых восприятий, тысячи малых наклонностей движутся от чего к чему? Вдали я что-то слышу. Что я слышу? Я слышу… Это относится к воображению или нет? Как бы там ни было, это множество малых восприятий и мелких наклонностей. Что же я слышу вдали? Я слышу звон стаканов, я слышу беседу друзей – и то если я это не воображаю. Неуместно думать, что на уровне малых восприятий (разумеется, в тех областях, где «воображать» не равнозначно «воспринимать», очень важно различать их) у нас нет уверенности; во всяком случае, это не наша проблема. Вы уже видите, почему мотивы никогда не напоминают горшки на весах. Он говорит нам: ну, вы понимаете, алкоголик кое-что понимает в тысячу раз лучше; хотя он, Лейбниц, вел трезвую и образцовую жизнь, но он очень хорошо понимает: алкоголик – это отнюдь не тот, кто живет чем-то абстрактным, это совсем не тот, чья душа повернута к алкоголю, как если бы алкоголь был единственной гирей, способной воздействовать на эти весы; но алкоголь строго неотделим от целого кишащего контекста – контекста вкуса, само собой, но все-таки еще слухового и визуального: компания товарищей по попойке, радостные и «душевные» беседы, вытягивающие меня из уединения, – и все такое. Если вы возьмете множество «алкоголь», то там необходимо разместить не только алкоголь, но и всевозможные разновидности визуальных, слуховых и обонятельных качеств: запах таверны, и все такое. Но, с другой стороны, здесь также необходимо рассмотреть работу как перцептивное множество наклонностей, малых восприятий-наклонностей: шелест бумаги, а это также и слуховое свойство, состояние тишины, перелистываемые мною страницы, скрип пера. И все это – отнюдь не нейтрально. Я имею в виду: совершенно так же, как алкоголь не был абстракцией, работа тоже не абстракция. Это целое множество перспектив и склонностей. Что такое вопрос раздумий? Имеется в виду, что в такой-то момент ткань моей души движется от одного полюса к другому. Стало быть, она движется от одного перцептивного полюса в таверне к другому перцептивному полюсу, реализуемому в рабочем кабинете. И по моей душе пробегают малые восприятия и мелкие наклонности, которые сгибают ее во всех направлениях. Раздумывание – это означает, в какую сторону я собираюсь сгибать свою душу. В какую сторону? В какую сторону я собираюсь интегрировать, если использовать псевдоматематическое слово; в какую сторону я собираюсь продуцировать посредством всевозможных соответствующих малых наклонностей одну большую – нет, скорее, примечательную – наклонность; в какую сторону я собираюсь продуцировать посредством всевозможных малых восприятий различающееся восприятие; используя максимум малых восприятий, продуцировать различающееся восприятие; используя максимум малых наклонностей, продуцировать примечательную наклонность; то есть всевозможными мелкими складками, которые скручивают мою душу каждое мгновение и образуют мое беспокойство, с помощью чего и с какой стороны я собираюсь произвести решающую складку, складку определяющую. Иными словами, каково действие, которое в рассматриваемый момент заполнит наибольшую часть моей души? Отсюда постоянное упоминание коромысла: коромысло как амплитуда души в тот или иной момент.
Получается, что я вам сказал то, что существенно в двадцатой главе, и вы найдете там превосходную формулировку: между тем баланс изменился. Лучше не скажешь. Баланс изменился; вспомним небольшую схему, которую я предлагал вам в последний раз. Тут я собираюсь показать неправильную схему. Неправильная схема – это полагать, будто у меня совершенно прямолинейная душа, которая оказывается в точке развилки. Мотив A – я иду в таверну; мотив B – остаюсь работать. Это глупая схема, и в ней всевозможные изъяны: мотивы объективированы, предполагается, что у меня прямая и индифферентная душа, и, чтобы произвести выбор, ей необходимы мотивы мотивов. Эта схема раздумий, эта феноменология раздумья неразумна и несерьезна. Почему? Потому что, когда я раздумываю, собираюсь ли я идти в таверну… нет, разумнее было бы поработать… я немного продолжаю работать и говорю себе: и все-таки ужасно хочется пойти в таверну. Я возвращаюсь в A. Что же идиотского в этой схеме? Идиотское в ней то, что, когда я возвращаюсь в A, ситуация, очевидно, изменилась. Первый раз: я собираюсь пойти в таверну. Второй раз: нет, я собираюсь продолжать работать. Третий раз: и все-таки я бы туда сходил. Но второе A – уже не первое, между ними располагается B. Уподоблять мотивы гирям на весах абсурдно; дело в том, что в тот самый момент мотивы раздумья остаются постоянными. И поэтому на самом деле не видно, как мы можем принять какое бы то ни было решение, потому что если мы приходим к какому-нибудь решению через раздумья, то происходит это ровно в той мере, в какой в потоке раздумий мотивы отнюдь не остаются постоянными. Они изменились – почему? Потому что прошло какое-то время. И эта длительность заставляет мотивы изменяться, или, скорее, она не заставляет мотивы изменяться, она способствует изменению по мере того, как длится природа рассматриваемого мотива. Отсюда, как я вам говорил, подлинная фигура – это… Вот она! Это единственно возможная схема раздумья. A – это таверна, B – это работа. Это схема сгиба. В очередной раз мы обретаем нашу историю. В душе существуют только сгибы. Чем бы ни был сгиб в душе, он получает свое имя: наклонность! Что означает для нас «быть свободным»? Это означает «быть склонным, не будучи вынуждаемым». Мотивы склоняют меня, не вынуждая. Наклонность души – это сгиб в душе, сгиб в таком виде, как он в нее включен. Весь первый триместр – об этом.
Итак, я продолжаю. A = таверна, B = работа. А все мы знаем, что мотивы изменяются, не существует A и B. Существуют A1, B1, A2, B2 и т. д… Понятно?
Вы видите, что когда я, например, раздумываю, я отнюдь не возвращаюсь к A. Это не то же самое A. И тогда, учитывая это, зачем останавливаться в определенный момент и зачем даже раздумывать, зачем? Свободным актом будет тот, который запечатлевает амплитуду моей души в тот или иной момент, в момент, когда я нечто делаю. Вы мне скажете, что так бывает всегда. Нет! Почему? Вы припоминаете: речь идет о том, чтобы интегрировать малые восприятия и мелкие наклонности, чтобы получить примечательную наклонность, склонность души. То, что способно заполнить склонность души в какой-либо примечательный момент, есть примечательная склонность. Интегрировать малые наклонности, интегрировать малые склонности – это требует времени, и у Лейбница постоянно возникает эта тема, эта разновидность лейтмотива: нечто, что требует времени. Это символично и образцово; сегодня – если у нас будет время – мы коснемся проблемы режима света. Разрыв, или один из основополагающих разрывов, таков (как сказано во всех учебниках): Декарт верил в мгновенность передачи света, в мгновенность самого света, а для Лейбница все требует времени, даже передача света. Интеграция основополагающим образом требует времени. А если это математическая интеграция, то и время будет математическим; если же интеграция психическая, то и время будет психическим.
Итак, проследуем дальше. Я вышел из A1, у меня возникает смутное желание пойти в таверну B; почему я туда не иду? Просто потому, что это остается на уровне малой наклонности, малого восприятия; у меня «мелкий зуд»: да, я очень хочу. Но я остаюсь работать. Проблема такова: я не знаю амплитуду своей души вот в этот момент, мне требуется время. Могу ли я подождать? И тогда я устремляюсь в таверну. Мог бы я подождать? Я мог бы и подождать, но тогда это был бы не тот же я. Поэтому очень часто я совершаю действия, совершенно не соответствующие амплитуде моей души; как правило, как раз на них я трачу свое время. Всякий раз, когда я совершаю машинальное действие, это нисколько не соответствует амплитуде моей души. Когда я бреюсь по утрам, это не соответствует амплитуде моей души? Не надо преувеличивать! Нет ни малейшего основания – как делают некоторые философы – подчинять все выполняемые нами действия критерию, свободны они или нет! Свобода нужна для определенных действий. Существуют разнообразные действия, которые не следует сопоставлять с проблемой свободы. Они, всевозможные машинальные действия, всевозможные привычные действия и т. д., производятся, я бы сказал, лишь для того, чтобы успокоить тревогу. Мы будем говорить о свободе, только если возникает вопрос о действии, способном или неспособном заполнить амплитуду души в такой-то момент. Предположим, в какой-то момент максимум амплитуды наблюдался со стороны A1, которое шире, чем B, что означает «надо идти в таверну», так как «идти в таверну» означает широту души; это не имеет отношения к какой-то узости, а открывается в сторону всего, что я вам говорил: встречи с друзьями, радостные беседы, в высшей степени одухотворенные шутки и т. д. [Смех.] Но не могу ли я подождать? А вы смотрите главы 20 и 21, можем ли мы подождать? Мы можем всё понять. Если бы Адам смог подождать, разве согрешил бы он?
А спустя мгновение – не совсем «спустя» – удастся подождать, и мир некоторым образом изменится; проблема уже не будет ставиться тем же способом. Есть случаи, когда ждать не следует; есть случаи, когда ожидание меняет всё. Вы видите, что здесь моя душа увеличила амплитуду, и произошло это по направлению к работе; а вот здесь моя душа изменила амплитуду, но это в сторону таверны, – вопрос в том, до какой точки: мотив никогда не бывает одинаковым; когда я вернусь к тому же самому мотиву, этот мотив уже не будет тем же самым. Почему? Прошло время. Между A-секундум и A-терциум прошло время, которое мы будем называть длительностью. И если вы меня спросите: «Ну хорошо, почему бы не остановиться в A-секундум?» – я отвечу: «Можно остановиться, а можно и не останавливаться». То я останавливаюсь в A-секундум, то я там не останавливаюсь. В зависимости от чего? То потому, что в A-секундум в такой-то момент осуществляется амплитуда моей души, то потому, что в A-секундум может и не осуществляться предположительная амплитуда моей души, и машинальное действие побеждает. Даже более того: вы можете перевернуть эту схему, чтобы все-таки получить уже не прогрессивный процесс, как это сделал я, но процесс регрессивный, где моя псевдоспираль, наоборот, утончится, а амплитуда уменьшится. Перед вами – ряды, где амплитуда души уменьшается. Вы понимаете?
Ладно, может быть, здесь не будет проблем. Необходимо, чтобы это было очень конкретно. Иными словами: свободным действием является действие, выражающее всю амплитуду души в такой-то момент длительности; оно выражает всю душу в такой-то момент длительности; иными словами, оно выражает «Я». Это любое совершённое или завершенное действие. Оно является совершённым или завершенным постольку, поскольку в нем выражается «Я». Ну вот, оно выражает «Я», оно является совершённым или завершенным. Здесь мы натыкаемся на нечто, что будет весьма важным и в философском, и в жизненном смысле, – а как же! Это совершённое или завершенное действие. Совершенное или завершенное действие есть понятие, хорошо известное в философии, и у него есть греческое название, но это греческое название звучит странно: это энтелехия. Энтелехия. Та самая, о которой нам много говорил Аристотель. Здесь у меня нет времени говорить вам об энтелехии у Аристотеля, но, в общем и целом, это действие, цель которого состоит в нем самом, то есть действие совершённое или завершенное, и в философии Аристотеля это – перманентное действие, то есть действие, наделенное непрерывностью, в противовес действию последовательному. Иными словами, действие совершённое или завершенное у Аристотеля не есть действие, законченное раз и навсегда, это не действие в прошедшем времени. Тем не менее эта история весьма сложна, потому что энтелехия являет себя в форме весьма специфичного греческого глагольного времени, которое называется аористом, и это такое время, которое имеет дело с прошлым, но представляет собой, если угодно, то, что называют перфектом. Перфект. Но мы предчувствуем, что сводить перфект к прошлому было бы совершенно недостаточным – даже для Аристотеля – и было бы даже абсурдом. Впрочем, забудем Аристотеля. Вернемся к Лейбницу. Для Лейбница это еще очевиднее. Совершённое действие – это действие, выражающее душу во всей ее амплитуде, во всей амплитуде души. Это действие, в котором выражается «Я»; это действие есть действие в настоящем времени. Я бы хотел вернуться, не останавливаясь на этом и не задерживая на этом вас, так как, по-моему, об этом совершенно забыли комментаторы: важность презенса во всей философии Лейбница, действие в презенсе, поступок в презенсе. Вы помните, что когда речь идет о том, чтобы показать, в чем состоит включение, Лейбниц всегда исходит из действия в процессе свершения, а не из свершенного действия. «Я пишу» в «Монадологии» означает «я нахожусь в процессе письма», а «я путешествую» в письмах к Арно – «я нахожусь в процессе путешествия». Это очень важно, так как на первый взгляд казалось, будто включение в монаду представляет собой свойство прошедших действий. Нет, отнюдь нет. Прошедшие действия включены в монаду, потому что в ней должно быть действие в настоящем. Именно потому, что действие в презенсе «я пишу» включено в монаду, в нее включены и причины, в силу которых я пишу, то есть данные из прошлого. Включение есть замыкание: монада замыкает собственные предикаты, она закрывает в себе собственные предикаты. И это существенно, поскольку закрытость, или замкнутость, то есть включение, соответствует действию в настоящем в процессе своего свершения, а не прошедшим действиям. Включение – это условие существования живого презенса, а не условие существования мертвого прошлого. Ну хорошо, мы это уже видели. Но очень важно то, что мы обнаруживаем это теперь. И меняется весь Лейбниц. Внезапно вы должны почувствовать, что включение полным ходом несется к примирению со свободой. И как раз потому, что мы творим нечто противоречивое с включениями, мы говорим себе: «Ха-ха, включение – это означает, что мы включаем всё в модусе уже-сделанного». Это как если бы перед тем, как перейти Рубикон, Цезарь уже перешел его. Раз уж мы сказали, что мы склонны к абсурду, то включение соответствует действию в процессе его свершения, это условие действия в процессе его свершения, а вовсе не результат действия, свершенного раз и навсегда. В монаду выпадают не действия в прошлом, а действие в процессе свершения; оно не могло бы свершиться, если бы в процессе своего свершения оно не вписывалось в монаду, не включалось в монаду, чтобы свершиться в процессе свершения.
Почему?
Потому что – послушайте хорошенько – дело в том, что действие в настоящем может быть совершённым только при каком условии? При условии того, что его собственное движение будет составлять некое единство. Определяет совершенство действия не то, что оно свершилось, а движение, посредством которого оно образует единство в процессе свершения. Ну и вот: что придает движению единство? Движение движется само собой? Нет, оно сугубо относительно. Относительность движение. То, что придает движению единство, есть душа, душа движения. Только душа является единством движения. Если вы остановитесь на уровне тела, вы с одинаковым успехом сможете атрибутировать движение как телу A, так и телу B. Существует некая абсолютная относительность движения.
Только душа способна придать единство движению. Ну и ладно. Что же такое совершённое действие? Вы должны понять: совершённое действие – это действие, которое получает душу, которое включает единство движения в процесс его свершения. Это равнозначно тому, чтобы сказать вам, до какой степени совершённое действие не есть действие, свершённое раз и навсегда, совсем наоборот. Это действие в настоящем, это действие в процессе свершения, но получающее от души единство движения в процессе свершения; душа наделяет его необходимым единством. При каком условии оно получает это единство? При условии включенности в душу, включенности в презенс. Я заканчиваю, прежде чем спросить вас, хорошо ли вы понимаете, новым определением свободного действия; я только что об этом говорил, и почувствуйте, что это воистину одно и то же: мы непрерывно переходим от одного определения к другому. В начале я говорил: свободное действие есть действие, в котором выражается «Я», то есть душа во всей ее амплитуде в некий момент длительности; а теперь я говорю, что свободное действие есть действие, получающее от души, его включающей, – то есть действие предчувствует, что душа включает его в настоящем времени, – итак, действие в презенсе получает от включающей его души единство движения в процессе свершения. И, видите, я могу возобновить определение: разумеется, в течение дня я редко совершаю свободные действия.
Вопрос о свободе ставится на таком уровне, когда я должен сделать нечто для меня важное, да-да, именно здесь меня касается вопрос свободы. И такие действия очень редки, когда очень важно, чтобы они получили от души единство движения в процессе его свершения. Иначе происходят всевозможные движения, и происходят они в полной изоляции: ходить, гулять по улице, все такое, а потом внезапно возникает момент, когда мне нужна душа, а нужна мне она не все время: эти истории о широте души являются исчерпывающими. Не знаю, чувствуете ли вы, что у вас широкая душа? Зачем иметь широкую душу – все-таки я недостаточно сказал об этом. Почему не довольствоваться какой-нибудь совсем малой широтой души? Полно людей, которые довольствуются совсем малой широтой, но они совершат свободные действия с того момента, как действия, совершаемые ими в настоящем времени, обретают единство движения в процессе его свершения, то есть с момента, как их действия начнут выражать широту их души, какой бы та ни была…
[Конец пленки.]
Часть вторая
И тогда вот точка, где мы остановились, сказав: имея душу совсем малой широты; просто найдите действия, которые этой широте соответствуют, и вы будете свободными, и вы станете свободными людьми. Иными словами, под угрозу у Лейбница попадает не свобода, а мораль, так как сказать людям: пусть ваша душа будет столь узкой, как вам угодно, и вы станете свободными с момента, как совершите в настоящем времени действия, в которых будет выражаться эта широта; итак, напивайтесь сколько угодно в таверне, если это то, что соответствует широте ваших душ, – вы понимаете, что не этого ожидают от философа, притязавшего на моральность нравов (а это Лейбниц делал непрестанно). Важно именно то, что я только что сказал: я полагаю, это и есть история настоящего времени у Лейбница.
Одна из наиболее сложных теорий Лейбница – это теория времени, а стало быть, здесь мы расставляем вехи на будущее, когда доберемся до этой проблемы времени. А то, что свободное действие располагается в настоящем времени, то, что действие основополагающим образом располагается в настоящем времени, это представляется мне очень-очень важным. То, что широта души переменна в порядке времени, – вот это все есть реальность времени как длительности, и она очень-очень важна. Итак, действие – в настоящем времени. Ладно, вы поняли?
Я хотел бы, чтобы вы поняли две темы.
Совершённое или завершенное действие не есть действие законченное, не есть действие, сделанное раз и навсегда. Но совершённое или завершенное действие есть действие, которое получает от включающей его души единство действия в процессе его свершения. Пункт третий: не думайте, что включение уподобляет действие действиям всегда совершённым и уже совершённым; наоборот, включение есть условие производства действия в настоящем как действия в настоящем. Уф! Впрочем, вы, может быть, всё поймете, если будете иметь в виду одну необычайную теорию Лейбница, одну из его прекраснейших теорий, и на этом уровне мы не должны говорить «теория», поскольку это подлинная практика, затрагивающая проблему, которая заботит нас всех, а именно проблему проклятия. Прóклятые. Кто такой прóклятый? Или – если угодно – свободны ли прóклятые? И я настоятельно обращаюсь к вам, чтобы вы уважали исчезнувшую сегодня дисциплину, а именно теологию. Как таковая теология выжила, но она стала чем-то вроде физической науки. А вот в прежнее время, и даже в XVII веке, я уж не говорю про более ранние времена, теология – поймите, чем она была. Почему существовал такой альянс между философией и теологией? Это не просто из-за Бога, это не истории о Боге обеспечивают альянс между теологией и философией – это гораздо красивее. Дело в том, что теология есть некая необычайная логика, и, я полагаю, настолько важная, что логика невозможна без теологии. Почему?
Потому что… Это мне кажется очевидным, потому что сегодня нам говорят, что нет логики без парадокса, и существуют знаменитые логические парадоксы вроде парадоксов Бертрана Рассела, а у других парадоксы образуют основу построения современной логики. Но эта ситуация с основополагающим узлом между логикой и парадоксом возникла не вчера, просто прежде именно теология наделяла логику парадоксальной материей, которая безусловно ей необходима. В какой форме? Троица, три Лица в одном, пресуществление, тело Христово и хлеб, все, чего ни пожелаете, воскресение, воскресение тел. Но поймите – это парадоксальный материал, неотделимый от чистой логики. Логикам нет необходимости искать его в теории множеств в XVII веке, потому что тогда ее не было, но дело не в этом. Теология изобилует парадоксами в большей степени, чем математика.
А если у теологии столь интенсивная жизнь, то дело здесь в том, что она выполняет свою роль. Правда, эти парадоксы небезопасны, потому что за пустяк мы обрекаем себя на проклятие и, даже хуже, на сожжение. Необходимо вспомнить, что в не столь отдаленном времени от поры, когда писал Лейбниц, одним из великих сожженных был Бруно, который имел для Лейбница колоссальное значение; но, в конце концов, вот вам один из опасных парадоксов, более опасных, нежели парадоксы актуальные, – хотя навлекать на себя проклятья Витгенштейна невесело, лучше уж это, чем быть сожженным заживо. Я имею в виду, что Витгенштейн-то представляется мне не источником парадоксов, но своего рода великим инквизитором.
Все это, знаете ли, ужасно. Времени у нас нет, но запомните это – основополагающую связь между логикой и теологией. Я полагаю, что теология служит естественной материей логики до определенного времени, до XVIII века. И вот это – основополагающий альянс «теология – философия», и недостаточно сослаться на идею Бога, чтобы сказать: «Ха! В те-то годы…» Ничего подобного! Если угодно, теология для философии – это как распятие для живописца. Я не хочу сказать, что они не верили в Бога, не хочу вообще этого говорить, но я хотел бы сказать, что они не только веруют в Бога, а если они веруют в Бога, то по причинам, тесно связанным с логикой парадокса. Такие дела…
Я говорю: мы не считаем, что возвращение к этому вопросу – старая проблема, но что такое прóклятый? И Лейбниц создает необычайную теорию проклятия, которую я даже не смею точно воспроизвести. Для этого необходимо быть очень-очень ученым, необходимо спросить у какого-нибудь церковного авторитета, специалиста, который прочел теологов той эпохи. Лейбниц не чурается много заимствовать у теологов той эпохи, так как у него не только разнообразные парадоксы, но и казуистика. Вот два приема при переходе от теологии к философии, или к логике, этот двойной аспект: парадокс и казуистика. Казус. Например, казус: если это святой, который творит молитву, может ли он получить снятие проклятия? Тонко. Если это святой, который просит снятия проклятия с про́клятого, то можно ли помыслить про́клятого, который перестает быть таковым? Или же, что такое вечное: вечно ли проклятие? Это очень важно! И тогда я скажу также, что к этому вопросу проклятия Лейбниц подходит в двух текстах. Сначала – в «Теодицее», где он доходит до провозглашения того, что про́клятые свободны, столь же свободны, как и счастливые, но текст неясен, и в другом тексте, где он разрабатывает превосходную теорию проклятия, почувствуйте, что это не чуждо барокко, – целую теорию проклятия, – и текст этот называется по-латыни «Confessio philosophi», то есть «Исповедание веры философа», и его перевел Белаваль{ Белаваль, Ивон (1908–1988) – французский историк философии, специализировавшийся на Лейбнице.} в издательстве «Врен» (к тому же, очень хороший перевод). Это маленький текст на сорока страницах, очень-очень красивый, и мы всё узнаем о проклятии. А почему я ко всему этому возвращаюсь? Это проблема возникает там, где надо, так как мы могли бы посчитать, будто про́клятый платит за совершенное им гнусное действие. Но великая идея Лейбница в том, что про́клятый платит не за совершенное им гнусное действие, проклятие – в настоящем времени, и не существует другого проклятия. Итак, неважно, идет ли речь о теологической проблеме, в том самом смысле, что прóклятые свободны, – проклятие необходимо воспринимать в настоящем времени. Мы попытаемся понять это, но это – все равно, что вращаться вокруг этой идеи, так как она прекрасна. …Но здесь необходимо поставить кое-что в скобки: разве не для того, чтобы восстановить силы, мы пытаемся обнаружить константу того, что мы вполне могли бы назвать барокко? То, что я сказал, единство движения в процессе его свершения, душа как единство движения в процессе его свершения, – вот что такое барокко. Еще до барокко стоит задача уловить движение с точки зрения единства в процессе его свершения. Тема движения в процессе его свершения и схваченного «вживе», когда оно творится и когда оно получает единство своей души, не возникает сама собой: это барочное мировидение. Часто замечали, что барочная живопись непрестанно схватывает как раз движение в процессе его свершения – пусть даже это будет смерть. В барокко живописцы начинают писать святых, когда те испытывают свое мученичество, когда они непосредственно ему подвергаются. Единство смерти как движения в процессе его свершения, или: смерть в движении. Жан Руссе в книге «Литература барокко во Франции» назвал одну из глав «Смерть в движении», то есть смерть как движение в процессе его свершения, и он цитирует великолепный текст автора, которого все считают одним из главных представителей барокко, Кеведо, прекраснейший текст о смерти: «Вы не знаете смерть» (это говорит смерть) – и далее: «Знаете ли, вы представляете меня скелетом, но вы не правы, я не скелет», – говорит она! Почему? Вы видите важность этого текста Кеведо для нас с точки зрения, где располагаемся мы. «Я не скелет, – говорит смерть, – то есть скелет это то, что я оставляю после себя, это нечто завершенное, это смерть в “готовом” виде…» Попытаемся произнести слово, которое послужит нам в дальнейшем: может быть, это «символическая смерть», но после Вальтера Беньямина каждый знает, что смерть никогда не определяется через символ, но только через аллегорию. Скелет – это, может быть, и символ смерти, но это не аллегория смерти. Впрочем, как я полагаю, это любопытно (и я больше не говорю от имени Беньямина): по-моему, аллегория всегда в настоящем времени. Скелет – это всегда уже свершившаяся смерть, но смерть – это смерть как движение в процессе его свершения. Вы не знаете смерти, ваш брат (это прекрасный текст!), вы сами и есть ваша смерть, сами вы ваша смерть. Все вы мертвы «от самих себя»! Вы понимаете, это происходит с вашей плотью, а не с вашим жалким скелетом, который появится лишь после того, как все будет кончено; это вы в вашем настоящем времени. Смерть – она не из прошлого и не из будущего. Тогда как классическая эпоха, начиная с Эпикура, говорила нам, будто смерть – из прошлого либо из будущего, и тогда чего вам жаловаться…
[Конец пленки.]
Часть третья
Есть души настолько узкие, души отвратительные, они настолько узкие-узкие-узкие, что включают лишь это: Бог, я тебя ненавижу, я тебя ненавижу, я ненавижу Бога. Таков Иуда. Ну хорошо. Но почему эта ненависть возобновляется и почему она всегда в настоящем времени? Потому что, поскольку она выражает широту души, она непрестанно, каждое мгновение творится заново. Минимум широты, то есть случай постоянства, – это широта постоянная, неизменная, не бывает меньше, и заполняющая весь размах души, но она приносит много радости про́клятому. Необходимо считать про́клятых счастливыми, за исключением некоторых случаев, когда это оборачивается путаницей… впрочем, это история с эпизодами. Удовольствие про́клятого. Про́клятый – это разновидность бесчестия, про́клятый – вроде зараженного, потому что он жалуется. Вы сейчас сразу же узна́ете, кто причастен к этой традиции. Он жалуется, он непрестанно сетует: горе мне, о-ля-ля, этот огонь, нет, я этого не заслужил… а исподтишка он хохочет! Он испытывает такие удовольствия, о которых у вас нет ни малейшего представления. Почему? Разумеется, огонь-то существует, тут небольшие неудобства [смех], все это слово в слово содержится в «Исповедании веры философа». Но – понимаете ли – действие, которое адекватно заполняет всю широту его души, эта ненависть к Богу, она определяет фантастическое удовольствие, и это радость от свободного действия: «я ненавижу Бога». И про́клятый очень хорошо знает, что его сетования – сетования ложные. Формулировка Лейбница великолепна, и поэтому выучите ее наизусть, потому что, кроме прочего, она дает мне аргумент о важности настоящего времени.
Лейбниц говорит: про́клятый не вечно проклят, проклят он не навечно, но он всегда проклинаем и подвергается проклятию каждый миг; это надо выучить наизусть, по крайней мере для того, чтобы вы запомнили еще одну фразу Лейбница, кроме «лучшего из возможных миров», и в этом случае вы не зря потратите год; и, кроме того, эта фраза – более тревожная, чем «лучший из возможных миров», потому что получается, что эти про́клятые станут причастными к лучшему из возможных миров? – обнаружение этого приносит истинную радость. Но в любом случае вы видите, что про́клятые непрерывно получают новое проклятие в настоящем времени. Неизбежно. Но что необходимо сделать про́клятому, чтобы он перестал быть прóклятым?
Итак, слушайте меня: разумеется, это радость. Разумеется, он страдает, и страдает ужасно. Но это радость. Это радость, потому что если амплитуда души у него столь мала, то она полностью заполняется аффектом ненависти к Богу. Получается, что он всегда проклинаем, но это означает, что в любое мгновение он может «распроклятиться». Поэтому Лейбниц отнюдь не считает неправдоподобным или невозможным, чтобы про́клятый вышел из проклятия. Что для этого нужно? Достаточно, чтобы его душа – это единственно и совсем просто! – достаточно, чтобы она перестала выблевывать мир. Мы видели, что означает «выблевывать мир». Выблевывать мир означает сохранять в отсеке, в области ясных мыслей лишь один минимальный предикат: ненависть к Богу! Достаточно, чтобы широта души чуть-чуть возросла, сколь угодно мало, и внезапно про́клятый перестанет быть таковым. Но почему, почему у него так мало шансов, и даже в предельном случае он никогда этого не сделает? Потому что он слишком держится за это состояние широты, которое, по сути, заполнено одним-единственным предикатом: «Бог, я тебя ненавижу!» Так что он непрестанно вновь получает проклятие. Всегда проклинаемый, он непрестанно возобновляет ненависть к Богу, потому что именно она дает ему наибольшее удовольствие по отношению к широте его души. И зачем ему менять эту широту? И вот раздается гнусная песнь Вельзевула! Поскольку я вижу, что вы в форме, то, чтобы доставить вам удовольствие, необходимо спеть песнь Вельзевула, которая очень хорошо переведена Белавалем, но по-латыни она очень красива, эта песнь Вельзевула. Я могу спеть ее по-латыни или по-французски. Вот песнь Вельзевула [повторяет несколько раз]: необходимо, чтобы ты добавил… [смех] яду – прекрасно, – яд прокрадывается в члены, и тотчас же во всем теле начинается бешенство. Необходимо, чтобы преступление добавлялось к преступлению, – я уверен, что это вам понравится, – необходимо, чтобы преступление добавлялось к преступлению. Итак, мы удовлетворены. Для яростного существует лишь одна жертва – раздавленный враг. Удовольствие разбросать его плоть по ветру, разрезанного по живому, разъятого на тысячу кусков, превращенного в соответствующее количество свидетельств моей муки, вырвать эту плоть у самой трубы, которая призывает к воскресению.
Вот что говорит он, Вельзевул. Но ведь он похож на Иуду по широте своей души. И Лейбниц рассказывает историю, потрясающую историю об отшельнике, который получил от Бога прощение для самого Вельзевула. И Бог сказал отшельнику: да, иди туда, скажи ему, что единственное условие – чтобы он отрекся от всего, что он сделал, чтобы он отрекся от ненависти, которую он лелеет по отношению ко Мне. Иными словами, чтобы он чуть-чуть открыл свою душу. И отшельник сказал: благодарю, Боже, дело решено, он спасен! Отшельник встречается с Вельзевулом, говорит: конечно, есть условие – а он злой, Вельзевул, – конечно, есть одно условие. Нет-нет, говорит отшельник, это пустяки, совсем ничтожные пустяки: отрекись от своей ненависти к Богу. А Вельзевул злится и отвечает ему: прочь от меня, убогий идиот, убогий дурак, ты не видишь, что в этом мое удовольствие и смысл моей жизни.
Ладно. Иными словами, про́клятый – это кто? Вы его узнали! Его портрет напишет Ницше: про́клятый – это человек ресентимента, это человек мести. Мести по отношению к Богу. Неважно, к Богу или к чему-нибудь еще; в счет идет то, что это человек ненависти, это человек мести. Если вы, например, возьмете всю тему человека ресентимента у Ницше, то мы попадем впросак, если подумаем, что это человек, связанный с прошлым. Это отнюдь даже не человек, связанный с прошлым; человек ресентимента – это человек мести. Он связан с присутствующим следом. Он непрестанно скребет его, совсем как про́клятый, он непрестанно скребет этот след, этот след в настоящем, которое оставило в нем прошлое. Иными словами, человек ресентимента, или мести, – это человек в настоящем времени; подобное же говорит нам Лейбниц: проклятие – в настоящем времени, и это минимум широты души. И тогда фактически каждое мгновение можно было бы спрашивать: что означает, что про́клятые свободны? Про́клятый мог бы в любой момент избавиться от проклятия. Повторите схему: у меня абсолютный минимум широты души. Однако это не доходит до бесконечности. Что доходит до бесконечности, так это бесконечное множество степеней, но я могу сказать, что минимум широты – это когда подразделение одной души (а здесь я употребляю очень точный лексикон Лейбница, то есть светлая область, освещенная область, зарезервированная часть, ясно выражаемая часть мира), итак, это когда данное подразделение души сводится единственно к присутствующей ненависти к Богу, к присутствующей ненависти, обращенной на Бога. Стало быть, я становлюсь проклинаемым, а проклинаемый – это тот, кто ненавидит Бога, и я подвергаю себя проклятию каждый миг ровно в той мере, в какой я непрестанно осуществляю эту свою широту. Но опять-таки, если бы, пусть даже каким-то ложным движением, Вельзевул наделил свою душу чуть большей широтой, проклятие с него сразу было бы снято.
Вот чему нас учит великое «Исповедание веры философа». Дело идет? Нет трудностей? Я не знаю, из-за моего ли только что сделанного замечания, но вы больше ничего не говорите, и я нахожу вас более угрюмыми, чем когда-либо.
Для тех, кто чуть-чуть знает, – а я сказал, что фактически не выхожу за пределы текстов Лейбница, – разве вы не поражены доходящим до галлюцинации сходством с бергсонианской концепцией свободы? Гораздо позже Бергсон посвятит третью главу «Опыта о непосредственных данных сознания» свободе. Что он нам скажет? Вначале он будет различать две проблемы. Мы увидим, что Лейбниц тоже различает две проблемы. И первая проблема касается действия в настоящем времени. Что такое свободное действие в настоящем времени? И я вижу, что все зиждится на следующей теме: те, кто отрицает свободу, придумывают для себя гротескную концепцию из мотивов. Бергсоновская критика весьма напоминает лейбницианскую, но она подпитывается и совершенствуется исходя из сугубо бергсонианских тем, а именно: когда при размышлении я возвращаюсь к мотиву, становится очевидным, что этот мотив изменился, так как существует длительность. Возьмем простой случай: я колеблюсь между двумя противоположными чувствами: «Люблю ли я это или же ненавижу?» «Я» и волнующие его чувства оказываются уподобленными противникам свободы, оказываются уподобленными вполне определенным вещам, которые остаются самотождественными на всем протяжении размышлений. Но если размышляет всегда одно и то же «Я», и если два противоположных чувства, которые мною движут, нисколько не меняются, то как на основе этого принципа причинности, на который ссылается детерминизм, это «Я» вообще примет решение? Истина в том, что «Я», – читайте текст, отсылающий к этой схеме, – одним тем, что оно испытало первое чувство, уже немного изменилось – и вот внезапно приходит второе чувство. Во все моменты размышления «Я» видоизменяется, а следовательно, видоизменяет два волнующих его чувства. Так формируется динамический ряд проницающих друг друга состояний, они друг друга укрепляют и в конце приведут к свободному действию посредством «естественной эволюции».
Тут невозможно сказать лучше, здесь почти что напрашивается подпись «Лейбниц»: динамичный ряд состояний. Мы видели, что это было включением некоего динамичного ряда состояний в «Я». Вы следите за мной? В действительности динамический ряд таков: A1, B1, A2, B2 и т. д. А что непрестанно будет говорить Бергсон? Он скажет: это как раз и есть свободное действие, это именно такое действие, в котором выражается «Я» в такой-то момент длительности. И более того, он, в свою очередь, позаимствует схему, которая заклинает или объединяет и то, что необходимо критиковать, и то, что необходимо восстановить. Как я показываю, эта схема есть схема сгиба. И на самом деле, если Бергсон объединяет ее, то это потому, что он показывает, что жизнь души и противники свободы внезапно забывают об этой схеме и что в один прекрасный момент они устраивают своего рода бифуркацию, которая уже не соответствует движению в процессе его свершения, пренебрегает всеми законами движения в процессе свершения. И получается, что великая идея Бергсона такова: в каком акте выражается «Я»? Это очень просто, он все время его определяет, и это определение является совершенно бергсонианским: действие, в котором выражается «Я», есть действие, которое получает от производящей его души единство движения в процессе свершения. Единство движения в процессе его свершения, которое, в первую очередь, не следует смешивать со следом уже произведенного движения. Чуть-чуть отдохнем?
Часть четвертая
Если вы рассмотрите движение в процессе его свершения, то получится, что смерть, как и все остальное, есть движение в процессе его свершения. Ваш череп – поймите хорошенько, ваш череп, не снятая кожа, не снятый скальп с волосами, а вот ваш череп, который вы трогаете, по которому вы стучите, – вот это смерть. И ваше лицо, ваше лицо – это смерть. «То, что вы называете умиранием, на самом деле завершение жизни, а то, что вы называете рождением, – начало умирания, подобно тому как то, что вы называете житьем, на самом деле умирание заживо. И кости – это то, что смерть оставляет от вашего брата, и то, что покоится в гробнице (так уж повелось); если вы как следует это понимаете, то каждый из вас будет всю жизнь обладать зеркалом смерти в вас самих, и вы в то же время увидите, что все ваши дома полны мертвецов. Что мертвецов столько же, сколько людей, и что вы не дожидаетесь смерти, но вечно сопровождаете ее». Невозможно сказать лучше: движение в процессе его свершения! Вы не дожидаетесь смерти, но вы вечно сопровождаете ее: смерть как движение в процессе его свершения. Но вот, опять-таки, движение в процессе его свершения требует единства, а это единство оно может получить только от души.
Но час настал: проклятие, смерть – в настоящем времени; даже смерть – в настоящем времени, даже проклятие – в настоящем времени. А почему? Потому что, знаете ли, дело в том, что про́клятый опять-таки платит не за действие, которое он совершил, он платит за собственное настоящее. Иными словами: он не наследует проклятие, он сопровождает его. Почему? Он говорит нам нечто весьма любопытное, Лейбниц. Он спрашивает: кого я называю про́клятым? Вот здесь-то моя компетенция мне изменяет, потому что очевидно, что он это не выдумывает, а я вам читаю текст: «Иуда. В чем состоит проклятие Иуды. На первый взгляд, можно подумать, что в том, что он продал Христа. Отнюдь нет. Мы можем представить себе кого-нибудь, кто сделал бы нечто гораздо худшее (здесь я забегаю вперед. – Ж.Д.), и не был бы проклят. По-моему, Адам не проклят». Я говорю себе: либо возможно это обсуждать, либо же здесь существует всеобщее мнение… Вы не знаете Кирстена? Вы уверены? Вы вполне-вполне уверены?
Тогда внесем поправку. Мы можем представить себе, и, конечно, некоторые теологи, которые были за это сожжены, выдвигали такую концепцию, что Адам не был проклят, ибо тогда следовало бы отождествить проклятие с первородным грехом, – в конце концов, неважно. Я немного слишком быстро продвигался вперед. Теперь отступаю. Предположим, что Адам проклят, хотя это меня удивляет, еще как удивляет: проклят ли он? Вот Иуда – да, он-то проклят. Я скажу вам, почему Адам не проклят, почему это заблуждение. Разве что чрезмерно ретивые теологи говорили, что Адам был проклят, но он не может быть про́клятым. Все зависит от того, как мы определяем проклятие.
А вот как определяет его Лейбниц вслед за определенным количеством теологов: если Иуда проклят, то это из-за настроя, при коем он умер. Вероятно, подразумевается также настрой, который уже был у него, когда он продал Христа. Именно из-за «настроя, при коем он умер, то есть из-за ненависти к Богу он горит, умирая». Про́клятый – это, стало быть, тот (я перевожу): «про́клятый – это тот, чья душа заполнена и осуществлена, тот, чья широта души заполнена ненавистью к Богу. И ненависть эта – в настоящем времени». В каком смысле? Прежде всего существует абсолютный минимум широты души. Какова минимальная мыслимая широта души? Она – у души про́клятого. И это возымеет колоссальные последствия. Итак, минимальная широта – у души про́клятого. Почему же именно душа про́клятого показывает минимальную широту? Эта душа заполнена ненавистью к Богу в настоящем времени. Ненависть к Богу в настоящем времени – ничего, кроме этого. Я здесь чувствую своего рода дрожь: ненависть к Богу в настоящем времени. Скоро мы увидим, что это влечет за собой. И я говорю, что это – наименьшая широта души. Почему? Потому что Бог – по определению – есть высшее существо, бесконечное существо. Душа, проникнутая ненавистью к Богу, изрыгает все, буквально все, все, кроме этой ненависти: «А вот я ненавижу Бога». И единственный предикат про́клятой души: «Я ненавижу Бога».
Это ее единственный предикат. И как же он возможен? Про́клятая душа есть монада, да-да, это монада; всякая монада выражает мир, да-да, всякая монада выражает мир. Правда, вы, может быть, помните, я всегда возвращаюсь к этому Лейбницеву правилу, без которого все рушится: всякая монада выражает мир, да-да, бесконечный мир, но ясно она выражает только небольшую область мира, собственный квартал, или, как говорит Лейбниц, по-моему, я еще не цитировал этого текста, – свое отделение. Каждая монада представляет собой выражение всего мира, но у каждой есть небольшое отделение, которое отличает ее от остальных, квартал мира, который она ясно выражает. Вы понимаете?
Итак, про́клятая душа. Конечно, это монада, она выражает мир в целом, но ее ясная зона сведена почти к нулю. Это – душа с неким предикатом, если «предикатом» я называю атрибуты, или события, региона, зоны, области, свойственной монаде. Ее собственная область, ее ясная зона – она не имеет прочей освещенности, кроме вот этого ужасного света: «Я ненавижу Бога!» Я могу сказать, что это минимальная широта. Но почему эта ненависть всегда в настоящем времени?
Я намекал вам на первую схему сгиба у Бергсона, а потом я сказал: если вы прочтете всю третью главу «Непосредственных данных»… Ни у кого нет конфетки?.. Кхе… кашель, дайте леденец… Кхе-кхе… [Смех.] Ха! Надо жить в опасности. Вот это и есть здоровье. Иначе будет еще хуже. Бергсон нам говорит… Существует иная проблема. Он очень отчетливо ее различает. Противники свободы, детерминисты, они ничего не могут возразить, когда им показывают, что такое действие в настоящем времени. Сколь бы они ни были зловредны, они всегда объединяются вокруг прошлого. И они говорят, что это другая проблема. И эта другая проблема такова: надо предположить, что кто-то знает все антецеденты какого-нибудь действия и ничего, кроме антецедентов, то есть все, что произошло прежде, и тогда мы, дескать, будем способны предсказать само действие. Вы видите, что это другая проблема, так как ее элемент – уже не действие в настоящем времени, но антецеденты в прошлом. Достаточно ли антецедентов в прошлом, чтобы обусловить действие? И Бергсон, как вы увидите, с настойчивостью говорит, что это другая проблема. Но необходимо все возобновить на уровне этой другой проблемы. А у Лейбница совершенно то же самое. Вы видите возникновение этой другой проблемы, которая заставляет нас объединиться. С кем? Которая заставляет нас объединиться, очевидно, с Богом. Ибо что такое разум, способный познать все антецеденты действия? Разум, способный познать все антецеденты в монаде, есть Бог. Бергсон говорит: «Высший разум». Если предположить, что высший разум, то есть Бог, знает все антецеденты в прошлом, то способен ли он предсказать движение или действие до его свершения? Вы понимаете? Вот новая проблема. Например, «Монадология», где сказано: «читать все прошлые антецеденты» – читать в монаде, Бог читает в монаде все прошлые антецеденты. Значит ли это, что Он может предсказать действие монады, то есть «я путешествую», «я пишу», «я иду в таверну», если предположить, что Он знает все антецеденты? Бог знает все заранее. Да, но что это означает – «знать все заранее»? Из двух одно: либо это означает знать все антецеденты и вытекающие из них действия, либо же это означает не знать ничего, кроме антецедентов. И по этому поводу мы задаемся вопросом: может ли Бог что-либо предвидеть, не зная ничего, кроме антецедентов? Эта вторая гипотеза – она отсылает нас к проблеме свободы. Ладно, это остается проблемой. Предполагается, что Бог знает все антецеденты действия, которое совершает монада; значит ли это, что Он способен предвидеть это действие? Мы не продвинемся ни на шаг!
Именно из-за того, что Он везде и всегда, Бог знает сразу и антецеденты, и проистекающие из них действия. Но что это означает – быть везде и всегда?
Быть везде и всегда – это очень просто, это означает, что Он сам проходит через все состояния, через которые проходит каждая монада. И на самом деле, как мне кажется, в тексте «Рассуждение о метафизике» Лейбниц говорит: «Монады, каждая монада есть продукт или результат взгляда Бога». Я бы сказал, что в каждой монаде наличествует прохождение Бога. Бог проходит через все монады. Я употребляю это выражение не просто потому, что «проходить» – бергсонианское слово, но и оттого, что на эту тему существует один текст Уайтхеда; итак, мы приступим к сопоставлению двух этих великих философов – Уайтхеда и Лейбница; так вот, Уайтхед говорит нам: то, что происходит в комнате в течение часа, например, то, что происходит в этой комнате, есть прохождение природы в этой комнате. И он показывает этот прекраснейший концепт – прохождение Природы. Это природа проходит, и проходит она по этой комнате и в этой комнате; точно так же, по-моему, и в очень близком смысле надо говорить, что Бог проходит в каждой монаде и через каждую монаду. Я чуть было не сказал, что каждая монада включает это прохождение Бога, так как Бог проходит через все состояния монады. Просто Бог вечен, и это означает что? Это означает, что в Его вечности Он проходит сразу через все состояния всех монад. Стало быть, сказать, что Он проходит через все состояния одной монады, – это сводится к чему? К тому, что Он совпадает с этой монадой. Когда Он знает все прошлые антецеденты монады, Он совпадает с настоящим временем этой монады. Иными словами, Бог творит настоящее время монады в то самое время, как его творит монада. Вы скажете мне: ничего подобного, Он опережает ее. Но ведь нет! Лейбниц первым в разного рода текстах настаивал на вот этом: само собой разумеется, вечность не состоит ни в опережении, ни в запаздывании. Более того: опережение, строго говоря, не имеет никакого смысла. И здесь, мне кажется, Лейбниц заходит чуть ли не дальше, чем Бергсон.
Предположите мир и определите его через последовательность состояний: a, b, c, d. И скажите: я могу представить себе, что мир начался на десять лет раньше или позже или на тысячу лет раньше. Если вы ничего не меняете в состояниях, если речь идет об одних и тех же состояниях, то эта пропозиция совершенно лишена смысла. Поразмышляйте мгновение, и это должно показаться вам очевидным. Ибо если время должно определяться как порядок состояний или как форма последовательности состояний, то вы можете сказать: что произошло бы, если бы мир начался на тысячу лет раньше, при условии, что вы изменитесь, что вы будете предполагать, что это не одни и те же состояния. Если это одни и те же состояния, то у вас нет никаких средств отличать фактическую хронологию от хронологии, которая наличествовала бы, начнись мир десятью или сотней годами позже. Иными словами, как бы вы ни заставляли его начаться раньше, он раньше не начнется: все строго тождественно. Так что сказать: мир мог бы начаться раньше – в той мере, в какой вы сохраняете и определяете мир той же самой последовательностью состояний, – есть пропозиция, лишенная смысла, так как у вас не будет никаких средств различать две хронологии. Это очевидно. Иными словами, это сводится к тому, что вечность никогда не состояла в опережении. Необходимо сказать именно то, что Бог – в Его вечности – проходит через все состояния всех монад. А вот монады, сообразно порядку времени, последовательно проходят через некие последовательные состояния. Но тем не менее в Своей вечности Бог только и делает, что совпадает с каждой монадой в момент, когда она совершает действие в настоящем времени. Возвращаюсь к Бергсону, который говорит точно то же самое; он говорит: вы различаете Петра, который совершает действие, и Павла, высший разум, который знает все антецеденты и, как считается, предсказывает действие. Допустим, считается, что Петр знает все антецеденты. В момент, когда Петр совершает действие, вы догадаетесь, что Павел необходимо совпадает с Петром. То есть он отнюдь не предсказывает действие, он совпадает с Петром и совершает действие в то же время, что и Петр. И именно задним числом вы говорите себе: получается, что он смог предвидеть. Но на самом деле Петр и Павел будут одним и тем же лицом в момент настоящего действия. И Бергсон будет нас вдохновлять: ну вот, я отсылаю вас к чтению, к другой схеме сгиба. Надеюсь, понятно: меня интересует именно то, что существуют две схемы сгибов, то есть Петр и Павел – монада и Бог – с необходимостью совпадают на уровне действия, которое следует предвидеть. Итак, во всех этих отношениях то, что я отсюда сохраняю, – очень-очень строгая концепция свободы у Лейбница, которую можно понимать только через тему (если угодно, через бергсонианскую тему, но опять-таки мне кажется, что она безусловно присутствует у Лейбница) действия в настоящем в процессе его свершения, настоящего действия, к которому мы всегда возвращаемся. Но, тем не менее, то, что я говорю, формулируется совершенно неукоснительно, и здесь-то я и хотел бы закончить: если верно, что свобода спасена, то не слишком хорошо видно, как спасти мораль. И все-таки Лейбниц прежде всего философ морали (а тем самым он принадлежит уже XVIII веку), и гораздо более того: он, вероятно, является первым из философов, который воспринимал нравственность как прогресс, уже не как согласие с природой, а как прогресс разума. Именно это – что в полной мере принадлежит XVIII веку и что можно назвать пред-кантианством – и реализует Кант. Мораль уже совсем не относится к природе (как было у античных мудрецов), это прогрессивность разума. Но вся моя проблема такова: как мы можем определить тенденцию к лучшему с такой концепцией свободы? Я всегда могу сказать: тенденция к увеличению широты, – но откуда же и почему она берется? В действительности о прогрессе разума можно было бы вести речь, если бы я смог показать, что существует тенденция души к увеличению широты, и тогда я мог бы определить прогресс. И опять-таки, имейте в виду, что Лейбниц оказывается перед забавной проблемой, которая была отмечена всеми его комментаторами: дело в том, что Бог избрал лучший из миров – существует некоторое количество детерминированного прогресса. Лучший из возможных миров – это наиболее совершенный ряд, хотя ни одно состояние этого ряда само не является совершенным. Наиболее совершенный ряд… Но наиболее совершенный ряд – это определяет некий максимум. Это определяет некоторое количество прогресса. Следовательно, как душа, например моя, могла бы прогрессировать без одного ужасного условия: чтобы другие души регрессировали? И такая трактовка является расхожей, к примеру, у некоторых комментаторов Лейбница: они замечают, что – на их взгляд – Лейбниц попадает в своего рода тупик, так как за возможный прогресс одной души всегда приходится платить регрессом других душ – из-за необходимости некоторого количества прогресса, детерминированного для мира, избранного Богом.
Мы придерживаемся, по крайней мере, одного определения прогресса. Я прогрессирую, если моя душа увеличивает свою широту; но сказать это недостаточно, ибо как моя душа может расти, если она и так выражает весь мир? Согласен! Тогда мы всегда возвращаемся к тому, что кажется мне в равной степени существенным: моя душа выражает весь мир, но ясно она выражает лишь малую часть мира, и это моя область. Это ограниченная область. Моя зона, мой квартал – все, что вам угодно. Коль скоро это так, что означает «прогрессировать»? Увеличивать широту моей души – но я не могу выражать больше, чем мир. Зато я могу увеличивать свою область, я могу увеличивать свой квартал, а он ограниченный. Стало быть, вот более точное представление о том, что означает «прогрессировать»: это означает увеличивать широту своей души, то есть увеличивать доставшуюся нам ясную зону, которая отличается от той, что достается другому. Ну хорошо. Но что означает «увеличивать освещенную область»? Надо ли это понимать в смысле протяженности? И да, и нет. Тут необходимо быть очень конкретным. Я говорю «да и нет», потому что та идея, что монада – вы и я – располагаем некоторым отделением, то есть освещенной областью, которую мы выражаем более совершенно, чем остальное, эта идея правильна, но она, эта освещенная зона, является понятием статистическим. Я имею в виду, что она у нас не одна и та же в детском возрасте, в возрасте взрослом и в старости, она у нас не одна и та же в добром здравии и в болезни, в состоянии усталости и когда мы в форме. Например, мне досталась обширная освещенная область – и вот моя освещенная область стремится стать совсем маленькой. Стало быть, существуют непрерывные вариации освещенной области. Стало быть, увеличивая освещенную область, мы видим, что в каждом случае можно довести ее до вероятного максимума. И потом, это не увеличение протяженности: это увеличение углубления. Речь идет не столько о том, чтобы расширить освещенную область, сколько о том, чтобы углубить ее, то есть, я бы сказал, развить ее потенцию, что в терминах философии XVII века выражается как «довести ее до отчетливости». Она была только ясной, она не была отчетливой. Необходимо довести ее до отчетливости, а это может произойти лишь посредством знания. Следовательно, все это придает некоторый смысл увеличению широты моей души, то есть прогрессированию.
И вот у меня наконец есть критерии; теперь я могу вернуться к сказанному. Конечно, существует тенденция к лучшему. Утверждать, что работать лучше, нежели идти в таверну, заставляет меня то, что поход в таверну – это действие, которое соответствует гораздо меньшей широте души, нежели работа. Ну да, именно так! Вы видите, до какой степени это помогает мне говорить об абсолютном минимуме широты души: прóклятый – это опять-таки бедная душа, ясная область которой сведена к одному-единственному предикату: «я ненавижу Бога». Итак, все это дает некую идею прогресса. Я могу прогрессировать. И еще тенденция к лучшему… Вы видите, здесь настоящая философская революция, потому что идея блага, которая до сих пор была гарантом нравственности, понимаемой как согласие с природой, замещена у Лейбница идеей лучшего. А лучшее – не гарант вроде согласия с природой, но гарант новой нравственности как прогресса души. И тогда, согласен, каждый из нас может, в свою очередь, прогрессировать, но, прогрессируя, мы всегда возвращаемся к одному и тому же – как бы ставя подножку другим. Поскольку я реализую известное количество прогресса и поскольку это количество прогресса неизменно для лучшего из возможных миров, конечно же, обязательно, что если я прогрессирую, то за это следует платить. На первый взгляд, мне кажется, что необходимо, чтобы другая душа регрессировала. Вы понимаете, это своего рода борьба за моральное существование. Кхе-кхе. Как найти выход? Я полагаю, что Лейбниц его находит, – и это исключительно красиво, а стало быть, очень трудно. В противоположность вечности Бога, Который проходит через все монады, вечно или от века, монады развиваются не вне времени. Монады развиваются не вне времени, монады подчинены порядку времени. В каком смысле они подчинены порядку времени? Вот мое гражданское рождение, – необходимо вернуться к вещам, с которых мы начали. Я начинаю, я делаю их набросок, но в следующий раз их необходимо увидеть, и это прямо-таки театральная постановка, и здесь она тоже очень близка к барокко; следует смотреть очень пристально. Мой акт гражданского рождения – это что? Это дата, когда я родился в качестве существа, чья разумность предполагается. А вот моя душа – она не рождается. Моя душа, как вы помните, не рождается, она всегда уже присутствовала здесь, с самого начала мира. И мое тело – тоже. Мое тело было до бесконечности сложенным, до бесконечности согнутым, бесконечно согнутым в семени Адама, а моя душа, неотделимая от этого тела, существовала лишь как душа чувственная или животная – вот что говорит Лейбниц. Но тогда что же меня отличало – меня, призванного к тому, чтобы стать в некий момент каким-то разумным созданием, что же отличало меня от животных, которые тоже с самого начала мира существовали в семени великого предка, от чувственных и животных душ? «Дело Бога, отстаиваемое примирением Его справедливости с другими совершенствами», – вы видите, что дело Бога означает не то, что способствует существованию Бога, но означает дело в юридическом смысле: защищать дело Бога. «Дело Бога, отстаиваемое примирением справедливости» и т. д… И вот в тексте «Дело Бога», параграф 82, Лейбниц говорит нам: тем самым ясно, что мы не утверждаем предсуществования разума. Это существенно, да! Он не говорит, что разум разумного существа присутствует с самого начала, что он сосуществует в семени Адама. Это было бы неразумным. И он отнюдь не говорит этого. Он говорит: «Если я существую с начала мира, то в форме тела, до бесконечности свернутого внутрь себя, в семени Адама, в виде души чувственной и животной. Итак, не будем утверждать предсуществования разума», но все-таки можно полагать, что в предсуществовавших зародышах было предустановлено и подготовлено Богом все, чему в один прекрасный день предстояло проявиться. И не просто человеческий организм, но и сам разум в форме… в какой форме? В форме своего рода запечатленного действия – запечатленного действия, приносящего конечный результат, – вот на какие мысли наводит меня этот текст Лейбница.
Вы видите: я предсуществую сам себе с начала мира. На самом деле я существую в семени Адама, но как чувственная или животная душа. Но что же отличает чувственные или животные души, которые призваны стать душами разумными чуть позже, от таких, которые обречены оставаться душами животными и чувственными, подобно всем душам кошек, собак, зверей и т. д.? Что отличает их? Текст говорит нам это: запечатленное действие. Действие, запечатленное в монаде, в монаде животной или чувственной. Запечатленное действие, которое говорит что? Которое дает конечный эффект. Запечатленное действие, похожее просто на штамп или ярлык – вероятно, с датой, и оно говорит, что в соответствующую дату эта чувственная и разумная душа будет возвышена. Таково возвышение. Вы припоминаете: мы из него исходили. Некоторое количество душ, те, коим предстоит стать разумными, будут в должный момент подняты на верхний этаж. Итак, в самом начале Бог вложил в души, которым предназначено возвышение на верхний этаж, некое запечатленное действие. Здесь нет необходимости долго искать, это само продвинет нас вперед; вспомните, что в прошлый раз мне было очень-очень необходимо это запечатленное действие. И что такое это запечатленное действие? Очевидно, это некий свет. Что же такое разум, как не свет? Если монада не абсолютно черная, то, как мы видели, она обита черными обоями. Вы чувствуете, что у меня на уме и к чему я клоню, – к барочной живописи или барочной архитектуре. Стены монады – черные. Монадам предназначено стать разумными. Бог запечатлевает в монаде некий юридический акт, акт, скрепленный печатью, который должен принести конечный эффект, – то есть Он вкладывает в нее свет, которому впоследствии суждено возжечься. А это – чудо.
Итак, когда приходит дата моего рождения, настает час моего возвышения на верхний ярус, моя душа становится разумной, а это означает, что в черной монаде возжигается свет. Он возжигается в монаде, монада поднимается на верхний этаж – вот как все это происходит. Хорошо. Вы видите. Когда я не родился, существовал некто, некто до моего рождения. Вы видите, я спал в семени Адама, или в семени моих предков, я дремал, будучи совершенно свернутым; мой маленький свет был погашен, но запечатлен в моей черной монаде. Это было до моего рождения. И вот я рождаюсь. Я поднимаюсь на второй этаж, на верхний этаж – вы помните наш начальный анализ двух этажей как определение барокко, – я поднимаюсь на верхний этаж, мое тело развертывается, моя душа становится разумной, возжигается свет. Но когда я умираю, что-то происходит – необходимо продлить ряд, чтобы понять это. Когда я умираю – но слушайте же, я возвещаю вам недобрую новость, хватит, хватит смеяться, – вы снова сворачиваетесь. Вы не утрачиваете ни тело, ни душу. Было бы очень неудобно, если бы вы утратили тело: как бы нашел вас Бог? Частицы вашего тела были бы рассеяны. Лейбниц чрезвычайно упрям в этом вопросе. Он говорит: воскресение – это очень мило, но нельзя, чтобы частицы вашего тела оказались разбросанными. Здесь тоже серьезная теологическая проблема. Когда я умираю, я сворачиваюсь – а что это такое? Я вновь схожу на нижний этаж, я схожу вниз. Иными словами, части моего тела свертываются, а моя душа перестает быть разумной, она вновь становится душой чувственной и животной. Но, ха-ха-ха, она уносит с собой новый запечатленный акт. Здесь мне, к сожалению, приходится сказать, что Лейбниц не говорит этого формально, но – вполне вероятно – он говорит это имплицитно. Это настолько очевидно, что он не чувствует необходимости говорить это. Но вот нам необходимо все-таки почувствовать необходимость это сказать. Ведь, в конечном счете, если бы он это сказал, что произошло бы? Она, очевидно, уносит с собой новый запечатленный акт! А вы меня можете спросить: что же такое этот новый запечатленный акт? Новый запечатленный акт есть акт юридический – все это в юридическом смысле. Запечатленный акт моего рождения есть свидетельство о рождении. Я говорю: моя разумная душа, умирая, с необходимостью уносит с собой другой запечатленный акт – это свидетельство о ее смерти. Что же такое свидетельство о смерти разумной души, когда она умирает?
Что такое это свидетельство о смерти? Ха-ха, послушайте: это моя последняя разумная мысль. Последняя разумная мысль. Именно поэтому последняя мысль столь важна. Последняя мысль прóклятого такова: «Я ненавижу Бога!» Потому-то он и проклят, он проклят из-за своей последней мысли. И тогда про́клятый уносит с собой в душе, вновь ставшей чувственной или животной, это свидетельство о смерти. И он засыпает, подобно всем остальным душам. Мое тело свертывается, моя душа вновь становится тем, чем она было до своего рождения разумной, то есть она вновь становится чувственной или животной. Свет погашен. Последняя точка: воскресение. Приходит час воскресения. В этот-то момент, и лишь в этот момент, все разумные души, или, скорее, все души, которые были разумными и вновь уснули, обратившись в прах и т. д., вновь возвышаются, их тела вновь развертываются в гибкое тело, в тело славное или бесславное, а души подвергаются суду. А про́клятые суть те, кто пробуждаются так, словно они мертвы, то есть они пробуждаются, ненавидя Бога. Блаженные и про́клятые, ничего кроме этого! Каждый пробуждается согласно последней широте своей души.
Свет возжигается вновь. После этого появляются про́клятые: ведь формулировка их пропозиции: «я ненавижу Бога!» Поскольку пропозиция разума сохраняет минимум света, она занимает ясную область соответствующей монады. Свет возжигается в каждой монаде; воскресение необходимо понимать как нечто очень веселое: возжигаются всевозможные малые частицы света, все души вновь становятся разумными, и каждый получит свое согласно порядку времени, то есть в соответствии с жизнью, какую он вел, когда был разумным. Вы понимаете?
Вот-вот. Я затрагивал этот пункт в прошлый раз. Но ответ я вам дам прямо сейчас. Уже неуместно говорить: если я прогрессирую, то это в ущерб другим. Это было бы ужасно. Комментаторы неправы, когда говорят, что Лейбниц ничего не извлекает из этой проблемы, так как, к счастью, существуют про́клятые. Мне кажется, говорить «мой прогресс с необходимостью происходит в ущерб другим» неверно из-за про́клятых. И как раз поэтому все остальные, кроме про́клятых, могут прогрессировать. Ибо что творят про́клятые? К счастью, чтобы не попасть в собственную ловушку, они должны перестать насмешничать, словно вальдшнепы (becasses). Что они делают, про́клятые? Они доводят широту своей души до минимума, они сводят ее светлую область к единственному: «Я ненавижу Бога». Вы видите это колоссальное уменьшение широты. Поэтому дело не в том, что они дают нам отрицательный пример; дело в том, что они отвергают широту души, какую они могли бы иметь в нормальном случае в качестве разумных существ, они отказываются от собственной широты. Они добровольно отвергают сами себя из-за своей глупости. Коль скоро это так, они делают возможным для других использование бесконечного прогресса, и, вероятно, это и есть их подлинное наказание. Их подлинное наказание – не адское пламя; их подлинное наказание – служить совершенствованию других. И опять-таки не потому, что они показывают отрицательный пример, которого страшится весь мир, но из-за того, что они отчасти функционируют, показывая негативную энтропию, то есть они выбрасывают в мир некоторые количества возможного прогресса. Что такое количества возможного прогресса? Это количества света, от которого отказались они сами и который мог бы причитаться им по праву, как разумным существам. И получается, что на этом уровне, как мне кажется, становится возможным прогресс. Все души могут прогрессировать, не исчерпывая общего количества прогресса, – почему? Потому что существуют про́клятые, которые добровольно, по собственной воле устранились от общего прогресса и, следовательно, сделали возможным прогресс для других. Так что про́клятые играют подлинно физическую роль – как в физике говорят о демонах, демонах Максвелла. Существует своеобразная физическая роль прóклятых: они делают прогресс возможным. Итак, вы понимаете, для демона, для Вельзевула, делать прогресс возможным – поистине самая печальная вещь в мире. Я хотел бы, чтобы вы об этом поразмыслили. Немного спустя мы вернемся к этому вопросу о прогрессе, и вы почувствуете, что настал момент для нас рассмотреть пристальнее эту концепцию света, которая существует у Лейбница.
Лекция 5
Событие. Уайтхед
(10.03.1987)
Мы работаем. В прошлый раз я начал говорить о своего рода общем виде или выводе, касающемся преобразования, которому Лейбниц подверг понятие субстанции. Если вы соблаговолите, мы оставим это в стороне, и я возобновлю эту тему впоследствии, тем более что я едва начал ее. Я ощущаю необходимость оставить ее в стороне, потому что – как я вас уже известил – у меня есть необходимость в помощи, которая на сей раз касается не математики, а известных проблем физики. И поскольку сегодня здесь присутствует Изабель Стенгерс, а в последующие недели ее не будет, необходимо, чтобы я воспользовался ее присутствием. Я хочу воспользоваться ее присутствием по двум причинам: потому что речь идет о проблемах, которые очень близко касаются Лейбница, и потому что она в них разбирается, а с другой стороны, потому что это проблемы, в равной степени касающиеся и того автора, о котором я хотел с вами поговорить, а именно – Уайтхеда.
Итак, вы можете считать, что наша сегодняшняя лекция не только в полной мере встраивается в это исследование Лейбница, но и касается вот этого философа, Уайтхеда, и его отношений с Лейбницем. Знаете ли, у греков было прекрасное слово, в неоплатонической школе существовал глава школы, и он следовал предыдущему главе школы – и имелось слово для обозначения последующего главы, это слово – диадох. Диадох… Если мы представим себе лейбницианскую школу, то Лейбниц – великий диадох, но в то же время он возобновляет все. Отсюда моя зависть: ну почему же этот автор, о котором я так страстно желаю поговорить, – и годы его жизни – в относительном прошлом, 1861–1947, – умер старым? А ведь он относится к тем авторам, к тем величайшим философам, которые были задушены, как бы убиты. Убиты – что это значит?
Это значит, что время от времени возникают школы мысли, относительно которых явствует, что перед мыслителями стоят две опасности: существуют всевозможные сталины, всевозможные гитлеры, перед лицом которых у мыслителей есть лишь две возможности: сопротивляться или уходить в изгнание. Но иногда в рамках мысли происходит и нечто другое: странные доктрины возникают, воцаряются, добиваются подлинной власти там, где в этой области есть власть, то есть в университетах, и учреждают своего рода трибунал, интеллектуальный трибунал в этой области – а за ними, или под ними, уже ничего не растет.
Необходимо выключить магнитофоны, так как моя речь становится свободной. Я никогда не напишу того, что говорю сейчас, и все-таки хотелось бы, чтобы я мог сказать: «Я никогда этого не говорил». В этом духе я обвиняю английскую аналитическую философию за то, что она разрушила все, что было богатым в мысли, – и обвиняю Витгенштейна за то, что он убил Уайтхеда, за то, что он свел собственного учителя Рассела на уровень своего рода эссеиста, который уже не смеет говорить о логике. Все это было ужасно, и длится до сих пор. Францию этот процесс пощадил, но у нас есть и собственные аналитические философы; Францию этот процесс пощадил, так как ей достались еще худшие испытания. Ладно. Это для того, чтобы сказать вам, что дела идут плохо. Ничто в области мысли не умирает естественной смертью – поистине это так. Эта англо-американская мысль перед последней войной была чрезвычайно богата, ее характерной чертой было богатство… Авторы, к которым возникла привычка относиться как к слегка глуповатым: я имею в виду Уильяма Джеймса. Уильям Джеймс – необыкновенный гений. Для философии он сыграл точно такую же роль, как его брат – для романа. Ищущим тему для диссертации я в очередной раз скажу, что приходится стонать, оттого что, насколько мне известно, не было серьезных исследований братьев Джеймс и их взаимоотношений. И потом существует Уайтхед, а был и еще один-единственный очень-очень великий австралийский философ, Александер{ Имеется в виду Сэмюэл Александер (1859–1938), который известен не столько как аналитический философ, сколько как представитель идеалистической теории эволюции.}. Уайтхеда прочла горстка любителей и еще одна горстка – специалистов. В конечном счете, и Бергсон… Мы не можем сказать, что это было очень серьезно. В 1903 г. Уайтхед завершил математическое образование, в 1903 г. он пишет вместе с Расселом «Principiae mathematicae», которые располагаются в основе современного формализма и современной логики. «Principiae mathematicae» породят Витгенштейна, и это отчасти драматический процесс. Ладно, неважно. Я полагаю, что Уайтхед – англичанин, но всякий раз обманываюсь, так как впоследствии он обосновывается в Америке, в 1920– 1923 годах. Итак, «Principiae mathematicae» вместе с Расселом, великая книга по логике. «Понятие природы» на французский не переведено (1920). «Наука и современный мир», одна из редких книг Уайтхеда, переведенных на французский, важная книга, очень хороша (1926). Предполагаю, что найти ее невозможно. Его великая книга – «Процесс и реальность» (1929). Есть еще книга «Приключения идей» (1933){ Все упомянутые книги, кроме «Понятия природы», вошли в сборник: А.Н. Уайтхед. Избранные работы по философии. М., 1990.}.
У меня двоякая цель. Я сразу хотел бы, чтобы вы почувствовали величие этой мысли самой по себе и в то же время чтобы вы почувствовали связи этой мысли с Лейбницем, а значит, Уайтхед буквально может помочь нам в фундаментальном прояснении Лейбница. Не составляет ни малейшей проблемы знакомство Уайтхеда с Лейбницем. Он пронизан мыслью Лейбница, и, подобно Лейбницу, он был математиком, философом и физиком. Всякая философия притязает на то, чтобы что-нибудь подвергнуть сомнению; что же подвергает сомнению Уайтхед? Он подвергает сомнению проблему того, что он называет категориальной схемой. Категориальная схема – это что? Уайтхед говорит нам в общем и целом, что категориальная схема классической мысли такова: субъект – атрибут, субстанция – атрибут. Однако вопрос о субстанции имеет минимальное значение. Ведь субстанцию вы можете понимать как угодно.
Важно задаваться вопросом не о том, являются ли вещи субстанциями. Подлинный вопрос таков: атрибут в каком смысле? А именно: следует ли мыслить субстанцию в зависимости от некоего атрибута, или же ее следует мыслить в зависимости от чего-нибудь другого? Иными словами, если субстанция есть субъект некоего предиката или предикатов, то сводим ли предикат к атрибуту типа «небо голубое». Вы мне скажете, что это – не фундаментально новая проблема, но, некоторым образом, она нова; это крик Уайтхеда. Этот крик раздается во всех его произведениях: нет, предикат несводим ни к какому атрибуту. А почему? Потому что предикат есть событие.
Основополагающее понятие – понятие события. И вот, я думаю, этот крик звучит в истории философии в третий раз и, вероятно, всякий раз он звучит по-новому: все есть событие. Вы мне скажете: нет, не все есть событие, так как событие – это предикат. Пока что отметим: всё есть событие, потому что субъект есть некоторое приключение, которое возникает лишь в событии. Существует ли субъект, чье рождение не было бы событием? Всё есть событие. Я попробую описать это наскоро. Впервые это прозвучало у стоиков, и они противостояли Аристотелю как раз из-за Аристотелевой попытки определить субстанцию через атрибут. Они притязали на то, что можно было бы вполне назвать «маньеризмом», так как понятию атрибута они противопоставляли понятие способа бытия. Бытие-как, как-бытие. Атрибут – это то, что́ есть вещь, но «как» вещи, способ бытия – это совсем другое. И стоики создали первую великую теорию события. И вероятно, у логиков Средневековья было ее продолжение, можно было бы найти продолжение стоических традиций, однако потребовалось дожидаться уйму времени, чтобы такого рода крик раздался снова: всё есть событие!
Вот это я и попытался показать с самого начала, а именно – это Лейбниц, и никакого серьезного противоречия здесь нет… Я говорю, что результат наших предыдущих исследований состоит в том, что нет худшей ошибки относительно Лейбница, нежели понимать включение предиката в субъект так, как если бы предикат был атрибутом. А предикат далеко не является атрибутом; Лейбниц непрестанно отрицает то, что предикат есть атрибут, предикат для него есть отношение, или, как он еще буквально говорит в «Рассуждении о метафизике»: событие – предикат, или событие. «Или», и невозможно сказать лучше; так сказано в «Рассуждении о метафизике».
Отсюда мне кажется особенно глупым рассуждать о том, как Лейбниц может учитывать отношения: ведь сказано, что он располагает предикат в субъекте. И он не только учитывает отношения, но ему не составляет ни малейшего труда учесть отношения – по той простой причине, что то, что он называет предикатом, есть отношение, есть событие.
Мы уже немного разбирали, как Лейбниц учитывает отношения, но оставим это в стороне. Вполне уместно дождаться рассмотрения того, что эта теория отношений не составляет для него особой проблемы. Это составляет проблему только с точки зрения «фальшивого» Лейбница, когда читатель полагал, будто предикат для Лейбница и есть атрибут. Вот в этот-то момент мы, по существу, и говорили о том, как получается, что отношение может быть включено в субъект. Но то, что включено в субъект, суть события, а по определению – как очень хорошо говорит Лейбниц – события суть отношения к существованию. И здесь необходимо всерьез отнестись к слову «отношение». Всё есть событие, по крайней мере, все предикаты, суть отношения. И вот в третий раз раздается крик «всё есть событие», теперь у Уайтхеда.
Всё есть событие, всё, включая великую пирамиду, говорит Уайтхед. Даже с точки зрения стиля это весьма по-лейбнициански.
В общем и целом считается, что событие есть категория весьма особенных вещей: например, я выхожу на улицу и попадаю под автобус. Это – событие. Но великая пирамида – нет, это не событие.
Точнее формулируя, я бы сказал: ах да, построение великой пирамиды есть событие, но не сама великая пирамида. Стул – это не событие, это вещь. Уайтхед же говорил, что и стул есть событие, а не только изготовление стула. Великая пирамида есть событие. Это очень важно для понимания того, как оно возможно, выражение «все есть событие». В чем же великая пирамида может быть событием? Я перескакиваю к Лейбницу, и я хотел бы все время перескакивать от Лейбница к Уайтхеду и от Уайтхеда к Лейбницу.
Мы исходили из известных детерминаций, сопряженных с Адамом. Он находился в саду, и он грешил, совершал грех. Грешить – это, очевидно, событие, это входит в то, что все называют событием. Но и сам сад точно так же – событие. Цветок – это событие. Ладно, ну и что? Потому ли это, что цветок растет? Потому ли, что возникает? Но ведь он, цветок, растет непрестанно. И как только он перестанет расти, он будет непрестанно вянуть. Сам ли цветок в каждое мгновение его длительности я должен называть событием? А стул? Стул есть событие, а не только изготовление стула. Так в чем же великая пирамида есть событие?
Потому что она длится, к примеру, пять минут. Поскольку пирамида длится в течение пяти минут, она есть событие. Поскольку же она длится другие пять минут, она есть другое событие. Я могу объединить два этих события, сказав: она длится десять минут. Всякая вещь – скажет Уайтхед – есть прохождение природы. По-английски «прохождение природы» – «passage of nature». Немного поправим, чтобы вернуться к Лейбницу: всякая вещь есть прохождение Бога. Эти утверждения строго подобны друг другу. Всякая вещь есть прохождение природы. Великая пирамида есть событие, и даже бесконечное множество событий. В чем же состоит событие? Буквально: всякая вещь есть пляска электронов, или же всякая вещь есть некая вариация электромагнитного поля. Вот так мы очень осторожно ступаем на территорию физики.
К примеру, событие, коим является жизнь природы в великой пирамиде, здесь и сегодня. Может быть, необходимо предчувствовать, что существует не одна великая пирамида, но, может быть, существуют две великие пирамиды. Это то, что Лейбниц говорит в тексте… Но не будем торопиться. Пока примем все как есть. Вот так. Не существует вещей, существуют лишь события, всё есть событие. Событие есть опора бесконечного количества процессов, процессов субъективации, процессов индивидуации, рационализации. Всего что хотите. Субъекты рождаются, рациональности, индивидуальности вырисовываются, но все это в событиях. Всё есть событие, но необходима классификация событий. Например, как следовало бы сформулировать проблему свободы в терминах событий? Существует различие между событиями, каким подвергается субъект, и теми, какие производит сам субъект, если предположить, что я знаю, что такое субъект. Что означает «производить событие».
[Конец пленки.]
[Последняя часть лекции сильно повреждена, и смысл ее неясен.]
Лекция 6
Решето и бесконечность. Сопоставление Уайтхед – Лейбниц
(17.03.1987)
Чего мы ожидаем от этого сопоставления Уайтхеда с Лейбницем? Конечно, Уайтхед – великий философ, подвергшийся влиянию Лейбница. Но то, чего мы сейчас ожидаем, не просто сравнение, и в той мере, в какой Уайтхед является великим философом, он дает нам прояснение Лейбница, которое может сослужить нам важнейшую службу. И, как минимум, мы знаем, в каком направлении это может послужить и послужит нам. Это напоминает тот крик, на котором основана вся философия Уайтхеда, а именно: всё есть событие. Всё есть событие – что это означает? Это значит, что я готов перевернуть так называемую категориальную схему «субъект – атрибут». Это – переворачивание схемы «субъект – атрибут» типа: небо – голубое. Вы мне скажете, что Уайтхед не был первым, кто перевернул ее. Ну да, мы как раз рады тому, что он это сделал не первым. Ведь то, что он был вторым, означает для нас что? Что Лейбниц, возможно, был первым. А я говорил вам, что искажения смысла встречаются с самого начала. Когда вы начали читать произведение великой мысли или воспринимать великое произведение искусства, трудности идут вначале, а впоследствии все идет хорошо. Именно поначалу искажения смысла поджидают вас как своего рода крабы, которые готовы схватить вас, а эти искажения никогда не бывают по нашей вине, над нами тяготеет целая традиция, это все, что нам сказали, это все, во что нас заставили верить. Необходимо отделаться от целой системы суждений, если мы хотим установить непосредственные отношения с великим произведением. А ведь я говорил вам, что для всякого понимания Лейбница не было ничего пагубнее, чем идея, что великому тезису Лейбница «всякий предикат содержится в субъекте» надо следовать буквально, и вдобавок, что эта идея подразумевает схему «субъект есть атрибут». Мы рассмотрели, как многим представлялось само собой разумеющимся, что включение предиката в субъект у Лейбница означало и подразумевало сведение всякого суждения к суждению атрибуции. И что если Лейбниц говорил нам: «Предикат – в субъекте», то это означало, что пропозиции были типа «небо – голубое», то есть типа суждения атрибуции. И я говорил вам, что если мы исходим из «наивного» прочтения Лейбница, то мы всё это забываем, мы забываем всё, что нам сказали – и это настоящий сюрприз: мы догадываемся как раз о чем-то противоположном. И я цитировал текст «Рассуждение о метафизике», где Лейбниц говорит: предикат, или событие. Итак, то, что имеется в субъекте, а именно предикат, не есть атрибут. И более того, мы ничего не поймем в философии Лейбница, если не увидим, что во всех своих произведениях он непрестанно рвет с категориальной схемой «субъект – атрибут», и что категориальная схема «субъект – атрибут», наоборот, присуща Декарту. И что если Лейбниц до такой степени антикартезианец, то это потому, что он отказывается от идеи, что суждение есть суждение атрибуции. Именно это Лейбниц имеет в виду, говоря нам, что предикат – в субъекте, и когда он говорит нам, что предикат в субъекте, то это отнюдь не означает, что суждение есть суждение атрибуции, это означает совершенно противоположное. Мы видели это с самого начала. Потому-то я говорю, что уже у Лейбница возникает великое утверждение: всё есть событие! Существуют только события. Всё есть событие. Или, скорее: нет объекта, нет субъекта, как мы увидим. Сами формы объекта, сами формы субъекта проистекают из события как составной части реальности. Реальное состоит из событий. Но ведь событие не атрибут, это предикат, а это значит, что событие есть то, о чем говорят.
Предикат означает только одно: то, о чем говорят. То, о чем говорят, не есть атрибут, это – событие. Всё есть событие. Коль скоро это так, будем исходить из простейшего, из какого угодно события. И здесь-то нас и поджидает Уайтхед. Еще раз: будем исходить не из атрибуции типа «небо – голубое», а из события типа «сегодня вечером – концерт». Но ведь событие есть то, на что указывает Уайтхед, – вы видите, до какой степени смысл философии состоит в том, чтобы разработать чрезвычайно сложные концепты для разных крайне простых данных, данных всего мира. Но как раз они ускользнули бы, они никогда не манифестировались бы как данные, если бы они не были предъявлены в виде концептов. Если вы не построите относительно сложных концептов, как вы дадите понять, что событие, – не просто нечто происходящее, но что-то вроде капли реальности, что это – последняя данность реального? Почувствуйте, что это уже весьма своеобразный способ рассмотрения. Если вы говорите себе, что событие есть последняя данность реального, вы вынуждены смотреть на вещи иначе. Вы говорите себе: и тогда, вон в тот момент, я считал, что это был стол – данность реального, стол, который мне не поддается; пусть так. Но сам стол есть событие, великая пирамида есть событие – говорит нам Уайтхед. А в каком смысле? Не в смысле, что он был изготовлен в такой-то момент, нет. Стол – событие в том смысле, что он есть здесь и сейчас. Событие «стол» есть прохождение природы в таких-то пределах пространства. Природа проходит в таких-то пределах пространства. Это событие – стол. И протяженность стола в течение минуты, в течение двух часов нашей лекции – это событие. Природа проходит через стол. Это не вещь, это – событие. Вы скажете мне: зачем это говорить? Неважно, зачем это говорить! Не все ли равно, зачем это говорить?! Речь идет о том, чтобы узнать, прекрасно ли то, о чем говорят, и важно ли то, о чем говорят. Мы заранее об этом не знаем, этого невозможно знать заранее.
И тогда, исходя отсюда, это – актуальный случай, всё есть актуальный случай. Событие есть актуальный случай. Опять-таки: сегодня вечером будет концерт. Первой проблемой Уайтхеда была: но каковы же условия для возникновения события? Вы чувствуете, что это – весьма своеобразный мир, это – мир, где всегда появляется новое. События непрестанно появляются, и события всегда новые. Проблемой философии станет формирование новизны. Это очень важно, ведь существует столько философий, которые предъявляют себя как философии детерминации вечности. Когда мы покончим со всем этим, я буду почти готов перечислить все, что можно извлечь из вопроса «что такое философия?». В этот самый момент мы больше не будем говорить ни о Уайтхеде, ни о Лейбнице, но зато задумаемся над ними исходя из подобных вопросов. Но пока что мы до этого не добрались. Вы видите проблему: каковы условия для возникновения события? Это своего рода генезис актуального случая. И это было нашим предметом в последний раз; мы различаем четыре этапа. Вот первая проблема: генезис актуального случая. Вторая проблема: из чего состоит актуальный случай, или событие? Итак, не путайте условия возникновения актуального случая с составом актуального случая. Стоит мне узнать, в каких условиях производится событие, или актуальный случай, я еще должен буду задаться вопросом, из чего складывается событие, или актуальный случай. И я говорю вам, что если взять великие книги Уайтхеда, то об условиях актуального случая говорится не в его великой книге «Процесс и реальность», а в его прекрасной книге «Понятие природы». Мы видим, что Уайтхед различает в этом генезисе актуального случая четыре момента. Он исходит из хаоса, из хаоса-космоса, космоса в состоянии хаоса – и показывает он это как чистое дизъюнктивное разнообразие. Это – что угодно, это membra disjuncta{ Буквально: «разъятые члены» (лат.).}. Вторая инстанция – нечто, что функционирует как решето, которое Уайтхед иногда называет Эфиром; если я говорю «Эфир», то это слово, лишенное смысла; если я говорю «Эфир», имея в виду решето, то это его примечательным образом уточняет. Он также скажет: электромагнитное поле. И еще он скажет: это то, о чем Платон говорит нам в «Тимее» и что известно под платоновским термином Хора{ Хора буквально по-гречески означает «страна». У Платона – «вместилище», «не бытие и не небытие».}. Хора… И у Платона она предстает как решето. И вот это – вторая инстанция. Третья инстанция такова: из-за воздействия решета на дизъюнктивное разнообразие получаются бесконечные ряды. Хаос организован в бесконечные ряды, и эти бесконечные ряды вступают в отношения между целым и частями. Такова вибрация. В чем вибрация вступает в отношения между целым и частями? Удовольствуемся совсем простыми вещами. Уайтхед – как математик и как физик – идет гораздо дальше, но мы довольствуемся простейшим: тем, что вибрация неотделима от гармоник, а гармоники – это подмножества. Частота вибрации неотделима от гармоник, так что мы будем говорить также о гармониках звука, о гармониках цвета. Коль скоро имеются вибрации, имеются и гармоники – иными словами, вибрация основополагающим образом вступает в отношения между целым и частями, то есть в бесконечные ряды. Итак, мы скажем, что решето воздействует на дизъюнктивное разнообразие, два воздействуют на единицу, чтобы получить три, то есть это бесконечные ряды, где нет последнего члена; я предполагаю, что там нет последней гармоники – ни гармоники цвета, ни гармоники звука. Итак, нет ни последнего члена, ни предела. Основополагающая вещь: в этих рядах нет предела, они не стремятся к пределу. Четвертый член, или четвертая инстанция: это не препятствует тому, что у данных вибраций есть внутренние характеристики. Например, вибрация, которая издает звук, учитывая наш организм, относится не к тому же типу, что вибрация, которая дает цвет. Все есть вибрация, у вибраций есть внутренние характеристики. Мы видели, к примеру, что вибрации, предназначенные быть звуковыми, – я действительно говорю «предназначенные быть звуковыми», потому что у меня еще нет средств порождать чувственные качества; вибрации, предназначенные быть звуковыми, имеют внутренние свойства, которые таковы (я говорю все, что приходит мне на ум): длительность, высота, интенсивность, тембр. Вы видите, что это весьма отличается от гармоник, это другая стадия. Это внутренние свойства вибрации, характеристики вибрации. Вибрация другого типа, например, предназначенная давать цвет, будет иметь внутренние свойства, каковыми будут: насыщенность, окрашенность, валёр, протяженность. Протяженность цвета… Я говорю: сами вибрации вступают в отношения с гармониками, то есть входят в отношения целого и частей, но вот их внутренние свойства формируют ряды или, скорее, меру… – вы скажете мне, что все это движется слишком быстро, потому что необходимо ввести обоснование меры. Почему внутренние характеристики вибрации, по сути, подчиняются некоей мере? Необходим генезис меры. Согласен, необходим генезис меры! Я пропускаю его: невозможно сделать все. С другой стороны, Уайтхед его не совершает, но можно было бы его и совершить. Я чувствую, что в этой перспективе почти способен описать генезис меры. В любом случае, вы мне доверяете. Я говорю, что мера внутренних свойств образует ряды – не того же типа, что и предшествующие. Это сходящиеся ряды, стремящиеся к пределу. Я вижу уже не бесконечные ряды, члены которых до бесконечности вступают в отношения целого и частей; без последнего члена и без предела я оказываюсь перед новым типом рядов, а именно: мера внутренних свойств вибрации формирует сходящиеся ряды, которые стремятся к пределам. Исходя из этого, дела Уайтхеда идут хорошо: вам достаточно предположить конъюнкцию нескольких сходящихся рядов, где каждый стремится к пределу. К примеру, я упомянул бы высоту и интенсивность. Два сходящихся ряда стремятся к пределам. Так, у вас есть конъюнкция, конъюнкция как минимум двух рядов, двух сходящихся рядов, стремящихся к пределам: актуальный случай определен. Вы просто добавили идею конъюнкции сходящихся рядов к идее конвергенции, чтобы получить определение события, и вы по меньшей мере его получили.
Что же такое событие? Попытаемся взойти по нашей цепочке на самый верх: что такое событие – на этом уровне существует великолепное научно-философское определение, так как здесь невозможно найти различие между наукой и философией. Я бы сказал, что событие есть конъюнкция сходящихся рядов, когда каждый ряд стремится к пределу и каждый характеризует некую вибрацию, то есть бесконечный ряд, вступающий в отношения между целым и частями. Я продолжу восходить – под влиянием чего-то, действующего, подобно решету, по отношению к дизъюнктивному разнообразию на входе. У меня есть превосходное определение события, и большего не требуется. Если меня спрашивают, что такое событие, я так и отвечаю. А если мне говорят, что оно ничего не означает, то я отвечаю: ладно, привет. И до свидания. Не надо пытаться обосновывать его. Вот так.
Я говорю быстро, а вам надо хорошенько следовать за мной, так как я собираюсь перепрыгивать с одной темы на другую. Первый пункт: вы видите сразу же, чего я хочу; дело не в том, чтобы я академическим способом искал, есть ли у Лейбница эквивалент идеям Уайтхеда; я хотел бы отправляться от более «брутального» вопроса. Эта схема напоминает маяк, и в его свете вырисовывается нечто существенное у Лейбница, скрытое от нас в толще традиции. Как если бы Уайтхед собственной концепцией традиции снял несколько бесполезных слоев, скрывавших идеи Лейбница. И моим ответом в последний раз уже было «да». Перечитаем Лейбница. Перечитаем Лейбница и настроимся на это: до какой степени – я не говорю «везде» и «всегда», – до какой степени в определенном количестве текстов он непрестанно возвращается к одной и той же теме, к теме изначального беспорядка. И это для нас хорошо, потому что мы сразу же скажем, что – в общем и целом – для Лейбница характерен порядок, а до этих текстов об изначальном беспорядке мы добрались слишком поздно. Уайтхед побуждает нас исходить из этого! Ведь во всех этих текстах Лейбниц прежде всего дает весьма конкретные характеристики данным состояниям изначального беспорядка. Я бы сказал вам, что он наделяет их двумя видами характеристик. Объективные характеристики и характеристики субъективные… Изначальный беспорядок вы можете воспринимать объективно и субъективно. Вы можете проделать самостоятельный опыт. Опять-таки – вы можете разбрасывать в воздухе листовки. И вот, в одном тексте Лейбница содержится намек на это. Или же перед вами пули на поле битвы. Тысяча, десять тысяч гильз, разбросанных на поле боя. Возможно, некоторые из вас помнят об одном из прекраснейших текстов Лоуренса Аравийского. В тот вечер битвы с турками, он находится в пустыне, переодетый в араба. И потом на поле битвы лежат трупы, и спускается ночь, а эти трупы, как он считает, лежат в беспорядке. Есть место, где лежат четыре трупа, место, где лежат два трупа, место, где лежит только один. И вот этот странный человек принимается нагромождать трупы друг на друга. Он складывает трупы регулярными штабелями. Это довольно смутный текст, у Лоуренса Аравийского мы чувствуем темную душу. Мы чувствуем даже какие-то невысказанные цели, но факт состоит в том, что он принимается складывать трупы на поле битвы – подобно тому, как другой приглашает нас складывать гильзы в определенном порядке. Поистине это переход от одной стадии к другой, от изначального беспорядка к чему-то другому. Складывать гильзы в порядке – что бы это значило? Это могло бы означать, что их теперь надо считать не по одной – говорит нам Лейбниц, – то есть что вы выставили их в ряд. Существует лишь один способ выйти из хаоса: выстраивать ряды. Ряд – это первое слово после хаоса, это первое бормотание. Гомбрович пишет очень интересный роман, который называется «Космос», где он, будучи романистом, предпринимает ту же попытку. Космос – это чистый беспорядок, это хаос; как выйти из хаоса?
Вопрос: [не слышно].
Жиль Делёз: Итак, почитайте роман Гомбровича, он великолепен. Как организуются ряды исходя из хаоса: прежде всего, существуют два необычных ряда, которые организуются. Ряд повешенных животных: повешенный воробей, повешенный цыпленок. Это ряд повешений. И потом ряд ртов, один ряд – рты, другой ряд – цыплята, как они соотносятся между собой, как они постепенно прочерчивают порядок в хаосе. Это любопытный роман, но нам все-таки следует остановиться, поскольку мы заняты не им. Однако у Лейбница вы видите все эти темы: внесение порядка в изначальный беспорядок. И вы понимаете, что если он настолько интересуется подсчетом шансов, исчислением вероятностей, то это может произойти лишь с точки зрения упомянутой проблемы. Но субъективные состояния, то есть субъективный эквивалент нашей проблемы, не менее интересны. Я бы сказал вам, что Лейбниц – это автор, который вводит в философию, если угодно, нечто вроде основополагающей аффективной тональности… У всякой философии есть основополагающие аффективные тональности. Я бы сказал вам, что Декарт – это человек подозрения, в высшей степени человек подозрения. Такова его аффективная тональность – подозрение. И тогда это позволяет всё, это позволяет производить всевозможные глупейшие интерпретации – но я полагаю, что прежде всего следует найти аффективную тональность; и потом, то, что превращает психоанализ в аффективную тональность, совершенно лишено интереса. Скорее следует видеть то, чем становится психоанализ, когда он фигурирует среди множества философских концептов. И вот у Декарта это становится сомнением, это становится прямо-таки методом, основанным на достоверности. Как получить условия, при которых я уверен, что меня не обманывают? Такова проблема Декарта: меня обманывают. Это крики. И я говорю вам, что вы не можете понять философию, если не вложите в нее соответствующие крики. Философы – это люди, которые кричат, но просто они кричат концептами. Меня обманывают, меня обманывают! Это его штуковина, Декарта! Я не собираюсь ему говорить, что он неправ: нет, тебя не обманывают! Прежде всего, больше ничего не надо говорить. Вы понимаете, именно из-за этого я в который уже раз заявляю вам, что философия не имеет ничего общего с дискуссией.
Вы представляете себе, если мы начинаем говорить о Декарте…
[Конец пленки.]
…А что касается характеристик вибраций, или, скорее, что касается меры характеристик вибраций. Ну вот. Я хотел бы прокомментировать это подробнее, но говорю себе, что мы увязнем в материале и потому не стоит этого делать.
Как бы там ни было, я говорю: представьте себе решето как настоящую машину, в том смысле, в каком Лейбниц говорил нам: это Машина природы. В том смысле, в каком Лейбниц говорил нам: вся природа есть машина, но это такой тип машины, о котором у нас нет ни малейшего представления; мы, люди, изготовляем лишь искусственные машины, ибо истинная машина, машина природы, это истинная природа, которая является машиной. А вот мы настоящих машин делать не умеем. Истинная машина есть та машина, все детали которой тоже машины, то есть это бесконечная машина. А вот мы в наших машинах, пройдя определенное количество операций, обязательно наткнемся на следующее: это кусок железа. Ведь в наших машинах есть детали, которые не являются машинами до бесконечности. Машины природы – это машины то бесконечности. Решето – это тип машины, являющейся машиной до бесконечности. Я вполне готов утверждать, чтó происходит у Лейбница после просеивания сквозь решето. Но это – как я полагаю – благодаря Уайтхеду, так как я нахожу у Лейбница два уровня, которые соответствуют двум рядам Уайтхеда. Верно ли это или же я навязываю текстам свою интерпретацию? Это испытание. Можно немного навязывать, но у нас нет права навязывать много. Как бы я тут выразился? Это вопрос хорошего вкуса в философии. Существование хорошего вкуса в философии формулируется очень просто: мы не можем заставлять говорить что угодно кого угодно. И я полагаю, что тот же самый хороший вкус годится для всякой интерпретации. Всякая интерпретация – дело хорошего вкуса. Если вы не будете развивать хороший вкус, вы будете впадать в отвратительную вульгарность, и еще хуже: это будет вульгарность мысли. И тогда вы можете сказать мне: нет, ты выходишь за рамки хорошего вкуса; но вы также можете мне сказать: ты остался в рамках хорошего вкуса. Я убежден, что остаюсь в рамках хорошего вкуса, то есть в рамках в высшей степени неукоснительной истины, когда говорю: взгляните на тексты Лейбница. Очевидно, они разбросаны. Тут уж ничего не поделаешь. Я отмечаю первую разновидность текстов. Тексты, где Лейбниц явно говорит нам о бесконечных рядах, которые характеризуются тем, что они – или их члены – вступают в отношения между целым и частями. Существует много текстов Лейбница об этих отношениях «целое – части» и о вариациях этих отношений. Эти ряды, вступающие в отношение «целое – части», мы назовем экстензиями. Согласно Лейбницу, это будут экстензии. Означает ли это протяженность? И да, и нет. Протяженность и есть то, что Лейбниц переводит как extensio, но у extensio как бы два смысла: extensio – это то протяженность, étendue, то нечто, частью чего протяженность является, то есть то, что вступает в отношения между целым и частями. Но вы скажете мне: ну что там еще, кроме протяженности (étendue)? Это важно для будущего, вы вскоре увидите. Что еще, кроме протяженности, вступает в отношения между целым и частями? Все что хотите: число, время. Много разных вещей. Впрочем, если искать, то мы их найдем. В любом случае, число и время – это примеры, которые Лейбниц приводит тщательнее всего. Это семейство экстензий. Я бы сказал, что это бесконечные ряды; более того, прибавим сюда материю. В какой форме? Материю не в какой угодно форме. Материю как нечто делимое до бесконечности. Не существует наименьшей части материи, не существует наибольшего целого материи. Всегда будет иметься некое большее целое, всегда будет иметься некая меньшая часть.
Все, что вступает в отношения между целым и частями, образует бесконечный ряд, в котором нет ни последнего члена, ни предела.
Я говорю, что всякое рациональное число может выражаться в таком ряду. Экстензии – это всё, чьим правилом является (я говорю по-латыни, но вины моей здесь нет) partes extra partes, то есть экстериорность частей: одни части являются внешними по отношению к другим. И так до бесконечности. Если вы возьмете небольшой кусочек материи – сколь угодно малый, – вы сможете его делить еще, partes extra partes. Вот так. Вы найдете много подобного у Лейбница. И анализ отношений «целое – части»; более того, Лейбниц придает им такую важность, что считает, будто основные пропозиции об отношениях «целое – части» являются аксиомами, но, кроме того, эти аксиомы являются доказуемыми. Пробег здесь всегда бесконечен. Можно было бы посвятить целую лекцию этой проблеме экстензий. Мы движемся быстро, но мы отметили этот тип рядов, являющийся, на мой взгляд, совершенно непротиворечивой областью, для которой характерно единство. И затем, в других текстах, мы видим у Лейбница еще один тип ряда, совершенно иной. И беспокоит меня то, что, очевидно, он не может сделать все, никто не может сделать все. А значит, он не создал теорию различия между двумя этими типами рядов, ему необходимо было сделать столько всего остального. Иной тип рядов – что это? Я группирую тексты. Первая разновидность текстов: Лейбниц говорит нам, что иррациональные числа – нечто иное, нежели числа рациональные. Вы помните, что рациональные числа – это совокупность целых чисел и дробей. Иррациональные числа – это числа, выражающие отношения между двумя несоизмеримыми величинами. Дробь: вам не следует впадать в абсурд, полагая, будто дробь, несводимая к целому числу, есть то же самое, что иррациональное число; вы помните: ничего подобного. Если вы говорите: две седьмых, два на семь – это дробь, несводимая к целым числам. Стало быть, это бесконечный ряд, но экстенсивный бесконечный ряд, того типа, о котором мы только что говорили. Почему так? Потому, что, хотя у вас и две седьмых, у вас все-таки еще и две стороны, числитель и знаменатель, общая величина. Два количества этой величины в числителе и семь количеств этой же величины в знаменателе. Дробь, даже несводимая, означает отношения двух вполне соизмеримых количеств, потому что у вас два x такого количества в числителе и семь x такого количества в знаменателе. Наоборот, иррациональное число означает отношения количеств, у которых нет общей меры, то есть вы не можете выразить его в дробной форме, так как дробная форма имеет в виду общую меру. Итак, я предполагаю, что это вполне понятно.
Вот первая разновидность текстов: иррациональные числа имеют в виду другой тип рядов. Что это значит? Они являются пределами некоего сходящегося ряда. И его надо попросту найти. π – это иррациональное число, знаменитое число π иррациональное. В эпоху Лейбница было нечто вроде конкурса по нахождению числа π. Я полагаю, что Лейбниц первым нашел, в какой ряд поставить π, пределом какого ряда оно является. Лейбниц найдет его в форме π, деленного на четыре, причем четыре – предел бесконечного сходящегося ряда. Необходимо будет подождать довольно долго, – я полагаю, весь XVIII век, – чтобы это было доказано. Лейбниц же приводит формулу без доказательства. Было ли у него доказательство – этого я не знаю… Математики работают быстро, не надо полагать, что в своих черновиках они работают словно в книге, иногда они записывают озарения, а потом требуется двадцать лет для того, чтобы задаться вопросом, как они к ним пришли, как они их нашли. Потребуется дождаться математика по имени Ламберт{ Имеется в виду швейцарский математик Иоганн Генрих Ламберт (1728–1777).}, жившего в середине XVIII века, для доказательства того, что π, деленное на четыре, является пределом бесконечного сходящегося ряда и что это действительно бесконечный сходящийся ряд. Таков первый случай. Второй случай: у нас есть вещи, имеющие внутренние характеристики. И эти внутренние характеристики – их реквизиты. Существенный лейбницианский термин: реквизиты. Эти реквизиты входят в сходящиеся ряды, стремящиеся к неким пределам. Эти сходящиеся ряды, стремящиеся к пределам, да, я полагаю, что это нечто фундаментальное, это совершенно верно, это вполне удовлетворительно… Вы можете придумать слово. Поупражняемся в терминологии. Я только что назвал свой первый ряд – бесконечные ряды, у которых нет последнего члена и нет предела. Они вступают в отношения «целое – части», и поэтому совершенно обоснованно назвать их экстензиями. Это немного странно, потому что вот в этот момент я буду вынужден сказать: внимание, экстензия в обычном смысле слова есть лишь частный случай экстензий, а потом я сталкиваюсь с рядом нового типа: сходящиеся ряды, стремящиеся к пределам. Внезапно я говорю: у меня нет выбора, мне необходимо слово. Слово мне необходимо для удобства, а не потому, что я умничаю. Я дал названия своим первым рядам ради удобства, в противном случае никто ничего не понял бы. Поэтому акт придумывания термина в философии – это подлинная поэзия философии. Это совершенно необходимо. И тогда я делаю выбор: например, существует расхожее слово, которым я собираюсь воспользоваться. В этот момент я заимствую его из повседневного языка и преподношу вам именно в этом смысле – совершенно так же, как музыкант может заимствовать шум или же как живописец может заимствовать оттенок или цвет и буквально перенести его на полотно. Здесь я вырываю слово из повседневного языка, и я хочу вырвать слово, и потом, если оно сопротивляется, я тяну его. Или же, если этого слова нет в языке, понадобится, чтобы я создал его. И ужасно глупо говорить, что философы изготовляют сложные слова ради удовольствия. Да, ничтожные так и делают. Но мы никогда не судили о какой-либо дисциплине по ничтожествам. Великие никогда так не поступали; когда великие создают слово, то вначале в нем – поэтическое великолепие. Вообразите! Поскольку мы привык ли к философским словам, именно поэтому мы больше не понимаем философов, но вообразите силу слова «монада»! И ты, и я – монады. Вот это фантастично. Достаточно восстановить свежесть слова, чтобы обрести поэзию Лейбница и его силу, то есть его истину. Но ведь мне необходимо слово, и стыдно, что вы для меня его еще не нашли, и вы догадываетесь, что это именно то слово, которое нашел Лейбниц; здесь есть лишь одно слово, и у меня нет выбора: этот второй ряд необходимо назвать intensio. Это интензии. По-латыни. Аналогично тому как бесконечные ряды, организовавшиеся как «целое – части», образовывали экстензии, бесконечные сходящиеся ряды, стремящиеся к пределам, образуют интензии. То есть их членами будут уже степени, а не части. И на этом уровне я собираюсь наметить возможность теории интенсивностей, которая принимает эстафету от предыдущей теории – экстенсивностей. На самом деле внутренние характеристики – они не у Уайтхеда, они у Лейбница, но все это так друг друга дополняет! Внутренние характеристики, которые определяют и которые составляют сходящиеся ряды, стремящиеся к пределам, или которые входят в эти ряды, – таковы интенсивности. Я бы сказал, что это выглядит странно, но здесь у меня уже нет выбора. Необходимо будет, чтобы я показал, что в том, что касается звука, даже длительность есть интенсивность, и тем более интенсивность звука в собственном смысле; даже высота есть интенсивность, даже тембр. И фактически каждое из этих внутренних свойств входит в сходящиеся ряды. Что это означает в сериальной музыке, когда мы воздаем хвалу Булезу за то, что он ввел ряд во все, включая тембры? В сериализме в музыке все не просто так. Булез, как сообщают нам во всех музыкальных словарях, сделал даже тембр сериальным. Здесь можно и забыть этот слишком модернистский тезис, который нам ни к чему. Дело в том, что каждая из этих внутренних характеристик потенциально представляет собой ряд, сходящийся ряд, стремящийся к пределам. Это статус реквизитов. Я бы сказал, что высота, длительность, интенсивность и тембр – это реквизиты звука, и это будет очень по-лейбнициански. Итак, оттенок, длительность, интенсивность и тембры – это реквизиты цвета. Более обобщенно я бы сказал, что это протяженность (вы мне скажете: говорить о протяженности ты не имеешь права). Так вот, если бы я имел право. Только что я говорил о протяженности как экстензии. К счастью, латынь обладает бóльшим количеством удобств в этом отношении; теперь, когда Лейбниц говорит нам, что характеристикой материи является протяженное, это уже не протяженность, это протяженное.
Это уже не экстензия, и это могло бы быть очень неудобным для нас. Слава богу, Лейбниц очень старается не смешивать extensum с экстензией… И все-таки в некоторых текстах смешивает их. К чему это может привести? Разумеется, в некоторых текстах он смешивает их, когда его задача – не различать их. К примеру, когда Лейбниц берет как группу две разновидности рядов, для него нет никакого смысла устанавливать различия между ними. Зато когда он берет ряд второго типа в его специфичности – здесь ему необходимо провести различие, и он отметит, что extensum не следует путать с extensio. Итак, я бы сказал, что материя имеет много внутренних характеристик; не существует такой вещи, у которой был бы один-единственный реквизит. Для Лейбница характерен некий глубинный плюрализм. А реквизитом материи служит extensum, то есть протяженное. Но также и сопротивление, но еще и тяжесть, и, почему бы не продолжить, еще и густота. Все это имеет границы. Таковы внутренние характеристики, или пределы, бесконечных сходящихся рядов. Но еще и активная сила. И возможно, вы сразу поймете, почему Лейбница так отталкивала картезианская идея о том, что протяженность – в общем и целом – может быть субстанцией. Ведь протяженность для Лейбница имела столько смысла – и то это была экстензия, то это был extensum, то это была некая экстенсивность, то некий экстенсив, и ни в одном из возможных смыслов слова «протяженность» не было того, из чего можно было бы составить субстанцию. Это была либо просто extensio, бесконечный ряд, либо же некий реквизит материи. Материи ли? Нет, следовало бы сказать «почти что материи», так как субъект всех реквизитов, всех этих рядов есть то реальное, что имеется в материи. Не надо удивляться, что спустя некоторое время Кант определяет именно интенсивность в ее отношениях с тем реальным, которое есть в материи. Ибо – особенно для Лейбница – в материи не все реально. Но в той точке, где мы находимся, я могу сказать: всякая реальность располагается в материи, или входит в бесконечный сходящийся ряд, который стремится к пределу, или, скорее, входит в несколько бесконечных сходящихся рядов, которые стремятся к пределам, и эти пределы – реквизиты вещи.
Вы помните, мы занимались этим начиная с первого триместра. Мы видели – и мы очень наскоро анализировали – понятие реквизита. Ладно.
Я хотел бы закончить по этому пункту. У вас уже есть кое-какое представление о конъюнкции. На реальном уровне материи вы имеете не только бесконечные сходящиеся ряды, которые стремятся к пределам, но вы имеете и своего рода конъюнкцию этих рядов на уровне реального, в материи, потому что у реального в материи есть несколько внутренних характеристик. Не существует такой реальности, которая имела бы одну-единственную характеристику. Почувствуйте, что это будет существенным для теории субстанции и для ее оппозиции по отношению к Декарту. Ибо у Декарта субстанция имеет один-единственный атрибут и определяется этим атрибутом. Вы отдаете себе отчет, насколько это было подозрительно: два атрибута – это уж слишком, это могло бы обмануть Декарта. Зато уж Лейбницу-то, наоборот, казалась комичной субстанция, у которой был один-единственный атрибут. Для него это гротескно. Во всяком случае, в мире нет ничего, у чего не было бы множества реквизитов. Ну ладно… Чему это соответствует? Уже есть конъюнкция. Добавлю, что Лейбниц превосходит Уайтхеда. Это любопытно и озадачивает. Лейбниц добавляет третью разновидность рядов. Чем больше будет рядов, тем лучше. Вспомните, что эта третья разновидность рядов возникает, когда мы добираемся до монад, то есть до возможных существований. Всякая монада определяется через некий сходящийся ряд, то есть через некую часть мира. Но здесь – сходящиеся ряды, и одни продолжаются в других, формируя совозможный мир. На сей раз это уже не конъюнкция нескольких сходящихся рядов, через которые проходит некая реальность, но продолжение сходящихся рядов друг в друге, что соответствует нескольким реальностям. Все это приводит нас к одному и тому же результату. Что такое эти два типа рядов у Лейбница (я оставляю в стороне третий тип, так как мы его видели выше, и я к нему не вернусь) – экстенсивности и интенсивности? Я полагаю, что вам необходимо напомнить: когда мы проанализировали то, что, по Лейбницу, происходит в разуме Бога, мы увидели, что разум Бога мыслит простыми понятиями. И существует три типа простых понятий. Это существенно для логики Лейбница. Первый тип простых понятий – это были формы, бесконечные сами по себе, то есть формы, которые я могу мыслить как бесконечные сами по себе. Это были абсолютно простые понятия, или те, которые Лейбниц называл «тождественными». И не то чтобы одно было тождественно другому, но каждое из этих понятий было тождественным самому себе. Они отсылали к первому типу бесконечного, к бесконечному самому по себе. Это было «бесконечное-в-себе», тождественное, простые формы, первый уровень разума Бога. Второй уровень, как мы видели, это определимые. Это были еще и простые: относительно простые понятия. Как он получился из предыдущего? У меня лишь один возможный ответ: дело в том, что это не одно и то же бесконечное. Абсолютно простые – это предикаты Бога, то есть бесконечного самого по себе. Определимые, относительно простые – иное дело. Они отсылают к другому бесконечному. Что такое это второе бесконечное? Я говорил вам десять тысяч раз, что вы совершенно ничего не поймете в мысли XVII века, если не увидите, что это мысль о разных порядках бесконечного. Будь то Паскаль, Спиноза или Лейбниц – вот она, проблема XVII века (я не говорю, что она единственная): различие между порядками бесконечного. Это уже другое бесконечное – определимые. К какому бесконечному они отсылают? К бесконечному второго порядка. Что это такое? Это уже не само по себе бесконечное, но бесконечное по своей причине, то есть то, что бесконечно именно по причине, от которой оно зависит. Полагаю, я не могу здесь пытаться получить обоснование: вам надо тут поразмыслить – как тем, кого интересует этот аспект мысли Лейбница; я полагаю, что это в точности соответствует действительности: что есть бесконечное в силу причины? Это ряд, являющийся бесконечным в той мере, в какой все его члены до бесконечности вступают в отношения целого и частей. Бесконечное-по-причине находит свой статус в рядах, до бесконечности вступающих в отношения «целое – части». Итак, это соответствовало бы первому ряду, ряду экстенсивностей. И потом: существуют еще относительно более простые понятия. Это уже не определимые, это реквизиты, или пределы. Вот каковы три основные зоны ума Бога. И что же это такое? Это соответствует третьему уровню бесконечного. Это – бесконечное сходящихся рядов, которые стремятся к пределам.
Это бесконечное могло бы предоставить нам точку опоры. Список на этом не заканчивается. Мы увидим (впрочем, это произойдет в самом конце нашей работы), что существует гораздо больше типов бесконечного. Таковы были три первых порядка бесконечного у Лейбница; у Лейбница всего три первых порядка бесконечного. Я бы хотел напомнить вам, что это надо сравнить со знаменитым седьмым письмом Спинозы, письмом к Луи Мейеру о бесконечном, где Спиноза различает три типа бесконечного, три порядка бесконечного. Как вы хотите понимать что бы то ни было во всех рассуждениях Паскаля о бесконечности, если вы кое-что не замените в его текстах, столь прекрасных, столь сравнимых… Я ощущаю, что со мной скоро произойдет кризис оцепенения. Я колеблюсь между картезианской реакцией, параноической реакцией, и шизофренической реакцией бегства. Если бы не было заграждений… Здесь мы попали на такой уровень, где сама идея истории, объекта, субъекта – все это не имеет никакого смысла. Я не могу найти им место, это как если бы вы сказали мне: в какой слой земли ты можешь положить такой-то камешек? Я бы сказал: это зависит от природы камешка. На уровне, где мы находимся, – объект, субъект, история, включая живопись, и я даже назвал бы звуки и цвета – все это не имеет абсолютно никакого смысла. Если я называю звук и цвет, то делаю это по аналогии, чтобы дать вам представление об этой истории хаоса. И дело не в том, что вы плохо понимаете, дело в том, что вы хотите расположить все на одном уровне. Это досадно для всякой философии, но это особенно досадно для философии Лейбница, которая оперирует очень четко определяемыми уровнями. Дело выглядит так, словно мы выходим из хаоса, чтобы добраться до события. Мы сделали это, не имея ничего, кроме идеи хаоса, двух разновидностей рядов, конъюнкции этих рядов, которые образуют событие. И все. Это черновик{ Здесь слово «bourré», которое можно понимать как «чучело, набитое трухой» или «мазня».}. Под черновиком я имею в виду нечто определенное, как мы говорим о живописи, о рисунке: это черновик. Если вы добавите что-нибудь еще – конец. У вас картины, на которых колоссальные пустые пространства; если вы что-нибудь добавите, картине конец{ Le tableau est foutu.}! Я бы сказал, что сколь бы значительными ни были пустоты, это был черновик. И тогда придется подождать – как обобщение, это великолепно. Мы добрались до события, но не собираемся здесь останавливаться. Я уже объяснил, из чего состоит событие, а здесь – совсем новая проблема.
Вопрос: [нрзб.].
Жиль Делёз: Каковы элементы события? Здесь мы увидим, как возникают новые понятия. Что такое слабая философия? Это философия, в которой немного концептов. Она имеет два-три концепта, и она подавляет все остальное на том же уровне. Но богатая философия, такая как философия Лейбница, обладает целой системой концептов, которые возникают в должные моменты. Проблема в том, что вы слишком торопитесь. Дело не в том, что у вас получается нечто абсурдное, а в том, что вы чересчур торопитесь. Так довольствуйтесь же уровнем, на котором вы находитесь! Если вы говорите «субъект и объект», то вы там и находитесь. Это слова, которые не могут иметь смысл на этом уровне. Мы собираемся произвести событие, словно каплю реальности. Для остального нет места. И тем более нет места для истории. Неужели у вас будет история? Конечно, будет все, что вы хотите. Впрочем, посмотрим. Иными словами, ничто не останавливается на событии. Все, что вы сказали, показывает, что вы хорошо все поняли, – но почему, если вы так хорошо поняли, вы так спешите? Бывают моменты, когда надо быть стремительным, и потом бывают моменты, когда надо быть медлительным в мысли. Бывают моменты, когда она скачет во весь опор, и потом бывают моменты, когда она еле тащится. Я не могу сказать, что моменты, когда она еле тащится, – наиболее богатые. Во всяком случае, мысль ритмизуется забавным способом, это похоже на музыку, вы получаете темп, очень-очень разнообразный, очень варьирующийся. И тогда, если вы захотите, чтобы понятия уровня 4 оказались на уровне 1, вы все перепутаете, сколь бы умными, сколь бы коварными вы ни были.
Вопрос: [нрзб.].
Жиль Делёз: Я скажу тебе, Контесс, что, если бы ты читал курс на ту же тему, ты провел бы его совершенно иначе. То, что я обсуждаю, – словечко, которое ты проронил: «то было бы глубже». Различие между тобой и мной – в том, что ты настаиваешь на сходствах между Лейбницем и Декартом. Я вполне допускаю, что это возможно и что это легитимно. А вот я настаиваю на радикальной оппозиции, это в равной степени возможно и тоже легитимно. Мне кажется, что в прошлом у нас была та же проблема со Спинозой. Когда ты говоришь: вот у меня немного глубже – здесь я могу обидеться, потому что не знаю, почему одно глубже другого. Я предпочитаю говорить, делая упор на том, что нечто столь же глубоко, сколь и поверхностно. Но я вовсе при этом не говорю, что ты неправ. Я лишь допускаю, что ставлю у Лейбница в привилегированное положение ту или иную проблему, а ты ставишь в привилегированное положение другие проблемы, чтобы поддержать свою точку зрения, и используешь другие тексты, которые ты найдешь для подтверждения своей позиции, я этого отнюдь не исключаю. Я говорю, что в моей схеме (впрочем, большинство из вас уже поняли это), отрицается, что Лейбниц и даже Спиноза входят – как ты говоришь – в ту же складку, что и Декарт. Моя единственная хитрость в том, что Декарт – человек Ренессанса, а не классик; он еще является философом Ренессанса. А вот то, что ты только что показал в своем кратком выступлении, есть средство и возможность сделать из Декарта не только классика, но и отца Лейбница и Спинозы. В каком-то смысле это было бы очень интересно, но в дискуссии так не поступают; было бы необходимо, чтобы ты прочел об этом курс, и я тоже, и тогда мы, наверное, догадались бы, что некоторые слушатели предпочитают тебя или меня. Но нет никакого сомнения, что то, что ты только что сказал и обрисовал, – схема, совершенно отличная от моей. Для меня Декарт не входит в тот классический мир, который я пытаюсь определить, и это для меня барочный мир, тогда как для тебя то, что ты называешь классическим миром, было бы уже не барочным миром, а миром, способным охватить Декарта, Спинозу и Лейбница. Но ты получишь свою интерпретацию не с теми же текстами, что и я. У тебя другие тексты. Но ведь я всегда говорил и повторяю вам, что не претендую на то, что моя интерпретация единственная возможная; разве я притязаю на то, что она лучшая? Конечно, отчасти притязаю, иначе я бы ее не предлагал, но это я говорю шепотом и вдобавок в лицо мне ударяет краска стыда, и поэтому я бы никогда не сказал этого публично. Итак, я говорю: все хорошо, все хорошо с момента, когда вы сами начинаете выносить суждения, то есть когда вы начинаете углубляться в тексты.
И все-таки вот третье бесконечное. У нас было бесконечное-в-себе, бесконечное-по-причине, и причина эта, как мне кажется, отсылала к экстензиям, поскольку они до бесконечности формировали отношения между целым и частями, – и потом, вот у нас бесконечные ряды, которые стремятся к пределу, и это – третье бесконечное. Если я возьму знаменитое письмо Спинозы о трех бесконечных, то первые два совпадают. Это – бесконечное-в-себе, то есть Бог и то, что Спиноза называет Его атрибутами. Бог и Его атрибуты… Второе бесконечное Спиноза называет бесконечным-по-причине. И потом Спиноза выделяет третье бесконечное. Посмотрите это письмо, оно прекрасно. Примечание: у нас есть пометки Лейбница на этом письме Спинозы, где Лейбниц все-таки скуп на комплименты, он боится Спинозы, словно чумы, так как проблема Лейбница прежде всего в том, чтобы его не приняли за философа имманентности. «Я добрый христианин, я ортодокс». Спиноза – враг до такой степени, что Лейбниц устраивал Спинозе всякие гнусные штуки. К счастью, Спиноза остался безразличным к ним. Лейбниц никогда не отличался большой ясностью. И вот, Лейбниц разражается рукописными комплиментами. По поводу третьего бесконечного Спинозы он говорит, что увидел нечто весьма глубокое. А поскольку это – математическое бесконечное, а Спиноза, как известно{ В оригинале: «notoirement», т.е. «имеет дурную славу» нематематика.}, не математик, хотя он превосходный физик и оптик с большим талантом, такие математические комплименты, исходящие от Лейбница, очень интересны. Как Спиноза определяет третье бесконечное? Он говорит нам, что существуют количества, которые, хотя и включены в фиксированные границы, выходят за пределы всяких чисел. Он сам приводит геометрический пример, который как будто бы не сочетается с бесконечными сходящимися рядами. Итак, я всего лишь ставлю вопрос: не совпадает ли третье бесконечное Спинозы с третьим бесконечным Лейбница? Я делаю вывод: они, грубо говоря, похожи, в одном случае – это бесконечное из сходящихся рядов, которые стремятся к пределу, а во втором – это бесконечное, включенное в границы некоего пространства. Я полагаю, что превращение одного в другое мыслимо, даже математически. Итак, будет очень интересно сопоставить эти три бесконечных Лейбница с этими тремя бесконечными Спинозы. У Лейбница существует три разновидности простых понятий, и мы вновь находим у него то, что находили в прошлом триместре, – абсолютно простые понятия, мы их оставим в стороне, потому что они касаются только Бога, Бога в самом себе; относительно простые понятия, которые касаются отношений «части – целое»; экстензии, а также пределы, сходящиеся к одному пределу, которые касаются интензий, интенсивностей. Я утверждаю, что две последние разновидности простых понятий довольно точно отсылают к двум типам рядов у Уайтхеда. Ряды, делимые до бесконечности, без предела, и ряды, сходящиеся к пределу. Итак, конъюнкция двух этих последних рядов дает нам событие, или актуальный случай. Что такое событие? Что в нем поразительного? Да ничего! Вы помните это по первому триместру, это пройдено. То, что Уайтхед, будучи физиком XX века, называет вибрацией, – это довольно точно, и здесь с точки зрения концепта я не вижу никакого различия, но с точки зрения научного углубления понятия существуют значительные различия. Это как раз то, что Лейбниц, будучи великим математиком XVII века, называет сгибом. Итак, если вы помните, весь наш первый триместр состоял в комментировании того, что такое сгиб, – и мы заранее знали, что событие было конъюнкцией сгибов. Итак, мы работаем при чрезвычайно крепкой спаянности с нашей работой в первом семестре.
И тут наступает смена декораций, так как мы достигли события. Событие, как вы помните, таково: меня раздавил автобус, но это также жизнь великой пирамиды в течение десяти минут. Событие – это всякое прохождение природы, то есть всякое развертывание рядов. Мы назовем его прохождением природы, а если угодно, то прохождением Бога, это почти одно и то же. Меня раздавил автобус, это проходит Бог! [Cмех.] Я смотрю на великую пирамиду в течение десяти минут, здесь также прохождение Бога, или прохождение природы. Это событие. Опять-таки что такое событие: вы ничего не поймете, если проинтерпретируете это так: событие – это то, что великая пирамида была построена. Речь идет не об этом. Сооружение великой пирамиды – другое событие. Но жизнь великой пирамиды в продолжение десяти минут, пока я смотрю на нее, есть событие; а жизнь пирамиды в продолжение следующих десяти минут – другое событие. Вы скажете мне: но течение пяти минут, включенных в десять минут, это делимость до бесконечности. И как раз этот первый ряд, бесконечный ряд вступает в отношения частей и целого. Я бы сказал так: жизнь пирамиды в течение пяти минут есть часть жизни пирамиды в течение десяти минут. Итак, все хорошо.
Из чего складывается событие? Пока что у меня нет ничего, что составляет событие. У меня есть условия складывания события, но что формирует событие? Из чего сделано событие? И я предлагаю вам – хотя это очень искусственно – тот же метод. Ответ Уайтхеда и ответ Лейбница… Анализ Уайтхеда вы найдете в «Процессе и реальности». Первый общий ответ: событие, нечто, составляющее событие, то есть актуальный случай, есть схватывание. Схватывание. Это будет основополагающим концептом для Уайтхеда. Правда, надо немедленно поправить: схватывание непрестанно схватывает другие схватывания. Иными словами, событие не есть схватывание, так как сейчас это было бы лишь синонимом события, а не его составной частью. Необходимо сказать, выражаясь языком Уайтхеда, что событие есть узел (нексус) схватываний во множественном числе. Как видите, существуют два определения события, или актуального случая. Я могу сказать, что это срастание рядов, или я могу сказать, что это узел схватываний. Срастание рядов – это означает: схождение и конъюнкция, вот что такое срастание, или же я могу сказать: это узел схватываний, то есть то, что одни схватывания отсылают к другим. Что же говорит Лейбниц? Каков элемент события? Элемент события – это монада! А что такое монада? Вы это знаете: схватывание мира. То, что Лейбниц интерпретирует через событие: всякая монада выражает мир. Она схватывает мир.
Узел схватываний – что это означает? Какими будут его элементы? Лейбниц выделяет пять элементов. Всякое схватывание имеет пять аспектов. А поскольку всякое схватывание есть схватывание схватываний, вы чувствуете, что всякий аспект схватывания схватывает другие аспекты другого схватывания. Всякое схватывание предъявляет схватывающего субъекта. Именно здесь вмешивается понятие: первое возникновение субъекта. Datum. Моя, всегда расхожая, философская латынь: данность, datum, или схваченная данность. Так что же такое datum, или схваченная данность? Это – другое схватывание, предсуществующее тому, которое рассматриваю я. Всякое схватывание предполагает предварительные схватывания. Схватывания, одно или несколько предварительных схватываний, станут данными для актуального схватывания, то есть данными схватывающего субъекта. Иными словами, всякое событие есть схватывание предшествующих событий. Посмотрите, что такое datum, схватываемый datum. Я мог бы сказать: сегодня вечером я иду на концерт, где так или иначе будут играть Стравинского; при этом схватывании исполняемой части сочинения Стравинского будут схватываться данные, предварительно заданные данные, то есть определенное количество исполнений той же части.
Заметьте, что уже на этом уровне у меня есть операции отвращения. Есть негативные схватывания. Мы назовем негативными схватываниями такие, которые в актуальном событии отвергают некоторые предшествующие события. Например, если я дирижер, то на такое-то исполнение Стравинского, которого играют в этот вечер, на то, что я хорошо знаю и не поддерживаю, я реагирую: «Только не это!» – здесь будет негативное схватывание. Мое схватывание в этот вечер будет иметь в виду негативное схватывание некоего datum’а, то есть предсуществующего схватывания в модусе отталкивания, исключения. И я не включил бы это исполнение в свое схватывание. Все мы здесь: мы делаем основополагающий выбор. Существуют философы, которых мы не можем включить в свое схватывание, так как нас затошнит. И не от самой философии, так как вся философия – гармония! Но от сферы человеческих страстей, так как существуют феномены схватывания через рвоту или рвотное схватывание. Я хотел бы продвигаться быстро.
Эти схваченные datum’ы, эти схваченные данные, каковые являются предварительно заданными схватываниями, – они образуют публичный материал моего актуального схватывания. Публичное. Уайтхед очень любит это слово, «public». Он говорит о публичном измерении некоего схватывания, в отличие от его частного измерения. Это необычно для философии – использование публичного и частного на таком уровне. Предварительно заданные события, каковые сами являются схватываниями, но которые я схватываю в моем актуальном схватывании, составляют публичное измерение схватывания. Очень любопытно. И главное, что здесь опять-таки будет частное измерение схватывания. Вы видите, что у всякого актуального схватывания есть данные, стало быть, есть схватывающий субъект; существуют схваченные данные, доставшиеся от предшествующих схватываний и формирующие публичное в схватывании. Это забавно. Третий компонент: то, что называют субъективной формой. Субъективная форма – это «как». Как мое актуальное схватывание схватывает данные? Именно то, что называется «как мое актуальное схватывание схватывает данность», то есть предыдущие схватывания, вы видите сразу же – в модусе исключения, рвоты, или в модусе интеграции, но интеграции какого типа? Это может быть проект, это может быть оценка, это может быть тревога, это может быть желание, это может быть что угодно. Он назовет это субъективной формой, или «как», восприятия; способ, каким схватывание схватывает схваченное, то есть datum, он назовет feeling. Субъективная форма есть feeling. То, что Изабель Стенгерс в прошлый раз предложила перевести как «аффект».
Четвертое, довольно необычное, измерение, которое мы всегда находим в нашей проблеме и всегда влачим за собой: но, Господи Боже, почему не повторить попытку, которую смог сделать только Ницше? Потому что надо было бы иметь такой же талант, как у Ницше, иначе результат был бы плачевным. Почему бы не провести исследование философии с точки зрения национальностей: вот что в философии английское, вот что немецкое, вот что французское, вот что греческое – вместо того чтобы все приписывать грекам. Ницше в «По ту сторону добра и зла» однажды сумел это сделать, а именно: он смог это сделать для немцев, сразу и в высшей степени забавно, и чрезвычайно философично. И как раз – и это хороший случай опоры для моих мыслей – заставил меня перечитать один текст из «По ту сторону добра и зла» о немецкой душе. Знаете ли, говорит Ницше, немецкая душа не глубока, она лучше или гораздо хуже, она гораздо больше или гораздо меньше. Не то чтобы она была глубока, немецкая душа, но дело в том, что она столь многосложна, она полна складок и сгибов. И значит, этот текст, очевидно, мне подходит. В той мере, в какой мы обозначили выход Германии на философскую сцену через Лейбница, в форме барочной философии, работавшей со складками и сгибами, – как хорошо, как приятно найти это подтверждение: немецкая душа полна складок и сгибов. Понадобилось дождаться Гегеля, чтобы начать отрицать это. Гегель сказал: нет-нет, мы глубоки. И вот в этот момент все пропало.
Что же касается того, что́ есть английское в философии, то Ницше здесь промахнулся, потому что он слишком уж презирает утилитаристов. Он не увидел, что утилитаристы были сумасшедшими, и я полагаю, что он не прочел утилитаристов. Ницше делает упреки, которые, в конечном счете следует признать слабыми. Это неудачные страницы, страницы об англичанах. Он не заметил, что безумие этого народа и его философия – это одно и то же. О том, что́ есть сугубо английское, я сейчас вам скажу. Это понятие, которое у Уайтхеда появляется четвертым, и это понятие self-enjoyment. Как это перевести? Это совершенно невозможно. Enjoy? Наслаждение собой? Почему я перевожу таким гротескным способом? Вы прекрасно понимаете, что если бы я перевел как contentement de soi, самодовольство, это будет нуль, это абсурд. Почему? Я всегда говорю вам, что философский концепт резко идет наперекор всему самому пошлому, самому банальному и олицетворяет собой парадокс. Взять самое пошлое и сказать вам: посмотрите, какой парадокс внутри. Я говорю «самое пошлое», но, по-моему, и я спрашивал компетентных людей, это в высшей степени расхожая формулировка для англичан. Enjoy yourself. В предельном случае мы говорим такое ребенку, имея в виду: забавляйся. Это эквивалент нашего amuse-toi. Иди развлекайся. Но когда нищий, попав в жилище богача, получает свою милостыню или когда философ стучится в дверь богача, чтобы обеспечить ему счастливую смерть, а потом возвращается домой со словами: enjoy yourself! Почему так? Вы чувствуете, что это чрезвычайно библейская формулировка, а вы помните, что у англичан Библия – не священная книга, или не только священная книга, это книга обо всем и ни о чем. Это книга всяческой мудрости и всякой житейской мудрости, в частности.
Enjoy yourselves! «Возрадуйтесь!» Вот что такое элемент события, self-enjoyment, то есть схватывание. Я перевожу так – в том месте, где мы находимся. У нас нет выбора. Схватывающий может схватывать данные, лишь возрадовавшись. Отсюда мой вопрос: что такое это self-enjoyment? Это действительно типично английский концепт? Давайте немного поразмыслим. Страницы Уайтхеда возвышенны, они возвышенны относительно self-enjoyment, являющегося философской категорией. На мой взгляд, если французы пренебрегают такой философской категорией, то их ужасно терзает противоположная вещь, меланхолия. Французы так уж угнетены из-за self-enjoyment? О нет! С чем они знакомы, так это с нехваткой бытия, то есть с умиранием.
[Конец пленки.]
Я не говорю, что английская философия сводится к этому. Из чего она состоит для тех, кто ее немного знает? Она сформирована возвышенной встречей: встречей самого требовательного эмпиризма и тончайшего неоплатонизма. Наиболее типичный представитель этой традиции – это один из величайших поэтов мира, Кольридж, и он не только грандиозный поэт, но и величайший философ: он осуществляет этот синтез между эмпирическим требованием и неоплатонической традицией, традицией неоплатонических мифов, а она чрезвычайно любопытна. Почему я ссылаюсь на неоплатоников? Потому что неоплатоники, я бы сказал, это почти что англичане той прекрасной эпохи. Византия была своего рода Англией – почему? У нее была своя величайшая идея. У Плотина в «Третьей Эннеаде» есть одна идея, и она входит… Можно всегда поиграть в конкурс: каковы двенадцать страниц, которые представляются вам прекраснейшими в мире; это хорошо получается с фильмами. Вот я сразу же назвал бы упомянутую страницу Плотина одной из прекраснейших в мире, и это – страница из третьей «Эннеады». Книги Плотина сгруппированы в «Эннеады», я имею в виду страницу о созерцании из третьей «Эннеады».
Вот то, что нам говорит Плотин: всякая вещь радуется, всякая вещь радуется себе самой, и она радуется самой себе, потому что она созерцает другую.
Всякая вещь есть созерцание, и именно это составляет ее радость. То есть радость есть наполненное созерцание. Она радуется сама себе по мере того как наполняется созерцание. И само собой разумеется, созерцает она не себя. Вещь наполняется собой, созерцая другую вещь. И Плотин говорит: и не только животные, не только души, вы и я, мы – это созерцания, наполненные самими собой. У нас есть маленькие радости. Но больше мы ничего об этом не знаем! Почувствуйте, что это слова из приветствия, обращенного к философии. Это – исповедание веры философа, и это не означает «я доволен». Какие глупости можно было сказать об оптимизме Лейбница, но его оптимизм не означает, что все хорошо! Когда кто-нибудь говорит вам, подобно Плотину: будьте радостью, это не означает: «Давайте, парни, все хорошо, будьте радостью, созерцайте и наполняйте себя тем, что вы созерцаете. Вот в этот момент вы будете радостью». А он говорит: «Не только вы и я, ваши души суть созерцания, но и животные – созерцания, и растения – созерцания, и даже скалы – созерцания». Бывает self-enjoyment скалы. Благодаря самому факту, что некто созерцает, он наполняется тем, что созерцает. Он наполняется тем, что созерцает, и тем самым получает self-enjoyment. И Плотин превосходно заканчивает, это текст несказанной красоты; и мне говорят, будто я шучу, когда говорю все это, но, может быть, сами шутки – это созерцания. Итак, перед нами прекрасный текст! Что он означает? Мы очень хорошо это видим в неоплатонической системе. Всякое существо на своем уровне возвращается к тому, с чего оно начало. Это и есть созерцание. Созерцание – это обращение. Это обращение души или вещи к тому, откуда она исходит. Возвращаясь к тому, откуда она исходит, душа созерцает. Но она не наполняется другим, тем, из чего она исходит, – или образом другого, из которого она исходит, не наполняясь собой. Она становится радостью самой по себе, возвращаясь к тому, откуда она исходит. Self-enjoyment, радость от самого себя, – это коррелят созерцания принципов. Вот это и есть великая неоплатоническая идея. Представьте себе эмпирика, прочитавшего Библию, то есть англичанина, и к тому же читающего этот текст Плотина. Он видит, что говорит Плотин: даже животные, даже растения, даже скалы – это созерцания. Англичанин скажет: я знал это. Разве не то же самое говорит нам Библия, когда она утверждает, что полевые лилии и птицы поют славу Господу? Лилии и птицы поют славу Господу: что же это может означать? Это поэтическая формула? Вроде нет. Всякая вещь есть созерцание, из которого она исходит. Но здесь мы находимся на территории эмпириков, хотя это ничего не меняет. Впрочем, мы можем несколько продвинуться. Во всяком случае, мы все больше в состоянии понять, что имеет в виду Плотин. Что же это означает, что всякая вещь созерцает то, из чего она исходит? Ну да, надо, чтобы вы представили себе, как скала созерцает… Черт побери! Примеров будет много, и доказательств тоже. Скала созерцает, кремний, углерод – конечно, x, y, z и т. д. Злак поет славу Небесам – это означает, что злак есть созерцание элементов, из которых он исходит и которые он заимствует у земли. И он заимствует их у земли в соответствии с собственной формой и сообразно требованиям своей формы, то есть согласно своему feeling’у. Требования его формы – это и есть feeling. А живое тело созерцает, я, мое живое тело, мой организм, вот потому-то они впадают в витализм, эти эмпирики, в такой витализм, что является чудом света. Органическое тело – ну да, оно созерцает: углерод, азот, воду, соли, из которых оно исходит. Переведем это на язык известных вам терминов: всякая вещь есть созерцание собственных реквизитов. Вместо того чтобы ссылаться на великие неоплатонические принципы, мы вспоминаем условия существования: всякая вещь есть неосознанное созерцание ее собственных условий существования, то есть ее реквизитов. Ладно, мало-помалу мы продвигаемся. Вы чувствуете, что это значит – созерцать! Очевидно, это не есть теоретическая деятельность. И опять-таки цветок созерцает гораздо больше, чем философ. Или, например, корова. Кто более созерцателен, чем корова? У нее такой вид, будто она смотрит в пустоту, однако вовсе нет! Правда, есть животные, которых абсолютно, совершенно нельзя назвать созерцательными, но это самый низкий уровень животных, например, кошки и собаки – вот они созерцают очень-очень мало. К тому же они ведают очень мало радости. Это печальные животные, они ничего не созерцают [смех]. Это в точности соответствует про́клятым: про́клятые ничего не созерцают, – мы это видели. Статус про́клятых в том, что они ощущают только рвоту. Все их схватывания негативные. У них – только негативные и экспульсивные схватывания, ничего, кроме рвотного; у кошек и собак тоже ничего, кроме рвотного. Итак, всех про́клятых сопровождают кошка и собака [смех]. В итоге сейчас оказывается, что кошек и собак больше, чем про́клятых. Во времена Лейбница ситуация была более разумной, их было меньше. А что коровы? Коровы в высшей степени созерцательны, а что они созерцают? Уж точно не глупости. Они созерцают элементы, из которых произошли; они созерцают свой собственный реквизит, а реквизит коровы – это трава! Но что означает «созерцать»? Из травы они творят плоть, коровью плоть. Вы мне скажете, что относительно кошки и собаки можно поспорить. Хорошо известно, что у кошки не слишком привлекательная плоть. Как говорят, она вялая. У собак то же самое. Они ищут пропитание повсюду. У китайцев они считаются неважными животными.
Вопрос: А как с Богом?
Жиль Делёз: Это хорошо известно. Мы еще увидим. Трудностей здесь нет. Поскольку Бог – бесконечное-в-себе, Ему есть что созерцать. Самосозерцание и self-enjoyment Бога, собственно говоря, бесконечны по определению. Хотя бы поймите, что это значит – созерцать. По крайней мере, мы видим настоящий философский концепт. Здесь Уайтхед имеет основания, когда отказывается созерцать. Созерцание существовало в полном смысле уже у такого великого английского автора, предшественника Уайтхеда, как Батлер{ Имеется в виду английский романист викторианской эпохи Сэмюэл Батлер (1835–1902).}. Батлер в сверхгениальной книге, которая называется «Жизнь и привычка», объяснил, что все живые существа суть привычки, габитусы, – эта книга тоже полна философских концептов, – а габитус есть созерцание. И на прекраснейших страницах он утверждал, что злак есть созерцание собственных элементов, элементов, благодаря которым он растет, и поэтому он габитус. И, как говорит Батлер, он даже полон «радостной и наивной веры в себя». Или, например, почувствуйте у Лоуренса, до какой степени все это по-английски, – у Лоуренса на превосходных страницах о природе вы найдете аналогичные вещи. Если вы думаете, что это претенциозность (mièvrerie), вы ничего не уловите. Это, как мне кажется, одна из наиболее мощных мыслей одной из разновидностей пантеизма. Эта концепция природы поразительна. Они не идиоты, они переживают природу вот так, как организмы, наполняющиеся самими собой, – когда? Созерцая? Нет! Опять-таки (Изабель [Стенгерс] сказала это в последний раз, они предлагают следующее: Уайтхед не употребляет глагола «созерцать», он использует глагол «рассматривать», и тут есть небольшой нюанс. Это для того, чтобы вытеснить пассивный аспект. Уайтхед имеет в виду, что существует схватывание реквизитов. Субъект схватывает собственные реквизиты. Он рассматривает собственные реквизиты больше, чем созерцает их. И на самом деле это не чистое созерцание, не абстрактное созерцание, и Уайтхед боится, что глагол «созерцать»… А вот я, наоборот, предпочитаю глагол «созерцать», потому что риск абсурда неважен, потому что этот глагол более нагружен, он более рискован. Но почему это не пассивное созерцание? Потому что мы действительно можем найти для него имя, имя активной операции. Фактически это сокращение. Сокращение. Все проясняется. Если я говорю, что организм сокращает элементы, в которых нуждается, если я говорю, что ваш организм есть сокращение воды, кислорода, карбона, соли и т. д… Мне кажется, что это становится в высшей степени ясно. Если я говорю, что скала – это сокращение кремния и, я не знаю, чего еще, то это становится в высшей степени ясным. Если я говорю, обобщая: всякое схватывание данных этой скалы схватывает свои данные, то имеются в виду прошедшие схватывания. В действительности и сам кремний есть схватывание, и сам углерод есть схватывание. Это схватывания, предполагаемые живым организмом. Схватывание никогда не схватывает ничего, кроме схватываний. Я бы сказал, что азот, углерод, кислород – это «публичные» материалы живого. Итак, схватывать всегда означает сокращать прошлые схватывания, сокращать данные. Сокращая данные, я наполняюсь радостью от бытия самим собой.
Лекция 7
Логика события
(07.04.1987)
…И в каком-то смысле всякое событие духовно, более того: что бы то ни было является событием лишь будучи вознесенным на уровень феномена духа. Смерть есть событие только как феномен духа, в противном случае рождение и смерть не событие, и т. д. Мы видели, как у Лейбница событие отсылало к неотъемлемости от монады, то есть событие у него имеет актуальное существование только в монаде, которая выражает мир. Событие актуально существует в монаде, в каждой монаде. Но это – лишь одно измерение события, духовное измерение. Необходимо еще, чтобы событие осуществилось. Здесь я бы различал актуализацию и осуществление. Я бы сказал, что событие осуществляется в духе и что это и есть наиболее глубокая принадлежность духа событию и события духу.
Событие актуализуется в духе, или, если угодно, в душе. Повсюду существуют души. Это очень близко Лейбницу: событие актуализуется в душе и повсюду существуют души, но в то же время необходимо, чтобы событие осуществлялось в некоей материи, чтобы оно осуществлялось в теле. Здесь у нас нечто вроде двойной системы координат: актуализация в душе и осуществление в теле.
Но что это означает: иметь тело? Весь этот триместр мы посвятили отношениям события с монадой как с чистым духом, или душой. Но мы прекрасно чувствуем, опять-таки, что событие, определяемое как то, что актуально существует в душе, имеет в виду и другое измерение: осуществляться в материи, или в теле.
Отсюда отправным вопросом нашей третьей части будет: что означает «иметь тело»? Что это такое? Мы узнáем, что это означает – «иметь тело» или, по крайней мере, что такое само тело: это то, в чем осуществляется событие. «Перейти Рубикон» – вечный пример, к которому возвращается Лейбниц. «Перейти Рубикон» – это событие, которое актуализуется в монаде «Цезарь», и действительно: необходимо решение души. Цезарь мог бы и не переходить Рубикон: мы уже видели с вами, в каком смысле понимает свободу Лейбниц. Но это отсылает также к некоему телу и некоей реке: необходимо, чтобы тело преодолело эту реку. То, что монады имеют тела и, более того, что эти тела находятся в материальном мире, – к этому мы даже не приступали, и это будет предметом нашей третьей части.
Впрочем, я возвращаюсь к концу этой второй части, в которой я бы хотел сегодня продвинуться до максимума.
Что же такое эта логика события, которую мы пытаемся построить на стольких лекциях? Мы исходим из того, что проходило красной нитью для нас весь этот семестр, а именно: Лейбниц придумывает или притязает на то, что он придумал, включение предиката в субъект. Правда, здесь необходимо быть очень внимательным, так как то, что он называет предикатом, есть всегда отношение или событие. Я весьма основательно опирался на текст «Рассуждение о метафизике», где – как бы мимоходом (это для него само собой разумеется) – Лейбниц говорит: предикат, или событие. Вот то, что, насколько я знаю, ни Мальбранш, ни Спиноза, ни Декарт никогда не говорили и даже не понимали. Предикат, или событие. Здесь мы были бы вынуждены сказать: ну нет, во многих комментариях к Лейбницу что-то не так, потому что их авторы писали, что предикат у Лейбница, как и у других, является атрибутом.
И здесь мы даже встречаем у столь важного, столь гениального автора, как Рассел, посвятившего Лейбницу книгу, слова: «неотъемлемость предиката от субъекта имеет в виду, что всякое суждение есть суждение атрибуции». Если дело обстоит так, то как Лейбниц объясняет отношения? Я говорю: по-моему, в этом есть нечто пугающее, так как Лейбниц, конечно, затрагивает многие сложные проблемы, но не эту. Почему он говорит об атрибуции в смысле предикации, но ни разу, насколько я знаю (держитесь за дерево), никогда вы не найдете отождествления предиката с атрибутом. Почему? По простой причине: у Лейбница нет атрибута. Это уважительная причина. И тогда, конечно, мы можем найти слово «атрибут», но это не сильно меняет дело. Я имею в виду: предикат есть всегда событие или отношение.
Что касается меня, у меня нет ощущения, что проблемы отношений представляют хотя бы малейшую трудность для Лейбница: вся его философия написана по поводу этого. Вся его логика написана ради этого. Было бы даже удивительно, если бы из-за этого он испытывал особые трудности. Источник ошибок по этому вопросу всегда очень забавен, если у меня вообще есть основание думать, что это ошибка. Когда такой человек, как Рассел, говорит: «У Лейбница суждения сводятся к моделям атрибуции», он опирается на что? На формулу «всякий предикат – в субъекте». Стало быть, он говорит, что все есть атрибуция. Но выражение «всякий предикат» предполагает у Лейбница, что предикат не есть атрибут.
Так что же находится в субъекте? В субъекте, на самом деле, располагаются отношения и события. Иными словами, Лейбниц – это автор, для которого предикация, или, если угодно, назначение предиката субъекту, радикально отличается от атрибуции. И это такой автор, который буквально – по крайней мере, в предельном случае – мог бы сказать нам: атрибуции не существует, существует только предикация.
Вопрос об отношениях и соотношении всегда был очень прост, он состоит в утверждении: существует субъект отношения. Вы видите, что те, кто, подобно Расселу, говорит, что такая философия, как философия Лейбница, неспособна объяснить отношения, – это те, кто подразумевает или полагает, будто подразумевает: у отношения нет субъекта. Стало быть, такая философия, которая, как философия Лейбница, утверждает, что всякое суждение, всякая пропозиция типа «предикат находится в субъекте» не может объяснить отношение, потому что в отношении, когда я говорю, например: «Вот три человека», заимствуя пример у Рассела, то где тут субъект? Это пропозиция без субъекта.
Ответ Лейбница: если вы как следует поставите проблему, вы найдете субъект! И тогда в рассуждении Рассела субъектом не будет ни такой-то, ни другой человек, ни множество из трех человек. И все зависит также от того, каков предикат. Мы видели ответ Лейбница. Ответ Лейбница таков: вот три x; соответствующая пропозиция – «два» и «один» суть предикаты «три». Это имеет совершенно незначительный вид, «два» и «один» суть предикаты «три»; я попытался показать, что это могло быть чрезвычайно важным ответом, так как в нем действительно фигурировало назначение субъекта. А у Лейбница этот субъект мог иметь в качестве предиката лишь некое отношение – отношение «“два” и “один” суть предикаты “три”».
Опять-таки – зачем все это? Для того чтобы сказать: предикат есть всегда отношение или событие, это не атрибут. Предикат субъекта… Это логика события. Мой вопрос сразу же будет: что из этого проистекает для субстанции? Ведь субстанция – это субъект.
То, что мы называем в логике «субъектом», есть то, что в метафизике называется «субстанцией»: субстанция определяется как субъект собственных детерминаций. Два этих понятия были длительное время эквивалентными, и в XVII веке еще существует полное равенство между метафизической субстанцией и логическим субъектом. Именно Кант и посткантианская философия проведут критику метафизического субъекта, то есть критику субстанции, а значит, с этих пор судьба логического субъекта перестанет быть связанной с судьбой самой субстанции. Были ли правы эти философы? Все зависит от того, какого рода проблемы они тогда перед собой ставили. Все это – не наше дело. Я спрашиваю: какие это имеет последствия для субстанции? Это очень важно. Субстанция уже не определяется и не сможет определяться через атрибут.
От Аристотеля до Декарта – правда, по-разному – субстанция определяется через атрибут. Что здесь такое атрибут? Атрибут есть сущность. Атрибут – это то, что есть вещь, то есть ее сущность. А у вас, если угодно, есть соответствие, эквивалентность между логической схемой «субъект есть атрибут» и метафизической триадой: субстанция, бытие, сущность. Если пропозиция – уже не атрибуция, то есть она больше не определяется ни через атрибут, ни через субъект, то чем становится субстанция, которая уже не может определяться через сущность? Данная тема в этом курсе сопрягается с наиболее очевидной, с самой несомненной темой нашего рассмотрения. Надо будет сказать, что Лейбниц порывает со схемой атрибуции и что тем самым он рвет с эссенциализмом субстанции – субстанции, сформированной через сущность. Атрибуцию он заменяет предикацией, так как предикат всегда был отношением или событием, а чем он собирается заменить эссенциализм? И здесь мы можем радоваться тому, что нашли слово, я скажу его сразу же: маньеризм.
Ведь в конечном счете все мы знаем, что у маньеризма весьма особые отношения именно с барокко: либо внутренние, либо чуть опережающие, либо немного запаздывающие. Но мы огорчим критиков, которые как будто бы с таким трудом стараются определить маньеризм. Итак, все изменить – место и время – и сказать себе: ладно, очень хорошо, разве не могла бы философия здесь помочь тому, кто с таким трудом пытается определить маньеризм в искусстве; возможно, философия даст нам очень простое средство определить маньеризм? И мы хорошо понимаем, что если субстанция не определяется через сущность, то она определяется чем? Как бы там ни было, субстанция уже не может определяться своими модусами.
Что же такое «модус субстанции»? То, что мы называем модусом субстанции, есть нечто, что имеет в виду субстанцию, тогда как субстанция не имеет в виду его. Я говорю, например: фигура имеет в виду протяженность, или треугольник имеет в виду протяженность. Но протяженность не имеет в виду треугольник. Доказательство – в том, что протяженность может иметь в виду и какую-нибудь другую фигуру, или – в предельном случае – может вообще не иметь в виду никакой фигуры. Я бы сказал так: фигура есть модус протяженности. Если a имплицирует b без того, чтобы b имплицировало a, то перед нами модус: a есть модус b. Вы сразу же видите, как мы тем самым различаем модус и сущность. Сущность – это то, что имплицирует вещь, чьей сущностью она является, и то, что, наоборот, само имплицировано вещью. Иными словами, мы скажем, что сущность есть реверсная импликация, а модус есть односторонняя импликация. Казалось бы, вполне нормально определять субстанцию через сущность, при условии что сущности существуют. Так что же такое маньеризм? Определим его прежде всего как мысль. Вы должны лишь спрашивать себя: что в вас? Пока я говорю, попытайтесь его нарисовать. Вы развертываете некий ментальный холст и пытаетесь написать соответствующую маньеризму картину. Вообразите, что по неопределенным причинам философ думает, что у субстанции больше нет модусов, но есть нечто большее, чем модус или модификация, и, однако, это не сущность, это нечто иное, нежели сущность. Это больше, чем модификация, и это не сущность. Субстанция больше не будет определяться через сущность. Опять возьмите ваш ментальный холст: я говорю, что человек – это разумное животное. Нарисуйте разумное животное. Это сразу же покажет вам стиль живописи.
Рисовать (писать) разумное животное – это уже прямо-таки стиль живописи. Но я говорю: разумеется, в субстанции есть вещи, которые больше модусов, но это не сущности, это нечто иное, нежели сущности.
Передо мной текст Лейбница «Письмо к преподобному отцу де Боссу», страница 176 во французском издании: «Вам кажется, говорите вы (пишет Лейбниц преподобному отцу. – Ж.Д.), что может существовать промежуточное бытие между субстанцией и модификацией (между субстанцией и модусом. – Ж.Д.), но вот я полагаю, что этот посредник…» я мог бы прочесть остаток, но мы не в состоянии понять его. И как раз субстантивировать сложную субстанцию. Это неважно, в счет здесь идет то, что Лейбниц не говорит, что этот посредник есть некая сущность.
Почему мы не в состоянии понять того, что объясняет Лейбниц в письме к преподобному отцу де Боссу? Это входит в нашу третью часть: это имеет в виду обращение к данным, каковых у нас пока нет. Но вот то, что важно, я подчеркиваю: существует некий посредник между модификацией и субстанцией, и этот посредник никоим образом не определяется как сущность – которая, впрочем, и не посредник. Что такое этот посредник между субстанцией и модификацией? Это может быть лишь одно – то, что играет роль источника модификаций. Субстанция определяется не через сущность, она определяется через активный источник ее собственных модификаций, источник ее собственных манер. У субстанции нет сущности, она представляет собой исток своих способов существования. Вещь определяется через все способы существования, на которые она способна; субстанция вещи есть исток способов ее существования. Этим имеется в виду – хотите вы того или нет, – что субстанция неотделима от самих способов существования. Иными словами, ее можно отделить от ее модусов разве что абстрактно. И если вы постараетесь сохранить слово «субстанция», вы всё сможете, но пока необходимо будет сказать: субстанция есть всё. Но в тексте, который мне кажется очень важным, в «Рассуждении о метафизике», Лейбниц говорит нам нечто, представляющееся мне весьма причудливым… «Рассуждение о метафизике», параграф 15{ Здесь идет лишь приблизительный пересказ параграфов 14–15 соответствующей статьи Лейбница. См. Собр. соч. Т. 1. С. 138–140.}: «Мы могли бы назвать нашей сущностью («мы могли бы»: сослагательное наклонение уже очень интересно, это доказывает, что Лейбниц не так уж и дорожит этим понятием) то, что включает в себя все, что мы выражаем (а ведь вы припоминаете, что монада выражает целый мир, монада выражает все). Но то, что в нас является ограниченным (здесь весьма специфический словарь), это и было бы нашей сущностью». Сущность – это все. А что в нас ограничено – вы, может быть, помните? Это малая область, которую мы выражаем ясно, то, что Лейбниц так хорошо называет нашим «департаментом». Мы выражаем весь мир, но мы выражаем ясно лишь небольшую область мира. Но то, что в нас ограничено (то есть наша зона ясного выражения), может быть названо нашей природой или нашей мощью. Это любопытно: он отказывается от слова «сущность». Вы видите, как Лейбниц работает: сущность есть все, что мы выражаем, и, наоборот, мы называем природой, или мощью, зону, которую выражаем ясно.
Подвожу итог: субстанция уже не может на этом уровне определяться через сущность. Мы вновь посмотрим на это пристально, хотя это не моя общая тема. Субстанция может определяться лишь через отношение к собственным способам существования как их источник.
Монада Лейбница – глубоко маньеристская, а не эссенциалистская. Я бы сказал, что это революция в понятии «субстанция», – возможно, столь же великая, как и другая революция, состоящая в том, что мы обходимся без понятия «субстанция». Что является важным в понятии субстанции? Сама ли идея субстанции, или факт…
[Конец пленки.]
Это уже не будет определяться через сущность, которая теперь предстает в маньеристском, а не в эссенциалистском ключе. И действительно, я некоторым образом полагаю, что если вы подумаете о так называемой маньеристской живописи, то вся философия Лейбница, наверное, предстанет маньеристской философией по преимуществу. Уже у Микеланджело мы находим следы первого и глубокого маньеризма. Посмотрите: позиция Микеланджело не связана с сущностью. Здесь, в его маньеризме, поистине источник неких метаморфоз, источник некоего способа существования. И в этом смысле философия, может быть, дает нам ключ к проблеме живописи, отвечая на вопрос, что такое маньеризм.
Как бы то ни было, к чему в конечном счете это сводится? Почему сущности не существует? Опять-таки по тем же причинам, по каким не существует атрибутов, но существуют предикаты. Предикаты – это события и отношения. Всё – событие, это и есть маньеризм.
Событие есть производство способа существования. Все есть событие – это маньеристское мировоззрение.
Возвратимся назад. Мы уже достигли первого уровня. В связи с сопоставлением логики и метафизики события наше сравнение Уайтхеда с Лейбницем привело к тому, что мы разработали первый уровень, а именно: возьмем какое угодно событие, раз уж сказано, что все есть событие, – и каковы в таком случае условия возникновения события? Напоминаю вам отправную точку, годящуюся как для Лейбница, так и для Уайтхеда: событие – это не просто «человека задавили», но еще и «жизнь великой пирамиды в течение пяти минут». Мы задавались вопросом: каковы условия возникновения событий? Мы могли говорить на двух языках, и эти два языка были весьма близки друг к другу. Событие вибрационно и находит условие своего возникновения в вибрации. В конечном счете последний элемент события – это вибрации воздуха или вибрации электромагнитного поля. А еще (это нам кое-что напомнило) событие принадлежит к порядку сгибов.
Сгибы как события на линии… Вибрации как событие волны… И мы видели, как у Уайтхеда это вибрационное назначение события происходило в форме двух рядов: во-первых, экстенсивные ряды, которые определяются так: у них нет последнего члена, они бесконечны, у них нет предела. Они вступают в отношение «целое – части». Типичный пример отношения «целое – части» – жизнь пирамиды в течение часа (пока я на нее смотрю), в течение получаса, в течение минуты, в течение полуминуты, в течение секунды, в течение десятой доли секунды – и так до бесконечности. Этот ряд не стремится ни к какому пределу, ряд бесконечен, а члены ряда входят в отношения целого и частей. Таков был первый тип ряда.
Если вы помните, мы нашли эквивалент этому у Лейбница. И все-таки я не думаю, что Уайтхед что-то позаимствовал у Лейбница. Все это – в совершенно разных контекстах. Уайтхед говорит от имени современной физики вибрации, а вот Лейбниц говорил от имени математического исчисления рядов. Я гораздо больше здесь верю во встречу, хотя немного и форсирую сходство. Я говорю: у Лейбница вы находите первый тип бесконечных рядов, которые можно назвать экстензиями. Экстензии – это не только соизмеримые длины, вступающие в отношения «целое – части», но это еще и числа, вступающие в отношения «целое – части». Нам казалось, что у Лейбница именно экстензии представляют собой предмет сразу и определения, и доказательства. Вот мое первое условие.
Второе условие Уайтхед демонстрирует следующим образом. Дело в том, что у первых рядов все-таки есть внутренние неотъемлемые свойства. Неотъемлемые свойства, которые входят в ряд нового, второго типа, – и что есть этот второй тип ряда? Может быть, вы припоминаете? Это также бесконечные ряды, которые на сей раз стремятся к внутренним пределам. Они стремятся к пределам, другими словами, являются сходящимися – в том смысле, который использует Уайтхед. Это сходящиеся ряды, которые сходятся у пределов. Это совсем просто. Возьмем некую звуковую волну. Звуковая волна есть первый ряд. В каком смысле? В том смысле, что предполагается, что она имеет бесконечное множество гармоник, которые выступают подмножествами ее частоты. Тем самым мы получаем ряд первого типа. Но, с другой стороны, волна обладает неотъемлемыми свойствами: высотой, интенсивностью, тембром. Эти неотъемлемые свойства сами входят в ряды, просто эти ряды отличаются от рядов первого типа: на сей раз это сходящиеся ряды, которые стремятся к пределам. Между этими пределами будут существовать отношения: у Лейбница, как и у Уайтхеда, всегда есть идея того, что всё есть отношения. Итак, между этими пределами будут наличествовать отношения – и ощущаете ли вы, что именно отношения между этими пределами будут предикатами? Предикатами чего? Мы назвали экстензией первый тип ряда, а второй тип ряда мы назовем интензией, или, если предпочитаете, экстенсивностью и интенсивностью. Отношения между пределами определяют конъюнкции. Если вы возьмете светящуюся волну, вы получите также два типа рядов. Для меня важно именно формирование двух наложенных друг на друга типов ряда. Что касается внутренних пределов рядов второго типа, то мы видели, как Лейбниц назвал их чрезвычайно галантным именем: это – говорит нам он – реквизиты. В данном отношении параллелизм между Уайтхедом и Лейбницем разителен. Например: тембр, высота, интенсивность суть реквизиты звука. Гармоники – это не реквизиты. Гармоники – это множество отношений «целое – части», которые определяют первый тип рядов. Реквизиты – это пределы, определяющие второй тип рядов, конвергентные ряды. Более того, я мог бы сказать, что Лейбниц – по сравнению с Уайтхедом – добавлял и третий тип ряда.
Третьим типом ряда у Лейбница были сходящиеся ряды, которые имеют дополнительные свойства: одни их них продлеваются в другие, так что формируется некий мир конъюнкции, мир, который будет выражаться каждой монадой. Стало быть, продлеваемые сингулярности, или одни ряды, продлеваемые в других, образуют некий мир конъюнкции, выражаемый всеми монадами, – это и будет третий тип ряда, для которого нет эквивалента у Уайтхеда и который позволяет Лейбницу определять индивидуации. И получается, что у Лейбница мы будем иметь три типа рядов, потому что каждая индивидуальная монада сокращает и концентрирует известные количества сингулярностей. Таким образом, мы видим у Лейбница шкалу из трех рядов, следующих друг за другом: экстензии, интензии и индивидуации. У Уайтхеда мы видели только два типа рядов. Вероятно, у Уайтхеда (но лишь впоследствии и не на том же уровне) мы тоже обнаружим феномен индивидуации. Но пока что мы ответили лишь на один вопрос, а именно: каковы условия возникновения события? Условия возникновения события – в бесконечных рядах. Это возможный ответ – при условии определения бесконечных рядов. Я бы сказал, что условия возникновения события – это два типа рядов или три типа рядов, как вы выберете; причем событие здесь – конъюнкция. Событие есть конъюнкция двух или трех типов рядов.
Но тем самым я определил условия возникновения события, хотя еще не определил состав события – а то, что мы видели в прошлый раз, было именно составом события. Мы впервые увидели это у Уайтхеда, и я напоминаю вам, что мы выяснили, что составной элемент события, согласно Уайтхеду, есть схватывание. Для вновь созданной логики события Уайтхеду, очевидно, необходимы относительно новые слова: составным элементом события становится у него схватывание. Схватывание и составляет событие. Или, скорее: поскольку событие есть конъюнкция, которая отсылает к нескольким условиям, необходимо будет сказать, что оно само и есть связь – или, как выражается Уайтхед, нексус. Событие – с точки зрения своего состава – есть нексус схватываний. С точки зрения своей обусловленности это конъюнкция рядов; с точки зрения своего состава это нексус схватываний. Речь идет о том, чтобы узнать, каковы различные аспекты схватывания, или части события, или, другими словами, что составляет событие.
Мы видели пять аспектов. (Я продвигаюсь очень быстро, чтобы выиграть время.) Всякое схватывание отсылает к схватывающему субъекту. Но схватывающий субъект не есть нечто предсуществующее: именно схватывание, в той мере, в какой оно схватывает, составляет то, что называется схватывающим субъектом, или то, что формирует самое себя как схватывающего субъекта. Схватывающий субъект здесь будет первым элементом.
Второй элемент – схваченное. Схватывание формирует то, что оно схватывает, как схваченное. Здесь также схваченное не является чем-то предсуществующим.
Еще одно схватывание. Событие может быть только схватыванием схватываний. Это – еще одно схватывание, то есть еще одно событие: событие есть схватывание других событий. Каких других событий? Либо предсуществующих, либо сосуществующих. Всякое событие схватывает другие события. Пример: битва при Ватерлоо есть схватывание Аустерлица. Это две разные битвы, однако я слишком уж легко мог бы сослаться на психологические элементы. То, что идет в счет, есть система, а она работает за пределами психологии. Это не имеет ни малейшего отношения к психологии, это описывает, из чего сделаны вещи! Другой пример – концерт. Концерт – это событие. Пианино – это схватывание скрипки, в такой-то момент скрипку схватывает фортепьяно, однако существуют и другие моменты… Именно это я утверждаю, когда говорю: такой-то инструмент отвечает такому-то. А что есть страница оркестровки? Это когда я распределяю звуки по инструментам. Оркестровка есть то великолепное распределение, в соответствии с которым в такой-то момент возникнет схватывание какого-нибудь другого схватывания и т. д… Как организовать схватывания? Всегда именно схватывание является схватывающим, но схватывание всегда является и схваченным. Тем не менее это различные аспекты. В том аспекте, в каком схватывание является схваченным, мы назовем его, по Уайтхеду, datum. Итак, datum. Мы скажем, что всякое схватывание схватывает data, то есть предварительные или предсуществующие схватывания. Мы скажем, что data, то есть то, что схвачено в схватывании, представляет собой публичный элемент схватывания. Публичный элемент схватывания… Какое любопытное слово – «публичный»! У меня есть основания подчеркнуть его мимоходом, вы скоро поймете почему. Уайтхед говорит нам, что публичный элемент схватывания – это то, что схватывание схватывает и что само является одним из предыдущих схватываний.
Итак, когда я схватываю, я пока еще не публичен; но когда я cхвачен кем-нибудь из вас, когда я схватываю вас, вы – моя публика (мое публичное). А когда вы схватываете меня, то я ваша публика (ваше публичное). Это предполагает, что схватывающий неотделим от некоего частного элемента. Но всякое схватывание будет, в свою очередь, схвачено, и в этом один из великих уроков Уайтхеда. Нет такого схватывания, которое не будет, в свою очередь схвачено, то есть не существует такого схватывания, которое не будет datum’ом для других грядущих схватываний. Стало быть, я всегда буду публичным для того, кто будет частным для самого себя и опять-таки будет публичным для кого-нибудь еще. Возникнет целая цепочка «частное–публичное». Так что же такое «частный элемент» в противовес публичным data, то есть схваченным схватываниям? Вы припоминаете, что это то, что я называю feeling. Так что же такое feeling, третья часть схватывания, но с сугубо логической точки зрения? Согласно схватывающему субъекту и схваченным данным, feeling есть способ, каким схватывающее улавливает схваченное. Именно это есть частный элемент.
Это довольно странное употребление оппозиции «частное – публичное», и это смешно, особенно потому, что Уайтхед придает ей большую важность в «Процессе и реальности»; это употребление «частного – публичного» производит довольно причудливое впечатление. Как-то раз я готовился к нашим лекциям и вдруг наткнулся на любопытную штуковину в «Рассуждении о метафизике»; я читал его одним глазом, как нечто очень смутное, потому что припоминаю, что я сказал себе: ну ладно, это для того, чтобы вновь вбить мне эти штуки в голову, – и представьте себе, чуть ниже я натыкаюсь на фрагмент из «Рассуждения о метафизике», третий абзац параграфа 14: «А ведь только Бог есть причина этого соответствия их феноменов (среди монад. – Ж.Д.), в противном случае никакой связи между ними не было бы… и все-таки только Бог может сделать так, что то, что является частным для одной (то есть для одной монады. – Ж.Д.), было бы публичным для всех»{ Перевод В.П. Преображенского (Т. 1. Собр. соч. С. 139) не показателен, так как никакой «публичности» там нет, а есть только «общее».}. Потрясающе, сказал я себе: все тот же термин «публичный». И тогда я занялся поисками – и не нашел его у Лейбница в других местах. Неужели он употребил его лишь однажды? Лейбниц имеет в виду, что все монады выражают один и тот же мир, то есть то, что схватывает одна, является схваченным для другой (то есть схватывание одной монады есть datum схватывания для другой монады). Эта история «частное – публичное» представляется мне весьма любопытной: в конце концов, это что-то из области грез…
Что меня интересует в большей степени, так это то, что касается истории feeling’а – того способа, каким схватывающий субъект схватывает схваченное, datum. Уайтхед часто настаивает на возможности «негативного feeling», и вот это меня интересует чрезвычайно: феномены отвращения. Проявления омерзения: я отвергаю некое событие! Не говорите мне об этом! Необходимо было бы изучать негативные feeling’и, вещи, о которых не следует говорить, монады, которые подыхают. Даже сегодня вы найдете монады, которые не выносят, если им говорят, например, о 1936 годе. И это весьма интересные монады. Этот год остался в них как своего рода рана. Вот случай негативного feeling’а.
Это психологический пример, однако существуют события, целиком предназначенные для изгнания других событий; они существуют для того, чтобы перекрыть другое событие, чтобы заставить нас изрыгнуть его. И, в конечном счете, я не хочу слишком уж настаивать на этом, но это напоминает нам кое о чем. Вспомните: прóклятый – это человек, который ненавидит Бога. А как говорил Лейбниц, Бог – это всё. Тот, кто ненавидит Бога, имеет наибольшую ненависть из всех возможных. Он ненавидит всё, так как тот, кто ненавидит Бога, ненавидит всех Божьих тварей – будь то люди, животные или растения. И даже камушки, которые не сделали никому ничего плохого. Он ненавидит всё. Иными словами, он всё изрыгает. Определение прóклятого у Уайтхеда таково: человек негативного feeling’а. Таков третий элемент.
Мы видели, что feeling обеспечивает выполнение схватывания схваченным. Схватывающий же субъект – посредством feeling’а – наполняется тем, что он схватывает, он наполняется данными (data), и из этого наполнения рождается self-enjoyment. Это похоже на своего рода сокращение: именно в той мере, в какой схватывание возвращается к тому, что оно схватывает, оно наполняется самим собой.
[Конец пленки.]
…Вибрационный ряд есть как раз материал datum’а. Я могу сказать, что всякий datum состоит из вибрационного материала. Именно в той мере, в какой схватывание есть сокращение вибрационных элементов, оно схватывает data; это одно и то же, и оно схватывает data, потому что оно сокращает вибрационные элементы, которые обусловливают схватывание – в той самой мере, в какой оно наполняется этой радостью от самого себя. Как писал Сэмюэл Батлер{ См. прим. 1 на с. 274.} в превосходной, очень английской, весьма по-английски философской книге «Жизнь и привычка»{ Написана в 1878 г.}, злак радуется тому, что он злак, но, сокращаясь, и благодаря тому факту, что он сокращается, он радуется земле и влаге, благодаря которым он возник. Это английский вариант, это философская версия изречения «лилия долин поет славу небесам, растения поют славу Господу, растения свидетельствуют».
Лейбниц скажет ровно то же самое. Он скажет то же самое относительно музыки, так как что такое удовольствие в наиболее точном и глубочайшем смысле слова? Удовольствие есть сокращение некоей вибрации. Есть прекрасный текст Лейбница о музыке («словно про истекшей из бессознательного исчисления», исчисления, касающегося вибраций звуковых волн), «Начала природы»{ Имеется в виду работа «Начала природы и благодати, основанные на разуме».}: «Музыка чарует нас, хотя ее красота состоит в сочетаемости чисел и в счете, которого мы не замечаем». Она буквально сокращает число{ Под «числом» здесь имеется в виду некая мистическая сущность бытия.}, которого мы достигаем в нашем высочайшем удовольствии, то есть в удовольствии от бытия самим собой. А что такое мы суть – мы, живые, – в нашем организме, в глубочайших глубинах нашего организма, и что способствует тому, что – даже будучи больными – мы можем обладать этой радостью бытия, если можем найти ее, дойдя как раз до этой точки в нас самих? Что такое эта радость бытия, по сравнению с которой хныканье – ерунда? Эта радость бытия есть не что иное, как то, что мы называем удовольствием, то есть операцией, которая состоит в сокращении элементов, из которых мы состоим. Например, «Я», тело, – что такое «иметь тело»?
Даже если я проявляю предвзятость относительно того, что нам остается сделать, – что такое «иметь тело», если не сокращать эти вибрационные ряды? Что такое «иметь тело», если не сокращать – что? Жалкие или грандиозные вещи, то есть вещи, которые всегда были богами, а именно: сокращать воду, землю, соли, углерод – все то, откуда мы вышли. И мы наполняемся самими собой, возвращаясь к тем рядам, которые сокращаем. Это и есть self-enjoyment. Это то, что мы назовем бессознательным исчислением всякого бытия. В этом смысле мы состоим из чистой музыки. А если мы состоим из чистой музыки, то в этом аспекте перед нами – self-enjoyment. Поэтому мы, возможно, догадываемся, что в истории того, что такое событие, концерт есть все что угодно, но не простая метафора.
А теперь покончим с глупостями об оптимизме Лейбница. Ибо хорошо известно, что существует одна формула, касающаяся Лейбница, которая перешла к потомству, и это идея того, что наш мир – «лучший из возможных миров». Вы знаете, что произошло: однажды Лиссабон испытал знаменитое землетрясение. И это землетрясение – как ни странно – сыграло такую же роль в истории Европы, что и его эквивалент, который я усматриваю только в нацистских концентрационных лагерях. Был поставлен вопрос, эхо которого звучало после войны: как можно продолжать верить в разум, если был Освенцим и определенный тип философии стал невозможным (а как раз он определял историю XIX века)? Весьма любопытно, что в XVIII веке именно лиссабонское землетрясение берет на себя нечто подобное, когда вся Европа сказала себе: как возможно сохранять еще какой-то оптимизм, основанный на вере в Бога? Вы видите, что после Освенцима звучит вопрос: как возможно сохранять хотя бы малейший оптимизм относительно того, что есть человеческий разум? А после лиссабонского землетрясения: как возможно сохранять хотя бы малейшее верование в рациональность божественных истоков мира?
Из-за этого возникнет знаменитый текст Вольтера, направленный против Лейбница, а именно небольшой роман{ Или, как принято называть жанр этого текста по-русски, «повесть».} «Кандид», где действует молодой дурачок, чей мозг обработан профессором философии, и его постигают всевозможные беды: войны, изнасилование невесты, всевозможные страдания, целый каталог всяческих унижений человека; а профессор всегда увещевает Кандида: дескать, все к лучшему в этом лучшем из возможных миров. Этот текст Вольтера – подлинный шедевр. Не надо думать, что Вольтер обманывался, так как величие вольтеровской книги в том, после этой повести проблема добра и зла уже не могла ставиться так, как она ставилась столетие назад. Я полагаю, что наступил конец и блаженным, и прóклятым. Необходимо сказать, что вплоть до Лейбница проблема добра и зла ставилась в терминах блаженных и прóклятых. А начиная с Вольтера в XVIII веке, с 1755 года, она ставилась уже иначе.
Я отнюдь не имею в виду, что Вольтер – это всего лишь литература; «Кандид» относится к имеющим величайшую важность произведениям сразу и литературы, и философии. Что я собираюсь исследовать (и это совершенно не исключает «Кандида»), так это то, что стало с оптимизмом Лейбница.
То был оптимизм, основанный на божественной рациональности – понятии, к которому не следует возвращаться. Но что меня интересует, так это то, что даже с упомянутой точки зрения не следует думать, будто теологи той эпохи говорили себе: ну ладно, о’кей, все, что происходит от зла, – смерть невинных, войны, жестокости – получит по заслугам. Они не были готовы к лиссабонскому землетрясению. И любопытно, что лиссабонское землетрясение произошло в тот момент, когда мысль и мысленный способ рассматривать проблему зла находились уже в процессе изменения. И в этот момент случается землетрясение. Катастрофы и унижения сразу и Бога, и человека были хорошо известны и прежде. И получается, что в истории вокруг лейбницевского оптимизма я настаиваю на следующем: необходимо делать различие между двумя соотносительными оптимизмами, субъективным и объективным. Я имею в виду, что объективный оптимизм таков: этот мир – лучший из возможных миров. Почему? Это отсылает к совозможности. Сюда я больше не вернусь. Это отсылает к объективному понятию совозможности, а именно: существуют ряды сингулярностей, одни из которых, если помните, продлеваются в других, и к тому же существуют точки дивергенции. Итак, будет столько же миров, сколько дивергенций, ведь все миры возможны, но одни из них несовозможны с другими. Итак, Бог избрал один из этих миров. И ответ Лейбница таков: Бог мог избрать только лучший мир. Дальше этого мы не пойдем: лучший из миров. Все возвращается, и не нужно повторять, что этот мир существует, потому что он лучший. Некоторые тексты Лейбница движутся в этом направлении. Или же надо сказать противоположное: этот мир – наилучший, потому что он есть и потому что есть именно он. Но объективный оптимизм, как мне кажется, не содержит своего основания в самом себе; он имеет в виду основание, взятое откуда-нибудь еще, и его может дать только субъективный оптимизм. А что такое субъективный оптимизм? Это и есть self-enjoyment.
Каким бы ни было отторжение мира, существует нечто, чего никто не сможет у вас отнять и благодаря чему вы непобедимы, и прежде всего это не ваш эгоизм и не ваше мелочное удовольствие быть «Я». Это нечто более грандиозное, и как раз его Уайтхед называет self-enjoyment, то есть той разновидностью жизненно важного хора, в котором вы сокращаете элементы, будь то элементы музыки, или химии, вибрационные волны и т. д… Станьте же самими собой, сокращая эти элементы и возвращаясь к этим элементам. Это и будет упомянутый тип радости, радости Становления; именно эту радость Становления вы найдете во всякой радости виталистского типа. Припомните: «Да возрастет эта радость!» – такова формула субъективного оптимизма. Она не означает, что мир станет лучше, что будет меньше мерзостей. Это нечто иное. Речь не идет и о том, что мерзости оставят меня безразличным. Обо всех этих вопросах Лейбниц чудесно высказался в тексте, к которому я вас отсылаю и которым мы уже много раз пользовались: «Исповедание веры философа». Быть довольным миром, говорится в этом тексте, отнюдь не означает лелеять свой эгоизм. Это означает находить в себе силу сопротивляться всему, что отвратительно. Находить в себе силу выносить отвратительное, когда оно вас постигает. Иными словами, self-enjoyment означает: «быть достойным события». Кто может сказать заранее, что я буду достоин события, которое меня постигнет? Каким бы ни было событие, будь оно катастрофой или же любовью, существуют люди, недостойные событий, которые их постигают, даже если это чудесные события. Быть достойным происходящего! Это тема, пронизывающая философию. Если философия на что-то годна, то это как раз такого рода вещи: не поучать, а убеждать нас, что вот это проблема, которую следует лучше знать, чтобы быть достойным того, что вас постигает, будь то великая беда или огромное счастье. Ведь если вам удастся стать достойными того, что вас постигает, то в этот самый момент вы очень хорошо поймете, что неважно в постигающем вас и что в нем важно.
Иными словами, что важно в событии? Это не обязательно то, во что мы веруем. Здесь необходима прямо-таки этика достоинства. Быть достойным того, что нас постигает, – вот он, витализм. Прочтите у Лейбница конец «Исповедания веры философа», вот где это. Впрочем, вы помните, что идея Лейбница такова: слава Богу, что есть про́клятые, так как про́клятые сузили свою область, она свертывается (вы помните: речь о небольшой ясной области, которую они выражали), потому что они отвергли Бога. Коль скоро это так, они отреклись от этой ясной области. Про́клятые попали в крайнее замешательство из-за ненависти к Богу – вот идея, которая кажется мне возвышенной, идея про́клятого: это вызывает зависть к бытию. Они сделали это, а значит, всё из-за них: они оставили неиспользованными фантастические количества виртуальной радости. Так овладеем же этими радостями, этими пустыми, ненаполненными enjoyments. Необходимо их присвоить. И прóклятые впадут в ярость, когда увидят, что их проклятость служит нам и служит еще чему-то. Да-да, проклятье служит увеличению общего количества self-enjoyment множества тех, кто не проклят или еще не проклят.
Это четвертый элемент.
И есть еще пятый элемент. Вы прекрасно чувствуете, что существует необходимый пятый элемент, о котором я скажу очень кратко. Дело в том, что на него притязает все. На него притязает feeling: feeling претендует на то, что существует нечто, соответствующее feeling’у другого в одном и том же схватывающем субъекте. Своего рода соответствие feelings. Соответствие означает принадлежность к одной и той же форме, к одной и той же субъективной форме. Схваченное притязает на другую вещь как мгновенное или непосредственное предъявление. Self-enjoyment предъявляет само себя как аффект чистого становления собой, становления самим собой. Все это имеет в виду своего рода длительность, в какую погружается событие и минимум которой есть точка соединения ближайшего прошлого и совсем близкого будущего. Я говорил вам: в конечном счете, это и есть оптимизм, убежденность, что вот это будет длиться, убежденность, что за биением моего сердца последует другое биение. И эта убежденность закончится тем, что мы скажем, что хотя, возможно, так будет не всегда, но, несмотря ни на что, возникнет другое сердце. Возможно, между self-enjoyments существует связь. Иными словами, то, что я схватываю, и то, что я испытываю, никогда не сводится к непосредственному предъявлению. Оно схватывается схватывающим субъектом, который так или иначе погружается в прошлое и стремится к будущему. Это пятый, или последний, элемент, который Уайтхед называет субъективной целью. Он дает очень хороший пример субъективной цели: то, что мы воспринимаем, мы воспринимаем как немедленное и мгновенное, например: я поворачиваю голову и воспринимаю это окно. Но это окно, которое я воспринимаю, когда поворачиваю голову, я воспринимаю глазами, я дотрагиваюсь до него погружаясь в настоящее даже без ближайшего прошлого.
Заметьте, как возникает единство всего. Ибо что такое орган чувств? Или, если угодно, орган схватывания? Это процесс сокращения – и ничего более. Это поверхность сокращения. Уши суть поверхности сокращения, которые эксплицируют то, что я слышу, и то, чего я не слышу, в звуковой волне. А у кого-то больные уши: он, например, очень хорошо усваивает гласные с «тяжелым» ударением и не воспринимает ударений «острых»: он их не слышит. Мне хотелось бы, чтобы вы сами добавили сюда разного рода вещи. Эта идея Уайтхеда кажется мне очень-очень важной: именно органами, доставшимися мне из прошлого, сколь бы близким оно ни было (пусть это прошлое будет даже ближайшим), я воспринимаю непосредственно присутствующее. Здесь, несомненно, Уайтхед видит основу субъективной цели. Почему я не могу больше продолжать на этом уровне? Потому что вы чувствуете, что в субъективной цели задействованы как непрерывность, так и причинность. Непрерывность и причинность [нрзб.] анализ – как у Лейбница, так и у Уайтхеда, и анализ последнего мы сможем провести лишь в третьей части.
Вкратце подведем итоги: у меня возникает ощущение, что как у Лейбница, так и у Уайтхеда перед нами не только три ряда, обусловливающие событие, но и пять отношений [?] события. Теперь я буду говорить очень бегло. Я сказал бы, на уровне Лейбница, что схватывающий субъект – это поистине эквивалент монады. Монада есть схватывание мира. Datum – это сам мир. Я бы сказал: при необходимости они не соответствуют друг другу, и это даже хорошо Существуют понятия, не имеющие эквивалента в другом понятии. У Лейбница всякая монада схватывает весь мир, но ясно схватывает лишь малую его порцию. Весь мир – публичный, потому что именно его одновременно схватывают другие монады. Моя малая порция – это мое частное схватывание мира. Почему? Потому что, вероятно, ее схватывают другие, но лишь смутно. Существует область мира, которую схватываю именно я, которую я выражаю ясно. А другие выражают ее лишь смутно. Сколь бы ограниченной она ни была, не лишайте меня моего имущества, моего частного имущества. Схватывания суть перцепции. И Лейбниц создаст великолепную теорию малых перцепций. Так что по этому пункту Уайтхеду, строго говоря, нечего добавить. И никто не сможет почти ничего добавить к теории малых бессознательных перцепций у Лейбница. Это воистину неосознанные схватывания. Наконец, вы видели, как self-enjoyment соотносится с лейбницианскими радостью и оптимизмом. И, в конце концов, субъективная цель – это как раз то, что Лейбниц называет аппетицией. В конце, подводя итоги, он спросит: каковы свойства монады? Наиболее глубокие свойства монады суть перцепция и аппетиция. И перцепцию он определит через подробности того, что изменяется; аппетиция же – это внутренний принцип изменения.
Начало «Монадологии»: «Из сейчас сказанного (параграфы 11 и 12. – Ж.Д.), следует, что естественные изменения монад исходят из внутреннего принципа… Но кроме начала изменения необходимо должно существовать многоразличие того, что изменяется, которое производит, так сказать, видовую определенность и разнообразие простых субстанций. Это многоразличие должно обнимать…»{ Лейбниц. Собр. соч. Т. 1. С. 414. Пер. Е.Н. Боброва.}, и Лейбниц назовет это перцепцией и аппетицией{ В переводе Е. Н. Боброва – «стремление».}…
[Конец пленки.]
Хорошо известно, что философия Уайтхеда зиждется на двух основополагающих понятиях, он вводит два определяющих концепта: актуальные случаи и вечные объекты. О вечных объектах мы не сказали ни слова. Я буду очень краток: вы помните, что такое актуальные случаи, – это события. Это события в той мере, в какой они сразу и обусловлены рядами, вибрационными рядами, и составлены схватывающими элементами, элементами схватывания. Вот из этого у нас и получается событие. Любопытно, что «внутри» события нет ничего, что было бы долговечным. Так, вибрации непрестанно исчезают. А теперь я думаю о том, о чем я пока думать не могу, потому что это наша третья часть, – я думаю о теле. Здесь я перескакиваю от Уайтхеда к Лейбницу, но умоляю вас это разрешить, так как мы говорим об общности между ними.
Параграф 71 «Монадологии»: «Нельзя вместе с некоторыми, плохо понявшими мою мысль (он изобличает абсурдные мнения о своей мысли; стало быть, у нас бóльшая необходимость делать это. – Ж.Д.), воображать, будто каждая душа имеет массу, или часть материи, собственно ей присвоенную»{ Там же. С. 425-426.}. Иными словами, когда я буду говорить вам о телах, не следует полагать, говорит нам Лейбниц, что каждая душа имеет принадлежащее ей тело. Почему? «Ведь все тела, подобно рекам, находятся в вечном течении (он знает фразу Гераклита . – Ж.Д.), и части (корпускулы. – Ж.Д.) беспрерывно входят в них и выходят оттуда»{ Там же. С. 426.}. Вибрационные волны – нечто похожее. Но больше того: перцепции монады, подробности того, что ее образует, – все это непрестанно меняется. Вы скажете мне: ладно, все это мы предвидели, так как ввели фактор длительности в качестве последнего компонента, вместе с субъективной целью. Нечто длящееся и производящее синтез настоящего с близким прошлым и близким будущим.
Длительность – что это такое? Она может длиться сто лет, но мы не получим никакого ответа на этот вопрос. Великая пирамида длится. Да, но по отношению к чему? Она длится дольше, чем муха, и это все. Не следует смешивать то, что длится, с подлинной перманентностью – или, если угодно, с чем-то вечным. Я могу сказать, что некая гора длится, но гора есть событие, как и муха, ни больше ни меньше. Эти события, правда, разного масштаба. Надо уловить гору как событие, то есть как нечто вечно складывающееся, не перестающее образовывать складки и утрачивать их, так как она теряет свои молекулы каждое мгновение, но также и обновляет свои молекулы. Итак, гора возобновляет образование собственных складок. Я говорил только о длительности. Но ведь длительность, строго говоря, приносит подобие. Одна волна сменяется другой. Одна вибрация уступает место другой. И что-то заставляет меня сказать: здесь присутствует то же самое.
Проблема «того же самого» совершенно не исчерпывается длительностью, сколь бы долгой та ни была. «То же самое» не есть непрерывное. Что такое проблема «того же самого»? Что заставляет меня говорить: это та же самая волна? Вы скажете: обобщение? Нет, потому что я говорю о «том же самом» даже на уровне индивида. Это тот же самый Пьер, которого я видел вчера; более того, это та же самая нота на концерте. Ну да, это нота «си» Берга. Ну да, это тот же самый цвет. Ну да, это зеленый цвет такого-то художника. Вот все это Уайтхед и назовет вечными объектами. Вечный объект – это то, что я узнаю́ как то же самое сквозь множество событий, или актуальных случаев. Я говорю: это великая пирамида. Ну да, вот великая пирамида! Вы чувствуете, что здесь присутствовало то, чего не объясняли события, актуальные случаи. Как же я могу утверждать, что это та же самая великая пирамида? Ага, это великая пирамида. Ну да, она не сдвинулась! Ага, ты постарел, Пьер! Пьер, ты не постарел, ты такой же. Я узнаю́ тебя. Я не говорю: одна волна сменяется другой; я не говорю: одного Пьера сменяет другой. Я говорю: это ты, Пьер. Я говорю: о великая пирамида, приветствую тебя! Весь этот тип пропозиций необходимо учитывать.
Вечные объекты, а уже не актуальные случаи.
Словарь Уайтхеда очень красив, очень поэтичен. Событие в нем определено как срастание. Как вам угодно: либо срастание рядов, которые обусловливают его, либо срастание схватываний, которые его составляют. Всякое событие есть срастание. Но вечные объекты Уайтхед определяет как вторжения: вечный объект совершает вторжение в событие. И об этом вторжении данного вечного объекта я могу сказать: вот великая пирамида! Это «си»! Ага, «си», и ты его услышал! Ага, это прусская зелень! Эту весьма своеобразную зелень, которая совсем не похожа на прусскую зелень, мы только и встречаем, и ты ее видел. Вот вечный объект, который совершает вторжение и способствует тому, чтобы одни волны сменяют другие, и вы говорите: но ведь это одно и то же! Правда, вы не называете «одной и той же» волну, которая является совершенно той же самой: вы говорите «это одно и то же» об объектах определенного типа, которые называются «вечными объектами», поскольку они вторгаются в события.
Уайтхед не без кокетства может ссылаться на Платона, говоря: ну да, вечные объекты – это примерно то, что Платон называет идеями. Правда, у него вечные объекты – это не что иное, как компоненты события, в той мере, в какой они совершают вторжение в событие.
Что же такое эти вечные объекты? На первый взгляд, Уайтхед различает три их разновидности. Чувственно воспринимаемые: эта зелень! Этот оттенок цвета! Не следует говорить, будто цвет – это тоже вечный объект – здесь дело не просто в обобщении. Эта синева! Эта зелень! Эта нота! Эта группа нот! И действительно, вспомните мой пример. Мы на концерте, мы слушаем музыку Вентейля, и вдруг Шарлю схватывает малую фразу. Знаменитую малую фразу Вентейля. Он схватывает ее и смотрит на нее, он слушает с взволнованным видом.
А играет ее Морель. Это его любовник, и он находится в процессе исполнения музыки. Эта фраза составлена из определенного агрегата нот, весьма индивидуализированных, которые Пруст подробно описывает; она очень хорошо проанализирована. И вот – схватывание малой фразы, но Шарлю тысячу раз слушал ее, несомую другими звуковыми волнами.
Вы видите, что вечный объект есть «то же самое», которое совершает вторжение во множество актуальных случаев. На всех концертах, когда я слышал эту малую фразу или, по крайней мере, когда я ожидаю момента ее появления, я говорю: ну да, это действительно она! Или же говорю: ах, мерзавец, он запорол ее! Итак, не удивляйтесь тому, что Уайтхед употребляет термин feeling: бывают концептуальные feelings. Концептуальное feeling – это отношение схватывания: как происходит так, что оно соотносится yже не с другими схватываниями, а с вечными объектами, которые совершают вторжение в событие? И если существуют концептуальные feelings, то бывают и негативные концептуальные feelings, типа того, которое я только что упомянул. Как можно запороть такое произведение?! Может случиться, что мы скажем, глядя на дирижера: ну, Господи, как можно испортить такой шедевр?! И тогда у меня будет негативное feeling.
Я предполагаю, что вечный объект имеет свой диапазон вариаций, но он совершенно индивидуализирован. Это не какое-то обобщение. Это действительно. Какой это агрегат звуков? Вот пример чувственно воспринимаемого вечного объекта. И вы можете вообразить тысячи и тысячи событий под названием «концерт», тысячу концертов, и всегда в этот момент произойдет вторжение вечного объекта. Итак, это действительно нечто весьма отличающееся от актуальных случаев – вечные объекты с их вторжениями. Иной случай: вечные перцептивные объекты, уже не чувственно воспринимаемые и не ощутимые. Я уже не говорю: это прусская зелень, я говорю: ага, это пиджак цвета прусской зелени. Или же говорю: ага, это скрипка!
И потом, существуют вечные научные объекты: атомы, электроны, треугольники и т. д… Существуют немногочисленные тексты Уайтхеда, посвященные этой теме. Также надо полагать, что существуют вечные объекты feelings. Feelings не гарантируют самотождественности. Необходимо, чтобы существовал вечный объект «гнев». Почему? Или же в этом нет необходимости? Ты гневаешься, или: вот что вызывает его гнев. Пришла пора выпутываться: он назовет свой гнев «своим гневом» – и что это означает? Как будто гнев можно индивидуализировать… На самом деле ненависть и гнев превосходно поддаются индивидуализации. У каждого человека собственный стиль гнева, и, как правило, именно поэтому мы их не узнаем. Существуют бурные холерики, относительно которых мы никогда не знаем, до какой степени они разгневаются, так как присущий им стиль гнева обладает непредсказуемым темпом. Существуют люди, относительно которых мы сразу же видим, когда они разгневаются; существуют более сложные случаи. В чем секрет их гнева? «Твой гнев» – это вечный объект. Имеем ли мы перед собой именно его? Вообразите очень гневную женщину, когда она совершает вторжение в некое множество событий, в разнообразные события. Вообразите мужа очень гневной жены, когда он говорит: «О-ля-ля, сейчас она разойдется!» Очевидно, что здесь гнев этой женщины, а не гнев вообще представляет собой вечный объект. Итак, могут существовать feelings вечных объектов. Дело выглядит так, будто существует великая пирамида – событие, существует великая пирамида – вечный объект, и одна есть срастание, а другая – вторжение. Как определить вечные объекты? Как он, Уайтхед, определяет вечные объекты? Он говорит, что это детерминабельности, или потенциальности. Почему? Потому что на самом деле они актуализуются только в событиях: небольшая фраза Вентейля есть всего лишь потенциальность, которая получает актуальное существование только в актуальном случае, то есть когда она исполняется. В противном случае она – сугубая потенциальность. Тем не менее как потенциальность она обладает в полном смысле индивидуальным существованием. И все это очень важно. Чтобы приучить вас к этому способу мысли, вам необходимо поиграть с ним; «эта зелень!» есть чистая потенциальность. Вообразите, что мир посещают призраки потенциальностей. Так что же это за призраки? Сколько небольших фраз блуждает по миру; они не актуализовались и, возможно, никогда не актуализуются! И каков способ их существования, и есть ли он? Об этом следовало бы погрезить.
Как бы то ни было, этого совершенно недостаточно. Мы не можем определять вечные объекты как простые формы узнавания. Этого недостаточно. Поскольку Уайтхед – прежде всего физик и математик, он не придает узнаванию значения. Электрон не есть форма узнавания, это нечто совсем иное. Опять-таки существует электрон, частица, несомая волной, – и это и есть электрон как актуальный случай. Затем существует электрон как вечный объект. Внезапно у Уайтхеда все удваивается. Перед вами – вечный объект, который вторгается в событие с его компонентами.
Я бы сказал, что существуют три разновидности вечных объектов. Я определю их в духе Лейбница следующим образом. Вечные объекты первого типа: определимые, или доказуемые. Определимые, или доказуемые, объекты суть всё, что вступает в отношения «целое – части». Это интенсивности. Вечные объекты второго типа: реквизиты, или пределы, и отношения между пределами. Всё, что входит в интенсивности. Когда я говорю: «Звук обладает определенной высотой, интенсивностью, тембром», то это три вечных объекта. И, наконец, вечные объекты третьего типа: сингулярности. Вы видите, что индивиды, которые представляют собой весьма особенные сочетания сингулярностей, по-моему, не входят в вечные объекты. Индивиды – это носители сингулярностей и вечных объектов; они сгущают и сокращают их, то есть вечные объекты совершают вторжение в индивидов. Хотя вечные объекты совершенно сингулярны, но это не индивиды. Итак, вот каковы дела.
Вопрос: Если мы возьмем случай с зеленым костюмом и, например, зелень этого костюма, то, с одной стороны, перед нами потенциальность, а с другой – ее осуществление. В случае с записью какой-либо музыкальной пьесы перед нами, с одной стороны, – и я хотел бы узнать твое мнение об этом, потому что это меня интересует, – музыкальное произведение, замышленное композитором в голове, – и это стадия первая, во-вторых, запись партитуры музыки, то есть произведение написанное, но не сыгранное, и, в-третьих, произведение, сыгранное оркестром, то есть осуществленное и слышимое. Возникает ощущение, что здесь три области, а значит, множество областей.
Жиль Делёз: Твое замечание совершенно справедливо. В таком процессе вторжения, если следовать Уайтхеду, необходимо выделять несколько уровней. Если мы говорим, что потенциальность актуализуется, то актуализация с необходимостью не есть гомогенный процесс. Актуализующаяся вещь актуализуется на последовательных уровнях, и иногда для того, чтобы замкнуть такой уровень. Возьмем пример с музыкальной пьесой: с чего она начинается? Где ее ядро до того, как начнет существовать сама пьеса? Я бы сказал: знаете ли, в музыке в основе всего лежит ритурнель. Основа есть малый ритурнель. Меня спросят: где же этот малый ритурнель? Он может носиться в воздухе. Он уже не является человеческим, он может быть космическим; этот малый ритурнель может находиться вон там, в какой-нибудь отдаленной галактике. Малый ритурнель – все начинается с него. Предположим, этот малый ритурнель был уловлен. У меня больше нет памяти, и это очень любопытно: всякий раз, когда я хочу точно вспомнить какое-нибудь имя собственное, речь идет… ах, возраст – это ужасно! «Песнь о земле», Малер. Его уловил Малер. Я вспомнил, потому что он действительно ловец ритурнелей, но, в конце концов, не он один. Вот его схватывание вечного объекта – а вы видите, что схватывание больше не есть схватывание схватывания, оно есть схватывание вечного объекта. Когда Малер схватывает малый ритурнель – это не то же самое, когда его схватываете вы или я. Потому что – не говоря уже о его личном гении, – он схватывает его, уже пользуясь прямо-таки технической арматурой; во всяком случае, некоторые из вас могут уловить ее, а вот я – нет. Уже эти схватывания различаются между собой. Популярная мелодия в венгерском кафе за углом наряду с Бартоком; очевидно, что для незначительной венгерской мелодии схватывание Бартока будет иным. Но малый ритурнель – он может быть поначалу не звучащим, а музыкант его улавливает как звучащий ритурнель. Например, движение: вы видите двух детей, которые шагают определенным образом, – им нет необходимости петь для того, чтобы получился малый ритурнель.
Вечный объект, если вы попытаетесь определить его, и будет малый ритурнель. Схватывание – это первый уровень актуализации. Схватывание не схватывания, а вечного объекта. Вы видите, каждый раз это раздваивается: мое схватывание малого ритурнеля отсылает к другим схватываниям; это выглядит как актуальный случай. И, с другой стороны, оно является схватыванием вечного объекта, малого ритурнеля, который разносится по воздуху. Но если вы меня спросите, откуда он взялся, то я вам не смогу ответить. Никто не жаждет спрашивать это! Существуют философии, где есть основания задаваться этим вопросом, но не здесь: тут нет ни малейшего основания спрашивать, откуда берется малый ритурнель. На это нам отвечают оскорблениями, ударом палки. Но удар палки – это тоже малый ритурнель.
Лекция 8
(12.05.1987)
Итак, работаем. Мы перешли к теме, где могли бы различать нечто вроде четырех главных критериев субстанции у Лейбница. Критерии субстанции – это означает средства назначения того, что такое субстанция, и такими критериями могли бы быть: логический критерий, эпистемологический критерий, физический, или физикалистский, критерий и психологический критерий. Однако уже здесь нас подстерегают разные виды трудностей. Необходимо их представить и в то же время чуть-чуть продвинуться. Эти трудности заключаются не только в том, что одни из этих критериев отсылают к другим и даже «вставляются» в другие. Но дело в том (и это вторая трудность), что всегда примешивается некое обращение к телу. А ведь это для нас удивительно. Почему? Потому что мы пока совсем не испытывали необходимости говорить о теле. Вы помните? Мы ощущали необходимость говорить о событиях и монадах, причем монады содержат события на правах предикатов. Но монады – это что? Это души или дýхи. А зачем монадам иметь тела? Мы даже не приступали к рассмотрению этого вопроса. Откуда это берется – иметь тело? И что это означает – иметь тело? Мы показали, что монады имеют точки зрения, – ну да. И мы долго застревали на идее точки зрения монады и того, что монада неотделима от некоей точки зрения. И возможно, мы чувствуем, что иметь тело и иметь точку зрения – это вещи, не безразличные друг другу. Но чего мы совсем не видим, так это в чем это все состоит, и, вероятно, иметь тело означает нечто иное, нежели иметь точку зрения, даже если две эти вещи взаимосвязаны. И наконец, все эти критерии задействуют не только понятия, которые можно было бы назвать телесными, но и новые для нас понятия. И тут я говорю: необходимо распутать. Это надо распутать, потому что это отнюдь не область, свободная от комментариев; существует много комментаторов Лейбница, и даже величайших комментаторов. И потом, когда мы читаем, мы чувствуем необходимость распутать (и это верно для всех философов, но, может быть, это особенно верно для Лейбница): мы, может быть, не сможем даже уловить, что имеют в виду эти комментаторы, если не попытаемся, в свою очередь, распутать понятия, сколь бы причудливыми они ни представлялись. В точке, где мы находимся, причудливость Лейбница удваивается. И вот тут я предложил бы вам следующее: если вы видите нечто совершенно иное, если вы видите интересного комментатора, не признавайте за ним обязательной правоты, но и за мной не признавайте обязательной правоты. Мы можем сказать, что относительно каждого из нас прав тот, кто позволит вам узнать себя в своих идеях. А если у вас другая идея, которая годится для того, чтобы узнать себя в ней, то она и будет хорошей. Как говорится, существуют вещи, о которых невозможно сказать, но существует и много вещей, о которых сказать можно.
Я говорил вам, что мы знаем логический критерий субстанции, и мы с ним «слегка» попрощались в прошлый раз, но попрощались мы с ним так, что он отбросил нас к проблеме тела. С этого я и хотел бы начать, занявшись этой новой проблемой тела. Одна из прекраснейших фраз Лейбница такова: «Я думал, что вхожу в гавань, а очутился как бы брошенным в открытое море»{ Из «Новой системы природы и общения между субстанциями, а также о связи, существующей между душою и телом». – Лейбниц. Собр. соч. Т. 1. С. 277. Пер. Н.А. Иванцова.}. Что может быть прекраснее? Это само описание философской работы: мы думали, что приплыли, а оказалось, нас вновь бросили в открытое море.
У меня создается впечатление, что «иметь тело» и требование иметь тело осуществляют как раз эту «брошенность в открытое море». Но ведь то, что мы видели в прошлый раз относительно логического критерия субстанции, – подвожу итог – кажется мне относительно ясным.
Сегодня больше, чем когда-либо, прерывайте меня, если встретитесь с чем-нибудь смутным. Я говорил вам, что у Декарта это относительно просто: логическим критерием субстанции служит простота, а это означает, что субстанция определяется сущностным атрибутом, от которого она отличается лишь разумным различием: это либо тело и протяженность, либо дух и мысль. На первый взгляд, здесь перед нами очень хороший пример понятия: до какой степени необходимо быть чувствительным к оттенкам концептов. Но, как я говорил вам, Лейбниц никогда не будет определять субстанцию через простоту.
Хотя он и употребит выражение «простая субстанция», но с запозданием, и употребит он это выражение, лишь когда речь пойдет о том, чтобы отличать простые субстанции, или монады, от других вещей, которые он назовет сложными субстанциями. В этот-то момент он не скажет «субстанция есть простота», он скажет: существуют простые субстанции и субстанции сложные. Но Лейбниц никогда не определяет субстанцию через простоту. Зато он определяет всякую субстанцию через единство. А мы фактически видели, что между простотой и единством существует основополагающее различие. Ведь единство – это активное единство, когда нечто движется или изменяется; единство есть внутреннее единство движения, или же оно представляет собой активное единство изменения. Мы уже чувствуем, что два этих определения не сводятся к одному и тому же. Движение имеет в виду причину движения. Эта причина есть тело. Что же произойдет с этим телом, если до сих пор мы говорили лишь о душах или духах, называемых монадами? Душа или дух претерпевают изменения, ну да. Активное единство внутреннего для монады изменения не доставляет нам трудностей. Но попытка определения единства движения, с необходимостью внешнего для монады, так как оно касается тела, трудности нам доставляет. Последний раз мы их скрыли, потому что еще не дошли до этой темы, но следовало бы вновь обратиться к этим трудностям. Чем это может быть? Все, что мы можем сказать: перед нами качественное изменение, внутреннее по отношению к монаде, оно глубже движения; стало быть, если нам удастся понять, что есть движение, мы догадаемся, что причиной его является качественное изменение, внутреннее для монады.
Откуда же берутся это тело и эта причина? Из активного единства внутреннего изменения. Это и есть спонтанность. А если внутреннее изменение – предикат монады, то это потому, что оно происходит в монаде. Необходимо сказать, что в то же время существует и спонтанность. Что активное единство изменения означает двойную спонтанность: как спонтанность изменяющейся субстанции, так и спонтанность изменения, то есть спонтанность предиката. Мы видели, в чем состояла спонтанность предиката: она была его свойством выйти из момента a в момент b, необходимость для момента a порождать момент b. А значит, между Лейбницем и Декартом развивалась оппозиция. Вы, конечно, уяснили: монада извлекает все из собственных глубин благодаря спонтанности. Это выражение вы находите постоянно. А я напоминаю вам о полемике с Бейлем, которая кажется нам очень важной в этом отношении: душа собаки достает из собственной глубины боль, которую собака испытывает, когда ее тело (опять нас здесь сопровождает ее тело) получает удар палкой. И великолепным ответом Лейбница было: не рассматривайте абстракции, дело совсем не в том, что душа собаки извлекает из своей глубины боль, внезапно к ней приходящую, но дело в том, что душа собаки извлекает из своей глубины боль, которая интегрирует тысячи малых перцепций в душе, – это и определяло ее беспокойство. И я здесь говорю, хорошенько взвешивая свои слова: я действительно полагаю, что Лейбниц – это создатель психологии животных. Психология животных начинается с момента, когда вы не только верите в душу животных, но когда вы определяете ситуацию с этой душой как ситуацию «быть как на иголках». Когда вы прогуливаетесь в сельской местности, надо сыграть в следующую игру (впрочем, можно и в городе): вообразите, что вы животное. Что означает быть животным? Это означает, что вы «как на иголках» будете ждать того, что может внезапно произойти.
Я бы сказал: это то, что Лейбниц в «Новых опытах о человеческом разумении» называет беспокойством, непрерывным беспокойством. Какое животное ест в состоянии покоя? Покой оно ощущать может, но покой животного – это интеграция некоего вечного беспокойства: кто стащит у меня кусок не знаю чего? Посмотрите на беспокойство гиены, на беспокойство грифа. Посмотрите, как животное отдыхает. До какой степени это придает Лейбницу правоту! Лейбниц – первый, кто это увидел, кто сказал: очевидно, у животных есть душа! Почему же он говорит это против Декарта? Дело не в том, что мы можем считать животных машинами: для тех, кто хотя бы немного знаком с Декартом, существует знаменитая теория животных-машин. Мы всегда можем к ней обратиться, это одна из «моделей для сборки». Но чего машине будет недоставать?
Недоставать ей будет как раз животного беспокойства, а именно: мы сможем с помощью искусственных моделей реконструировать все, что хотим от животного, мы заставим робота есть и т. д… Мы сможем также наделить его признаками беспокойства – да-да, в этот момент получается, что определенным образом животное есть нечто иное, нежели робот. Вы можете сыграть в это в сельской местности, это удобнее, чем в городе: вы попадаете на лужайку и говорите себе довольно решительно: я кролик (или кто-нибудь еще, если вы не любите кроликов), и вы пытаетесь слегка вообразить, что такое жизнь этих животных. Ведь их не достигают ружейные выстрелы, а это наделяет Лейбница серьезной правотой: «просто так» из ружья в них не попадешь. Боль от ружейного выстрела – но ведь она приходит в буквальном смысле внезапно, словно интегрируя тысячи малых «позывов» из окружающей среды, а именно: смутная малая перцепция того, что охота началась. Они слышали выстрелы из ружья, более того, они слышали возглас охотников: «Эй, Тото, ты его видел?» Существует особый голос охоты и охотников. Звери видели, как специфически эти люди передвигаются; звери «как на иголках». Лейбниц предлагает нам здесь, отвечая Бейлю, следующую идею: когда я говорю, что душа спонтанно производит собственную боль, я имею в виду попросту следующее: она не получает впечатление боли как чего-то внезапно приходящего извне, когда боль ничто не подготавливает. Впечатление боли мгновенно интегрирует тысячи малых перцепций, которые уже присутствовали и могли бы остаться неинтегрированными. В этот момент кролик доедает свою морковку, то есть его удовольствие прекращается; впрочем, вы видите, как происходит на дне души эта разновидность изменения в монаде, будь то человека или животного. Значит, существует средство наделить концепт маньеризма в философии известной непротиворечивостью. А я вам говорил: по-моему, Лейбниц был поистине первым великим философом, который затронул эту тему дна души. Романтики, может быть, напоминают Лейбница, но до них нам едва ли кто-нибудь говорил о дне души. Или же когда нам о нем говорили, то это было нечто вроде образа. Тогда как в статус души входит то, что «она извлекает все из собственной глубины», это и есть монада. Стало быть, пара маньеристских понятий есть «дно – спонтанность», в противовес классической паре Декарта «форма – сущность». Впрочем, не много продолжим. Первый критерий есть присущность, вы ее узнали, мы с ней столько возились раньше. Присущность, то есть предикаты, располагаются в субъекте, или, если угодно, каждая монада выражает мир, или мир находится в монаде. Вы припоминаете, это инклюзия. У нас есть конечное подтверждение этому, но обратите внимание, что, как правило, предикацию у Лейбница путали с атрибуцией, а они совершенно противоположны друг другу, так как суждение атрибуции есть отношение «атрибут – субстанция» в той мере, в какой атрибут обусловливает сущность субстанции. Присущность – совсем иное: это включение предиката в субстанцию в той мере, в какой субстанция извлекает предикаты и последовательность предикатов из собственных глубин. Предикат не есть атрибут, это событие. Итак, я предполагаю, что все это ясно. Вот он, логический критерий субстанции, который противопоставлен у Лейбница классическому критерию субстанции в том виде, в каком вы находите его у Декарта: субстанция – сущностный атрибут. Воспользуюсь этим, чтобы немного продвинуться вперед. Коль скоро это так, то даже на данном уровне я определяю субстанцию через включение: это то, что включает совокупность предикатов как событий или совокупность предикатов как изменений. Итак, субстанция есть активный источник изменения, она – активное единство изменения. Изменение противостоит в маньеризме неподвижному и жесткому атрибуту субстанции. Здесь же, наоборот, живой источник изменения. Вот вопрос, который я ставлю, и ставлю я его поначалу на латыни, чтобы лучше убедить вас, что все на этом не останавливается, то есть что не все что угодно представляет собой percipi субстанции монады. Percipi – что это означает? Это означает воспринимаемое бытие. Percipere означает воспринимать, percipi – быть воспринятым. Монада выражает вселенную и включает ее, каждая монада включает в себя вселенную. Ее предикаты суть изменения, или же от одного предиката к другому происходят изменения. Перцепции, скажет нам Лейбниц, суть действия субстанции. Уточняю это, потому что впоследствии это будет важным для нас. Мы ведь считали, будто легче сказать, что перцепции – это то, что получала субстанция? Вы видите теперь, что мы не можем сказать этого, – ведь сказать это означает ничего не понять. Мы не можем даже сказать, что́ именно субстанция получает: ведь она не получает ничего. Все и так в ней. Лейбниц – это последний философ, который может сказать, что субстанция получает перцепции, что она – активное единство.
Вот один из текстов Лейбница на эту тему: «Действие, свойственное душе, есть восприятие, а единство того, что воспринимает (то есть субстанции. – Ж.Д.), происходит от связи восприятий, благодаря которой последующие восприятия вытекают из предыдущих». Мы видели, согласно каким законам последующие восприятия вытекают из предыдущих. Необходимо, чтобы предыдущие восприятия могли породить последующие. Мы видели, что боли у собаки не было; и даже удовольствие, которое собака испытывала от еды, не могло породить боль, каковую ей предстояло испытать, получив удар палкой. Зато малые перцепции, предшествовавшие ударам палкой, порождают боль, которую собаке придется испытать. Итак, почему бы не сказать: не существует ни вещей, ни тел. Существует лишь монада и ее перцепции. Мир – это то, что перципирует монада, то есть то, что находится в монаде. Стало быть, мир есть исключительно «бытие, воспринимаемое монадой»; это то, что воспринимает монада. А тело, мое тело – это область того, что воспринимается монадой, моей монадой. И я мог бы сказать: бытие – это либо бытие монады, либо бытие, воспринимаемое монадой. «Быть» означает «быть воспринимаемым». Это то, что можно было бы назвать идеалистической системой. Все нас к ней подталкивает, потому что вы помните: мир не существует за пределами монад, его выражающих или включающих. Необходимо этого придерживаться, необходимо сюда возвращаться. Вы помните нашу схему: мир – это виртуальный горизонт всех монад , он не существует за пределами такой-то, такой-то, и такой-то монады; количество монад, которые он включает, равно x. Именно это во все времена называется идеализмом.
Коль скоро это так, вещей не существует, существуют перцепции. Не существует ударов палкой, существуют боли. Именно об этом Бейль очень хорошо написал Лейбницу: ну почему же вам так необходимо вмешательство удара палкой? Не будь палки, не будь удара палкой, не будь тела собаки, что изменилось бы?
[Конец пленки.]
Бог может все, а раз так, то зачем Бог сотворил тела, которые очень утомляют, тогда как он мог бы создать только духи, души? Ничего бы не изменилось: собака испытывала бы удовольствие, она испытывала бы всевозможные малые беспокойства, о которых мы говорили, а затем боль интегрировала бы эти малые беспокойства. Все это происходит в душе, стало быть, нет ни малейшей необходимости, чтобы существовала реальная палка. Имелась бы перцепция палки, и палка не существовала бы помимо перцепции палки. Имелась бы перцепция пищи, и пища не существовала бы помимо перцепции пищи. Esse было бы для тела или предмета percipi, то есть «быть воспринимаемым».
Вы понимаете. Я полагал, что добрался до гавани. Монады объясняют тотальность, они объясняют все, что угодно. Достаточно сказать: нет ничего, кроме монад. И все-таки Лейбниц никогда не думал этого говорить, никогда. И это ставит проблему: верно ли, что он мог сказать это? Более того, это сказал другой, что усложняет дело. И это Беркли. Я показываю Беркли в облегченном виде, хотя он знаменит тем, что выдвинул формулу esse est percipi, и тем, что основал идеализм нового типа, согласно которому существуют только души, или только дух. А в начале своей философии он показывает всю свою хватку, утверждая: существуют только ирландцы. Беркли – ирландец, я нахожу это очень важным, потому прежде всего, что это образует связь с Беккетом, который превосходно знал Беркли. Маленькое чудо, которое Беккет сотворил в кино (sic! – Примеч. пер.), прошло под знаком esse est percipi, вот ответ Беккета Беркли; но Беркли проводит время, утверждая: все вы – ирландцы, по крайней мере в своих первых произведениях. И говорит он это не из коварства, он имеет в виду, что существует такая штука в том, что он говорит, которую может понять только ирландец. И вот это меня очень интересует, потому что ставит проблему отношений философа и философии с национальностями. Он видит себя создающим философию для ирландцев, ради использования ирландцами. Ладно, esse est percipi. Именно это он представляет как двойную трансформацию: вещей в идеи и идей в вещи. Или, если вы предпочитаете выразить вещи в чувственных впечатлениях, а чувственные впечатления – в вещах, то не существует ничего, кроме чувственных впечатлений. Что такое стол? Это его percipi, его воспринимаемое бытие. Неважно, что Беркли имеет в виду, это не наше дело. Но что наше дело – так это то, что первые книги Беркли появляются около 1714 года и что Лейбниц, сохраняя колоссальную любознательность, читает их. Что очень интересно, так это его реакция на чтение; я полагаю, это чтение было весьма стремительным. У нас есть пометки Лейбница на книге Беркли, который в ту пору был очень молодой философ. Первая реакция Лейбница нехороша, он говорит: это экстравагантный ирландец! Он действительно экстравагантен; этот молодой человек говорит такие вещи, из-за которых, как он считает, он будет казаться интересным. Лейбниц говорит: esse est percipit – это несерьезно. А затем, что более интересно, в своих заметках он отмечает, что это ему вполне подходит и что он тоже мог бы так сказать. Я не говорю, что он сказал это; он всего лишь мог это сказать. Но Лейбниц как раз этого не говорит и не скажет. Мой первый вопрос таков: почему он этого не скажет, притом что первый критерий субстанции позволил бы ему сказать это?
Итак, вот на чем я заканчиваю анализ первого критерия субстанции; необходимо, чтобы это было очень упорядоченным, дабы вы согласились с тем, насколько все сложно. Я заканчиваю: мы выброшены в открытое море. Почему же, рассмотрев этот первый критерий, Лейбниц не просыпается – почему, несмотря на свою старость, он не просыпается берклианцем? То есть не говорит, что существуют лишь монады и их перцепции, так что тела и вещи суть простые percipis. Существуют только души и духи, или их перцепции. Здесь я хотел бы, чтобы вы припомнили кое-что: каждая монада, вы или я, выражает весь мир. Заметьте, что Беркли никогда не сказал бы этого, и вы должны предощутить, почему Беркли никогда этого не сказал бы. Мы выражаем весь мир до бесконечности, каждый из нас выражает его, и мир не существует за пределами всех нас, его выражающих. Но вы помните: у каждого из нас есть небольшая привилегированная область, та, которую Лейбниц называет отделом, зоной, кварталом. Что это такое? Это та часть мира, которую мы выражаем ясно, или, как говорит Лейбниц более таинственно, отчетливо, или, как говорит Лейбниц более обобщенно, которую мы выражаем особенно. Здесь очень интересно изучить лексикон: «особенно», «ясно», «отчетливо», «малая часть мира», то есть законченная порция: «наш отдел», «наш квартал», и только что я вам говорил: ну да, вы обладаете небольшой зоной, например датами, когда вы живете, средой, в какой вы эволюционируете, – это и есть ясная порция того, что вы выражаете. И точно так же, как вы выражаете бесконечность мира, вы выражаете ясно лишь его ограниченную часть. Эта ограниченная часть есть ваша бренность или – если хотите – ваша ограниченность. Почему это ваша ограниченность? Потому что именно это отличает вас от Бога. Если Бог – монада, то дело в том, что, с одной стороны, Он выражает все миры, даже несовозможные между собой, а с другой стороны, в мире, который Он избирает, Он ясно и отчетливо выражает бесконечную тотальность этого мира. Бог обладает всеми областями мира сразу. И все-таки то, что определяет ограниченность такой монады, как вы и я, конечность монады, есть тот факт, что ясно она выражает лишь совсем малую часть мира.
Попытаемся растолковать. Что же я выражаю в мире ясно? Возможно, это то, что… Вы помните, я на этом часто настаивал: предикат у Лейбница, то, что содержится в субстанции, этот предикат менее всего является атрибутом, ибо фактически он всегда – событие, или отношение. Событие – это особо сложное отношение, мы это видели, когда анализировали Уайтхеда в его перекличках с Лейбницем. Но и предикат – всегда отношение. Вот поэтому-то он и не атрибут, который всегда есть некое качество. А вот что чрезвычайно пагубно, так это считать, будто суждение инклюзии у Лейбница – это суждение атрибуции, потому что тогда мы уже совершенно не поймем, что такое предикат для Лейбница, а ведь сказано, что предикат есть отношение и может быть только отношением. Что я выражаю ясно? Существует формулировка, которая подводит итог всему, и мы собираемся использовать ее; в то время, как она должна была бы нам все упростить, она все усложняет. Ничего не поделаешь, мы будем брошены в открытое море. Разумеется, довольно легко и действительно точно было бы сказать: зона, которую я выражаю ясно, – та, что соприкасается с моим телом. То в мире, что я выражаю ясно, есть то, что имеет отношение к моему телу. Мы вновь находим здесь идею отношения. Ясный предикат, включенный в монаду, или совокупность ясных предикатов, которые определяют мой отдел, мою зону, мой квартал, – это множество событий, проходящих сквозь мое тело. Это то, что я обязан выразить особенным образом. Создается впечатление, что сказать это было бы несложно. Но почему Лейбниц этого не сказал, почему он даже не начинал говорить это? Почему в письмах к Арно он пишет: «То, что монада выражает ясно, есть то, что имеет отношение к ее телу»? Вот как: монада имеет тело. Например, монада «Цезарь»: она выражает ясно всевозможные вещи, но вглядитесь хорошенько: все, что она выражает, имеет отношение к ее телу. И так же монада «Адам»: все, что она выражает, все, что она выражает ясно (быть первым человеком, быть в саду, иметь жену, сотворенную из его ребра), все это – то, что имеет отношение к телу этой монады. И вы не найдете в ясных выражениях ничего, у чего не было бы отношения к вашему телу. Это не означает, что то, что вы выражаете ясно, суть феномены вашего тела. Тут дело усложняется.
Здесь-то мы и пускаемся вплавь. Ибо мне представляется неоспоримым: то, что я выражаю ясно, есть то, что имеет отношение к моему телу. Но то, что происходит в моем теле, само мое тело, его я выражаю отнюдь не ясно. Я не могу сказать, что я ясно выражаю движения моей крови, и более того: если и есть нечто смутное для меня, то это мое тело. Итак: такая смутная вещь, и в то же время то, с чем вступает в отношения нечто, что я ясно воспринимаю. Почувствуйте, что статус тела оказывается забавным. Особенно когда зародыш ответа состоит в том, что факт «иметь тело» должен иметь отношение к малым перцепциям. Однако малые перцепции – темны и смутны. То, что я выражаю ясно, связано с интеграцией малых перцепций. И тогда я извлекаю нечто ясное из всех этих темных глубин. Извлечь нечто ясное из темных глубин – очень забавная операция. У Декарта этого никогда не происходит. Это сугубое лейбницианство: ясное – это то, что извлекается из темных глубин. Более того, не существует такой ясности, которая не извлекалась бы из темных глубин. Мы говорили, что это барочная концепция света, в противовес концепции классической. Все это очень логично. Ссылка на тело избавит нас от всевозможных проблем, но вот что я хочу сказать: смотрите, в каком порядке мы можем на него ссылаться. Вот мой вопрос: могу ли я сказать «моя монада», «мой дух»? Я выражаю особенным образом (или ясно) некую область мира, потому что я имею тело и потому что это – именно та область, которая касается моего тела или вступает в отношения с моим телом. Потому ли, что я имею тело, я выражаю ясно часть мира, имеющую отношение к этому телу? Радикальный ответ: нет, невозможно! Почему невозможно? Потому что Лейбниц не был бы Лейбницем, мы говорили бы тогда не о Лейбнице, мы говорили бы о ком-нибудь другом. Мы говорили бы о философии, которая издавна объясняла бы нам, что такое тело. А, как мы видели, здесь путь прямо противоположный. Необходимо сказать что? Ладно, у меня нет выбора, но я в значительной степени предпочитаю вторую пропозицию первой, она разумнее. Необходимо сказать: у меня есть тело, потому что моя душа ясно выражает небольшую область мира. Это – единственное, что я могу сказать.
То, что у меня есть некая область, то есть то, что моя душа выражает ясно небольшую зону мира, – достаточное основание для того, чтобы иметь тело. И получается, что я мог бы сказать в этот момент: да, то, что я выражаю ясно, есть то, что имеет отношение к моему телу, на весьма простом основании: дело в том, что мое тело выводится из ясной области, которую я выражаю. Иными словами, то, что я должен осуществить, есть генезис тела. Этот генезис тела запрещает мне начинать с тела. Вы можете спросить: всегда ли я имею тело? Да, я имею тело всегда; вы, может быть, помните: перед тем как родиться, я имел тело, после моей смерти я буду иметь тело. Вопрос не в том, имею ли я тело всегда, вопрос таков: что из чего проистекает? И порядок для меня незыблем. Почему я выражаю небольшую ясную зону, и в то же время выражаю весь мир, но смутно? Почему я выражаю ясно небольшую область? Мы видели, что ответить: «Потому что я имею тело» – невозможно. Наоборот, потому что я выражаю ясно небольшую область, я имею тело. Генезис тела. Отсюда необходимость вопроса: почему ты выражаешь небольшую ясную область, если это не потому, что ты имеешь тело, а наоборот, потому… тьфу, черт! Наоборот… наконец вы поняли!
Ответ мы видели! Мы видели, что каждая монада построена вокруг определенного количества сингулярностей, продлеваемых в другие сингулярности, вплоть до соседства с ними. Каждая монада построена вокруг определенного количества основных сингулярностей. Я построен вокруг малого количества привилегированных сингулярностей. Сингулярности Адама таковы: быть первым человеком, быть в саду, иметь женщину, рожденную из ребра; поищите другие… Душа каждого конденсируется вокруг ограниченного множества сингулярностей. Почему он выражает неограниченный мир? Потому что эти сингулярности продлеваются до соседства со всеми другими сингулярностями, но каждый из нас построен вокруг небольшого количества сингулярностей. Именно потому, что каждый из нас построен вокруг небольшого количества сингулярностей… Здесь я немного продвигаюсь вперед: ответ никогда не бывает таким, как у Лейбница, но, как мне кажется, его подсказывают тексты, подсказывают столь же выразительно, сколь и просто: если он его дал, то он дал его в текстах, которые до нас не дошли. Однако они все-таки существуют, и их когда-нибудь найдут – это будет обязательно; другие ответы, как мне кажется, невозможны. И все-таки осталось ждать недолго. Мне вообще не следовало этого говорить…
Вы видите генезис: первая пропозиция – разумеется, каждая монада выражает весь мир, подобно каждому индивиду. Что такое быть индивидом? Это означает концентрировать; концентрация – слово, которое Лейбниц употребляет: концентрация ограниченного количества сингулярностей; и все-таки я выражаю весь мир, потому что эти сингулярности опять-таки продлеваемы до соседства с другими сингулярностями. Итак, первая пропозиция: я построен по соседству с определенным количеством сингулярностей, или с детерминированным множеством сингулярностей.
Второе основание: следовательно, это происходит по причине, в силу которой я выражаю определенную часть мира, ту, которая соединяет эти сингулярности, формирующие мир, который избрал Бог, но я делаю свой квартал, или свою зону, свою порцию мира ограниченными моими основополагающими сингулярностями.
Третья пропозиция: я имею тело, потому что я выражаю привилегированную область, так что я мог бы сказать: моя привилегированная область – это то, что имеет отношение к моему телу.
[Конец пленки.]
Мы исходили из монады. Пока что монада для нас – это дух, который выражает весь мир на основаниях разума. Это вы или мы. Мы встречали и животных. Но мы не знаем, что это означает; мы встречали их просто так, потому что давали им вмешиваться. Мы не знаем, что это означает. И вот пример, столь любимый Лейбницем, он вам понравится: радуга, и все такое. Животные и феномены типа света, радуги – вы чувствуете, что они должны быть частью (и ваш вопрос весьма справедлив) генезиса. Они должны внезапно появиться в какой-нибудь момент, но в какой? Мы не знаем, мы еще не знаем, в какой момент. Второй критерий субстанции: субстанция всегда воспринималась как монада, представленная как дух разумного существа. Мы только что видели, что – благодаря первому критерию – монада как дух разумного существа должна иметь тело. А почему она должна иметь тело? Она должна иметь тело, потому что она выражает некую привилегированную область, потому что в ее тотальном выражении присутствует некая привилегированная область.
Второй критерий – эпистемологический. Почему я называю этот критерий эпистемологическим? Мы видели: потому что я настаивал на том, что логика Лейбница состоит в следующем: определение вещи зависит от ее реквизитов. А что такое реквизиты вещи? Это уже нечто очень новое: это конститутивные условия существования вещи. Необходимо отличать конститутивные условия существования вещи от составляющих ее частей. Реквизиты не являются составляющими частями, это условия, каким вещь должна подчиняться, чтобы быть тем, что она есть. Мы уже видели, что и по этому вопросу Лейбниц сцепился с Декартом: ведь у Декарта второй критерий субстанции состоит в том, что одна вещь мыслится без вмешательства элементов другой. С точки зрения Декарта, две вещи являются реально различными, то есть мыслимыми как реально различные, – но мы видели, что в мыслях о реальном различии речь всегда шла об одной и той же вещи, хотя две вещи, мыслимые как реально различные, были отделимы. Декарт мог бы добавить: «то, что отделимо и отделено». Но это – совсем иное. Если что-либо для Декарта является отделимым и отделенным, то это потому, что в противном случае Бог был бы обманщиком. Он заставил бы нас мыслить вещи как отделенные, но не отделил бы их друг от друга. Стало быть, Он лгал бы нам.
Лейбниц во второй раз отвечает: нет! Он говорит: чего Декарт не увидел, так это того, что две вещи могут быть реально различными, то есть мыслимыми как реально различные, однако иметь одни и те же реквизиты, то есть одни и те же конституирующие условия возникновения. Но ведь две вещи, имеющие одни и те же реквизиты, могут быть реально различными, и все-таки они неотделимы. Вот великая идея Лейбница: в мире нет ничего отделимого. Пример: монады. Они являются реально различными, одну можно помыслить без другой, но при этом они неотделимы друг от друга. Почему? Потому что у них одни и те же реквизиты. Какие реквизиты? Общий мир, который они выражают. Каждый со своей точки зрения выражает один и тот же мир; монады реально различны, потому что реально различны их точки зрения. Вы можете помыслить монаду «Цезарь», совершенно не мысля о монаде «Александр»; тем не менее они неотделимы, у них одни и те же реквизиты: они выражают один и тот же мир. Надо полагать, что этот сингулярный реквизит – все сингулярности одного и того же мира – выражается в общих терминах, то есть с логической точки зрения реквизитов. В прошлый раз мы видели, что именно благодаря этому Лейбниц осуществил великое реактивирование Аристотеля, чтобы посмеяться над Декартом. Декарт полагал, будто разделался с Аристотелем и с аристотелевскими абстракциями, говорящими нам: субстанция состоит (как видите, это довольно далеко от Лейбница – составные части) из материи, формы и из сочетания материи и формы. Он добавлял: материя есть способность принимать противоположности, то есть она – изменение, и поэтому субстанция есть единство в изменении; это близко к Лейбницу, ведь один из неприемлемых для Лейбница тезисов есть обладание формой. Значит, форма есть акт, приводящий потенцию в действие, актуализующий потенции, а материя без формы подразумевает лишение. Отсюда условия, при которых вы мыслите трио «материя – форма – сочетание материи и формы», суть различение, оппозиция «обладание – лишение». Это целое множество реквизитов субстанции. И вот что в замысле Лейбница, направленном в то же время на то, чтобы сохранить приобретения картезианства, повернуть их против Декарта и реактивировать Аристотеля, вот как Лейбниц подхватывает эту проблему, представляя ее как проблему реквизитов субстанции. Это – наиболее сложное из того, что я собираюсь сегодня вам сказать; стало быть, мы будем продвигаться довольно медленно.
Чтобы имелась субстанция, прежде всего необходимо, чтобы существовало некое активное единство. Как мы видели, это было связано с первым критерием. Это единство можно извлечь из первого критерия, потому что единство могло бы быть как единством движения, так и единством присущего монаде изменения. Для существования субстанции необходимо, чтобы так или иначе существовало некое единство, активное единство, или спонтанность. Или то, что мы назовем субстанциальной формой, либо совершённым действием, то есть энтелехией (это Аристотелев термин, определять который нет времени, а то мы во всем этом заблудимся). Совершённое действие, или энтелехия, завершенная субстанциальная форма, или совершённая энтелехия, и есть упомянутое активное единство, то есть то, что мы пока что назвали монадой. Это и есть спонтанность. Мы назовем ее изначальной активной потенцией. Вы уже видите, что потенция больше не противопоставляется действию, но переходит в действие, и ей не нужно ничего иного, кроме нее самой, для перехода к действию. Изначальная активная потенция. Почему? Потому что она не способствует переходу в действие никакой потенции и никакой материи, она сама – потенция действия. Лейбниц заимствует это положение у Ренессанса, то есть у аристотеликов, которые примечательно изменили отношение «потенция – действие» таким образом, что сама потенция есть потенция действия. Больше не существует действия, актуализующего потенцию, – существует потенция, переходящая в действие, если ничто не препятствует. Потому-то ее и называют потенцией. Если ничто ей не препятствует, она переходит к действию. Спонтанность активной потенции. Отсюда великолепное выражение Николая Кузанского, философа Ренессанса (ему Лейбниц многим обязан): possest. Для тех, кто знает латынь, possest – это сложное слово, составленное из posse, «мочь», и est, есть. Буквально это означает: потенция, каковая есть не потенция «быть», а потенция, которая «есть», потенция в действии. Итак, possest. У Лейбница вы опять-таки будете непрерывно находить этот термин: изначальная активная потенция. Вы видите, что это не форма, не субстанциальная форма, и к тому же это не форма, воздействующая на материю; это форма, – скажет Лейбниц, – все действия которой являются внутренними. Если ничто не препятствует ей, она переходит к действию. Очень часто Лейбниц говорит нам, что у монады, по определению, есть только внутренние действия. Она активна, а все ее действия являются внутренними. Почему? Из-за принципа включения, из-за принципа присущности. Итак, существует активная потенция, потому что действие не переходит ни на какую внешнюю материю, но сама потенция находится в действии, так как все ее действия являются внутренними. Я бы сказал: субстанциальная форма у Лейбница отождествляется с субстанцией как субъектом, то есть с монадой, то есть с активной потенцией, все страсти которой является внутренними. Вы видели, что такое внутренние действия монады: это перцепции. Перцепции суть действия монады. Только вот вмешивается второй реквизит: верно, что наше отличие от Бога состоит в ограниченности. И мы видели, что подобно тому, как у Лейбница произошло полное перетряхивание отношений «потенция – действие», у него был и отказ от оппозиции «отношение – обладание».
Ради чего? Ради ограничения. Наше единственное лишение состоит в ограниченности. Мы являемся ограниченными, потому что мы – творения; монады являются ограниченными. Но совсем не из-за ограниченности мы не можем осуществлять бесконечные действия; Лейбниц скажет: это разные вещи. Но, во всяком случае, оттого, что мы являемся ограниченными, у нас имеется лишь малая область ясного выражения. Признак того, что монада ограничена, – как раз в том, что у нас лишь одна-единственная область. Ограниченность не препятствует действию. В одном из писем читаем: «Я отвечаю, что даже когда ей (субстанции. – Ж.Д.) препятствуют (то есть когда ее активной силе, ее активной потенции препятствуют), она одновременно с этим совершает бесконечные действия, ибо – как я уже сказал – никакая преграда не подавляет действия полностью…» Затем следуют рассуждения о теле. Это всегда чудесно! Ладно. Монада является ограниченной. Это ее второй реквизит. Первый же реквизит таков: изначальная активная потенция.
Ограничение Лейбниц назовет изначальной субстанцией, столь же изначальной, сколь и пассивной. Только вот проблема: как он определяет ограничение? […] Он непрестанно говорит нам: ограничение есть требование. Требование чего? Протяженности и антитипии, причем антитипия – это сопротивление, или инерция. По причинам, которые мы, может быть, увидим впоследствии, Лейбниц полагает, что сама протяженность неспособна объяснить ни инерцию, ни сопротивление. Мы и сами знаем, что это не одно и то же; я напомню вам очень кратко: протяженность есть некий ряд, это бесконечный ряд, чьи части организуются согласно отношениям «целое – части» и который не стремится ни к какому пределу. Тогда как сопротивление, или антитипия, есть предел, к которому нечто стремится, – в протяженности, вступающей в некий сходящийся ряд. Впрочем, неважно. Лейбниц говорит нам: ограничение есть требование: это либо требование протяженности и антитипии, либо требование протяженности и сопротивления. Он назовет это «массой», но, как отмечает один комментатор, в латыни есть два слова, обозначающие массу. Здесь имеется в виду та масса, которая по-латыни звучит как «moles», и он уточняет: бесформенная масса. Действительно, это масса без формы, – вы видите, почему она без формы? С протяженностью дела обстоят иначе, с сопротивлением дела обстоят также иначе: это – требование. Иными словами, это реквизит в чистом виде. Если вы говорите: вот здесь-то и вмешивается протяженность, то вы ошибаетесь: протяженность здесь, конечно, не вмешивается. Здесь вступает в игру требование протяженности. Причем ограничение есть требование протяженности и сопротивления. Подразумевается сопротивление движению либо сопротивление изменению.
Монада как субстанция, как духовная субстанция, имеет два реквизита: субстанциальную форму, или изначальную активную потенцию, и ограничение, или требование протяженности.
Если вы хотите извлечь отсюда нечто большее, то на это у вас, по-моему, нет права: пока что путь заблокирован, мы не можем сказать ничего больше сказанного, вы всегда можете анализировать это требование. Я говорю очень бегло: вся эта история – не просто так, вы должны слегка ощутить глубокую непротиворечивость. Вы помните, что у каждой монады есть своя точка зрения. И уже эта точка зрения позволяет определить нечто, о чем мы не говорили вообще, то, что Лейбниц называет по-латыни «пространством», то есть (мы должны говорить только по-латыни, чтобы вконец не запутаться) spatium. Spatium, строго говоря, не является никакой физической реальностью и не касается тел. Spatium – это логический порядок, это порядок сосуществующих точек зрения, или, если угодно, это порядок сосуществующих мест, причем места являются точками зрения. А что такое «требование протяженности и сопротивления»? Это диффузия мест. Это последствие spatium’а. Это не всегда вопрос протяженности. Это – требование протяженности, требование антитипии.
Ограничение, требование протяженности – что это, в конечном счете, такое? Ограниченность каждой монады – [следствие] того факта, что существует множество монад, бесконечное множество монад. Я готов сказать: моя ограниченность есть тень, которую другие монады отбрасывают на мою. Все начинается с тени. Заметьте, что мое положение не блестяще! Тень других монад падает на мою – не способ ли это нечто объединить? Я повторяю вопрос: в чем моя ограниченность? Я повторяю этот вопрос, чтобы всякий раз давать иной ответ: моя ограниченность есть констатация того факта, что я выражаю ясно лишь чрезвычайно малую часть мироздания, которая остается погребенной в моих темных глубинах. Моя ограниченность – это темная глубина моей души.
Ладно. Что такое темная глубина моей души? Я могу повторить: это факт, что я могу выразить ясно лишь некую малую часть. Почему же я могу ясно выразить лишь некую малую часть? Мы это видели. Но окончательный ответ таков: потому что существуют и иные монады. Иными словами, что образует темную глубину моей души? Тень, которую отбрасывают на меня другие монады. Именно ваша тень делает мою глубину темной.
[Конец пленки.]
Мы барахтаемся в этих темных глубинах, мы хлюпаем в них водой. А что такое эта темная глубина, этот темный фон вашей тени, отбрасываемой на меня? Единственное, что вы мне дали. Заметьте, как это превосходно: дать немного тени другим, чего уж лучше?
Мне нужна эта темная глубина, она безусловно необходима. Мне все это нужно, мне необходима эта тень надо мной, вы понимаете?
Итак, я бы сказал: требование протяженности и антитипии лишь в малой степени является самой протяженностью и антитипией; оно еще настолько не достигло их, что, по правде говоря, само является тенью, которую остальные монады отбрасывают на каждую из них, и тем самым оно образует темную глубину каждой монады. Вы видите, что этим нельзя воспользоваться. Мне необходимо тело, но в его генезисе мы не дотягиваем до требования иметь тело, но только до требования чего-то, что я мог бы назвать протяженностью и сопротивлением. И анализировать я могу лишь это требование. Пользуясь двумя моими первыми реквизитами, я бы сказал: изначальная активная потенция и изначальная пассивная потенция суть два реквизита субстанции, которая называется монадой. Субстанции, которую теперь, когда всякая опасность устранена, я могу назвать «простой субстанцией», потому что знаю, что слово «простой» не определяет субстанцию: субстанцию определяют два реквизита. Я могу добавить: ограничение неотделимо от активной потенции. Все простые монады друг от друга отделимы – нет, это нехорошо… я говорю глупости. Простые монады – это [нрзб.], отличные друг от друга, но они обладают одними и теми же реквизитами, а вот сами эти реквизиты друг от друга неотделимы. Но они, монады, и сами неотделимы друг от друга, потому что каждая уносит с собой тень всех остальных. Вот как.
Что же – самое трудное – нам остается? Итак, у нас есть некое требование; как же это требование будет осуществляться? Как реквизиты будут заполняться? Я добавляю, что забыл существенное: изначальная пассивная потенция, или ограничение (здесь не доверяйте текстам), или «moles», масса в смысле «moles», масса, которая пока еще не несет ни протяженности, ни инерции, которая [нрзб.] протяженность и инерцию, есть то, что Лейбниц называет «первичной, или голой, материей». Первичная материя, или голая материя. Если вы скажете мне: покажите ее мне, то я не смогу вам ее показать; это – требование. Во всяком случае, она пока еще не включает никакой протяженности, она есть сугубое требование. Она есть требование протяженности.
Третий пункт: как это требование будет осуществляться? Почувствуйте сразу же, что доказательство здесь будет сложным: единственное, что может осуществить требование протяженности и антитипии, – в нормальном случае вы должны подождать меня на повороте или, скорее, дождаться на повороте Лейбница, – это то, что он нам отвечает: вот протяженность и антитипия, – но неужели он нам показывает, как протяженность и антитипия реализуют требование протяженности? Это было бы ерундой, это не относилось бы к философии. Я не могу вначале обосновывать требование протяженности, а потом сказать: вот это – протяженность, осуществляющая требование протяженности. Это было бы наихудшим буквализмом. И тогда вы почувствуете, каким будет ответ: следует руководствоваться необходимостями, чтобы не заблудиться! Здесь у нас опять нет выбора, потому что у Лейбница тоже нет выбора: может иметься лишь один ответ. Это – тело. Именно когда мы имеем тело и поскольку мы имеем тело, ограничение, понимаемое как требование протяженности и антитипии, осуществляется: только тело может осуществить это требование.
Но тогда возьмем тело: разве оно не относится к протяженности? Или, возможно, оно изготовляет ее, оно ее выделяет? Может быть, тело выделяет протяженность? И антитипию тоже выделяет? Может быть, оно все это и делает! Это становится возможным сказать, но я не знаю, возможно ли это доказать. Мы зашли в тупик. Единственным ответом можно считать (в противном случае необходимо остановиться) следующий: если бы Лейбниц остановился, надо было бы останавливаться здесь; положение выглядит так, что дальше идти невозможно, его захлестнула приливная волна… Да, как и Ницше, Лейбниц остановился… произошел небольшой несчастный случай, заставивший его остановиться. В противном случае наша задача стала бы тяжелой; а ведь надо продолжать, надо продолжать, надо продолжать!
Мы ждем ответа, и выбора у нас нет: только тело может выполнить упомянутое требование.
Вопрос: О проблеме зла у Лейбница [нрзб.].
Жиль Делёз: Это совершенно верно. Но необходимо отличать лейбницевское от всеобщего, то, что принадлежит Лейбницу, от того, что мы встречаем практически повсюду в философии XVII века: идею того, что единственный источник зла – это ограниченность. Ведь ограниченность – условие существования всякой твари. Бог, дескать, несет ответственность за Добро, но не несет ответственности за Зло. Не существует-де тварей, кроме ограниченных, а ограниченность – источник зла. Вот это – не по-лейбницевски. Это – общее место, и вы находите его у Декарта, у Спинозы, и коренится оно в более глубокой операции (а не просто в теологической пошлости); это их концепция, это их антиаристотелизм, и, согласно этой концепции, лишений нет, существуют лишь ограничения. А ведь это – чрезвычайно оригинальный тезис, просуществовавший весь XVII век: попытка свести лишение к простому ограничению. Это пункт первый, нечто всеобщее. Пункт второй, который дает нам основания, свойственные Лейбницу: у Лейбница существует оригинальная манера мыслить отношения между ограниченностью и позитивностью, и это – позитивная потенция. Это оригинальная манера, ведь у Спинозы другая. У Декарта – третья. У Мальбранша – четвертая. И каждый из философов оригинален в своей философии в том, что касается определенной манеры мыслить отношения между реальностью, которая с необходимостью является позитивной, и ограничением этой реальности. Мы видели оригинальную манеру Лейбница. Если мы захотим сравнить ее с другими, то это будет совершенно иная тема, и тогда я подчеркну вот что. Оригинальность Лейбница представляется мне так: дело в том, что он понимает ограничение как пассивную изначальную потенцию, то есть как требование протяженности и сопротивления: вот это и характерно для Лейбница. Текст «Теодицеи» будет для нас очень важным, но лишь когда мы дойдем до физики: «Теодицея», часть первая, параграф 30 (я бы очень хотел, чтобы некоторые из вас прочли его к следующему разу): «Материя изначально расположена к замедленности или к лишенности скорости…»{ Лейбниц. Собр. соч. Т. 4. С. 148. Пер. К. Истомина и Ф. Смирнова.} Я сейчас позволяю себе рассуждать об этом тексте, потому что он очень красив, и я мог бы привести его здесь в ответ на ваш вопрос.
Лейбниц приводит физический пример, когда речь идет о метафизике и о метафизической ограниченности тварей. Он говорит: чтобы вы поняли проблему метафизической ограниченности тварей, необходимо, чтобы я объяснил вам нечто, касающееся физики, и это поможет вам. И вот что говорит Лейбниц: «Предположим, что течение одной и той же реки несет с собой многие суда, различающиеся только своим грузом: одни нагружены дровами, другие камнем, одни больше, другие меньше. В этом случае суда более нагруженные будут плыть медленнее, если только предположить, что ветер, весла, или какое-нибудь другое подобное средство не будет им помогать»{ Там же.}. Итак, они плывут по течению, они более или менее нагружены, более нагруженные плывут медленнее других, они везут не одно и то же сырье, они имеют не одну и ту же массу. Первая возможность: тяжесть ли объясняет то, что суда плывут быстрее или медленнее? Ответ: «Не тяжесть служит причиной этого замедления (того факта, что некоторые корабли плывут медленнее других. – Ж.Д.), потому что суда плывут вниз, а не вверх, но причиной здесь служит то, что увеличивает тяжесть самых плотных тел (прежде всего, не надо говорить о том, что тяжесть действует одна. – Ж.Д.), то есть меньшая пористость и большая тяжесть материи, из которой они состоят. Таким образом (и вот первый существенный тезис. – Ж.Д.), материя изначально расположена к замедленности или к лишенности скорости не для того, чтобы она сама собой уменьшала эту скорость», – здесь вы можете придумать продолжение – «не для того, чтобы она сама собой уменьшала эту скорость, когда она уже получила ее»{ Там же.}. Он говорит нам: материя запаздывает, она склонна к замедленности или лишенности скорости. «Ибо это означало бы действовать». Вы узнаёте – это чистая пассивная потенция, это ограничивающая пассивная потенция, стало быть, «материя склонна к замедленности или лишенности скорости, она не уменьшает сама собой скорости, ибо это означало бы…»{ Там же.}. Когда она уже набрала эту скорость и когда она поплыла по течению, то вы видите: все суда набирают скорость благодаря течению, но одни плывут медленнее других. Из-за тяжести ли это, спрашивает Лейбниц? Нет, не из-за тяжести! Ведь они плывут вниз, а не вверх по реке. Тяжесть здесь вмешивалась бы, если бы речь шла о том, чтобы плыть вверх, с помощью весел, все такое… Если бы они сами собой уменьшали эту скорость, набрав ее, то это означало бы действовать, но для того чтобы умерить собственной восприимчивостью (какой прекрасный текст для тех, кто постарается найти у Лейбница предпосылки Канта!) эффект воздействия (impression) (воздействие – это воистину сообщаемое движение; движение, сообщаемое течением; течение производит воздействие) – когда скорость получает воздействие.
Я попытаюсь подвести итог: по-разному нагруженные корабли получают воздействие от одного и того же потока, если предположить, что он одинаков для всех. То есть они получают скорость, или – если угодно – они получают движение определенной скорости. Одни плывут медленнее. Почему? Плывут ли они медленнее из-за того, что более тяжелы, чем другие? Нет. Опять-таки они плывут вниз по течению, а тяжесть вмешивалась бы, только если бы они поднимались. Тогда почему одни из них плывут медленнее? Потому что чем больше материи, тем меньше ее восприимчивость к количеству движения, запечатленному течением; чем меньше ее восприимчивость будет за малый период времени, тем больше будет запаздывать эта рецептивность. Тем медленнее будет эта восприимчивость.
Иными словами, что такое материя? Материя – это как раз и есть восприимчивость. Когда я говорю, что Кант отсюда недалек, я имею в виду: первая материя, изначальная пассивная потенция, есть форма восприимчивости. Активная изначальная потенция есть форма спонтанности. Впоследствии мы здесь увидим некий свет. Вслушайтесь как следует в этот прекрасный текст: «Течение служит причиной движения судна, но не его замедления (здесь – превосходное различение двух реквизитов. – Ж.Д.); Бог (вы ставите Бога на место течения. – Ж.Д.) есть причина совершенства в природе и в действиях создания»{ Там же.}. «Движения корабля» равно «активной изначальной потенции монады». Да, Бог есть причина этого… «Но ограниченность восприимчивости создания служит причиной недостаточности его действия»{ Там же. С. 149.}. Лейбниц отделил на физическом уровне течение, как причину движения, от восприимчивости, как причины изменчивости движения, то есть более или менее стремительного движения…
«Бог есть причина совершенства в природе и в действиях создания, но причиной недостаточности служит действие», то есть то, что такая-то монада хороша, а такая-то плоха (эквивалент «идти быстро» и «идти медленно») зависит не от Бога, причина этому – ограниченность восприимчивости создания. И она разнообразна. Этот вопрос превосходен, так как он позволяет мне уточнять вещи: ограниченность восприимчивости разнообразна; первичная материя, ограниченность – у каждого свои. У каждого – больше или меньше тени. Каждому свое, точно так же, как каждый имеет свою восприимчивость в соответствии со своей массой, каждый имеет свою массу, свою «moles», на уровне души. В буквальном смысле: что же такое восприимчивость? Это количество тени у каждого в душе.
Теперь мы оказываемся в средоточии проблемы прóклятых. Кто такой прóклятый? Это тот, чья тень заняла всю душу. Вот, стало быть, это кто, как говорит Лейбниц в прекрасной формулировке, которую я не могу найти. Как бы там ни было, имея душу, я обладаю ограниченной восприимчивостью. Вы видите: ограниченная восприимчивость – это моя зона света, в том плане, что она со всех сторон окружена тенью. Я говорил ранее: все, что окружает мою зону света, есть тень, потому что моя зона света отсылает меня к действию. Существуют души, обладающие чрезвычайно ограниченной восприимчивостью: все остальное – тень. А что касается прóклятого, то вы помните или, по крайней мере, чувствуете, что происходит: мы оказываемся перед проблемами, которые открывают перед нами настоящие бездны, потому что пока что я всегда говорил о разумных душах и я собирался утверждать: не существует такой души, в которой не было бы зоны света. Но верно ли это насчет животных, даже если у них есть душа, – а мы видели, что, с точки зрения Лейбница, очевидно, что душа у них есть. Наверное, в этом пункте он больше всего злится на Декарта, он говорит: Декарт, ну нет же, если кто-нибудь рассказывает вам о животных-машинах, то он несерьезен, даже если он говорит, что это объяснительная модель, так как после этого он уже ничего не понимает в том, что происходит с людьми. Он не видит, что существует дно души. Прóклятый – это кто? Неужели у животных тоже есть ясная зона? По-моему, можно уже ответить: да, безусловно. Может быть, эта зона совсем не такого типа, как наша, но они обязательно имеют ясную зону. Животные имеют тело и ясно выражают то, что происходит с их телом, то, что имеет отношение к их телам. Когда собака получает удар палкой (вновь берем пример Лейбница, он объясняет отчетливо), у нее есть зона ясного выражения, соотносящаяся с ее телом. Но прóклятый настолько затемнил свою душу, что единственный огонек, который там еще брезжит, таков: «Бог, я ненавижу Тебя!» К счастью, у прóклятого еще есть этот огонек: «Бог, я ненавижу Тебя!» Если бы у него этого огонька не было, тогда бы он был в полном смысле паршивым. У прóклятого есть только это, чтобы жить и выживать. Он мог бы увеличить этот огонек; если бы захотел, он перестал бы быть прóклятым. Как говорит Лейбниц: не существует такого прóклятого, который не проклинал бы себя каждый миг. Прóклятый – это не какая-то история из прошлого; было бы достаточным, если бы он бросил свое: «Бог, я ненавижу Тебя!» Но именно к этому он привязан больше всего на свете, а стало быть, он этого не бросит.
Замедленность или ограниченность его восприимчивости бесконечна. У нас даже складывается впечатление, что он не движется. Он уже не может двигаться. Вы видите: мы попадаем в центр этой проблемы метафизической ограниченности, причем Бог не несет ответственности за метафизическую ограниченность, Он ответственен не за ограничительную пассивную силу, но единственно за активную силу. Вот все, что я хотел бы сказать об этом первом аспекте.
[Конец пленки.]
Теперь у нас начало ответа. Задавался вопрос: почему существуют тела? Мы спрашивали, почему тот факт, что ясно выражается лишь небольшая зона, способствует тому, что я имею тело, – такой была наша проблема. Я должен иметь тело, потому что небольшая зона есть то, что будет касаться моего тела. Я действительно говорю в будущем времени, раз уж у меня есть будущее. И наш ответ теперь таков: поскольку монада имела изначальную пассивную потенцию, поскольку эта изначальная пассивная потенция, или ограничение, была требованием протяженности и сопротивления, то что может удовлетворить или выполнить это требование? Тело, и только тело. Иметь тело. На этом уровне монада вздыхает, буквально вздыхает: Бог, ну дай же мне тело, мне необходимо тело…
[Следует длительная дискуссия о судах и течении.]
Жиль Делёз: Лейбниц различает два случая относительно своих законов движения. Как бы то ни было, его проблема такова: как определить силу, или потенцию? Это очень хорошо, потому что это позволяет мне продвигаться к физическим критериям субстанции. Как определить силу, или потенцию? Лейбниц говорит: Декарт определял силу, или потенцию, через количество движения, то есть через m. И здесь необходимо различать два случая. Первый случай – это то, что впоследствии было названо случаем работы. Случай работы – это случай силы, которая расходует себя в действии. Пример: ты поднимаешь некое тело на какую угодно высоту, стало быть, ты совершаешь некую работу, а затем ты расслабляешься. Вот аргумент Лейбница: первый случай – я поднимаю тело A весом в один фунт на четыре метра. Затем я поднимаю тело B весом в четыре фунта на один метр. Для поднятия в обоих случаях мне необходима одинаковая сила. Однако – и это можно проверить в «Рассуждении о метафизике», там есть небольшой чертеж – согласно знаменитой теореме Галилея, падение в первом случае происходит с двойной скоростью по сравнению с той, какую мы имеем во втором случае, хотя высота в четыре раза больше. Какие же последствия извлекает отсюда Лейбниц? Он делает отсюда триумфальный вывод против Декарта: скорость и количество движений не могут смешиваться между собой. И это – первый случай. В этом первом случае время не должно вмешиваться. Фактически сила расходует себя, как говорится, в мгновение, и рассмотрения времени нет. Рассмотрения времени нет с физической точки зрения: и действительно, если ты ищешь, что сохраняется в двух случаях, то приходишь к Лейбницевой формуле mv2, а не к mv, как полагал Декарт, потому что Декарт смешивал силу и количество движения.
Второй случай: речь уже вовсе не идет о силе, расходующей себя в работе. Речь идет о единообразном движении катящегося из-за набранной скорости тела, согласно гипотезе, не встречающего сопротивления. Этот случай – совсем другой, так как здесь надо вводить время. В каком смысле надо вводить время? Здесь – то, что мы будем называть уже не работой, а движущим действием. Пример, который приводит Лейбниц, таков: два лье за два часа. Движущееся тело. Все происходит иначе. Может быть, я неправильно выразился, так как предполагается, что тело вращается благодаря приобретенной скорости. Потому что – на самом деле – в первый момент скорости, как утверждает Лейбниц, верна формула Декарта, так что Декарт сумел понять лишь начальный момент. Но он не может понять единообразного движения. Итак, пример, который дает Лейбниц, таков: тело, проходящее два лье за два часа.
[Запись прерывается.]
Иногда говорят, что Лейбниц заменяет количество движения силой. Но это неверно. Подлинная физическая проблема, которую ставит Лейбниц, отнюдь не в том, что Декарт пренебрегал силой; она в том, что Декарт считал возможным измерять силу через количество движения, mv. В конечном счете это неразрывно связано с его концепцией субстанции. А идея Лейбница – в том, что это физически неверно. Итак, имейте в виду, что именно из-за современной науки, именно из-за науки эпохи модерна Лейбниц ощущает необходимость реактивировать кое-что из Аристотеля. И к чему это приведет? Лейбниц рассматривает два случая, которые Декарт не смог различить между собой. Случай работы, которая представляет собой, если угодно, – и Лейбниц это часто повторяет – восходящее движение, движение по вертикали, – это случай с такой работой, или силой, которая расходует себя в действии; а второй случай – случай движения по горизонтали, то есть предположительно единообразного движения тела, которое катится благодаря приобретенной скорости. В первом случае тело мгновенно расходует себя в действии. Во втором случае необходимо ввести время. В первом случае формула силы – mv2, а не mv. Во втором случае формула силы – mv2t, движущее действие. В чем оно напрямую связано с идеей субстанции? Итак, смотрите: в противоположность мнению Декарта, сама протяженность не может быть субстанцией. Если я говорю mv, то эта идея работает; я могу считать протяженность субстанцией. Формула же mv2 предполагает, что необходимо, чтобы к субстанции добавлялось еще нечто, и в тексте «Рассуждение о метафизике» Лейбниц очень хорошо скажет: необходимо нечто подобное Аристотелевой форме, то есть необходимо, чтобы имелась некая активная сила. И нам скажут: труд – это мгновенная активная сила, а движущее действие – это активная сила за некую единицу времени. В обоих случаях перед нами сила.
По природе она всегда позитивна, и Лейбниц придает этому большое значение. Почему? Потому что квадрат всегда позитивен. И это для Лейбница существенно: он видит здесь своего рода чудесную гармонию, некую дополнительную разновидность доказательства бытия Божьего. А именно: сила, которая сохраняется в физическом мире, есть mv2, так как v2 по природе всегда позитивна. Эта сила mv2, отличающаяся от количества движения и поэтому необъяснимая с точки зрения протяженности, есть активная сила. Декарт, согласно Лейбницу, неспособен объяснить генезис движения из протяженности. Отсюда великая формулировка Лейбница, которую вы найдете в работе «О самой природе (или о природной силе и деятельности творений)», небольшом произведении последнего периода его жизни: механизм притязает объяснить все через движение, но он совершенно неспособен объяснить само движение. Таким будет его всегдашнее возражение против Декарта и против идеи протяженной субстанции. И эту силу mv2 Лейбниц назовет производной силой. Производная сила будет активной силой, которая порождает движение и на которую реагирует пассивная сила. Пассивная деривативная сила есть ограничение восприимчивости, по закону движущего действия, и как раз в этом смысле Лейбниц может сказать, что именно физические тела символизируют при помощи монад, или метафизических субстанций, субстанций духовных, поскольку, подобно тому как духовная субстанция являла нам изначальную активную силу, изначальную пассивную силу, или ограничение, так и тела являют нам производную активную силу и пассивную силу ограничения, определяемого характеристиками восприимчивости тела – восприимчивости по отношению к реципируемым им движениям.
Ну вот, это принесло мне ощущение беспорядка, но в то же время это было необходимым. Вот докуда мы добрались! Я почти что показал физические критерии субстанции. Там, где я теперь нахожусь, происходит следующее: монада имеет и предполагает требование протяженности и антитипии; из-за сопротивления мы чувствуем, что единственное, что может осуществить это требование, – а слово «осуществить» для меня очень важно – это «иметь тело». Если так и происходит, то монада имеет тело. Но мы возвращаемся к вопросу: что такое «иметь тело»? И это можно было бы считать третьим реквизитом субстанции.
Лекция 9–10
Часть первая
(19.05.1987 – 20.05.1987)
Все хорошо слышат? Ну вот, я хотел бы сначала поговорить на практическую тему, и я хотел бы, чтобы вы простили меня за то, что я говорю с вами на практическую тему; вкратце я скажу вам, что здоровье мое весьма посредственно, и мне необходимо чуточку отдохнуть. Итак, я собираюсь вскоре прекратить чтение курса. Я собираюсь прекратить, и это великолепно. Я чувствую, что пришел момент, и больше такой момент не наступит: это нечто особенное – читать курс, и это весьма любопытно. Наступает время, когда мы прекрасно чувствуем, что момент пришел. И дело не в том, что я занимаюсь самой божественной деятельностью в мире, – отнюдь нет! Но это такая особенная деятельность… Итак, я собираюсь довольно скоро остановиться, но я собираюсь все-таки закончить то, что хотел, то есть я собираюсь закончить сегодня – но вы увидите, в какой форме; и потом я собираюсь прочесть еще два курса, два курса о том, что считаю важным, то есть о гармонии и о сравнении музыкальной гармонии в эпоху Лейбница с тем, что Лейбниц называет гармонией. Я собираюсь объяснить вам то, чем бы я хотел сегодня с вами заняться, и две следующие недели будут посвящены гармонии; мне потребуется здесь помощь двух слушателей, сведущих в музыке. Но мне нужны и другие помощники.
В общем и целом, я немного ускорю чтение под конец курса, но это будет не очень тяжело, потому что мы почти сделали то, чего я хотел, важнейшее из того, что я хотел рассказать о Лейбнице. Я бы пришел еще в июне, но единственно для того, чтобы встретиться либо со студентами первого курса, либо со студентами второго курса, либо с дипломниками, которым необходимо меня видеть и встречаться с которыми у меня, как правило, нет времени. Что касается нашей совместной работы, то примите во внимание, что состоятся только две лекции. Сегодня я хотел бы, чтобы лекция была весьма щадящей, потому что мне кажется, что в мысли Лейбница есть область, настолько сразу и сложная, и таинственная, настолько опережающая свое время, что у меня нет слов. Я повторяю: что означает для Лейбница «иметь тело»? Что это такое, «иметь тело»? Для меня в лекции, посвященной этой теме Лейбница, вопросов гораздо больше, и если я не смогу их рассмотреть, я скажу вам об этом.
Как вы помните, мы исходили из следующего (я выдвигаю довольно разрозненные мысли), мы исходили из того, что индивидуальная субстанция, монада, каковая является чистым духом (а вы помните, что в этой форме она – чистый дух или душа), мы видели, что индивидуальная субстанция имеет два реквизита: она – активное единство, спонтанно производящее собственные предикаты; заметьте, что это уже нелегко: что же на самом деле может означать такой предикат, как «я прогуливаюсь», если субъектом здесь является монада как чистая душа? Она, душа, прогуливается – и что это значит? Нам скажут: так ведь нет же, ведь существуют еще и тела! Мы не знаем, подобает ли нам быть берклианцами, как мы это видели в прошлый раз: в монаде имеются перцепции, да-да, в монаде существуют перцепции, являющиеся внешними по отношению к монаде, и тогда я мог бы заявить: строго говоря, я воспринимаю себя, прогуливаясь. Что есть в монаде – должно стать прогулкой.
Что есть в монаде, так это percipi, это перцепция прогулки. Я хотел бы, чтобы вы сделали еще одно усилие, потому что мы прекрасно ощущаем, что это не работает. Если бы не существовало тел, то были бы перцепции, ну ладно! – но были бы перцепции прогулки? Это кажется странным. Я беру один текст Бейля, вы знаете его, это «Возражения Лейбницу». В своих «Возражениях Лейбницу» Бейль в общем и целом говорит следующее – вы помните историю собаки, удар палкой, который она получает, когда ест, и т. д., а он говорит: но, стало быть, монада собаки смутно перципирует удар палки, который готовится, – перцепция удара палки, а потом монада собаки схватывает боль, когда удар палкой готовится в материи и когда палка, как тело, обрушивается на тело собаки. Но, как говорит Бейль, ничто не вынуждает к тому, чтобы в предельном случае существовали тела, и, по-моему, монада собаки прекрасно могла бы нанизать в цепь перцепцию палки и перцепцию удара. Бог мог устроить именно так, но тел не существовало бы. Именно это нам скажет Беркли.
Что же заставляет нас сказать: тела существуют? Эти примеры меня смущают. Верно, что с абсолютной точки зрения монада собаки обходится перцепцией палки, чем-то сугубо «духовным», не переходя от перцепции палки к перцепции удара палкой. Фактически перцепции – это данные, присущие монаде. Думаю, что я могу это сказать, однако это очень странно: если бы тел не существовало, довольно странно было бы утверждать, что тела – это перцепции псевдотел. Мне кажется, что, если бы не было тел, монада была бы наполнена перцепциями, но это были бы перцепции иного рода, нежели перцепции фантомных ударов палкой. Ладно.
Но тогда Лейбниц отвечает Бейлю: ну да, это в предельном случае возможно; возможно, что палки не существовало бы и не было бы отчетливо выделяемых тел, однако это не препятствовало бы монаде собаки иметь перцепцию палки, а также иметь перцепцию удара в форме боли.
Мы говорим: да, согласны, но это одни лишь слова.
Почему необходимо, чтобы существовали тела? Иметь тело! В точке, где мы находимся, мы вполне определили монаду; так почему же необходимо, чтобы существовали тела? Я говорю себе примерно так: может быть, требование иметь тело принадлежит событию как наиболее фундаментальная его характеристика. Можно даже сказать, что к событию обращаются с двойным требованием, и если вы согласитесь со мной, что в этом году мы провели много времени, задаваясь вопросом «что такое событие», усматривая в нем двойной секрет и философии Лейбница, и философии Уайтхеда, то я бы сказал: да, не существует такого события, которое не обращалось бы к духу. Возможно, события не являются вечными сущностями, но может ли быть, чтобы события подстерегали и ожидали нас?
Реплика из аудитории: Совсем маленькое замечание на уровне события. Кажется, кто имел право об этом говорить, так это Фернан Бродель. Под самый конец жизни он сказал: событие – это своего рода пороховой взрыв, это нечто вроде фейерверка, который в конечном счете падает в ночь и во тьму. Это фраза Броделя. Тем самым я имею в виду: если событие неизбежно играет столь основополагающую роль, то отсюда и необходимость тела. Существует проблема прерывного и непрерывного, которую представил Бродель. Бродель говорил, и он знал, что говорит, что событие – нечто прерывное, которое взрывается и возвращается во тьму, в своего рода ночь. Стало быть, проблема непрерывного и прерывного. И тогда что делает тело? Отдыхает ли оно, бродит ли оно? Это не обязательно субстанция, оно не всегда разветвляется, как мы сегодня говорили, вблизи события, в своего рода напряжении всех своих моментов, потому что событие представляется нам как своего рода взрыв, застающий нас врасплох, а потом мы извлекаем из него то, что извлекаем; но потом это опять тьма, это ночь.
Жиль Делёз: Я бы хотел говорить с глубоким уважением, и это будет действительно совет: не путайте. Вот ты нам говоришь: Бродель это утверждает. И, конечно, то, что говорит Бродель – прекрасно, однако я не уверен, что то, что говоришь ты, имеет в виду прерывность события. Но, в конце концов, мы могли бы об этом поговорить. Однако мы несколько недель изучали событие не по Броделю, а по Уайтхеду, и Уайтхед говорил нам: внимание, вы помните, что событие – это не «кого-то задавили», хотя и это также, но еще десять минут, прошедших в этой комнате, есть событие, даже если не происходит абсолютно ничего. Это событие. Прохождение природы через некое место, как говорит Уайтхед, это событие. Жизнь пирамиды в течение десяти минут – это событие. У меня нет нужды возвращаться к Уайтхеду, потому что мы прошли сквозь все объяснения и определения события, которые предлагал нам Уайтхед, начиная со сходящихся рядов, которые имеют в виду схватывания, схватывания схватываний и т. д. Если бы мы взялись за Броделя, то мы, полагаю, нашли бы другие значения события. По-моему, у Броделя и Уайтхеда были очень важные точки схождения (опустим их). Ведь нет необходимости брать историка, говорящего нам о событии в истории, потому что мы-то занимаемся событием повсюду: кто-то зажигает сигарету, и это событие. Если пожар, то это событие, но существуют события совершенно повседневные. В какой мере это согласуется с Броделем?
У меня есть ощущение, что событие – нечто двойное, это бифуркация, что каждое событие бифуркантно. Почему? Прежде всего потому, что каждое событие предшествует себе совершенно так же, как оно застает себя врасплох, и поэтому я сказал бы: не судите слишком наскоро о непрерывности и прерывности: мы знаем, что событие рискует и предшествовать самому себе, и следовать за самим собой. Но в той мере, в какой оно самому себе предшествует и за самим собой следует, это Лейбниц: перцепция палки предшествует удару, но перцепция палки, злой человек, кравшийся за собакой, – это уже было событие. Всякое событие себе предшествует, всякое событие за самим собой следует. Некоторым образом мы могли бы сказать: всякое событие дожидается меня! И это уже то самое! Что меня интересует, так это этика события, потому что я полагаю, что не существует иной этики, кроме этики природы людей по отношению к тому, что их постигает. Это напоминает следующее: как переносишь ты то, что тебя постигает, будь то к благу или ко злу. Одним из величайших моралистов события является поэт Жоэ Буске. У Буске была страшная рана, оставившая его парализованным, и – среди прочего – все, что он пытался сказать и объяснить, было, некоторым образом, утверждением: я был создан для того, чтобы воплотить это событие. Исходя из его проблемы, это означало: определенным образом быть достойным события. Вы прекрасно чувствуете, что существуют люди, которые недостойны события – как в счастье, так и в несчастье. Поэтому быть достойным события, сколь бы незначительным оно ни было, означает весьма конкретную мораль, это не означает быть серьезным, конечно нет, но ведь существуют люди, заставляющие нас страдать, – и почему? Потому что они некоторым образом делают все посредственным: и благо, которое с ними встречается, и зло, которое их застигает. Вы прекрасно чувствуете, что существует определенная манера переживать событие, будучи достойным того, что происходит с нами во благе и во зле. Я бы сказал, что это – аспект, посредством которого всякое событие обращается к моей душе. Почему же с теми, кто стонет, так трудно иметь дело? Они недостойны того, что с ними происходит. Я сказал уже много, заметив, что стенающие недостойны того, что их постигает, так как есть гениальные стенающие. Я бы хотел, чтобы всегда происходило так, чтобы я не мог сказать фразу до конца, не опровергнув ее: существуют стенающие, которые достойны того, что с ними происходит, и это те, кого мы называем пророками: вот пророк в своем основополагающем стенании. Существуют те, кто возводит стенание на определенный уровень поэзии, элегии, а «элегия» означает «жалоба»… Существуют те, кто жалуется с большим благородством: подумайте об Иове, жалоба Иова достойна события. Ладно, я не могу говорить об этом дальше. Мне всякий раз необходимо отступать от темы, но вы поправляйте меня сами.
Я говорю только: всякое событие обращается к душе и к духу. Я хочу немного уточнить: существуют события, обращающиеся исключительно к душе. Я бы сказал: мы можем сказать себе, что прогулка есть событие духа и что мы можем отнести «я прогуливаюсь» к предикатам монады. Как минимум, мы придем сюда. Если бы я пытался заниматься терминологией, я сказал бы: по крайней мере, это объясняет пару слов, которые Лейбниц постоянно употребляет: «виртуальное», «актуальное». Виртуальное и актуальное… Мы это видели. Мы видели, что Лейбниц употреблял их в довольно разных смыслах.
Первый смысл: каждая монада, или по крайней мере каждая индивидуальная субстанция, называется «актуальной». Она выражает тотальность мира, но этот мир, как вы помните, существует лишь в выражающих его монадах. Иными словами, этот мир, который существует лишь в выражающих его монадах, сам по себе «виртуален». Мир – это бесконечный ряд состояний событий, и я могу сказать: событие как виртуальность отсылает к выражающим его индивидуальным субстанциям. Это – отношение «виртуальное – актуальное». Что же имеет в виду это отношение? Когда мы пытались определить его, мы пришли к идее своего рода напряжения: сразу и все монады существуют для мира, и мир существует в каждой монаде – это дает нам своего рода напряжение. И Лейбниц чрезвычайно часто употребляет термины «виртуальное» и «актуальное». Я бы даже сказал: в любом смысле он говорит нам, например, что все врожденные идеи, все истинные идеи суть идеи виртуальные, что они виртуальны; Лейбниц употребляет слово «виртуальный» и в других случаях, но, по-моему, всегда в соотношении с актуальным и для того, чтобы обозначить отношения некоего типа события с душой. Но ведь ничто не может отвлечь нас от идеи, что этого пока недостаточно и что сколь бы глубоким ни было событие в той мере, в какой оно выражается в душе, ему всегда еще будет чего-то не хватать; итак, если оно не осуществляется в телах, то необходимо, чтобы оно к этому пришло. Необходимо, чтобы оно вписалось в некую плоть, необходимо, чтобы оно реализовалось в некоем теле, необходимо, чтобы оно запечатлелось в некоей материи.
С чем же соотнесется событие на сей раз? Если бы я искал здесь пару, то необходимо, чтобы событие не только актуализовалось в некоей душе, но и требуется, чтобы оно реализовалось в некоей материи, в некоем теле. Я бы сказал: здесь уже не просто «виртуальное-актуальное», а «возможное – реальное». Именно «возможное – реальное». Событие вечно оставалось бы чистой возможностью, если бы не реализовалось в теле. Оно оставалось бы чистой виртуальностью, если бы не актуализовалось, если бы не выражалось в душе. Оно оставалось бы чистой возможностью, если бы не реализовалось в теле. Почему я это говорю? Да потому что у Лейбница функционируют две пары: возможное – реальное, виртуальное – актуальное. Но здесь, как мне кажется, большая опасность, потому что многие комментаторы не делают различия между двумя этими осями. А существует основополагающее различие.
В письмах к преподобному де Боссу под самый конец жизни Лейбница у него возникает целый ряд весьма любопытных выражений. Эти письма написаны по-латыни. Итак, в продолжение примерно трех страниц с очень большой частотностью встречается термин «realisare», или же причастие «realisans», и Лейбниц задает вопрос: кто способен реализовать феномены, или: кто реализующий?
Цитирую: «Монады воздействуют на этого реализатора, но он ничего не изменит в их законах; неважно, кто этот реализатор, важно именно то, что он не совпадает с монадами». Еще один текст: «Я плохо представляю себе, как можно объяснять что-либо, исходя из монад и феноменов: необходимо добавить кое-что еще, что реализует их», нечто реализующее феномены, необходимо добавить нечто, их реализующее. Что же интересует меня? Поймите! Что такое реальное? Реальное – это не материя, иначе она была бы реализующей; очевидно, это не материя, это, к тому же, и не тело. Более того, материя и тело суть то, что реализуется благодаря реализатору. Как мы увидим, реализатор вступает в близкие отношения не с телом вообще, а с живым телом. Только не надо думать – и вот это мне представляется весьма глубокой идеей в такой философии события, как философия Лейбница, и здесь задействована вся его этика – только не надо думать, что событие актуализуется в монаде. Необходимо, чтобы оно реализовалось в живом теле, и в этом смысле необходимо, чтобы существовал некий реализатор, точно так же, как существует актуализатор. Актуализатор – это и есть сама монада; необходим реализатор, который реализует событие в материи, или который реализует событие в теле, совершенно так же, как существует актуализатор. Так что я возвращаюсь именно к тому, что я говорил в прошлый раз, когда кто-то в самом начале задал мне вопрос. Я говорил, что определить барокко не так уж трудно. Барокко – это двухэтажный дом, необходимо, чтобы было два этажа. И один из этих этажей отсылает к складкам в материи, а верхний этаж отсылает к сгибам в душе: сгибы в душе существуют точно так же, как складки в материи. Вероятно, вот эта двухэтажная схема и составляет барочный мир.
Почувствуйте теперь, что у нас наконец есть основание, по крайней мере на уровне Лейбница, у нас есть лейбницианское основание, касающееся двух этажей. Лейбницево основание есть событие. Это событие, имеющее в виду два этажа. Оно должно актуализоваться в монаде, это да, но оно также должно вписаться в переживаемое тело. Когда событие актуализуется в монаде, оно производит сгибы в душе; необходимо переживать его: сгибается ваша душа. А когда событие вписывается в ваше переживаемое тело, оно производит складки в материи, в живой материи. Так что же происходит? Я бы хотел, чтобы вы почувствовали это.
Мы продвигаемся чуть дальше в ответе на вопрос, почему монаде так нужно тело. Почему Лейбниц не берклианец? Почему мы не можем удовольствоваться пресловутым esse est percipi, то есть все, что есть, в конечном счете, воспринимается монадой, всё – и точка. Я полагаю, что более глубокое основание содержится как раз в событии, в том, что событие не может вписаться в душу, в то же время не потребовав для себя тела, в котором оно вычерчивается.
И вот я натолкнулся на текст, о котором давно не думал. Обо всем этом я думал – а потом я говорю себе: это мне кое-что напоминает. Мы часто действуем именно так. Как если бы я уже это читал. Я вспомнил весьма любопытную книгу Гуссерля. И эта книга Гуссерля называется «Картезианские размышления». Эта книга была чем-то вроде отправной точки, когда Гуссерль приехал во Францию перед войной и прочел несколько лекций по-немецки, и они были переведены под заглавием «Картезианские размышления». Заглавие воздавало хвалу Франции. Очень странно: в начале Гуссерль упоминает Декарта, но чем дальше он продвигается, тем больше он упоминает даже не Лейбница, а монады. Это столь причудливый термин под пером Гуссерля, что мы задаем вопрос: что же происходит? В первую очередь это касается пятого, стало быть, последнего «Размышления»{ Рус. пер.: Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 2001. С. 182–284. Пер. Д.В. Склярова.}. Я вам перескажу это не совсем точно, посмотрите сами, текст читается с первого раза, он не очень сложный. Для первого раза Гуссерль не слишком сложен. Он говорит нам: назовем монадой (даже не ссылаясь на Лейбница) эго, предположим, что «Я» принадлежит ему. Мы увидим, что имеется в виду под понятием принадлежности. Например: «я перципирую стол» есть принадлежность эго. Ну хорошо. У меня есть привычка перципировать стол – это принадлежность эго. Мы видим, что это означает. Это интересно, я говорю о тех, кто знает некий минимум, – но большинство из вас знает минимум феноменологии: интенциональности, сознание чего-то суть принадлежности эго. И в одном весьма любопытном тексте Гуссерль доходит до того, что говорит: это имманентные трансцендентности. Интенциональности суть трансцендентности, трансцендентности сознания, направленного к вещи, но это имманентные трансцедентности, так как эти интенциональности имманентны монаде.
Монада – это эго, схваченное вместе со всеми его принадлежностями, ведь все интенциональности – это принадлежности. Вы видите!
И вот он, Гуссерль, ставит странный вопрос, он спрашивает: как совершается переход от имманентной трансцендентности к объективной?
Это значит: существует ли для монады средство выйти как бы за пределы самой себя? Вы помните судьбу монады? Мы попадаем в средоточие чего-то очень важного для Лейбница: без окон и дверей. И речи нет о том, чтобы она выходила за пределы самой себя. На первый взгляд, нет вопроса. Как ей выйти за пределы самой себя, если у нее нет ни окон ни дверей? И вот Гуссерль рассказывает такую историю и говорит: любопытно, так как эго с его принадлежностями, то есть монада, схватывает среди своих принадлежностей еще одну весьма своеобразную принадлежность. Это нечто, определяемое ею как Другой. То есть то, что она отождествляет с переживаемым телом Другого. Вот это – весьма любопытная интенциональность, особая интенциональность. Почему? Потому что это пустая интенциональность. У меня было много пустых интенциональностей: например, я смотрю вот на эту штуку, на этот аппарат, но у меня пустая интенциональность, лица я не вижу. Хотя это и пустая интенциональность, но мне достаточно сделать усилие, и, если она меня интересует, она наполнится. Тогда как если среди моих принадлежностей я встречаю одного из вас, то это пустая интенциональность.
[Конец пленки.]
Дело выглядит так, как если бы весь мир тек по направлению к Другому. Тело – уже не центр своего мира. Что же меня в нем интересует? В двух случаях живое тело – поистине нечто вроде линии, переходящей из сферы одного в сферу Другого. Можно ли сказать, что отец всего этого – Лейбниц? Увы, нет!
Но я не уверен, что он неправ. Ведь все элементы проблемы у вас в руках. Я полагаю, что Лейбниц сказал нам нечто вроде следующего: да, в принадлежностях монады все-таки есть что-то любопытное, и это то, что выйти за ее пределы никогда невозможно. Здесь мне потребовались бы тексты и понадобилось бы очень много времени; я дам всего лишь некое указание; полагаю, что мы не найдем тексты, доходящие до нижеследующего, я не заставляю его об этом говорить, но мы вращаемся вокруг вот такой идеи: существовали бы одни лишь монады, если бы не было животных, если бы не было живых существ. Именно витализм выводит Лейбница из спиритуализма.
Я отвечаю на вопрос Ришара: именно Лейбниц, по-моему, – создатель психологии животных. Животные ему нужны.
Часто он говорит это эксплицитно: те, кто считает, что существуют только монады и то, что включено в монады, могут верить только в человеческие души. В конечном счете, именно звери некоторым образом заставляют нас согласиться с тем, что существуют тела. Лейбниц, в отличие от Гуссерля, не считал, что это существование Другого. По простой, как мы увидим, причине: дело в том, что в замкнутых монадах не существует встречи с Другим. Необходимо объяснить эту встречу с Другим. Она может происходить только за пределами монад. Лейбниц не мог говорить об этом. Впрочем, я даже не уверен, что об этом мог говорить Гуссерль в «Картезианских размышлениях»; он говорит о встрече не с Другим, но с переживаемым телом Другого. Мне кажется, что это выходит за пределы возможности содержащихся в монадах перцепций. Гуссерль не может написать об этом; здесь по меньшей мере необходим некий генезис. Посмотрите текст: он очень красив. Как он говорит о генезисе, ведь он об этом говорит: речь идет о том, чтобы проследить некий генезис в этом пятом «Размышлении».
Я полагаю, что Гуссерль недостаточно задавался вопросом о генезисе переживаемого тела. Поймите, почему я так долго об этом рассуждаю. Я хотел бы, чтобы вы кое-что почувствовали, а именно: всякая мораль события имеет две координаты: будь достоин того, что с тобой происходит, а с другой: умей вписать это в свою плоть.
Иногда необходимо, чтобы действовало все. Что такое цивилизации? Всякая цивилизация предлагает нам некие способы вписывания события в плоть; всякая цивилизация предлагает нам способы быть достойным или недостойным.
Это очень сложно. Возьмите случай шута, который меня очаровывает. Шут – это основополагающий персонаж. О шуте написано много исследований. Это очень интересная фигура: шут. Возьмите для начала русского шута или шута английского. Вы можете продвигаться от Шекспира к Достоевскому (да, чуть не забыл: на первый взгляд, шут – это тот, кто недостоин того, что с ним происходит; он открыто показывает, что недостоин вписать это в свою плоть, он убегает отовсюду). И потом – более сложным способом – мы всегда узнаем, что именно шут оказался единственным, кто вписал события в свою плоть и оказался достойным происходящего. Об этом существуют разнообразные истории.
Можно начертить линию, которая начиналась бы как прямая и горизонтальная. А затем разветвить ее на две части, словно веточку. Мы поместили бы «событие» на прямую линию. На верхней бифуркации мы написали бы «виртуальное», – ясно? А что мы написали бы на нижней бифуркации? Мы написали бы «возможное», а потом нарисовали бы там большой шар с надписью «актуальное» – это и была бы монада. Монада включает в себя виртуальный мир, она актуализует его, она актуальна. С другой стороны мы написали бы «возможное», но шар бы не нарисовали: мы увидим, что там следовало бы разместить… там разместились бы разные штуковины, и на сей раз это было бы «реальное». Существует ошибка, которой делать не надо: иногда говорят, будто именно материя реальна. Нет, это не материя реальна, но материя приобретает такую реальность, какую может, или то, что ей соответствует, когда некий реализатор, о котором мы заранее знаем, что он имеет отношение к переживаемому телу, воплощается в материи: материя обретает реальность, когда она воплощает событие. Я не могу это выразить лучше.
У меня есть чувство, что именно потому, что у Лейбница два этажа, эти этажи образуют схему события, – и все-таки вы заранее чувствуете, что никогда не может быть ни малейших непосредственных отношений между душой и телом. Два этажа навсегда останутся разделенными. Я попросту говорю: реализатором, возможно, будет то, что способствует переходу с одного на другой, то, что передает аспекты события с одного этажа на другой. Реализатор – это опять-таки понятие, которое возникает в самом конце жизни Лейбница, в его последние годы. А перед этим он довольствуется ссылками на соответствие между двумя этажами – верхним и нижним. И действительно, в конце он приходит к чему-то более глубокому: недостаточно, чтобы событие актуализовалось в монадах, – необходимо, чтобы оно реализовалось в теле. В предшествовавшей этому философии Лейбница недостаточно говорится о том, что существует соответствие между двумя этажами, а реализации в теле способствует некий реализатор, объясняющий отношения между монадой и переживаемым телом.
Получается, в самом конце мы выделяем у Лейбница три аспекта.
Душа и сгибы в душе. Сгибы в душе – это события, в душе выражающиеся.
Материя и складки материи. То, в чем реализуется событие.
А между ними – обеспечивающий реализацию realisans, который уже не может быть ни монадой, ни переживаемым телом, но может быть лишь одним: тем, что соотносит переживаемое тело с монадой. Это будет отношением сгибов в душе со складками материи, и этому дадут латинское название: vinculum substantiale. Что же такое vinculum{ Лат. vinculum этимологически соотносится с польским «wiezel» (вензель) и русским «узел».}? Это цепь, это узел, это узы.
Что такое эта цепь?
Нужна ли цепь, чтобы складки двух разновидностей соответствовали друг другу? Зачем эта цепь в последний момент? Она ли выносит решения о текстурах материи, равно как и о качествах души? Нам необходима целая философия, которая подтвердит, что существуют не только сгибы в душе и складки материи, но и необходимо заставить вмешаться некий vinculum, который – если бы это было возможно – сшивал бы их между собой. Нет, он не пришивает одни к другим; на самом деле он только пришивает переживаемое тело, живое тело, каковое является телом монады. И все это необходимо рассмотреть чуть пристальнее.
Я говорю вам все это не для того, чтобы вы поняли: ведь если бы я обращался к вашему пониманию, все сказанное мною выглядело бы очень смутным; это для того, чтобы вы кое-что почувствовали. Я полагаю, что тут Лейбниц дает нам кое-что ощутить, и необходимо, чтобы я дал ощутить и вам: это концепция события. Событие – вы хотите, чтобы оно было чем? Не тем ли, что заставляет нас ходить на двух ногах или же ложиться спать? Что-то, обращающееся к достоинству и не имеющее ничего общего с расхожей фразой: «Будем вести себя достойно, так как другие смотрят на нас». И еще: нечто наносящее мне рану, хотя я неправильно говорю: «рану». Это даже гротескно: иногда оно царапает. Бывает щекотка событий, и, может быть, это лучшие события. Событие – это то, что касается твоего тела вот в этой форме! Или то, что касается твоей души вот в этой форме!
И это очень трудно: у всего есть свой отвратительный абсурд, и сказанное мною может быть одиозной фразой. Дело в том, что именно о слове «достойный» следовало бы договориться. Предположим, что кто-то только что потерял что-то важное, не деньги, а что-то в человеческом смысле. Вы хлопаете его по спине и говорите ему: «Будь достойным события». Надеюсь, ему остается разве что отвесить вам пощечину.
Так что же такое это достоинство? Я не могу сказать больше – дело за вами, если вы ставите проблему так: надо царапать себе тело. Царапать себя – это означает что? Надо завшиветь событием. Чесаться – как? Ведь существуют и неприличные способы царапать себя: «Я, несчастнейший». И каждое утро я начинаю себя царапать: «Я, несчастнейший!» На самом же деле «царапать себя» – это нечто совсем иное, я не несчастнейший. Но рецепта не существует.
Вы чувствуете, к чему я клоню? Иметь переживаемое тело, иметь живое тело. Ладно. Быть монадой, иметь живое тело: оказывается, что «быть монадой» означает быть только половиной нас самих; необходимо, чтобы мы имели живое тело!
Контесс: Я припоминаю об одном тексте Лейбница, где он говорил о том, что ты сказал о vinculum’е. Он приводит пример со слушанием какого-то источника звука, как мы слышим эхо.
Жиль Делёз: Это очень любопытно, потому что, насколько мне известно, существуют два текста. Vinculum у Лейбница появляется очень поздно; мы встречаем его – и я даже не уверен, что он есть где-нибудь еще, – только в переписке с де Боссом. Это одно. Но гораздо раньше, в письмах к Арно, существует необыкновенный фрагмент, где Лейбниц воображает оркестр, чьи части не видят друг друга, и где он не употребляет слово vinculum, так как еще не знает его, но уже употребляет слово «эхо». Здесь твоя память не изменяет тебе: в переписке с де Боссом, когда он говорит, что vinculum и есть эхо; это тексты невероятной сложности, и, насколько я знаю, именно Белаваль смог прокомментировать их так, что мы не ощутили никакой трудности. А ты очень хорошо запомнил: то, что ты говоришь, свидетельствует о большой верности Лейбницу. И это очевидно – то, что ты говоришь: предположи (я колоссально упрощаю) четыре источника звука. Уподобь их монадам. Их четыре. Возьмем четыре ноты.
Ноты – это перцепции, вы можете уподобить их монадам. Что такое эхо? Эпатирующий элемент в нем состоит в том, что оно повторяет звуки; оно предполагает источники звука. Но только в чем заключается чудесность эха? Как говорит Контесс, оно предполагает, например, стену. Каков эффект стены? Этот эффект образует единство эха благодаря четырем источникам звука, а раньше у них единства не было. Вы скажете мне: это единство могло бы возникнуть, даже если бы четыре ноты какого-нибудь музыкального произведения были всего лишь четырьмя нотами. Чудо эха – скажет нам Лейбниц – в том, что вводится некое вторичное единство. Но это вторичное единство станет существенным, потому что именно оно объяснит vinculum, своего рода «пришитость» живого тела. «Пришитость» живого тела и будет эхом. И вы видите, почему это необходимо Лейбницу: что осуществляет единство переживаемого тела, единство живого тела? Здесь Лейбниц внезапно вынуждает меня идти быстрее, но чем быстрее мы движемся, тем лучше.
Что может способствовать единству живого тела? Монады – это духи, они без окон и дверей, они равны друг другу, не существует монады монад. Необходимо, чтобы существовало нечто эквивалентное стене, чтобы из множества монад проистекало некое единство – вторичное единство: единство переживаемого тела, и это будет единством vinculum’а, то есть стены.
Вы спросите меня: откуда берется эта стена, что такое эта стена? Мы ее увидим. Это вторичное единство, это единство сшивания, и именно это будет конститутивным элементом переживаемого тела. Ведь если бы не было единства, то не существовало бы ни переживаемого тела, ни живого существа.
Выступление Контесса позволяет тем, кто хочет понять, как образуется это единство, сгруппировать проблемы: Лейбниц, Гуссерль и даже Сартр. Гуссерль обращается к этой проблеме эксплицитно, здесь бы чувствовался некий мой произвол, если бы она впрямую не упоминалась в пятом «Размышлении». Ну как?
Необходим генезис. Вот чего я под конец хочу; как жаль, что мы на этом не закончим, я бы не хотел переходить к другим вещам. Эта тема – два аспекта события. Хорошо бы провести практические занятия, наглядный урок. Я напишу вопрос: существует ли реальное виртуальное? Второй вопрос: существует ли возможное актуальное?
Так просто не ответишь. Посмотрите, если вы читаете комментаторов Лейбница: «возможное», «виртуальное», «актуальное», «реальное» – они употребляют эти слова как угодно. В конечном счете так поступают, правда, не все. Это очень досадно, что они употребляют их как угодно: вот у вас две строчки, а это – как если бы путали два этажа.
Возможное реализуется. Когда у Лейбница реализуется возможное (посмотрите контекст этого у Лейбница), очевидно, вы всегда будете находить опровергающие примеры, но это ничего: ведь когда возможное реализуется, то это всегда происходит в мире материи, в мире тела. А когда актуализуется виртуальное, это всегда происходит в душе.
И теперь у нас два этажа, а мы говорили, что необходима какая-то связь, какой-то узел, vinculum между ними – vinculum для чего? По вашему выбору! Для того чтобы существовал этаж внизу. Для того чтобы этаж, существующий внизу, поддерживал какие-то отношения с этажом вверху. Тут будет много ответов.
В начале года я сказал вам: мы будем заниматься барокко, как будто у нас есть его определение, а потом посмотрим, хорошенько посмотрим, куда это нас приведет. И я говорил вам, что барокко – это не производство складок, так как складки существовали во все эпохи; главное в барокко то, что складки доходят здесь до бесконечности. Несколько дней назад я наткнулся на каталоги Эль Греко: это поразительно. Это поражает. И поражает не только красотой, ведь что такое эта красота Эль Греко? Разумеется, разные картины построены по-разному. Он написал семь или восемь Христов в Гефсиманском саду. И один, в Лондоне, настолько странный, и я привожу его, так как это – доказательство нашей гипотезы: там всё – складки, нет ничего, кроме складок, только они! Складки распределены по трем регистрам: складки ткани, и это не в том смысле, что во всякой ткани есть складки! Если вы посмотрите на репродукцию этой картины, то там именно на тунике Христа складки так обработаны, что одни складки отсылают к другим. Это фантастическое исследование складок. Складки скал: скала на этой картине столь же складчата, как ткань. Складчатость скалы! И я добавляю трактовку облаков: настоящие складки, поистине складчатость облаков. Это намеренный способ трактовки облаков, совершенно так же Эль Греко трактовал скалы, и во всей картине имеется какой-то круговорот трех разновидностей складок, отсылающих друг к другу до бесконечности.
Теперь, когда мы подошли к концу, я спросил бы вас: ну, что мы проделали? Целая история со сгибами в душе. И опять-таки сгибы в душе происходят оттого, что событие включено в монаду. И потом, существуют складки материи. А что между ними? Этот шов, этот vinculum substantiale, который возникает там совсем незадолго до смерти Лейбница. Внезапно я спросил себя: какая разница, что придает материи текстуру, потому что когда-нибудь придется заняться текстурами материи. Лейбниц употребляет слово «текстура» в конце жизни. Должно быть, у него было очень много идей. Существуют эти текстуры материи, которые в нормальном случае должны были стать некоей физикой материи и некоей эстетикой материи. Эстетика текстур – по-моему, не существует более трудного понятия, но оно от этого становится лишь прекраснее; это не для того, чтобы обрушиваться на понятие «структура», однако я говорю себе: о структуре много говорили некоторое количество лет назад, и это не слишком плохо. Очень хорошо. Но если бы мы дали себе немного развлечься, чтобы использовать оставшиеся понятия… «Текстура» – это понятие, чрезвычайно трудное для анализа. Посмотрите на богатство материалов в связи с текстурами: существует «промышленный материал», но один из материалов изучен меньше всего, а возможно, он является важнейшим, и это живопись. Великие живописцы структур – это вам не абы кто! И мы обнаружим, что существуют разновидности современного барокко. Необходимо посмотреть, существует ли у великих барочных живописцев то, что можно назвать радикальными структурами. Я знаю трех великих живописцев модерна, использовавших текстуры, сходите посмотрите. Это Фотрие{ Фотрие, Жан (1898–1964) – франц. художник, крупнейший представитель ташизма.}, Дюбюффе{ Дюбюффе, Жан (1901–1985) – франц. художник и скульптор, представитель так называемого «ар-брют» («сырого» или «аутсайдерского» искусства).}, признававший, что он многим обязан Фотрие в связи со структурами, и Пауль Клее. Неслучайно их нельзя назвать совершенно чуждыми друг другу.
Наконец, что соотносит сгибы в душе со складками материи и складки материи со сгибами в душе? В то же время это меня озадачивает, так как мы раньше говорили, что все это держится без шва. А тут, возможно, возникает потребность в шве, шве, проходящем через живое тело, без чего неорганическое тело не было бы телом реальным, а было бы просто воображаемым телом, а монада – замкнутой в себе и т. д… Тело не могло бы отсылать ни к чему иному.
[Перерыв.]
Вопрос: О Христе. Можно ли сказать, что Христос – это монада, которая говорит: «Я воплощен, вот Я – воплощен»? Реализуется ли здесь некоторым образом воплощение монады? Можно ли сказать, что христианство, да и сам Христос были какими-то особенными событиями?
Жиль Делёз: Это несложно, я отвечаю быстро, потому что чем «фундаментальнее» вопрос, тем быстрее надо отвечать. [Смех.]
Прежде всего, не надо отождествлять монаду с событием. Событие – это то, что происходит и свершается в монаде, это то, что содержит происходящее и свершающееся в монаде. Событие – это переход через Рубикон, монада – это Цезарь. Прежде всего различение «монада – событие». Второй пункт: монада никогда не бывает воплощена по простой причине: дело в том, что монада самодостаточна, без окон и дверей. Когда ради быстроты продвижения мы говорим, что у монады есть тело, это значит, что в области монад нечто соотносится с такой-то монадой; стало быть, если Христос воплощен, то Он воплощен так, как воплощены все монады, и даже Он – это воплощенная монада. Ставит ли Христос какие-то особенные проблемы? Да! Но, как ни странно, не на уровне того, что у Лейбница относится к воплощению. Он поставил весьма своеобразную проблему на уровне пресуществления, а пресуществление – не воплощение, а транс-воплощение, когда Тело и Кровь Христа становятся хлебом и вином. Понимаешь? Итак, Лейбниц ставит особенную проблему в смысле перехода от одного тела к другому, перехода от тела Христа к написанному телу. Это означает, что сам Лейбниц был протестантом и не верил в пресуществление, но он согласился оказать помощь отцу де Боссу, у которого было много забот в этом отношении, и он сказал ему (это довольно веселый момент в переписке с отцом де Боссом): если бы я был Вами, то я говорил бы так и этак; и он дает пресуществлению очень странную интерпретацию, которая должна всех развеселить и которая послужила некоторым католикам, ведь отец де Босс был доволен. Во всяком случае, что касается Христа и воплощения, у Лейбница, насколько мне известно, не было особенной позиции, кроме того, что Он, конечно, представляет собой архетип, или модель, воплощения.
Будем вновь исходить из нашего генезиса. Только не двигайтесь в обратном направлении, хотя всегда возникает такой соблазн. Вы ведь помните этот генезис, который, исходя из монады, состоит в том, что монада включает в себя все, она выражает весь мир. Она выражает все мироздание. Правда, – внимание! – в ней есть небольшая привилегированная область, которую она выражает особенно, или ясно. Мы это видели. Такова первая пропозиция. Вторая пропозиция: следовательно, я имею тело. Вот что необходимо понять. Следовательно, я имею тело. На самом деле иначе и быть не могло. Возможно, удобнее было бы сказать: я имею тело, а стало быть, выражаю некую привилегированную область! Единственное достоверное – это то, что имеется привилегированная область, моя маленькая сфера, которую я ясно выражаю: ведь мы сказали, что я выражаю весь мир, но выражаю я его смутно и запутанно. Почувствуйте все это, раз уж не будет времени этим заняться. Почувствуйте, что у Лейбница существуют весьма разнообразные статусы монад. Например, бабочка отсылает не к монаде, напоминающей вас и меня. Существует целая иерархия монад, существует великая иерархия монад. Необходимо спросить себя: существуют ли монады, которые ничего не выражают ясно, у которых нет особенной зоны? Здесь тексты весьма разнятся, необходимо провести очень точные исследования. Лейбниц пишет разное, в зависимости от представившихся случаев. В зависимости от случаев он выдвигает мнение, что некоторые монады полностью погружаются в ночь. Существуют и другие, которые на протяжении определенного времени выражают небольшую ясную область. По-моему, животные имеют монаду, которая неизбежно выражает небольшую ясную область. Например, корова ясно выражает свою лужайку. Только из-за того, что она выражает свою лужайку, она постепенно начинает выражать и окружающий мир, и все мироздание. Даже у коровы есть зона ясного выражения, и если ее перевезти на другую лужайку, то у нее изменится способ ясного выражения. Итак, с животными то же самое. Однако в других текстах Лейбниц как будто говорит нам, что только у разумных душ есть зона ясного выражения. Ваша зона ясного выражения есть то, что касается вашего тела. У нас нет времени, но текстов много, и речь идет, в особенности, о письмах к Арно.
Я процитирую страницу 215 в избранных отрывках из переписки с госпожой Пренан: «Я говорил, что душа естественным образом выражает, в некотором смысле, все мироздание и в соответствии с отношениями, которые другие тела устанавливают с ее телом»; именно это определяет мою ясную область: все, что касается моего тела; и некоторым образом необходимо, чтобы это проходило сквозь мое тело. Первое здесь – монада без окон и дверей. Почему же она имеет область ясного выражения? Потому что в ней есть определенное количество сингулярностей, вокруг которых она построена. Об этом я расскажу позднее.
[Конец первой части.]
Лекция 9–10
Часть вторая
(19.05.1987 – 20.05.1987)
Что же позволяет мне определять тело как предмет перцепции? Я должен сказать, что ответы Лейбница поразительны. Я бы хотел просто привести их вам, чтобы вы поразмыслили. Первый ответ объясняет то, что тело, которое я схватываю лишь очень смутно, можно в то же время назвать условием, при котором со мной соотносится все, что я выражаю ясно. Вы обнаружите у Лейбница всевозможные тексты, где сказано в общем и целом следующее: существуют малые бессознательные перцепции, и с помощью этих малых бессознательных перцепций мы получаем осознанную перцепцию. Кроме того, работают органы чувств. Примеры, которые он охотно приводит, таковы: вы не слышите шум водяных капель, если вода достаточно далеко, вы не слышите даже шум отдаленной волны, а потом вы постепенно начинаете слышать шум приближающихся волн, пока это не становится осознанной перцепцией: шум моря. Или же он говорит: вы не слышите того, что говорит каждый человек в толпе, но вы слышите гам. Существует много текстов Лейбница на эту тему. И возникает желание истолковывать их в разрезе «часть – целое». Возникает желание сказать, что это очень просто: мы не перципируем части, но мы перципируем целое, – и это напоминает нам нечто из психофизики. Существовал такой психолог – и когда мы сдавали экзамен на степень бакалавра, он казался нам особенно несносным, – и звали его Фехнер{ Фехнер, Густав Теодор (1801–1887) – один из первых экспериментальных психологов; основатель психофизики и психофизиологии.}, он пытался установить отношения между ростом возбуждения и возникновением ощущения. Это всегда непросто, так как сдать экзамен на бакалавра – всегда непросто, а Фехнер – философ XIX века, и гениальный философ. И одно из его гениальных свойств – в том, что он был лейбницианцем: это один из основополагающих пунктов его психофизики. Более того, он отнюдь не был ученым-позитивистом, как нас учили в психофизике (а позитивизм – это не комплимент); я бы сказал, что Фехнер был своего рода грандиозным шутом, это величайший немецкий романтик, постромантик. Итак, весьма любопытно, что он создал эту дисциплину; впрочем, неважно.
Если вы посмотрите тексты, то вы догадаетесь кое о чем гораздо более любопытном. Попытайтесь понять хоть самую малость, а понять это несложно: исчисление бесконечно малых в его основах, в самых основах. У вас два количества, x и y, и это переменные. Вы могли бы прибавлять к ним и отнимать от них сколько вам угодно. Назовем их, например, Dx, Dy – все что угодно. А потом вы сможете подвергнуть это сложению и вычитанию.
[Конец пленки.]
Лекция 11
Душа и тело
(25.05.1987)
Итак, слушайте меня внимательно, если вы меня слышите. Как я вам сказал в последний раз, у нас осталось две лекции, относительно которых я прошу у вас прошения за то, что они будут такие короткие, а потом, потом я не смогу – в силу тысячи причин – продолжать. Итак, сегодня и на следующей неделе. После этого наша работа за этот год закончится. В остальные вторники я буду приходить лишь для того, чтобы уладить дела с первым, вторым и третьим курсом и получить работы тех из вас, кто должен их передать мне. Итак, я проведу собрания. Остальное меня не интересует. Я получил документ, и в нем некоторые из вас обращаются ко мне за сертификатом. Стало быть, и за этим я тоже приду. Если вдруг я не смогу прийти, будьте так любезны, позвоните мне, но не злоупотребляйте телефоном. Мой телефон вписан в годовой журнал. Вот так. Остальное – сегодня и в следующий раз, и это очень просто. Это немного похоже на то, как если бы этот курс о Лейбнице, немного продвигаясь вперед и в основном пятясь назад, превратился в работу, которой предстояло бы продолжаться два года. И получается, что то, что я делаю сейчас, – это очень много, так как это должен был быть материал для следующего года. Я бы очень хотел предложить вам несколько раз пробежаться по двум этажам, так как это было нашей отправной точкой. Эта двухэтажная философия… Посещение двух этажей, или – если угодно – ряда грез; я бы очень хотел, чтобы вы выступали о том, есть ли начало грез в этой организации философии Лейбница, и особенно о роли, которую оно играет для живых, или органических, существ. И это должно было бы подвести нас к соответствующим отношениям между двумя этажами: этажом душ и этажом тел в общем и целом; но мы увидели и промежуток, не относящийся ни к душам, ни к телам. Вот почему я говорю «грезы»: ведь всякий раз, когда я произношу какую-нибудь фразу, ее надо исправлять, и вы сами будете ее исправлять. Это не моя вина, это стиль Лейбница. Необходимо оказаться на этих двух этажах: есть ли между ними какой-нибудь общий закон и каковы их отношения? Эти отношения мы уже предчувствуем: это то, что Лейбниц назовет отношениями гармонии. Гармонии душ между собой, гармонии тел между собой, гармонии между душами и телами. А то, на чем хотелось бы закончить, – концепт, ставший основополагающим для философии: что общего у него с тем, что примерно в ту же эпоху происходит в музыке? Здесь мне дают, например, книжечку Рамо, где я читаю: «Выражение физического состоит в мере и движении». Если я прочту это «глупо», используя ассоциации идей, то скажу себе, что, может быть, это отсылает к предшествующей музыке. Выражение физического состоит в мере и движении; мы-то уже знаем, что у Лейбница в счет идет не движение, но то основание движения, которое он назовет силой. Я продолжаю: «Выражение физического состоит в мере и движении. Выражение патетического, наоборот…» – у Лейбница ли впервые приходит патетическое? Здесь я прерываюсь. Неважно, мы грезим. Ну да, пафос приходит. Почему? Потому что Лейбниц скажет нам, что по ту сторону движения существует нечто иное. А что находится по ту сторону движения? Альтерация, вариативность, пафос. «Выражение физического… выражение патетического, наоборот, состоит в гармонии и сгибах». Может быть, вы помните: это были наши первые слова в этом году. Когда речь зашла об определении философии Лейбница, мы сказали: будем исходить из сгибов. «Выражение патетического, наоборот, состоит в гармонии и сгибах, – это следует хорошо взвесить, прежде чем выносить решение о том, какая чаша весов перетянет». Рамо говорит нам: вы, музыканты, хорошо поразмышляйте о том, какая чаша перетянет, или же о мере и движении, которые составляют физику, музыкальную физику, или же патетическое, которое находится в гармонии и сгибах.
Если мы согласимся с идеей о том, что приблизительно в ту же эпоху музыка претерпевает очень важную мутацию, которая постигнет уже Монтеверди и фундаментальным образом коснется Баха, то не можем ли мы считать также, когда Лейбниц демонстрирует нам свои основополагающие концепты – предустановленную гармонию и то, что он противопоставляет предустановленную гармонию Декарту и картезианцам, одновременно упрекая Декарта и картезианцев за то, что они застряли на движении и тем самым не поняли природы движения, – не можем ли мы сказать: да, здесь кое-что уловлено? Мы можем лишь удивляться, что никто до сих пор не провел сопоставления между Лейбницем и музыкой.
Итак, попытаемся перераспределить эти этажи, эту историю, два этих барочных этажа. Вы помните, мы говорили следующее: основополагающей является линия со сгибами. Почему же она является основополагающей? Я не начинаю сначала, а предполагаю, что вы сколько-нибудь присутствовали.
Это не прямая линия, но она демонстрирует сингулярности. Как вы помните, сингулярности внутренние. Возьмем абстрактную репрезентацию линии, представляющую внутренние сингулярности: это линия со сгибами. Мы видели ее у Пауля Клее. Мы говорили себе: вот это – барочная линия. Что это означает конкретно?
Конкретно это означает следующее: то, что идет в счет и образует чуть ли не единство мира, есть событие. Событие есть сгиб. Сгиб есть абстрактная фигура события; событие есть конкретный случай сгиба. А что такое мир? Это некое множество, это бесконечная последовательность сгибов, или событий, которые могут быть названы состояниями мира. На что вы мне, быть может, скажете: это нечто вроде любопытного способа определять и представлять, чем станет этаж душ, то есть событиями и сгибами. Дело в том, что все уже перемешано. Сократ сидит в темнице. Вы видите: это отсылает к знаменитому тексту Платона. Почему же Сократ сидит в темнице, дожидаясь смерти? И Платон спрашивает: есть ли у него колени, которые могут сгибаться? Конечно, у него есть колени, которые могут сгибаться. Тем не менее он сидит в темнице не потому, что у него есть колени, которые могут сгибаться. Он сидит в темнице, потому что считает это благом. Он считает благом не пытаться устраивать побег. Он дожидается осуждения.
Что же это означает? Поймите, всякое действие должно соотноситься с двумя вещами сразу: с действующими причинами – о чем сказал еще Платон, но скажет и Лейбниц, и он скажет это с большей силой – и целевыми причинами. Сократ сидит в темнице, потому что он считает это благом, целевая причина. Я скажу нечто очень простое: всякое событие есть событие духа, и я не хочу сказать ничего иного. Или – если вы предпочитаете – само собой разумеется, что всякое событие касается тел, и я, наверное, не мог бы привести ни одного события, которое тел не касается; но я просто говорю: давайте пока оставим это в стороне. Понятно, что мы не можем сказать все сразу, и все-таки мы пока не занимаемся аспектом события, касающимся тел; мы им пока не занимаемся, так как существует другой аспект события. Если вы спросите меня: разве это не дуализм? – я отвечу: нет, это не дуализм, одно неукоснительно располагается в другом – но каким способом? Какие отношения будут между двумя аспектами, когда событие и в телах, но оно не только в телах?
Ладно, это проясняет самую малость, это отвечает на возражение, которое я делал самому себе… Я собираюсь говорить вам о духе, а потом начинаю с события, которое как бы сидит в темнице. А мы видели, как продвигался вперед, открывая дух, Лейбниц. Дело в том, что линия со сгибами, или линия с событиями, свернута в некоем духовном единстве, которое будет называться монадой. Мы движемся от сгиба к свертыванию. Я сюда не вернусь. И получается, что если верно, что всякий сгиб есть сингулярность, внутренняя сингулярность, то надо будет сказать, что монада есть сгущение сингулярностей, или – если угодно – что монада выражает мир.
Она выражает мир в каком смысле? События суть предикаты. А мы видели, до какой степени могло бы быть пагубным для понимания философии Лейбница полагать, что предикаты суть атрибуты, атрибуты суждения, ведь предикаты – это события, выраженные пропозициями. Тип пропозиции у Лейбница – это не «небо голубое», а «Цезарь переходит Рубикон». Поймите, почему я на этом настаиваю: если у нас что-то другое, если мы не понимаем этого очень живо, то мы ничего не поймем в том, что имеет в виду Лейбниц. А если мы столь настойчиво сопоставляем Лейбница с Уайтхедом, то именно по этой причине: это философии события, и в них в конечном счете всё есть событие, а тем самым всё есть предикат субъектов, индивидуальных единств, которые выражают мир. Стало быть, вот это – первая стадия, которая позволяет сказать мне сразу, что всякая индивидуальная субстанция, всякая монада, всякая душа или всякий дух – будем считать их тождественными – выражает тотальность мира. И надо сказать при этом, что монады – именно для того мира, который они выражают: если бы мир был другим, монады тоже были бы другими, так как они выражали бы другой мир. Стало быть, надо сказать сразу: монады – для мира, который они выражают, но этот мир не существует за пределами монад, которые выражают его. Стало быть, что такое мир? Это общее выражение всех монад, которых Бог допустил к существованию. Он мог бы допустить к существованию и другие монады, но именно в тот момент это был бы уже другой мир. Он мог бы выбрать и другой мир, и мы видели это причудливое понятие выбора мира у Лейбница. Сделаем еще шаг в рассмотрении этого этажа: вы видите, что мы попали на весьма интересный этаж, но, по крайней мере, закончили ту мысль, которая была нашей отправной точкой, а именно, что мир выражается каждой монадой, да-да, и поскольку мир не существует за пределами выражающих его монад, то необходимо сказать, что каждая монада имеет бесконечное множество складок, мир вложен в складки каждой монады. И эта тема складок всплыла уже на уровне духа. И сразу же возникла проблема: почему не одна-единственная монада? Зачем столько монад? Почему существует бесконечное множество монад, выражающих один и тот же мир? Лейбниц нам дал такой ответ: не потому, что существует один-единственный мир, есть один-единственный Бог! Почему, согласно Лейбницу, Спиноза неправ? Ответ Лейбница: дело в том, что, конечно же, существует некое индивидуальное основание, существует принцип индивидуации монад, а именно: то, что все они выражают один и тот же мир до бесконечности, но ясно они выражают лишь малую часть мира. Каждый из нас ясно выражает лишь малую часть мира, так что с самого начала этот этаж душ, независимо от тела, – вот что для меня важно у Лейбница: дело в том, что тьма возникает не в теле. Еще раз: это душа темна, это душа смутна. У нее лишь небольшая зона ясности. Ее малая порция ясности – это ее малая привилегированная область, которую она выражает особенным образом. Она выражает особенным образом некое привилегированное понятие: и вы, и я, и тот, кто жил тысячу лет назад. Мы выражаем не одну и ту же область мира – то, что так хорошо показал Лейбниц: у каждого свой отдел, и я не буду возвращаться к тому, до какой степени его можно свертывать или расширять. До какой степени, например, у прóклятого он сводится на нет, почти на нет, и наоборот, у благочестивого человека расширяется. Все это – понятия, которые наносят нам визиты на этом этаже душ. И вы меня останóвите: ведь это похоже на посещение комнаты на двух этих этажах. И тогда вы спросите меня: к чему это? Давайте займемся «бухгалтерским учетом».
Вопрос: Меня смущает небольшая проблема. Можно ли из того факта, что все монады друг с другом общаются, вывести, что мира не существует?
Жиль Делёз: Нет. Так как тут было бы противоречие. Если я утверждал, что, строго говоря, монады не имеют ничего общего друг с другом, поскольку они вступают в контакт, то это не работало, так как этот контакт сформировал нечто общее: общий мир. Дело в том, что о монадах невозможно даже сказать – и Лейбниц пишет об этом в одном тексте – насколько они далеки или близки: у них нет ни окон, ни дверей. Они полностью замкнуты в себе, они закрыты.
Вопрос: Но вы как-то говорили об их отношениях. Странно утверждать, что монады существуют для мира, который они выражают, но этот мир не существует за пределами этих монад.
Жиль Делёз: Вот именно, это существенно. Вопрос очень хороший, потому что если вы упустите один из двух аспектов, то дело дрянь. Необходимо любой ценой сохранять два аспекта. Разумеется, мир не существует за пределами монад. А как ему еще существовать? Он не существует за пределами монад по очень простой причине: дело в том, что всякий предикат находится в субъекте. Или, если вы предпочитаете, все, что дает повод для сгиба, вложено в монаду; стало быть, не существует такого мира, который не был бы вложен в эту разновидность оболочки – в монаду, в вас или меня.
Я думаю о чем-то совершенно ином. Я думаю о знаменитом тексте Пруста: как мир может быть непрерывно вложен в персонажа, в личность. Вот пример. С точки зрения Лейбница, мир всегда вложен в индивидуальные единства. Почему? Потому что если вы понимаете, что событие всегда есть сгиб, а сгиб всего лишь вложен в… я не буду повторять. Итак, я могу сказать: мир существует только в выражающих его монадах, но надо сказать также: монады существуют только для мира, который они выражают. Почему? Потому что – и Лейбниц все время возвращается к этому – Бог не создал Адама грешника, Он создал мир, где согрешил Адам. Он не создал такую-то монаду, еще такую-то монаду, еще одну монаду, которые в один и тот же момент выражали не один и тот же мир. Он создал некий мир. А мог бы создать и другой. Когда Он допустил этот мир к существованию, Он провел его через бесконечное множество монад (и создал их), которые этот мир выражают. В противном случае Он не смог бы сделать ничего. Если бы Он не создал некий общий мир, где существуют индивиды, субъекты и т. д., то мы попали бы в ситуацию, в которой Он мог бы создать и другие миры… У Лейбница – концепция бесконечного множества возможных миров, являющихся – как он говорит – несовозможными друг другу. Он выбирает один из этих миров, тот, где больше всего реальности, тот, где наибольшее количество реальности; как он говорит, самый совершенный. Но этот мир не существует сам по себе, независимо от индивидуальных субстанций, так как индивидуальные субстанции – это и есть сама реальность, у которой нет существования вне выражающих ее индивидуальных субстанций. Я на этом настаиваю, потому что если бы мы ничего не поняли на этом уровне, то мы бы ничего не поняли и на остальных.
Я задаю следующий вопрос: что такое понятие гармонии? Когда Лейбниц употребляет слово «гармония» – а я не говорю здесь ни в терминах музыки, ни в терминах философии, я говорю: давайте выдвинем какую-нибудь гипотезу в связи с этим вопросом, и она пригодится нам для следующего раза. Гармония, [существует] колоссальное количество текстов Лейбница о гармонии. Мы поищем, что между ними общего. И я полагаю, что если мы сопоставим все тексты, хотя у нас нет на это времени, мы увидим, что гармония – это отношения, которые касаются выражения. Это отношения выражения, это выражение как отношение. Ну и вот, мы, может быть, согласились с этим относительно музыки, так как известным образом – и мы это увидим в следующий раз – музыку и барокко объединяет притязание на выразительную ценность. Выразительная ценность музыки – именно в эпоху барокко музыка начинает притязать на нее. Выразительная ценность музыки была уже введена в эпоху барокко. Возможно, это чуть-чуть напоминает то, что Рамо называл «патетическим», но мы еще посмотрим. Я говорю: гармония – это отношения выражения; но что такое «отношения выражения»? Я называю отношениями выражения отношения между тем, что называется «выражающее», и тем, что называется «выраженное». Если я не определю этих отношений, никакого смысла не будет. Если выражение есть отношения между выражающим и выраженным, то в чем состоят эти отношения? Я предлагаю в качестве гипотезы считать, что они двойственны. С одной стороны, выраженное не существует за пределами выражающего; с другой – и в то же время – выражающее вступает в упорядоченные отношения со своим выраженным. Какая радость… Я бы никогда не подумал, что мы сможем добраться до чего-то сразу и столь ясного, и столь абстрактного. Я полагаю, что вот она – гармония и что она не сводится ни к чему иному: две вещи находятся в гармонии, когда попадают в такую ситуацию. Я отсылаю к тексту, написанному по-латыни; не думаю, что он переведен. Это «Quid sit idea», «Что такое идея», том 7 «Œuvres philosophiques», где Лейбниц анализирует отношения выражения. Я полагаю, что этот текст (я не имею в виду то, что находится в самом тексте) подводит к заключению, которое я из него вывожу: к отношениям между выраженным и выражающим. Необходимы оба сразу: то, что я выражаю, не существует вне меня, и это весьма странные отношения. Именно поэтому я говорил вам: между выраженным и выражающим существует какая-то скрученность. За пределами «Я» существует некая скрученность. То, что я выражаю, не существует за пределами «Я», и в то же время я только и существую в упорядоченном соответствии с тем, что выражаю. Как это называется в математике? Теперь я смею это сказать: это недалеко от того, что называется функцией! И я не знаю, можно ли в математике сказать, – я знаю, кто мог бы нам это пояснить, но мне не хочется докучать ему, – можно ли в математике сказать, что функция фундаментальным образом выразительна. Если существуют два члена, то функция – отношения между двумя членами в том виде, что один не существует независимо от другого, а другой не существует независимо от упорядоченных отношений с первым. Я утверждаю: мир, который избрал Бог, не существует вне выражающих его монад. Выражающих, как мы видели, по-разному: не существует двух монад, выражающих мир одинаково, – мы видели, это теория точки зрения. Мы видели, в чем эта теория состоит. В том, что у каждого из нас есть своя область, своя маленькая зона ясного выражения.
Вопрос: Откуда берется этот предел?
Жиль Делёз: Мы конечны. Всякое творение конечно – имеется лишь одно существо, у которого нет такого предела, это Бог. Он адекватно и отчетливо выражает не только мироздание, которое Он избрал, но и бесконечное множество иных мирозданий. Но наша конечность означает, что мы, с одной стороны, выражаем лишь один-единственный мир среди всех совозможных миров и что, с другой – мы ясно выражаем лишь небольшую область этого мира. Последствием чего это является? Это последствие нашей конечности, то есть того, что у нас есть не только выразительная сила, но и – мы видели это в прошлый раз – некая первоматерия. Первоматерия, что означает: потенция конечности.
Реплика: Если все монады конечны, то благодаря Богу мир все-таки бесконечен.
Жиль Делёз: Ну да, потому что существует бесконечное множество монад.
Реплика: Это позволяет, тем не менее, предположить, что имеется некий мир, который существует за пределами монад.
Жиль Делёз: Почему? Необходимо найти другое слово. Уже давно, и по поводу чего-то иного, я предложил другое слово: мир не существует, не экзистирует за пределами монад – надо сказать, что он инсистирует, упорствует. Он не существует. Это любопытно, так как я дождался того, что трудности кончились, но был захвачен врасплох. Я говорю: монады – это и есть существование мира. Для меня – не для меня, для Лейбница ясно само собой, что мир не существует за пределами монад, так как если мы спросим, что такое существование мира, то он ответит: это монады.
Реплика: Но Бог больше совокупности монад.
Жиль Делёз: Очевидно… Я сделаю небольшой чертеж. Я сделаю его пунктиром, потому что в качестве мира он имеет лишь виртуальное существование. Но он не становится актуальным, он актуален только в монадах, каждая из которых выражает его в целом. Каковы различия между монадами? Они выражают мир в целом с некоей точки зрения (здесь дело усложняется) то есть каждая монада имеет привилегированную зону. И получается, что можно сказать: мир существует только в монадах, но каждая монада поддерживает упорядоченные отношения с миром согласно собственной точке зрения… Я чувствую, что ты не лейбницианка.
Вопрос: [не слышно].
Жиль Делёз: Невозможно, существует безусловная несводимость монад друг к другу. Вы видите, почему? Это потому, что Лейбниц не хочет этой идеи одного-единственного мира.
Вопрос [Изабель Стенгерс?]: В физико-математике проблема была поставлена в конце XVIII века; дело в том, что физико-математики построили глобальные функции, например потенциальную энергию, поле – по сути, предок нашей сегодняшней теории полей. Но когда мы исходим из определения потенциала (как раз после Лагранжа), то сила уже не предстает в виде функции, каковая является локальной производной от функции, одновременно репрезентирующей интеграл системы в тот же момент; и в течение некоторого времени существовала полная симметрия между идеей того, что силы, по сути, представляют собой всего лишь локальные производные от интегрального поля, что интегральное поле построено исходя из локальных сил. Отношения симметрии постулировались электромагнетизмом. (Жиль Делёз: Ага, ага…) Поле обрело автономию… Нет примирения с теорией относительности Эйнштейна, имеющей в виду гравитационное поле и электромагнетизм.
Жиль Делёз: Согласен. И мы, лейбницианцы, можем, разумеется, сказать: Лейбниц не разрешил проблемы актуальной науки, но он разрешил ту проблему, которую ты упомянула на уровне второго этажа, на уровне теории материи. И это мы вскоре увидим, если продолжим этот визит.
Продолжим. Эта комната душ. Она колоссальна, потому что уже содержит весь мир, выражения мира, несовозможные миры, свободу, наконец, все, о чем мы говорили. У каждого из нас есть своя область, и я на этом настаиваю: тело, которое мы пока еще не задействовали. То, что мы задействовали, было первоматерией, то есть: всякая индивидуальная субстанция, или монада, имеет в виду активную изначальную силу и пассивную изначальную силу; пассивная изначальная сила называется первоматерией и образует единое целое со своей конечностью. Иными словами: то, что я не выражаю ясно всю тотальность мира, то, что у меня есть лишь совсем маленькая зона ясного выражения, – что это такое? Это означает не что иное, как другой способ сказать, что существует множество монад, что в мире я не одинок. Темное во мне – это от других. Очень жарко… Тень – это роль других, это множественность монад, из-за которой один лишь Бог не находится в тени. Но вот у нас есть темная часть, у нас есть черная часть, у нас есть мрачная часть – и это дно нашей души. И это не означает зло. Это будет возможностью зла, но это не означает зло. Это означает, что всякая истина должна вырываться из этой тьмы. Но ведь отправная точка всякого вытягивания истины – это небольшая ясная область, которую выражает каждый из нас. И мы, исходя из этого, видели души или духов, но души и разумные духи обладают своим способом добираться до истины – способом, который мы видели в прошлый раз благодаря анализу перцепции. Внутренние перцепции монады: так как монады, выражая мир, перципируют события, эти перцепции состоят в вытягивании ясности из тьмы в ходе того, что малые незаметные перцепции образуют, как он говорит, примечательную перцепцию. И это всегда – теория сингулярных точек, то есть теория примечательных точек. А мы видели, как в каждой монаде происходит это формирование примечательной перцепции. И, исходя из складывания примечательной перцепции, мы придем к другим истинам, которые мы анализировали; я вам об этом напоминаю, и как раз ряды, сходящиеся по направлению к реквизитам, выходящим за рамки вещей, перципируемых вещей, эти бесконечные ряды ведут дальше, к идее Бога. Я к этому не вернусь, но все это постепенно увеличивает нашу квартиру. Мы остановимся вот на этом этаже и сразу же спросим: что происходит? В первой квартире только это. Мы всё сделали, учитывая колоссальные проблемы, которые возникают: проблему свободы, проблему… И внезапно: что определяет второй этаж, что? Именно: «я имею тело»! Необходимо, чтобы я добавил: на первом этаже уже имеется большое разнообразие – дело в том, что монады не равноценны. И дело не только в том, что мы видели, что у монад зоны ясного выражения имеют разные размеры, но еще и в том, что они не довольствуются зоной примечательной, или отмеченной, перцепции и стремятся к божественным истинам, стремятся к бесконечным рядам. Чем же могут быть эти монады? Иными словами, верно ли, что каждая монада – это разумная душа или дух? На этаже, где мы находимся, мы можем встретить лишь разумные души или духов.
Итак, я говорю: смелее, мы перескакиваем на второй этаж. Что заставляет нас прыгнуть – нечто вроде лестницы, но что? Что требует того, чтобы я имел тело? Событие. Событие не довольствуется первым этажом. Итак, если мы попытаемся начертить схему, то ее потребуется разместить между этажами. И в конечном счете между этажами будет то, что, как мы видели, относится к первому этажу, и это что? Это событие как духовная обусловленность. А что такое событие как духовная обусловленность? Это событие, или сгиб, в той мере, в какой они актуализуются в индивидуальном субъекте. Вы помните: мир есть виртуальность, и здесь обыгрывается лейбницианская пара «виртуальное – актуальное». Мир есть виртуальность, актуализующаяся в каждой выражающей ее монаде. Если угодно, монада есть актуальное существование мира, а мир актуально существует лишь в монадах, в противном случае это чистая виртуальность. А на что еще притязает событие? Мне кажется, что оно очень красиво. Сократ сидит в темнице, потому что находит, что это красиво. Однако надо добавить и кое-что еще. Надо еще иметь сгибающиеся колени. Иными словами, я не вижу ничего более прекрасного, и поэтому говорю вам столь простую вещь. Необходимо также, чтобы событие вписывалось в тела, иными словами, событие – это не просто некая виртуальность, которая вас ожидает, подстерегает и актуализуется в вашей душе. Событие – это возможность, которая реализуется в ваших телах, и вот это и будет нижним этажом. «Я имею тело!» – почему? Первое основание: потому что я могу выражать только ясную, ограниченную область; как раз потому, что я могу выразить лишь малую часть. Бог не имеет тела. Тело – это как раз мой «отдел». И вспомните то, на чем мы настаивали: прежде всего не прибегайте к перестановке, из-за которой Лейбниц становится непонятным: не потому, что я имею тело, у меня есть зона ограниченного выражения, а потому, что у меня есть зона ограниченного выражения, вот потому-то я и имею тело. На самом деле то, что я выражаю, то, что моя монада выражает ясно, будет касаться моего тела, а стало быть, отношений других тел с моим. Иными словами, событие не может реализоваться в теле, каковое является моим; оно может выражаться лишь во взаимодействии тел, в их воздействии на мое. Необходимо, чтобы я имел тело, а я не имел бы тело, если бы не существовало других тел, взаимодействующих и воздействующих на мое. То, что я имею тело, проистекает из моей конечности, то есть из пассивной потенции, или, если угодно, из факта, что у меня лишь очень ограниченная зона ясного выражения.
Вопрос: Реализуется ли событие в развертывании времени? И где здесь время?
Жиль Делёз: Реализованное событие не есть развертывание времени. Ваш вопрос очень правильный, так как мы совсем не говорили ни о времени, ни о пространстве. Время и пространство во всем следуют этому множеству. На верхнем этаже уже имеется некое пространство и некое время; правда, это время будет только лишь порядком сосуществующих возможностей. Например, ваша монада, ваш дух – в качестве духа – либо сосуществует, либо же не сосуществует с духом, например, Цезаря. Вы принадлежите не к одной и той же эпохе. И это совершенно понятно. Стало быть, время, как порядок возможных последовательностей, и пространство, как порядок возможных сосуществований, относятся к первому этажу. Я отвечаю по мере возможности на ваш вопрос: это пространство и это время пока еще не имеют ничего общего с протяженностью и с длительностью. Это не один и тот же этаж. Какое отношение это время имеет к бесконечному времени? Это не бесконечное время, поскольку оно вторично по отношению к тому, что заполняет его. Если оно и бесконечно, то это следствие: не могло бы существовать ни пустое пространство, ни пустое время, которые были бы заполнены действием Бога. То, что я называю пространством и временем, есть порядок сосуществований и последовательностей между монадами, так что получается, что они могли бы менять пространство, места в пространстве или моменты во времени, а сами не менялись бы. В противном случае это не имело бы смысла.
Вопрос: Время до бесконечности виртуально?
Жиль Делёз: В конечном счете и да, и нет. Оно виртуально, если вы отождествляете его со временем мира. Оно актуально, если вы воспринимаете его как порядок последовательности монад и монады эти актуальны. Это будет сложная проблема с математической точки зрения, так как вы чувствуете, что на первом этаже действует логика времени, определяемого, например, как порядок последовательностей, – или логика пространства, и Лейбниц придает большое значение различию между этими словами. Относительно этого этажа он использует лишь термины «spatium», «пространство» и «tempus», «время». Когда вы видите слова extensio{ Протяженность (лат.).} или extensum{ Протяжение (лат.).}, то это никогда не отсылает к только что упомянутому; наоборот, это отсылает к тому, что уже касается тел. И тогда проблемой будут отношения между spatium и extensio, и это будет одной из математических теорий – по-моему, одной из самых дерзких теорий Лейбница. Вот наконец все, что я смог наскоро сказать.
Вы видите: каждый из нас имеет тело, и в то же время это такое тело, с которым взаимодействуют и на которое воздействуют другие тела. Возьмем, например, «Монадологию». Там уже есть проблема: у вас две системы, два этажа подчинены двум совершенно несхожим модусам построения. Модус построения первого этажа – виртуальный мир, актуально существующий лишь в каждой монаде; иными словами, каждая монада выражает тотальность мира и включена в тотальность мира. На уровне тел, где находитесь вы, это уже совсем не так. Тела экстериорны по отношению друг к другу и взаимодействуют между собой. Монады же, наоборот, таковы, что мир интериорен каждой, и они без окон и дверей, то есть они не взаимодействуют. Каждая выражает мир «за себя». Без окон и дверей. А вот на другом этаже имеется взаимодействие тел. Я бы сказал: ясно я выражаю в мире тела, непосредственно воздействующие на мое, и это происходит через процесс аффекции, взаимодействия тел: именно через этот процесс нечто на данном этаже реагирует на внутренние перцепции монад. В прошлый раз мы это видели, когда я попытался проанализировать пример с каплей воды и с волной и когда мы видели, что между жидким телом и моим телом в предельном случае складываются своего рода дифференциальные отношения dx : dy, то на другом этаже, в монаде, складывается различающая перцепция: я слышу шум воды. Вы уже видите, что существует соответствие между двумя этажами, но у каждого из них свой закон; они подчиняются не одному и тому же закону; существует закон, выводимый из взаимодействия тел, и другой закон, согласно которому каждая из монад выражает все мироздание, и они не вступают в коммуникацию между собой.
Здесь нас подстерегает трудность. Как объяснить такое различие между двумя этажами? Иначе говоря: из чего состоит мое тело? Если мы задаем такой вопрос, то этого для нас почти достаточно. Сделайте усилие: из чего состоит мое тело? Из чего состоит всякое тело? У Лейбница нелегко понять, из чего состоит тело, а мне этот вопрос представляется одной из величайших тайн всех философий XVII века. Я бы сказал, что тело – для всех, но особенно для Лейбница и Спинозы – состоит из бесконечного множества бесконечно малых актуальных частей. До «конечной» части мы не можем добраться. Это называется актуальной бесконечностью. Ее надо вообразить – это было бы хорошо, так как, по сути дела, вообразить ее очень трудно. Она поддается математическому выражению, но вообразить ее очень трудно. Следуйте за мной: ее надо противопоставлять двум вещам. С одной стороны, она противостоит атомам. Когда мы имеем дело с атомами, то – как бы далеко мы ни заходили – всегда имеется какая-то последняя нередуцируемая частица. А тут, наоборот, бесконечное множество актуальных частей, и последней части нет, а всякая часть включает в себя еще одно бесконечное множество актуальных частей. С другой же стороны, здесь нет делимости до бесконечности, потому что бесконечное множество актуальных частей – когда ни одну часть нельзя назвать мельчайшей – как раз дано актуально, существует актуально, и части эти не зависят от процесса деления, которому вы подвергаете множество. Именно это Лейбниц и Спиноза объясняют, утверждая: это неисчислимые множества, то есть они не имеют отношения к природе числа. Собственно говоря, их невозможно дать в числовом выражении, но, тем не менее, вы можете сказать, что одно тело является двойником другого. Одно тело вполне может быть двойником другого, но, тем не менее, как одно, так и другое включают в себя бесконечное множество бесконечно малых актуальных частей. Вот такая концепция… Лейбниц будет утверждать ее десятки раз, говоря: существует лишь актуальное бесконечное; очень часто в качестве возражения здесь выдвигают другие тексты Лейбница, где он говорит, что исчисление бесконечно малых или даже исчисление бесконечных рядов есть всего лишь математическая фикция. Но мне представляется очевидным, что никакого противоречия здесь нет, и что это означает, что даже исчисление бесконечно малых не объясняет это актуальное бесконечное. Итак, предположим совокупности бесконечных частей, когда вы не можете добраться до последней части, – но эти совокупности, тем не менее, актуально даны – в противоположность тому, что происходит при делимости до бесконечности. Всякое тело относится именно к этому типу. Когда я говорю: «Я имею тело», фактически я имею в виду, что я актуально включаю в себя бесконечное множество бесконечно малых частей.
Вопрос: Потому ли, что они актуальны, мы избегаем парадокса Зенона?
Жиль Делёз: Безусловно. И как раз поэтому у Лейбница – особая концепция движения, зависящего от силы.
Вопрос: Стало быть, душа конечна, но не тело?
Жиль Делёз: Нет, не так. Вопрос не в том, чтобы узнать, что душа конечна, а тело нет. Вопрос в том, что все, кроме Бога, сразу и конечно, и бесконечно. С Богом все в порядке, Он бесконечен. Уф, все в порядке.
С позволения сказать, это конец, и больше говорить нечего. Но все, что конечно, является бесконечным в определенном аспекте, и бесконечные – как мне кажется, здесь тайна мысли XVII века – имеют в виду различие порядков бесконечности. Но ведь если Бог бесконечен и если это первая бесконечность, то это потому, что Его называют бесконечностью как таковой. Он бесконечен Сам по Себе. Но сразу же мы говорим и о другом бесконечном, и это – «бесконечное-по-причине». Бесконечное-по-причине – это сотворенные существа. Монады бесконечны в силу вызвавшей их причины. Почему они бесконечны? Нет, они, скорее, конечны, они не бесконечны, потому что это сотворенные существа, они созданы Богом. Но они бесконечны просто в силу вызвавшей их причины – почему? Просто потому, что Бог сотворил их таким способом, что они выражают тотальность бесконечного мира. И их формула такова, что в силу этого они будут иметь бесконечное множество предикатов, и это бесконечное-по-причине имеет формулу, какую мы видели: 1) бесконечное, формулой какового является Бог как причина, и 2) бесконечное как индивидуальность, бесконечное как существо, наделенное личностью. Итак, на первом ярусе монады конечны, и они же бесконечны.
А вот когда мы добираемся до тел и до множеств актуальных, до бесконечности бесконечных частей, то это третий смысл бесконечного. А именно: бесконечное, взятое в неких рамках, доля материи, все равно является бесконечным, потому что включает в себя бесконечное множество актуальных частей. И это – третье бесконечное. Существуют ли другие его виды? Увы, существуют и другие, но мы будем говорить только об этих, так как они наиболее значительны. Это опять-таки верно не для всех философов; то, что я говорю, верно лишь для Лейбница и Спинозы. И тогда я говорю: вот оно, вначале – «иметь тело». И что это означает? Добавим: вы помните, почему я имею тело? Я имею тело, так как у меня лишь небольшая ясная область. Но почему у меня лишь небольшая ясная область? Потому что я – сотворенное существо, потому что я конечен. Иными словами, потому что во мне – первоматерия, а первоматерия означает не констатацию «иметь тело», а требование иметь тело. Требование иметь тело – ну хорошо, вот оно удовлетворено. Об этом-то и говорит Лейбниц… Не надо удивляться тому, что эти бесконечные множества актуально бесконечных частей он называет «второй материей». Я только что сказал это, а теперь прислушайтесь к следующим словам: необходимо вносить коррективы, этого недостаточно. Но это – лишь один из аспектов второй материи. Вторая материя – это форма, в которой материя осуществляет требование первоматерии, требование конечности. Это требование возвращается на протяжении всей нашей истории: мы конечны, стало быть, мы можем выражать лишь некую конечную часть, следовательно, мы имеем тело. Существует абсолютная имманентность монады по отношению к первоматерии. Скажите-ка… как все усложняется! Но это следовало бы распутать, и тогда вы увидите, какие у вас теперь проблемы с ногами! Что такое мое тело? Из чего состоит мое тело? Необходимо, чтобы что-то образовывало мое тело. У меня есть бесконечное множество бесконечно малых материальных частей, но как все это меня затрагивает?
Вторая материя также имеет два аспекта, а мы привели только один. Дело в том, что это бесконечное множество бесконечно малой материи в то же время включает бесконечное множество малых душ. Как если бы мы спускались на первый этаж… Малые души – что это такое? Я колеблюсь между двумя вещами: если я буду продвигаться слишком медленно, мы заблудимся в деталях; если я буду двигаться слишком быстро, мы еще больше заблудимся. Вторая материя должна включать… я уже ничего не знаю… Ну да! Бесконечное множество актуально бесконечных частей, но они принадлежат мне, только если мы примем гипотезу о бесконечном множестве малых душ. Все-таки Лейбниц – картезианец, и существует реальное различие между душой и телом. Ну да! Но вы помните – и это мне кажется одним из самых поразительных ходов Лейбница, – реальное различие не имеет в виду отделимости. Мое тело состоит из бесконечного множества малых душ, одушевляющих бесконечное множество бесконечно малых органических частей, – эта машина доходит до бесконечности. Тело и душа реально различаются между собой? Да, но это не мешает им быть неотделимыми, и отсюда поразительная теория живого существа. Вот он, статус живого существа.
К счастью, дело пошло настолько быстро, что возникает впечатление, что мы скоро заблудимся. Итак, что мы имеем? Где мы находимся? Мы даже не знаем, где теперь находимся? Знаем! Светозарная формула, свет приходит к нам на помощь: достаточно сказать, что вы, каждый из вас, представляете собой господствующую монаду, и в той мере, в какой вы – господствующая монада, вы имеете тело. Господствующая монада означает: у вас разумная душа, а значит, вы имеете тело с мозгом – не бывает души без мозга. Ваше тело, из чего оно состоит? Из бесконечного множества малых частей, актуально бесконечных, но неотделимых от бесконечного множества подвластных монад, и вот они-то – не разумные, а животные, или чувственные. Отсюда этот необыкновенный витализм, который в то же время утверждает: не существует живой материи, нет, всякая материя есть материя – и всё. Просто имеется неотделимость второй материи от малых душ, то есть от подвластных монад… неужели это всё? Это не будет работать так легко! По-моему, перед нами – один из величайших органицизмов в истории философии. Так как Уайтхед любил называть свою философию органицистской, то мы видим лишнее основание для сравнения Лейбница с Уайтхедом. Вы уже поняли, к чему это нас привело бы, если бы я захотел выиграть время, – опять вопрос выигрыша времени! Если бы я захотел выиграть время: каково положение с животными? С животными сложно, так как можно сколько угодно говорить, что у животных нет разумной души, что они не достигают необходимых истин, не встраиваются в бесконечные ряды, не занимаются математикой, не знают Бога и т. д. Но все-таки им свойственна небольшая ясная область, и хотя они не делают умозаключений, но они, как говорит Лейбниц, регистрируют последовательности в своих монадах, и мы видели, что психология животного была для Лейбница чем-то основополагающим. Ладно.
«Я умираю!» Вы помните, что происходит, когда я умираю. Мы видели это, потому что эта хорошая новость приносила нам радость. Мы видели это в самом начале: какой скандал, я ведь умираю! Наша разумная душа сводится к душе чувственной или животной, но она пребывает. Она пребывает. И эти знаменитые складки, сгибы, разгибы… И душа вновь разогнется, когда Бог призовет ее на Страшный Суд. Вы помните эту весьма причудливую идею [Жиль Делёз разражается смехом.], которая была у Лейбница: души, призванные стать разумными, не были таковыми с начала мира, – на самом деле это можно воспринять как идиотизм. Вот я, моя разумная душа, и ваша тоже: необходимо было дождаться, чтобы она родилась в порядке времени, в порядке последовательностей, на первом этаже. Потребовалось, чтобы Бог призвал нас, то есть разогнул наши собственные части, чтобы мы начали выражать мир. Но перед этим мы существовали – однако в качестве кого? В качестве чувственной живой души, вроде души червя. И все-таки: что отличило нас от червя? В ту эпоху знать это было невозможно. Лейбниц писал: дело выглядит так, словно Бог запечатлел в некоторых чувственных душах действие, посредством которого им суждено было добраться до разума и т. д. В конечном счете именно это у Лейбница затрагивает нас больше всего. И здесь я прервусь. Когда мы умрем, мы вновь станем чувственной душой, образующей часть второй материи.
Теперь осталось сделать одно маленькое усилие…
[Конец пленки.]
То, что он чаще всего называет субстанциальными формами. Всевозможные субстанциальные формы: они непрестанно появляются и исчезают. Почему? Из-за закона первого этажа. Закон первого этажа, если вы помните, это всеобщее взаимодействие тел. Так, наше тело непрестанно сменяет свои части, и оно не только непрестанно изменяет органы, но и тем самым непрестанно изменяет малые души, то есть субстанциальные формы, потому что субстанциальные формы, или малые души, абсолютно неотделимы от органов. А это означает нечто очень простое: вы имеете душу вашего сердца, вы имеете душу вашей руки, вы имеете души всего остального. У вас миллионы и миллионы душ, но они в то же время непрестанно изменяют части вашего организма – он не перестает изменяться. Для того чтобы сказать, что все меняется, Лейбниц находит метафору, еще более прекрасную, чем река Гераклита. Лейбниц говорит: это похоже на корабль Тезея, а корабль Тезея греки непрерывно ремонтировали. То одна дыра, то другая. Это означает, что во всех телах атомы непрестанно изменяются.
[Вопрос о бесконечных множествах частичных смертей.]
Жиль Делёз: У Лейбница нетрудно вычислить частичную смерть, и в то же время почему тотальной смерти не существует? Вы берете некий организм, вы берете ваш организм в течение краткого мгновения: каждая часть этого организма и каждая душа этого организма умирает в разное время. Итак, в первое время, в момент b, предположим, что область aI осталась, а область aII исчезла, и исчезала она постепенно. И вы задаетесь вопросом в отношении момента aI, из которого вы исходили: в какой момент обновились все части? Но в этот же самый момент, если взять его в сравнении с предыдущим, некоторое количество частей, или, скорее, неисчислимое их количество, сохранилось. Мы можем назвать периодом организма дистанцию времени, временной дифференциал, требующийся для полного обновления частей и душ организма. Ведь мы сказали, что этого никогда не происходит «единым махом» и, более того, никогда не бывает момента, когда обновляется все. Отправляясь от момента a к моменту b, я могу сказать (я говорю наобум): отправилось десять молекул; от момента с – двадцать молекул. Но десять новоприбывших – вот они-то будут существовать. В течение какого-нибудь периода. Я вижу, что глаза у вас потухли и помрачнели… само собой разумеется. Ваш период никогда не совпадет ни с тотальным исчезновением, ни с тотальным рождением. Он всегда «держится на коне» из-за того, что какая-то часть остается, несмотря на то, что какая-то часть уходит. Но как тогда сопрячь все это разом: вот мое тело, и все-таки оно непрестанно уходит?
Лейбницу это стоило большого труда. А я попытаюсь подвести итог: я наткнулся на то, о чем мы начали говорить в прошлый раз. Да, необходимо придерживаться двух следующих вещей: то, что определяет тело – с его приходами и уходами, с его новой обстановкой и с его новыми «стартами», – то, что определяет такое тело, как мое, есть шов (извините за выражение). Своего рода шов, или узел, узы; то, что Лейбниц называл vinculum. То, что соответствует моей господствующей монаде, есть vinculum, объединяющий подчиненные монады с органами.
Как же Лейбниц понимал этот vinculum? Этот vinculum называется субстанциальным, то есть зависящим непосредственно от субстанции. Он принадлежит мне, господствующей монаде, и эта мысль содержится в письмах к де Боссу, тексты там чрезвычайно разнообразные, хотя они были очень хорошо интерпретированы: с одной стороны, это сделал Белаваль во введении к Лейбницу, а с другой – Кристина Фремон, философ, которая опубликовала письма к де Боссу. Но, тем не менее, текст действительно очень труден. Мне кажется, что vinculum принадлежит мне как господствующей монаде. А вот все органы, образующие мой организм, «входящие и выходящие», то есть рождающиеся и умирающие, от vinculum’а не зависят. Они принадлежат мне, так как они входят в мой организм, но они могут выйти и взять себе другой vinculum или вообще не брать vinculum. И это влечет за собой универсальное взаимодействие тел. Попытаемся посмотреть – все это очень трудно. Я пытаюсь провести классификацию основных категорий, о которых вы только что услышали. Я бы сказал так:
Во-первых, события, внутренние сингулярности, сгибы.
Во-вторых, монады, изначальные активные силы, которые выражают мир, или «сгибают» события. Это актуальность мира.
В-третьих, монады обладают не только активной, но и пассивной изначальной силой, и это их конечность, или их первоматерия, в зависимости от которой они выражают лишь конечную часть мира. Ясно они выражают лишь конечную часть мира.
В-четвертых, если я выражаю ясно лишь конечную часть мира, то я имею тело: иными словами, если во мне есть первоматерия, то она выражает требование – требование иметь тело.
В-пятых, тело есть третья форма бесконечного – фактически бесконечное множество бесконечно малых, неисчислимых частей.
На этом основании оно является второй материей и остается неотделимым от бесконечного множества монад, производных от своих монад, или субстанциальных форм, каковые являются подвластными по отношению к моей господствующей душе. Это ясно.
В-шестых, два аспекта. Вторичная материя принадлежит мне, принадлежит моей монаде, поскольку входит в vinculum, в цепь, в субстанциальную цепь, принадлежащую мне и меня характеризующую. Здесь я в основном опираюсь на тексты писем к де Боссу: vinculum «прикручен» к господствующей монаде. С другой стороны, органические части и подвластные монады непрестанно появляются и исчезают, подобно деталям корабля Тезея: сменяя vinculum, они переходят под господство другой монады либо вообще избавляются от vinculum’а.
В-седьмых, как бы там ни было, мы возвращаемся к смерти, и это проблема, за которую Лейбниц не хочет браться; он уже создал красивую теорию проклятия, и его не надо ни о чем спрашивать: Лейбниц не захотел увязать между собой проблему смерти и проблему организма; я считаю так. Когда мы умираем, мы теряем нашу разумную душу, которая вновь становится чувственной; и тогда она утрачивает свой vinculum. Утрачивает ли она свой vinculum? Если она утрачивает свой vinculum, то все пропало: как же она узнает принадлежащее ей тело? Вы догадываетесь. О, здесь ужасная проблема. [Cмех Жиля Делёза.] К счастью, существует весьма странный текст: перед тем, как нас призывают стать разумными, и после того, как мы умираем, когда мы перестаем быть разумными, существует такая странная вещь, как запечатленный призыв. Моя душа вновь стала животной, но она содержит запечатленный призыв, и, по-моему, это единственный способ для того, чтобы Бог узнал своих, если Он этого не может. В противном случае сюда приходится вмешивать мистерию, и, как пишет Лейбниц в переписке с де Боссом, здесь действует мистерия пресуществления: «сие есть Тело Мое, сие есть Кровь Моя». Это пример, когда монады, подчиненные монады – так как это не монада Христа, а подвластные ей монады, – суть монады Тела и Крови Христовых, а потом монады хлеба и воды – эти подчиненные монады – вступают в весьма странные отношения. Ладно, неважно. Мы сделали что смогли.
Последний пункт, вы понимаете… что вы должны уяснить: душа полна сгибов, которые она отчасти разглаживает.
Вот каким было первое суждение о барокко: сгибы в душе. Она их отчасти разглаживает, как мы видели, посредством операций поиска истины и т. д.
Второе суждение: материя полна складок, и это второй этаж. Материя полна складок, которые дают приют бесконечным множествам актуальных частей и бесконечным множествам подчиненных монад, неотделимых от актуальных частей; складки освобождают эти множества и обеспечивают их циркуляцию. Вверху, в событиях, располагаются сингулярности. Внизу (если бы у нас было время, мы увидели бы, что в физике Лейбница развивается физика экстремумов, минимумов и максимумов, фактически, при определенных условиях, являющихся условиями физического мира), сингулярные точки становятся минимумами и максимумами, экстремумами. А что в промежутке? Целая история организма, целая история витализма непрерывно переводит нас с этажа на этаж. Какой вывод можно отсюда сделать?
Вопрос: Это наводит меня на мысль о Бергсоне. Это дает нам понять проблему различия между качественными и количественными множествами. Можно было бы утверждать, что количественное множество располагается на пересечении двух бесконечных линий. Привожу пример, близкий моему сердцу: как добраться до пространства, или до протяженности, из порядка какой-либо сугубо качественной вещи? Можно ли сказать относительно квалифицированного пространства, что оно располагается на пересечении двух бесконечностей: бесконечности тела в движении и бесконечных множеств малых актуальных частей, а другой бесконечной линией будет свет, являющийся неисчислимым?
Жиль Делёз: Ага. Я предпочитаю манеру, в которой ты закончил, манере, с которой ты начал, потому что, как и я, ты чувствителен к опасности сопоставлений. Относительно проблемы множеств (а это фундаментальная проблема) можно сказать в общем и целом следующее: Бергсон доходит до основополагающего момента в теории множеств и пытается сделать ход, чтобы перенести ее из математики в философию. Существуют два автора, одновременно делающие эту попытку – перенести множество с простой стадии математической теории, чтобы ввести его в философию: это Гуссерль и Бергсон. Да, это так. Что интересует меня у Бергсона, так это конкретный вопрос отношений между дискретными множествами и множествами континуальными. Ладно. Интересуется ли он проблемами единственного и множественного? Да, возможно; опять-таки, у него нет ни единственного, ни множественного, у него только множества, и благодаря этому он глубоко современен. Единственного и множественного больше нет, вопрос о единственном и множественном в философии не ставится. Чтобы избежать путаницы, я бы сказал о Лейбнице следующее: есть нечто, чего нет у Бергсона и что есть у Лейбница, и есть нечто, чего нет у Лейбница, а есть у Бергсона, – вот потому-то философия столь прекрасна. Чего нет у Лейбница, так это упразднения проблемы единственного и множественного. Он продолжает – ведь это человек XVII века – мыслить в терминах единственного и множественного. Более того, возьмем его концепцию гармонии. У тебя есть отношения «множественное – множественное», но основополагающим эталоном для них служат у Лейбница отношения «множественное – части». Зато ты видишь у Лейбница попытку исследования типов множеств, которая совершенно не совпадает с бергсоновской ситуацией. Итак, если я попытаюсь взять три простейших типа, то это будет уже не три множества, не три бесконечности, а всего две: существуют лишь множество монад и множество тел. И тогда это чудесно, так как ты показываешь нашу цель: рассмотреть то, что Лейбниц называет гармонией. Так что же он называет гармонией? Он называет гармонией две вещи: все монады выражают один и тот же мир, но этот мир существует лишь в самих монадах; у монад нет ни окон, ни дверей, между ними нет коммуникации, они не воздействуют друг на друга. У каждой монады – только внутренние действия, каждая монада воздействует на саму себя, по отношению к своим предикатам; ни одна монада не воздействует ни на какую другую, они замкнуты. Можно сказать, что между монадами не существует никакого прямого воздействия, но имеется гармония. Еще следовало бы сказать, что они выражают один и тот же мир, раз мы утверждаем, что мир не существует помимо монад. Гармония – это как раз она. Гармонии не было бы, если бы они выражали мир, существующий за их пределами. Если предполагается, что существует некий мир, общий для всех нас, и что между нами гармония, и никаких проблем нет: то, что я вижу спереди, ты видишь сзади, и, словом, это все. Но это не так. Мир не существует за пределами монад, а следовательно, для того чтобы он был одним и тем же миром, необходимо, чтобы монады находились в состоянии взаимной гармонии. Как говорит Лейбниц, это – одно из доказательств бытия Бога. Если бы не было Бога, было бы исключено то, что вы выражаете один и тот же мир, – или же общему миру потребовалось бы существовать реально. Но если верно, что мир – это только виртуальность и он достигает актуальности в каждой выражающей его монаде, то мир есть не что иное, как взаимная предустановленная гармония. Как если бы Бог настраивал часы одних монад по другим, вот что говорит Лейбниц в великой метафоре настенных часов; обратите внимание на отвратительный абсурд, который получался бы, если бы мы считали, будто это означает, что у всего мира один и тот же час; наоборот, это означает, что когда у меня час пять минут, то существует и тот, у кого час десять минут, а между ними – две выразительные силы; такова связь. Вот она – предустановленная гармония между субстанциями, или монадами. Вы это, надеюсь, понимаете: это существенно.
Я не знаю, что сказать вам, чтобы это прозвучало конкретно: я ухожу, а вы остаетесь. Если есть какая-то дыра, то она вроде миража; а если в этой вселенской дыре ничего нет, то нет и предустановленной гармонии. Необходимо, чтобы существовала связь между тем, что заканчивается в одной монаде, и тем, что начинается в другой. Однако связь не прямая, потому что монады друг на друга не реагируют. И все-таки существует взаимная предустановленная гармония монад. Все монады развертывают один и тот же мир, хотя коммуникации между ними нет: ни одна из них не вступает в коммуникацию с другими.
Но тогда – последнее усилие… Это Лейбниц «на бегу». Последнее усилие: это наводит меня на мысль о посещении Лувра на бегу у Годара. Последнее усилие – и мы у цели. Что такое мое тело, если не тень, которую вы на меня отбрасываете? Предустановленная гармония – это сразу и гармония душ, и гармония тел; и как она получается? Ведь тут есть какая-то недостаточность, поскольку души и тела не только подчиняются разным законам, но, прежде всего, у них разные способы схватывания. Ибо один из основополагающих пунктов у Лейбница – это критика, которую он осуществляет в адрес некоторых учеников Декарта, то есть Мальбранша и прочих картезианцев. Мы идем быстро, быстро-быстро. В нашей рефлексии в любом случае есть нечто любопытное, и дело в том, что зачастую нам говорят, будто философия занималась причинами, а наука навязала нам единственную идею, которая была действительно научной, и что это была идея законов. Но ведь это не так. Понятие закона сложилось в XVII веке, и сложилось оно в экстремальных теологических системах. У Огюста Конта есть нечто, что не работает, когда он говорит о причине: это метафизика; он имел в виду иное понятие, но это ничего не меняет. Конт понял идею причины буквально, и это катастрофа: не следует говорить «причина», это метафизика, а наука приходит к нам вместе с идеей закона. Ведь первыми открыли и сформировали подлинный концепт закона именно картезианцы. Почему? Потому что только Бог – причина, а природа управляется законами. Именно они вывели концепт законов, по существу управляемый всеобщностью, и различали тем самым чудо и закон. Чудо отсылает к частной воле Божьей, а всеобщность отсылает к обобщенной воле Божьей. Бог действует через обобщенную волю, и такова вся теория Мальбранша, называемая окказионализмом. Ладно, неважно.
Но вот возражение Лейбница. Я не имею в виду, что он прав, так как между ними, Мальбраншем и Лейбницем, была резкая дискуссия, и возражение Лейбница представляется мне великолепным. Он говорит: ладно, как хотите, Бог действует через всеобщие законы, но при одном условии: дело в том, что тела или души…
[Конец пленки.]
Лейбниц сумел показать, что в теле существует интериорность и что интериорность в теле – это сила. И Мальбранш был весьма озадачен, потому что это была сила в смысле движущей силы, или работы; а этого не знали ни Мальбранш, ни Декарт. Стало быть, Декарт мог помыслить концепцию тела в зависимости от экстериорности. Но вот приходит Лейбниц и говорит в связи с наукой Нового времени (а это и есть вся тема Лейбница): я не слишком-то хочу выпячивать для вас Аристотеля, я не слишком-то хочу препровождать вас к Аристотелю, если уж вы полагаете, что вы покончили с Аристотелем; но именно ради науки Нового времени, говорит он, я твержу вам: не считайте, что природа утратила всякую интериорность. Чтобы какое-либо тело подчинялось закону, необходимо, чтобы у этого тела была внутренняя природа, которая делает это наблюдение возможным и необходимым. Что это означает? Вода кипит при температуре сто градусов, – согласен, и вы бы ничего не сказали против, вы будете довольны экстериорным рассуждением, как сказал бы Лейбниц, если не обнаружите внутренней природы воды. Откуда эти сто градусов? Почему то, что вы называете «окказиональностью», делает возможным как раз это преобразование? Вы мне ответите: наука уже очень давно это отвергла. Совсем нет. Существует целый ряд способов преобразования состояний, и все это вовлекает вас в физику качеств, которая имелась у Аристотеля; Декарт ее полностью опроверг, а Лейбниц собирался восстановить как новую физику: это отнюдь не «возврат к Аристотелю», но нечто вроде повторения Аристотеля с новыми данными. Предустановленная гармония означает, с одной стороны, взаимную гармонию монад, гармонию душ между собой, с другой же стороны, гармонию душ с телами, то есть то, в чем сами тела обладают такой интериорностью, которая обеспечивает их гармонию с гармонией душ. Недостаточно, чтобы тела управлялись неким режимом взаимодействия, необходима также и динамическая интериорность, силы тел в гармонических отношениях с душами как изначальными силами, силы тел, вступающих в гармонические отношения, но все-таки силы тел. Работа, движущее действие суть то, что Лейбниц назовет производными силами, в отличие от сил души, от изначальных сил. Итак, в следующий раз я хотел бы кратко изложить именно гармонию: ведь Лейбницу, словно бы специально для того, чтобы заставить нас понять это, потребовался концепт гармонии. И тут возникает вопрос: действительно ли этот концепт гармонии хоть чем-то обязан музыке? Не забывайте этой темы гармонии, она должна вас вести. А вот я предлагаю то, что во всех смыслах гармонии, как мы только что ее рассматривали, во всех этих смыслах гармония у Лейбница представлена в следующем двойственном аспекте: во-первых, выражаемое не существует за пределами выражающего, и вы увидите, что это верно для каждой стадии; во-вторых, выражающее существует лишь в неких урегулированных отношениях с выраженным. В этот-то момент и начинается своего рода барочная музыка, сопровождающая барочную философию.
Благодарю вас, и до следующей недели.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

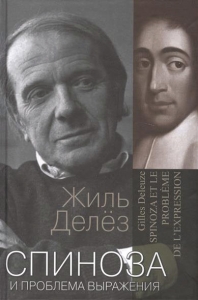

Комментарии к книге «Лекции о Лейбнице. 1980, 1986/87», Жиль Делёз
Всего 0 комментариев