Роман Шорин
Записки Никто
(авторство условно)
1
Наша деятельность проистекает либо из свободы, либо по принуждению. Это соответствует символическому разделению человека на тело и душу. Шаги, рожденные из свободы, часто так и объясняют: "Это для души". По принуждению мы стремимся за так называемой пользой: хочешь - не хочешь, но тебе нужно есть, одеваться, иметь жилище, оправдывать свое существование перед обществом. Нас вынуждают к таким действиям, поэтому нам они по определению чужды. Относительное нам всегда важно для чего-то внешнего, чем оно само: мы едим, чтобы от нас отстала природа, соблюдаем традиции, чтобы от нас отстало общество. У свободного все не так. Ему странно было бы делать что-то одно, рассчитывая, при этом, на нечто совсем другое. Свободен тот, у кого уже есть все, что ему нужно, и поэтому, наблюдая за происходящим вокруг, он готов радоваться или грустить от того, что не имеет к нему никакого отношения.
Сколько бы мы не совершили полезного, к сфере "для души" это ничего не прибавит. И наоборот, от сделанного "для души" не ждут никакой выгоды. Когда мы не свободны, нам лично не нужно то, что мы делаем, и, наоборот, нам уже ничего не нужно от непосредственной цели наших занятий, кроме нее самой, если мы свободны.
"Душа есть у каждого. В каждом живут потребности, удовлетворение которых важно исключительно само по себе. Я называю их "чистыми интересами". Для одного такой "чистый интерес" -- какая-нибудь женщина, для другого -живопись, для третьего -- охота. Все трое не рассчитывают получить за свои увлечения никакой (дополнительной) награды, то есть интересуются не ради себя. Первый любит ради самой любви, второй творит ради творчества, третьему нужен азарт ради азарта. Каждый получает отдачу непосредственно от своего занятия как такового, от самого процесса. Или, по крайней мере, находит удовлетворение в том, что естественным образом связано с этим процессом. (Хотя и не понятно, чудно, как это конкретный индивид что-то получает для себя от "вещей", производящих лишь усиление самих себя, так, что никому со стороны вообще ничего не перепадает.) Здесь средство и цель, причина и следствие, процесс и результат смыкаются друг с другом. И лично мне уже понятно из этого, что наше призвание - утолить именно "чистые интересы". Стало быть, я могу предложить верный критерий для их распознавания. Нужно спросить себя: чем бы ты стал заниматься, когда уже ничто и никто не вынуждает тебя заниматься чем бы то ни было?
2
Понятно, почему нужно оставаться мужественным и улыбающимся, когда над тобой потешается чернь или когда тебя ведут на казнь. Ты демонстрируешь, что не сломлен попытками навязать чужую волю. Всему назло, по-прежнему только ты решаешь - получать тебе радость от жизни или нет. Но если погибло самое ценное и тебе осталось лишь последовать за ним, почему и в этом случае ты, обреченный, не вправе позволить себе разрушиться? А ведь, хоть и спрашивая об этом умом, ты ясно чувствуешь, что до самого последнего момента, когда бы он не наступил, необходимо быть спокойным и чутким к реальности: неторопливо вкушать пищу, крепко спать, вовремя бриться и смеяться на шутку. Усталый взгляд, напряженная и неприятная гримаса, дрожь в голосе и пальцах, повышение кровяного давления, нервные жесты, алкоголь и никотин (если ты не пил и не курил раньше) - все это под запретом. Хотя ты прекрасно понимаешь: все, все погибло и тебе тоже крышка. Крышка по совершенно внутренним причинам, козни врагов тут не при чем. Но, почему-то, важно сохранить легкость, сохранить форму (не только в спортивном, но и в самом что ни на есть философском смысле), чтобы целиком и в одно мгновение трансформироваться из максимума жизни в полное небытие. Лишь такая смерть будет трагедией, смерть до последней секунды живого человека. А тому, чья душа еще до финала покрылась трупными пятнами, даже страдание было послано напрасно. Его гибель никого не потрясет, не вызовет возмущения в мироздании и не послужит упреком в адрес Творца. Умирание - это искусство и важнейшее из событий жизни. Но это лишь попутно возникшее обоснование необходимости оставаться живым. Я продолжаю.
Речь не о бесчувственности. Однако даже самую плохую весть надлежит ожидать как ни в чем не бывало. Даже когда удар наносится изнутри, самому себе, когда рушится самое дорогое. Здесь уже неуместно бравировать мужеством, как в случае внешней агрессии. Перед кем сохранять достоинство, если распалась сама основа твоего бытия? Подобные позы будут лишь признаком безумия. Однако трястись и биться головой о стену все равно запрещено. Так почему? Почему???
Потому что это противно человеческой природе.
3
Существует категория защитников нравственности (и ей подобного), которым так и подмывает сказать: "И без вас обойдемся".
Сделайте псевдоумное лицо и глубокомысленно, всматриваясь в невидимую точку, вопросите: "Нужна ли нравственность?" "Конечно нужна! - с горячностью воскликнут иные "специалисты". - Разумеется, нравственность необходима. Ведь человек живет в сообществе с другими людьми, а любая социальная общность нуждается в регулировании поведения своих членов, без него она просто-напросто распадается. Эту важную роль регулятора общественных отношений и выполняет нравственность". Далее довольно потираются руки, все, мол, "i" увенчана жирной точкой.
Я уже упомянул, какие слова напрашиваются в адрес такого рода радетелей. "И без вас обойдемся". Давайте представим, что они, после моей фразы, вдруг полопались как мыльные пузыри и растворились в воздухе. Их больше нет.
Итак, мы остались один на один с теми странными существами, для которых проблематичны феномены наподобие нравственности.
"А нужна ли нравственность, господа?" - обезоруживающе улыбаясь, словно неожиданно вскрыв вековой обман, спрашивают они. И что же мы им ответим? "Вы правы, совершенно не нужна".
Это будет единственно возможный ответ, реально утверждающий нравственность как незыблемую ценность.
Труднопередаваемое ощущение - вы либо с ним сталкивались, либо нет.
Но, допустим, я определяю что-нибудь для себя в качестве опоры или маяка, и кто-то активно одобряет мой выбор словами: "Ты молодец! Это действительно очень важно для решения таких-то задач (скажем, для карьеры, развития науки или даже будущего человечества)". Единственное, чего я захочу - это плюнуть с досады.
Как можно утешаться, довольствоваться, приободряться, наслаждаться, бредить, жить тем, что несамодостаточно?! Как можно мечтать об имеющем служебное значение?! Как может человек - вольное существо - служить служебному (лишь служение самостоятельному не противоречит свободе)? А самостоятельное уже не решает никаких задач, ничему не способствует, ничего не обслуживает. Нравственность, как один из таких примеров - это роскошь, а не средство передвижения. Обосновать нравственность в качестве регулятора общественных отношений и т.п., значит лишить ее той безусловной обязательности (как никогда актуальной даже в тех случаях, когда она ничего не регулирует), а лучше сказать - того мерцания беспредельности, которое только и притягивает в ней человека. Вот относительное нас не только не притягивает, но вызывает сильнейшее желание оттолкнуться прочь.
Хотите разрушить нравственность - сделайте ее чуточку полезной. Всего одного грамма полезности окажется достаточно, чтобы отклонить ее с орбиты и утянуть в такую глубокую трясину, где если не пропадешь, так сгинешь.
И еще: если мы обратили внимание на А с точки зрения его полезности для В - это ли не знак того, что В - не более чем конечная (в смысле ограниченная) цель? Во всяком случае, любая система, в которой В требует от нас изобразить интерес к А, тогда как на самом деле нас интересует исключительно В, должна вызвать у нас настороженность с позиции созданий, стремящихся реализоваться по образу и подобию Божьему. Бесконечная цель свободна от того, что бы что-либо или кого-либо эксплуатировать. Если она и держит кого в своих слугах, так только саму себя - иначе круг будет незамкнутым. А что такое конечная цель, как не всего лишь очередное средство? На конечной цели далеко не уедешь (а все мы грезим далеким). Поэтому, когда человек, увлекаемый чем-то вроде нравственного переживания, устремляется в небеса, пожалуйста, не пытайтесь схватить его за ноги и стащить обратно на землю.
Наш удел - беспредельное.
4
Если бы периодические голодания имели смысл исключительно с точки зрения улучшения здоровья, количество голодающих не от нищеты резко бы поубавилось. Равно как и число бегающих не от недостатка времени, обливающихся ледяной водой не от отсутствия газовой колонки и т.п. Польза здоровью - слишком слабый стимул для многолетних кропотливых экспериментов. Для здоровья достаточно не делать определенных вещей (не пить, не курить, не переедать и т.п.), а вот для того, чтобы что-нибудь предпринимать, необходимы иные, совсем иные мотивы.
Больше всего человек вкладывается в достижение и поддержание состояний, совершенно излишних с точки зрения их пригодности для чего-нибудь другого. Собственно, именно поэтому и вкладывается. Находясь в полноте (которая непригодна), не в чем не нуждаешься. А это состояние (свободы) дает больше радости, чем самое обильное удовлетворение какой-нибудь потребности (всякая потребность -- это зависимость). Даже в то, что может принести кучу денег, мы никогда не вложимся так, как в предмет нашего чистого интереса.
Понятно, что добровольно голодающий так бодр и весел не только (и не столько) из-за того, что его организм покинули какие-то маловразумительные шлаки и т.п. Главная причина заключена в том, что он ощущает в себе способность к самопревозмоганию. Чувствовать себя властвующим над своим "я" - вот одна из самых подлинных радостей жизни. Почему это приносит радость? Потому что здесь присутствует завершенность (возможно, кого-то "пробьют" синонимы этого понятие, например, свобода, автономия, вечность. Одно в другое перетекает, одно другому служит основанием.).
Лишь тот, кто выполняет свой собственный приказ, воистину, всецело зависит от самого себя. И чем невозможнее (труднее) приказ, тем глубже блаженное ощущение полноты, отрыва. В данном случае, желание кушать - есть приказание извне. И потому, как ни вкусна еда, она не принесет такого удовлетворения, чем ощущение силы воздержаться. Не зря же говорят: "Охота хуже неволи". Так не иного, как ощущения собственной силы (и свободы), которую можно лишь наращивать, добивается голодающий от своих упражнений, так же как и все, кто заставляет себя что-нибудь сделать или, наоборот, воздержаться от действия. Заставляет - значит внешних, естественных механизмов для этого действия нет. Только из себя.
Итак, мы имеем дело с опытом освобождения от внешних условий. Ведь что такое зависимое существование? Это когда вам вас недостаточно (не хватает), когда от вас наружу тянется за подмогой ниточка (или хвостик). Дергают за нее - вам, допустим, хорошо, не дергают - вам плохо. Ваша судьба, таким образом, может оказаться в руках любого проходимца. Что вы будете испытывать от такой жизни? Страдание. Что вам хочется? Взять болтающийся снаружи конец этой ниточки в свои руки. Какую фигуру вы будете напоминать, когда ниточка идущая от вас, окажется в ваших же руках? Верно. Что символизирует круг?
5
Любование, восхищение, сострадание и прочие чувства, приводящие к самозабвению, являют собой ключ к разгадке того, почему вообще можно жить, и главное -- радоваться этому; освобождаться от мешающих быть пут в виде опасностей и страхов перед ними (например, в виде страха смерти).
В самом деле, какой лучший дар может иметь человек от Бога, как не вышеупомянутые способности? Благодаря им, мы перестаем быть связанными своими ограниченными оболочками, делаемся неуловимыми для смерти, равно как для всего, устанавливающего предел.
В этих переживаниях нет субъекта (скажем, субъекта любования), он загадочным образом расстается с собой, перетекая в свой объект. К примеру, восхищение красотой - это не что иное, как взгляд на нее из нее самой, подтверждение ее внутренней самоценности. Нас и никого другого в момент этого акта нет - только она, сама в себе. Внешний наблюдатель здесь невозможен - это сама красота восхитилась через нас самой себе. Мы как бы отдали себя ей, а значит и побывали ею, превратились в зеркало, с помощью которого она оказалась наедине с самой собой. Красота не существует ни для чего (кого) иного, чем она сама, а потому ее не увидят глаза смотрящего со стороны, извне она для них -- незрима. Восхищение ею возможно только при том условии, что мы оставим себя, как оставляют в прихожей обувь, и войдем в красоту как в свое "я" - ни много, ни мало.
Материал, достойный размышлений: восхищаться (и т.п.) можно лишь тем, что не для нас. Или для нас, но в те мгновения, когда мы сами, так сказать, не для нас. Можно, конечно, порадоваться качеству только что приобретенной туалетной бумаги, но это совсем другое. Когда встречаешь нечто прекрасное, совершенное - первый сигнал-интуиция: "Это нельзя использовать! Даже трогать этого не надо! Оставим, как есть". Ведь даже чисто утилитарные предметы, будь то нож или кубок, если они искусно сделаны, мы, вместо того, чтобы употребить по назначению, выставляем на обозрение, в то время, как другие подобные изделия, которым мы ежедневно находим применение, убираются в ящик с глаз долой. Стоит постичь, насколько это таинственно - нож, которым ничего (и никого) не режут.
Сопереживая, мы также покидаем себя, глядя на проблему глазами того, кто попал в беду или просто в неприятное положение. Поскольку акт сопереживания - есть признание самоценности того, кому мы сопереживаем (для него мы за него переживаем - не для себя), постольку все постороннее ему (мы, к примеру) автоматически выводится за рамки и в расчет не берется. Остается только тот, кому сопереживают, он один.
Дарованные нам возможности, о которых идет речь, есть прежде всего эмоции, сильные настолько, что их сопровождает всего одна мысль, зато ясная и неоспоримая. Когда любуешься (или занят чем-то другим из того, что влечет за собой самозабвение) джипом, мчащимся по пыльной пустынной дороге, игрой между собою маленьких щенков, торжественному в своем ровном движении каравану птиц, процессией буддистских монахов в центре мегаполиса, великолепием открывшейся панорамы гор, просыпающимся солнечным городом, безумной пластикой шаманящего рок-идола, распахивающимися глазами красотки с огромными, длиннющими ресницами, великим спокойствием небес (думаю, на этом можно остановиться) - разбуженный ум посылает чувствам лишь один ответный сигнал: "Все это и есть я".
6
Я намерен мысленно воскресить тот вечер, когда мне вдруг мучительно захотелось стать грабителем банков. Увы, это не был случай из детства. Вполне взрослый, сложившийся человек, имеющий (предположим) семью, работу и уважение, я смотрел фильм, очень мастерски сделанный фильм, благодаря чему мое восприятие не было отстраненным.
Три гангстера, ограбив банк, поодиночке выходили к машине, не подозревая, что окружены. Десятки, если не сотни притаившихся полицейских с оружием наготове гарантировали успех операции. Фактически, все было предрешено. Можно доложить начальству, что грабители уже пойманы. Сопротивление, как говорится, бесполезно.
Однако те трое так не считали. Обнаружив засаду, они и не думали сдаваться. Не колеблясь ни секунды (колокольчиком дзинькнуло - "Дзен"!), они выскочили из машины и открыли такую пальбу во все стороны из своих автоматических винтовок, что полицейским оставалось только лежать, уткнувшись лицом в землю, спасаясь от пуль, осколков и грохота. Максимально слаженно, спокойно и профессионально они били врага, покусившегося на их свободу. Их хотели бы видеть закованными в наручники, с бледными, испуганными лицами, дрожащими губами, а они рискнули оставаться теми же, что и в более благоприятных обстоятельствах, - свободными, сильными, веселыми, лихими ребятами. Оказавшись, в силу магии искусства, внутри этой сцены, я пережил большой душевный подъем, ощущение наполненности и сладкой законченности существования. Я захотел стать грабителем банков, но не для того, чтобы иметь много денег, а ради возможности попасть однажды в подобную заваруху.
Накануне (так совпало), я размышлял о том, что еще не нашел себя, в частности, не обрел такой уверенности в себе, благодаря которой мог бы испытывать радость от того, что нахожу себя живым. Я маялся, размякнув и расплывшись, как кисель. Я не знал, чего я хочу. То было время разочарования во многих моих занятиях, приносивших изнурение и усталость, а отнюдь не чувство свободного полета. Потому-то, глядя в экран, я полушутя-полусерьезно окликнул себя: "Эй, вот чем тебе нужно заняться!"
Речь, конечно, шла далеко не об ограблении банков самом по себе и не о желании стрелять в полицейских. Герои фильма продемонстрировали мне опыт максимальной сгущенности бытия, предельной напряженности чувства жизни. Жесткий прессинг извне лишь провоцировал рост их внутренней силы. Чем больше на них давили, тем больше торжествовала их внутренняя свобода.
Я вдруг понял: ощущение внутренней свободы и было тем, чего мне не хватало, что я искал. Все мои неудовлетворенность и тоска, вялость и беспокойство, все мои терзания и метания нашли свое объяснение в том, что я не реализовывал, не отстаивал свою свободу. Ведь только в этом состоянии возможна полнота чувств. Только здесь ты собираешь себя воедино, вовлекаешь все кусочки своей души в предельно уплотненный горячий шар - и оживаешь. Свобода рождается и крепнет тогда, когда ее отстаиваешь. А вместе с ней вспыхивает ощущение жизни - искомый предел желаний. Нет большего наслаждения, чем быть вопреки. В таких условиях ты сам себя создаешь и сам себя держишь, длишь. Ибо нет ничего вовне, на что можно опереться. Сопротивляясь силам, желающим смять тебя в лепешку, ввергнуть в уныние, подчинить чужой воле, ты вынужден сам себя подпитывать. Ни в чем другом нет большего присутствия жизни! Большего совершенства!
"Дайте мне такие мгновения и мне, собственно, ничего больше не нужно"! - это восклицание, неизвестно к кому обращенное, могло бы вырваться из моих уст, если бы я имел склонность разговаривать вслух с самим собой. Почувствовать себя живым - не здесь ли заключена извечная цель? Мне подумалось, что, окажись в положении отстреливающегося бандита, я был бы счастлив. Счастлив, потому что полон. Полнота - это когда все здесь и сейчас. Когда все, что тебе нужно - в тебе. Чувствование себя абсолютным существом. И это дается в опыте свободы, то есть держания (поддержания) себя своими же силами.
Мы ищем, чем бы заняться - прыгать с парашюта, сочинять музыку, грабить банки... Мы ищем другое -- возможности пребывания в состояниях полноты.
7
Вместо того, чтобы с раздражением отвернуться от ребенка, который с любопытством тебя разглядывает (мол, чего вылупился, ах, оставьте все меня в покое! - пошло обобщение), лучше сдержаться и позволить себе увидеть, что перед тобой не демон какой-нибудь, а всего-навсего дитя, не догадывающееся о недопустимости вторжения в частную жизнь; что в его действиях нет злого умысла, наоборот, ребенок принимает тебя, глазея на твои действия совершенно искренне и открыто, впуская тебя в свой маленький мирок как одну из интересных загадок того большого мира, в котором для него, слава Богу, еще не все расставлено по своим местам.
Так откройся и ты ему навстречу, улыбнись, подмигни, помаши рукой...
Если бы не было людей, умеющих забывать про защитные реакции...
8
Помнишь, когда у вас была размолвка, тебя вдруг попросили то ли передать ей некую информацию, то ли чтобы ты у нее о чем-то спросил. Вскоре раздался звонок, из трубки - ее голос. Все усилия своей речи ты направил на достижение согласия, как минимум, на договоренность о встрече. Ты пытался уверить ее (и прямо, и косвенно) в своей любви, разбудить в ней задремавшее было, перекрытое обидой ответное чувство. Ты помнил о просьбе задать ей тот чисто деловой вопрос, но не стал этого делать. В такой момент, угадывал ты, выполнить просьбы, касающиеся текущих и преходящих дел, значит резко принизить столь важный разговор, опошлить его, усугубить возникший разрыв, посеять отчуждение. Потом, если все удастся, потом можно вспомнить и про разные мелкие хлопоты, но сейчас, в эти напряженные для тебя минуты телефонирования, когда все может оборваться легким нажатием рычага, сейчас это было бы совершенно неуместно.
Все вышло хорошо, вы снова вместе, однако через несколько дней невыполненная просьба поставила ее в небольшое затруднение, и, узнав, что в этом повинен не кто иной, как ты, она накинулась на тебя с претензиями, мол, "почему ты мне ничего тогда не сказал"? Ты молчал, улыбаясь, по-прежнему убежденный в том, что поступил верно, понимая, что она немножко подзабыла контекст, и если вернуть ее в тот день и час и поставить на твое место, она проявила бы с тобой полную солидарность.
Сходная ситуация возникла и теперь, с разницей, очень небольшой. Ты дал ей прочесть книгу, которую сам одолжил у приятеля. У вас снова микроконфликт, известное непонимание (как бы кто не подумал, что вы завзятые склочники!), а тут приятель вдруг просит вернуть ему книгу, ссылаясь на то, что ты держишь ее у себя вполне достаточный для неторопливого, вдумчивого прочтения срок. Придти к ней и сказать: "Отдавай мне книжку"? Любой на ее месте увидит в этом едва завуалированный подтекст, смысл которого очень и очень прост: "Между нами все кончено, давай делить имущество". "Имущество", которое было общим, когда и сами вы стали вдруг как будто чем-то единым. Упоминание о книжке неизбежно будет расценено как знак того, что на ваши отношения ты уже махнул рукой, забрать бы вот только свои вещи, да разойтись. Нет, если уж явиться к ней, так исключительно со словами нежности, как тебе ее не хватает и т.п. Полностью отринувшись от житейской суеты, словно в мире живут только два человека - ты и она, причем живут, не ведя никакого хозяйства (!) и вообще никаких дел, так, что ничто не стоит между вашими бессмертными душами (на что походит эта картинка?). Нет, никак нельзя заговорить о книге в такой обстановке. Это не слюнтяйство и не гипертрофированная утонченность; кто таким образом подумал - зря на свете жил. Если хотите, здесь - самая пронзительная правда, правда жизни, любви и смерти. Если не хотите - не надо.
Даже если она сама вспомнит о книге, сама ее без лишних слов отдаст, все равно возникнет некая неловкость, неестественность. До книги ли сейчас?! Сейчас пусть все рухнет, сгорит, пойдет прахом. Лучше всего, если ты возьмешь так, казалось бы, кстати принесенную книгу и запулишь ею высоко-высоко в небо, и пока она еще летит ввысь, заключишь в объятия свою бесценную половину. Однако, скорее всего, ты так не поступишь, книгу возьмешь, и проступит на твоем лице вороватое облегчение, глупейшая благодарность за то, что она о книжке той вспомнила. Не удастся тебе бесстрастно и быстро спрятать книгу в сумку и заговорить о другом; она промелькнула, и то обстоятельство, что это длилось всего секунду, не отменяет ее полной неуместности. Возможно, ты заговоришь о любви с удвоенной энергией, но уверен ли ты, и поймет ли она, что не из-за абсолютно сейчас лишнего приятеля с книжкой ты так обрадовался? Не станет ли вам обоим гадко, тебе - за себя, ей - за тебя и за себя? Потом, конечно, та противность забудется...
Нет, не ужиться, никогда и ни за что не ужиться временному с вечным!
9
Пошлейшее из лукавств заключается в банальной констатации того, что "поэзия (и т.п.) хороша, мой друг, но человеку еще и жрать надо"; а также в вытекающем отсюда псевдожитейском требовании - "нельзя же все время витать в облаках, нужно и о хлебе насущном думать". Поддаться этому лукавству - все равно что заразиться методично убивающей живой организм бациллой. Это не что иное, как наркомания, толкающая человека на тщетный в конце концов путь затоваривания "хлебами насущными". Удовлетвориться, насытиться здесь невозможно, тем более - довольствоваться малым. Сделав первый шаг - пойдешь по этой лестнице все дальше и дальше, следуя гнилой логике "запас карман не тянет" или закону "передай дальше", господствующему в мире, где нет ничего безусловного. А поэзия (и т.п.), то, ради чего ты, собственно, решил приобрести все эти припасы, не претендующие ни на что более как на бытие средством, та самая поэзия, которую ты обозначил в качестве цели, но отодвинул занятие ею на неопределенный срок в будущее, задумавшись ради облегчения этого занятия о приобретении пока что всего лишь буханки хлеба и сразу же заразившись; так вот, поэзия расположена на другой лестнице, и ежели захочешь к ней вернуться, придется сначала с первой лесенки спрыгивать, а чем выше забрался, тем сильнее при прыжке отшибет ноги, потому так и боязно... Другими словами, напрасно ожидать, что поэзия (снова добавляю - и т.п.), словно награда, встретит тебя на вершине той лестницы, по которой ты взбираешься по недомыслию. Не к ней ведет этот путь, и конца (вершины) у него, кстати сказать, нет. Только решишь - хлеба уже достаточно, пора душой заняться - как включившийся органчик проиграет в тысячный раз знакомый мотив: "Поэзия (и т.п.) - это прекрасно, она, конечно, заслуживает внимания, однако не сейчас, ты же помнишь, что (к примеру - Авт.) скоро выборы, и конкуренты уже зашевелились".
Я не против богатства - я против несвободы. Затея же в том, что относительное абсолютному не товарищ - это дорожки, расходящиеся друг от друга все дальше и дальше. А хлеб, если промыслить до конца, пострашней героина.
10
Допустим, вы держите в руках поэтический сборник. Как вы думаете, что поместил поэт на эти страницы? Нечто неслучайное, такое, что не хотелось бы забыть, потерять в прошлом, не так ли? Те моменты жизни, которыми стоит поделиться с близкими по духу или с Богом. Ярчайшие впечатления, таинственные явления, внезапные минуты высшей радости от восприятия самых заурядных явлений. Все то, что поэт желал оставить после себя, то, чем он жил, во что он хотел бы уйти без остатка, как в редкие просветы истинной жизни... (Откашливаюсь.) Таинство утреннего пробуждения. Перестук женских каблуков в ночной мгле. Удивительный миг возвращения к детскому восприятию мира. Невероятная сила, таящаяся в хрупкой красоте. Головокружительная малость нашего обжитого мирка, если взглянуть на него, взобравшись на облако. День, когда удалось остановить время, вырвавшись из себя, из своей роли, и вдруг увидеть солнечный город, спешащих людей... (Примеры можно оспорить, но, во всяком случае, что-то в этом роде.)
Приблизительно, вы знаете, о чем пишутся стихи, чего в них можно ожидать, и чего нельзя. Вы не удивляетесь, например, что в сборнике нет стихотворения о том, как у поэта однажды кончились деньги (если только он не воспользовался этим сюжетом, чтобы, оттолкнувшись от него, взлететь к какой-нибудь вечной гармонии). Или о том, что у него мозоль на ноге болит. Или спина чешется. Или о том, что он купил рубашку, а на ней - дефект ткани.
Не пишут стихи на эти темы. Почему-то это не принято. В стихи должно быть переведено только то, что заслуживает воплощения в столь тонкие и изящные формы, адекватное им. Что-нибудь по нездешнему спокойное, то есть в противоположность суетному - долгое, лучше - нескончаемое. Что-нибудь "мировое", ненапрасное. И уж точно не только вас касающееся. Такое, важное для отдельного существа, что, одновременно, важно вообще, само по себе, безотносительно ему и всем остальным. Такая его проблема или ситуация, которая была бы достойна сочувствия со стороны других. Нечто, выходящее за рамки местной боли или местной радости (местной не только в пространственном, но и во временном смысле), чему со-болело или со-радовалось бы все остальное (разумеется, "все остальное" из числа одушевленного, немеханического, к примеру, "все прогрессивное человечество"). Согласитесь, одно дело, когда некто страдает от нехватки денег для похода в публичный дом, и совсем другое, когда умер его любимый попугайчик. Или, к слову, человек грустит, потому что любит - се явление "мировое", не частное ни в коем случае. Все мироздание грустит с ним в это мгновение, ибо соотносимый как минимум со вcем миром способен на эти чувства. Плачущий ребенок - не меньшее, чем плачущая Вселенная, потому и вызывает сострадание и заботу. Или попадает в стихотворение. Короче, далеко не любой опыт своей жизни поэт шифрует в ритмизованные, уплотненные, благородные, ввиду своей лаконичности, формы. Больше того, он записывает вообще не свой опыт, а опыт тех стихий, порядков, размерностей, которые, на время, он смог в себя вместить, то есть пожить их жизнью. Лучше всего, когда у читателя возникает впечатление, будто стихи написала сама реальность, будто беспристрастный датчик очертил кривые содроганий самой жизни. Когда автору удалось вытравить из каждой строчки следы своего присутствия (как конкретного, смертного, потеющего, порой икающего и ужас еще чего вытворяющего имярека).
Поэт, как правило, не рифмует свои раздумья по поводу урезанной зарплаты, разве что шутки ради. Ему важней запечатлеть ощущения, когда смотришь вверх и наполняешься покоем облаков, ...которым, собственно, вообще зарплату не платят. Он берется за перо, когда вспоминает, что он - это скорее облака (или вон те горы на фото), нежели тот, у кого натираются мозоли и у кого украли велосипед. Да, порой мы бегаем, хлопочем, грыземся с себе подобными, сатанеем от злости, радуемся деньгам, спешим урвать свой кусок пирога, болеем, даже умираем - но в стихах этого быть не должно. Ни в коем случае. Лишь покой и гармония, лишь любовь и умиротворенность. Лишь то, чему невозможно положить конец (скажем, сделав лучше). Поэзии важно именно это (за что я и преклоняюсь перед нею и за что она безусловно оправдана перед вечностью). А нам?
И нам тоже. По возможности, конечно. Приветствую тех, кто возразит: "Возможность, о которой вы говорите, имеется всегда и при любых обстоятельствах".
11
Бывает, что человек заблуждается, т.е. идет за неправдой, не ведая, что это неправда. Ему показалось, что он понял, а на самом деле - нифига не понял. Человек упоенно говорит глупости и не догадывается об этом. Вы оказались рядом с ним. Вы точно знаете, что он сейчас неправ. Увы, ему эта истина в данную минуту является недоступной. И вот он разглагольствует, широко улыбаясь, твердо упираясь обеими ногами в землю, уверенно жестикулируя... Страшная картина. Неперевариваемая. Вспомните себя, когда вы, ошибаясь, но не зная об этом, убежденно говорили "белое" там, где следовало бы сказать "черное". Улыбка сошла с ваших уст? "Боже, у меня был совершенно идиотский вид". Все верно: бодро, с вздернутым подбородком, насвистывая бравурную мелодию, весело подмигивая, пританцовывая, поигрывая мускулами, шагать по направлению к пропасти может только идиот.
Страшен отрыв от реальности. Настолько страшен, что уже не вполне рад тому, что появился на свет. Риск велик. Невольно притормаживаешь, чтобы прочитать надпись на придорожном щите: "Не лучше ли вообще не быть, чем быть и провалиться в геенну огненную?" Нет. Мы обязательно, обязательно выбираем "быть". Но все равно страшно.
12
Предположим, что ты приехал в незнакомый город, разделенный рекою на две части, а весь народ собрался почему-то только на одной, и все взгляды обращены на противоположный берег. "В чем дело"? - спрашиваешь ты. "Там, за рекой, обосновался жуткий тип, чудовище, злодей-изверг"! "Он что, не человек"? "Человек, но только очень гнусный, ужасный, мерзкий. Вот мы и собрались, чтоб с ним разделаться". Народ готовится к схватке, а ты, покамест, наблюдаешь за этими приготовлениями. "Давайте-ка выльем на него кипящей смолы"! "А я предлагаю прокрутить его через мясорубку"! "Нет, лучше напустить на него голодных собак, пусть разорвут в клочья"! "А всех его детенышей надо раздавить катком"! "А может, запереть их в клетке, чтобы они друг друга съели"? Наслушавшись подобных речей, ты решительно шагаешь к берегу, садишься в лодку и пересекаешь реку. "Куда же ты? Там такое отвратительное существо. Держись от него подальше"! Ты молчишь. Думаешь про себя: "Его я не видел, но вот от вас точно нужно держаться подальше. Каким бы он ни был, с ним не должно поступать так, как вы намереваетесь, тем более, если вы считаете, что лучше его. Если понадобится, я буду защищать его от вас. Не знаю, насколько неправ он, но вы неправы - точно".
Иногда, по действиям лишь одной из противоборствующих сторон, ровным счетом ничего не зная о второй, можно понять, что она, первая, не права. Немного удивительно, не так ли? Удивительно и очень важно. И как только мы сталкиваемся со случаем, когда действия противоположной стороны не имеют никакого значения при оценке наших собственных поступков -- нужно понимать, что наступает один из самых важных моментов в нашей жизни, а правильнее сказать -- единственных моментов, которые вообще можно назвать жизнью.
13
В моменты, когда у тебя нелады во взаимоотношениях с миром бесконечного, так странно, абсурдно, невыносимо продолжать существование в мире конечном. Ты потерял близкого человека, совершил подлость, поссорился с любимой, а назавтра нужно выходить на работу, вести какие-то дела, разговаривать с посторонними людьми, изображать заинтересованность... Апофеоз бессмысленности. Кто это испытал, тот со мной согласится. А кто испытать не успел, тот, наверное, уже опоздал.
14
Запись на листке бумаги, извлеченном из бутылки, прибитой к берегу:
Кружась в извивах своей не очень-то любопытной жизни, сделал я, между прочим, одно успокоительное открытие. Не успокоительное даже, а как бы выводящее по ту сторону покоя и беспокойства. Бывали моменты, когда на меня находило волнение, а порою и страх; когда я мучился то неуверенностью в грядущем, то неустроенностью в настоящем, а то еще чем-нибудь. И не знал я, увы, куда деться от этих забот и опасений. Так я маялся, пока не зашел своим страхам в спину и не увидел, что огражден я словно скорлупою в очень маленькое пространство, подверженное, как раз таки в силу малости своей, всяческим катаклизмам, а скорлупа эта - я сам. А как увидел, то скорлупа эта разбилась сама собой, я же простором открывшимся был, по первости, сильно поражен. Зажил я жизнями того, что меня окружало, воспринимая все настолько самим по себе, как будто меня в этом мире вообще нет, - и не переставал удивляться: то, что не я - гораздо мне ближе, чем я сам; настолько, что я, скорее, это и не я, а то, что не я. Загадка!
И когда погружался я в заботы настоящие, подлинные, то есть не о себе (предмет, для заботы вообще оказавшийся недостойным) - забывал про себя (в смысле своих проблем) напрочь и не терзался ни капли, хоть и претерпевал лишения. Бывало так, что и терзался, и боялся, и страдал, но - поскольку не за себя - меня это не сковывало ничуть, к земле не прижимало, в ощетинившийся колючками клубок не сворачивало, сдаться в плен тому, что пугает, не принуждало, наоборот, распрямляло плечи, наполняло душу и даже окрыляло...
Спросили меня давеча: "Не подскажите, как с бессонницей бороться"? Знаю, но не подскажу, не поймете. Я тоже лежал ночи напролет, раздражаясь на любой шум, спать мне мешающий; когда же от себя освободился - бессонница отступила, ибо стал я наслаждаться ночью или думал о чем-нибудь таком, что не своекорыстно, а потому не суетливо, мышцы не напрягает и мысли не подстегивает. И засыпал.
Вот единственное избавление от навязчивых тревог и сомнений: не идти у них на поводу, не пытаться устранить то, на что они указывают - сизифов труд - но... стать поэтом, что живет шумом лесов, красками заката, запахом сирени, завитком женского локона; или добротолюбцем, сострадающим ближнему согласно не возведенному в принцип принципу ipsa sibi virtus prаemium; или философом, жаждущим к истине присовокупиться и справедливости взалкать, как единственного, что себя не навязывает, на тебя с корыстью не смотрит, на власть не претендует, однако властвует, - иначе говоря, посадить себя на трогающийся поезд, помахать ему с перрона рукой и раствориться в мире. Не ради того, конечно, чтобы крепко спать и цвести лицом и телом, - эти достижения могут быть только побочными следствиями. Пока они, как цели, стоят во главе угла, их не достигнешь. Лишь с отказом от ставящего эти задачи "я" уйдут и его беды, от него неотделимые, которые оно так стремилось разрешить. Они отмирают вместе с их обладателем, умирающим не вообще, а для него самого.
И вот, хочу я спросить вас: ну, не удивительно ли, что забота о себе сжимает, душит, наполняет страхом, мешает раскрыться; в то время как забота о другом (не только о человеке, обо всем другом, достойном заботы) освобождает, способствует активности, позволяет реализоваться, даже радует, но и печалит, конечно, только печалит совсем по-другому, с прибавлением сил.
У нас есть две альтернативы: воспринимать мир относительно нам и так, как будто нас в нем нет (сам по себе). Каждый выбирает свое.
Кто что выбрал -- из слов не видно. К тому же, можно вообще не догадываться о том, что имел место какой-то выбор. Однако он состоялся (и "состояется" ежеминутно) в каждом и заметен по поведению. Например, во время грозы. Один, услышав приближающиеся раскаты грома, бледнеет, закрывает все форточки, отключает электроприборы, отходит вглубь комнаты и начинает креститься. Другой в восторге выскакивает на балкон (а то и на улицу) и умоляет небеса садануть молнией как можно ближе, чтобы лучше прочувствовать силу стихии. Какую альтернативу каждый из них предпочел -- понятно и без подсказок.
У помнящего про себя только одно кредо -- бояться...
Далее бумага промокла и текст стал совершенно неразборчивым.
15
Мне снились люди и комнаты, возможно, я сдавал экзамены. Прокатившись на лифте и поблуждав в каких-то коридорах, я очутился в плохо освещенном помещении, где стояли парты, за одной из которых сидела она, а за другими еще какие-то люди (позже надобность в них отпадет, и они тотчас исчезнут). Меня о чем-то спросили, и я вдруг ответил столь остроумно, что она, по причудливому закону сна, который я принял как само собой разумеющееся, на меня сердитая, дальше хмуриться просто-напросто не смогла и от всей души рассмеялась. Незримые злые силы, препятствовавшие нашему сближению, порождавшие непонимание, строившие козни, невидимо, но ощутимо от ее смеха скукожились и утекли через невидимые дырочки в полу. Все, что нас разделяло, стремительно утрачивало свою значимость. Она смеялась, а мне становилось легко, легко, легко, я ликовал и даже зажмурил глаза, чтобы ощутить неведомую доселе легкость дыхания, и засмеялся в ответ. Я смеялся на ее смех, впитывая его в себя, им заражаясь и заряжаясь. Улыбаясь, она смотрела на меня ласково, нежно, открыто, и я вдруг понял, что мы веселимся уже не моей шутке - мы зарадовались друг дружке, нам самим, а такой поворот событий был уже явно не шуточным. Я ощущал не только силу тока, потянувшего меня к ней, я чувствовал, как по этой же прямой навстречу моему несется другой поезд, неизбежное столкновение так желанно, как будто ради него все и затевалось (железная дорога, поезда и т. д.). И не потому ли меня тянуло к ней, что ее тянуло ко мне? Во всяком случае, очевидное для меня ее влечение в мою сторону подстегивало мое стремление к ней, увеличивая его порядков, этак, на двести, или на триста (извините, было не до счета). Уж не тогда ли я постиг, что безответная любовь - это ошибка в определении? Совпадение ключевое слово в объяснении причин рождения огня. Да, да, мы оба знали, что нас тянет друг к другу одновременно, в этом, надо думать, и состоял секрет мощности возникшего притяжения. Я подпитывался от ее желания, она - от моего: этот круг не имел начала, все было общим - ее и точно так же моим. Я приблизился к ней (мы пока что делали вид, будто не читаем друг у друга по глазам), склонился, зашептал в ухо какой-то предлог для такого рода близости (шептания в ухо), замирая в блаженстве от случайно-неслучайных прикосновений, она же им, ушком своим, повела так, что я до боли прочувствовал, догадался, с каким огромным трудом она сдерживается от желания тереться, тереться об меня, прижиматься ко мне всеми своими точками. Мы все еще изображаем из себя воспитанных людей, поэтому я целую ее совсем слегка, самыми кончиками губ, словно нечаянно, как бы между делом, а она вынуждена сделать вид, что поцелуя не заметила, иначе пришлось бы меня оттолкнуть, как порядочной женщине, а отталкивать ей меня не хочется, она, наоборот, другой щекой ко мне поворачивается, а я, будто случайно, снова ее целую. Тут она, в ответ, тоже как бы нечаянно целует меня, и вот мы уже сбросили маски светского поведения, уже совершенно откровенно тремся щеками, носами, лбами. Раз! - и по губам ее я своими провел, всего лишь по поверхности, сухим касанием, потом прильнул к ее волосам, и пока вдыхал их запах всего-то мгновение, лицо ее уже по моему соскучилось, руками своими она мою голову обхватила, разворачивает, наклоняет, и я уже пробираюсь губами к ее шее нежной...
И так хорошо, Боже, как хорошо! Как мы радуемся друг дружке, как друг друга чувствуем, понимаем, родные-родные! Так хотим друг в друга войти (буквально, я здесь ничего не вуалирую и не задумываюсь о сексуальном подтексте выражения), друг с другом слиться! Мы радуемся друг другу как дети или как пьяные, до сумасшествия, именно друг другу, просто друг другу, ничему кроме. Прорвало, по другому не скажешь. Все еще не соединяемся окончательно, но от малейшего прикосновения пьянеем, захлебываемся, умираем. Я так рад ей, а она - мне, и иначе нельзя. А знание, что не только ты рад, но и тебе рады, приносит нам еще большую радость, радость полную. Не чисто сексуальное возбуждение, как в других снах бывает - оно, конечно, вобралось в этот горячий снежный ком - но нечто в сто раз ( или в двести, за точность не ручаюсь) сильнее, как встреча с самой большой мечтой, как самый дорогой подарок. Какое это блаженство, обнимать и быть обнимаемым, когда мы - одно!
Трудно выдержать счастье. Я проснулся.
Дневной свет не смог убить всех ночных впечатлений, однако все, до чего я додумался, было решение сделать запись в дневнике, к которому я уже не прикасался года полтора-два, и в котором заполнено было всего-то две странички - не из тех я все-таки, кто ведет дневники. Покрутив воспоминания ото сна в уме так и сяк, я записал: "Жить стоит даже ради редких состояний счастья, приходящих во сне". Причем сначала я записал "высшего кайфа", но вскоре зачеркнул. Хотя и "счастье" - словечко не бесспорное, потому как счастье бывает и дешевеньким, коровьим; здесь же - действительно нечто высшее, достойное бессмертия. Хочу, между прочим, упредить могущее создаться впечатление, будто реальная жизнь у меня серая настолько, что лишь в снах я нахожу какую-то отдушину. Вовсе нет. Почему же я тогда именно сон описал? На то были причины.
А потом, пресловутый внутренний голос вдруг остановил меня и сказал: "Э! Да здесь (в описанном событии сна) - вообще все. Все! Только надо вдуматься в это слово - "все". Все время и пространство отпечаталось в этих мгновениях - вот, мол, суть; чистейшая, отфильтрованная суть. Вся религия, все искусство, вся жизнь, вся мудрость. Самая последняя цель всех ухищрений. Та невыразимая простота, что венчает конструкцию бесконечной сложности. Больше (выше, важнее) ничего нет, да и не надо. Ты же помнишь - там было все, и сверх ты уже ничего не желал".
Так я впал в пафос. Куда деться? Тот сон... Мне повезло в жизни. Она сложилась. Теперь хоть режьте. Каким бы я ничтожным (допустим, только допустим - ради теории) не был - имелся миг, когда я был равен любому, самому... Это не значит - больше не надо, потому что такое в прошлое не уходит, оно всегда со мной, периодически свершаясь заново, в том числе и в реальных событиях.
16
Беззащитность - особое свойство. Сжимание кулаков в ожидании предстоящей схватки становится привычкой. Рефлекс срабатывает, едва на горизонте появляется кто-либо еще. Правила просты: если не победишь ты, победят тебя. Одержи верх - таков кажущийся единственным способ добиться признания. Предпосылкой подобного убеждения является постоянно подтверждаемый практикой факт, согласно которому, всякое действие преследует вполне понятную цель - извлечение выгоды. Желаешь, чтобы тебя уважали? Заставь бояться. Разве будут с тобой считаться запросто так, если с этого нечего иметь? (Наилучший вариант выгоды для того, из кого ее извлекают: "Да, я с ним не связываюсь, потому что иначе он меня по стенке размажет".) Встреча - сигнал к сражению. Желание уцелеть требует однозначно четкой линии поведения - борьбы. Мир вокруг воспринимается с точки зрения: "Что он есть для меня?"
Беззащитность - особое свойство. Когда она является миру, он, не в силах совладать с ее присутствием, взрывается и разлетается ко всем чертям вместе со всеми его законами, освобождая место иначе организованной Вселенной. Если нечто не укладывается в ту систему координат, которая под рукой, ее отбрасывают за ненадобностью.
Сжимание кулаков в ожидании предстоящей схватки превратилось в привычку. Однако то, что показалось на горизонте - беззащитно. Недоумение разжимает ладони. Какой-то странный враг! Он полностью раскрыл под удар свои самые нежные, самые чувствительные места. Ни тебе доспехов, ни шипов, ни воинственных гримас и страшного рыка, только пушок белеет. А пушок можно только поглаживать. (Почему пушок можно лишь поглаживать? Потому что это пушок. Уже по одному его виду понятно, как с ним обращаться.)
Беззащитное, как бы сразу, заранее сдается: "Ты победил. Ты". В голове полная неразбериха - еще не нанес ни одного удара, а тебе уже сдались. Что бы это значило? Во всяком случае, перед тобой не соперник, это уж точно. Беззащитное не собирается тебя побеждать. Все привычные представления о жизни трещат по швам. " Ты победил. Пожалуйста: торжествуй, ликуй, колоти себя в грудь и сотрясай воздух победными воплями. Да, ты лучший. Ты всех обставил. И, наверное, постояв минуту на пьедестале победителя, ты уже понимаешь, как мало все это значит".
Беззащитность - особое свойство. Беззащитное - не победить. Парадокс сугубо неповерхностный. Беззащитное переводит ваши с ним отношения по ту сторону победы и поражения. Отсюда, если хотите, можно даже вывести практический совет: не желаешь, чтобы тебя побеждали - будь беззащитным.
Беззащитное - не против тебя, поскольку не ощетинилось шипами, штыками, пушечными жерлами. Победа над тобой ему не нужна. Оно, следовательно, допускает, чтобы ты был тоже. Более того, оно открыто настежь, а значит видит в тебе друга. Оно радо тебе, вместе с тем, ему ничего от тебя не нужно (ничего такого, что превратило бы тебя в средство). В противном случае, оно пыталось бы тебя поработить, а этого нет и в помине. Оно радо тебе не для себя, а, и это поистине невозможно, для тебя. Другими словами, оно отзывается на те твои состояния, которые, казалось бы, существенны только для тебя - на твою радость (своей радостью), на твою печаль (своей печалью).
Столкнувшись с беззащитным, ты прочитал в его взгляде, что на тебя смотрят безотносительно тому, что ты есть для них. Ты предаешься благодарной радости - впервые в тебе увидели тебя. Чудесная невероятность случившегося дарует возможность встречного движения. Ты, в свою очередь, прозреваешь, что у другого, оказывается, имеются собственные виды на самого себя и своя внутренняя жизнь. Ба, он существует сам для себя! - ты начинаешь его любить. Находишь в нем себя, что, на первый взгляд, странно, особенно если исходить из того, что он существует не для тебя. Однако, именно это обстоятельство позволяет тебе идентифицироваться с Другим, ведь познаваясь только изнутри себя, Другой исключает возможность рассматривать его как нечто отдельное от познающего.
Беззащитное можно только полюбить. Беззащитному можно только покориться. Ничего другого просто не остается. Оно смотрит на тебя с такой доверчивостью, что, спохватившись, ты начинаешь за ним ухаживать, заботиться, счастливый от понимания смысла своего появления на свет. Отныне все не впустую.
Беззащитность - особое свойство. Люди, чья особенность - двигаться в сторону, противоположную истине, боятся выглядеть беззащитными. Напрасно. Именно незащищенность, промелькнувшая в голосе (какой-нибудь дефект речи), взгляде, жесте и т. п. порождает симпатию, пробуждает лучшие чувства и качества; и даже просто - пробуждает, то есть напоминает человеку о его предназначении.
17
Вопрос: "Как мне избавиться от нервного напряжения, беспокойств, отрицательных эмоций?" - относится не только к сфере психологии и медицины.
Подверженность страхам либо волнениям - указание на то, что человек живет не вечным. Вечное не приносит нервного напряжения.
Жалующийся на занозу в пальце не дает почвы для философского комментария. Чтобы вылечиться от простуды, не нужно менять жизненных установок. В свою очередь, излечение от страха предусматривает изменение личности. Шалящие нервы - скорее показатель статуса в бытии, нежели болезнь. И это чисто формальное открытие, как ни странно, обладает лечебной силой.
Сама по себе мысль о том, что волнение и угнетенность - знаки погруженности в преходящее, - уже отрадна. Значит страх - не царь жизни. Значит, имеется хотя бы обещание будущего, хотя бы гипотетическая возможность гармонии. Больше того. Поскольку парализующая, высасывающая энергию напряженность, является, как оказалось, тем, что не озарено (освящено) лучом вечности, это уже достаточный повод, чтобы отказать ей в праве владеть твоим телом и сознанием.
Увидев, что волнуешься из-за ерунды, не выбил ли ты, тем самым, основание из под ног своего волнения? Кто боится гномов? Ну, а все, что далеко не "мелочь", никогда не опутает по рукам и ногам опустошающей нервной дрожью, не заставит отказаться от уверенности и согласия с собой, то есть отложить жизнь до лучших времен и зависеть, зависеть, зависеть. "Вечность" и "свобода" суть синонимы. Душа, наполненная вечным - единственное богатство для
смертного.
18
Вместо того, чтобы сетовать на падение нравов, я предпочитаю каждое проявление человечности встречать как незаслуженную, посланную свыше удачу. Об этом легко забыть, но все специфически человеческое увы, не из разряда того, что успешно держится на плаву. С него нечего взять, а значит никто и ничто не будет его стеречь и поддерживать. С точки зрения все того же пресловутого выживания человечность не входит в число обязательных, необходимых качеств.
Наше отличие от машин или зверей именно в том и заключается, что в свое существование мы привносим лишние, бесполезные элементы. Но только они придают очарование иным нашим жестам, очарование, благодаря которому мы не преходим (как звери и машины), но остаемся вовеки. Это открытие сделано тысячи лет назад, но оно не устаревает. Еще через тысячи лет (а также, быть может, послезавтра) это открытие сделают снова, не смущаясь тем обстоятельством, что в свое время об этом думал, допустим, я, или ты, дорогой друг. Изумление и радость перед тайной абсолютной надобности подобного рода ненужного, перед тем, что незаконно беспричинное все-таки случается, бывает, просачивается контрабандой - вот единственный алтарь, на который можно без оглядки закласть самого себя полностью. Собственно, я только что признался в том, какую религию исповедую. Поступки, к которым не подталкивал никакой корыстный интерес, но, тем не менее, состоявшиеся, расцениваются мною как чудо и вечное по своему значению торжество. Только они преисполнены полной и совершенной гармонии.
Умер человек, и я горюю по этому поводу, так как он был моим знакомым и я на кое-что от него рассчитывал (допустим, он мог меня познакомить с авторитетным для меня лицом). Такое горе нельзя назвать необоснованным или высосанным из пальца. Но вот я жалею умершего самого по себе, как, скажем, яркую и незаурядную личность (оценка, лишенная примерки на себя, предполагающая безотносительность оценивания). Я бы хотел, чтобы он продолжал жить, хотя лично для себя (или для "дела") ничего от этого не жду. Вроде бы желание странное и нелогичное, но на самом деле -- единственно осмысленное. А если жду - налицо ущербность, выражающаяся в зависимости от ценности той цели, ради которой возникло желание жизни другому существу, поскольку оно не замкнуто на самом себе, то есть не завершает схему, но требует продолжения, так как не объясняет ни само себя, ни происходящее в целом. А ведь был шанс "спастись", вырваться на свободу, пожалев просто так.
Итак, меня бесспорно влечет все то, что не укладывается в рамки мира, где причиной обращения к чему-либо является расчет, что оно (это "что-либо") принесет какую-нибудь пользу. Мира, где мы убиваем то, к чему притрагиваемся. Акт корыстного использования есть акт убийства. А убивающий другого на самом деле убивает только себя. Подлинные отношения с окружающим миром (которые живы даже в тех, кто их отрицает) внутреннего, а не внешнего порядка. То есть -- без какой-либо дележки. Но когда мы ничего не делим, не утаиваем, не перетягиваем на себя одеяло (неврозы не в счет)? Когда нет посторонних (и одеяло стаскивать не с кого). Когда общаемся сами с собой. Вот потому, все, что только не встретит человек на своем пути -- все это будет он. В этом -- правда солипсизма. За круг себя человеку не выйти, как и положено созданию, ведающему о вечности. (Приобщенность к всегда актуальному -- своего рода гарант независимости от поощрений и наказаний, исходящих извне.) Так, я могу сказать, что ты -- это я. Это заявление будет обозначать лишь то, что я не жду от тебя ничего для себя. Стало быть ты не внешен по отношению ко мне, хоть ты и не я. Только, как и положено созданию, ведающему о вечности, в таком ограничении исключительно собой, в действительности, нет никакой ограниченности. Ведь своим полагается все, которое при этом не лишается своей самостоятельности. В этом -- правда объективизма.
Кружится голова, слабеют ноги, рябит в глазах - человек теряется в мире, где все чему-то служит. Ему мало знания, что смысл А заключается в том, чтобы обслуживать В (о котором он ничего не знает). "Для чего тогда В?" - ставится вопрос, свидетельствующий о том, что тот, кто его задал, намерен дойти до конца. Нельзя жить в мире, где, за что ни возьмись, все имеет подчиненное значение. Встретив раба, спрашивают только одно: "Кто твой хозяин"? Бесконечное продолжение какого-либо сюжета превращает его в абсурд. Все должно закончиться, придти к развязке -- и, тем самым, обрести вневременное бытие. Конец позволяет обрести смысл. Именно благодаря отсвету конца мы можем говорить, думать, чувствовать -- быть. Что может быть признано в качестве оного? То, что уже ничему не служит. То, что больше не звено в цепочке и не предполагает, не нуждается в связке со следующим звеном, не передает эстафету дальше. Любопытный нюанс заключен в том, что в глазах относительного это спасительное начало предстает как нечто ненужное. Ведь оно уже ни для чего (приехали, "конечная"), а потому, с позиции практического подхода, бесполезно. Рожденное служить, столкнувшись с тем, чем могло бы оправдаться, будет его отрицать, так как не знает другой причины быть, кроме как быть полезным. Отрицать то, чему служит. Отрицать хозяина, без которого оно -- ничто. Я уже где-то об этом писал? Прошу прощения. Однако я еще не решил -- знак ли это того, что я исчерпался, или объективная невозможность отвести глаза от увиденного.
На сей раз тема человеческих проявлений как своего рода излишеств всплыла в моей голове после того, как я позвонил на телефонную станцию. Когда на другом конце провода взяли трубку, я сказал: "Здравствуйте. У меня не работает телефон, его номер такой-то. Скажите, пожалуйста, когда мне ждать монтера? Завтра? Спасибо. До свидания". Меня впечатлили пустоты, на которые натолкнулись слова "здравствуйте", "спасибо". Иначе говоря, телефонистка не ответила мне приветствием на приветствие, не попрощалась и т. п. Я понял ее - она ждала информацию. И она была права. От меня требовалась голая информация, работа диспетчера заключается в том, чтобы реагировать именно на сообщаемые ей сведения, а не на "здравствуйте". С точки зрения мира автоматов она, повторяю, была права. Однако, она была не автоматом, а человеком. Человеком, забывшим о том, что есть такое ненужное, без которого все нужное напрасно. И поэтому в том, что саму себя телефонистка низвела до автомата, она была совершенно неправа. Я же, повесив трубку, вновь со всей очевидностью ощутил, что вся наша человечность держится на исключительно хрупких "вещах". В числе прочего, таких, как слова "здравствуйте", "добрый день", "благодарю", "всего доброго" и т. п. Ведь достаточно сказать: "Дайте мне пирог с капустой". Но мы, когда мы человеки, говорим продавщице более длинное предложение, полное вставок, в которых, по логике тленного, нет никакой необходимости: "Будьте любезны, пирожок с капустой, если вас не затруднит". Хотя мы прекрасно знаем, что это ее работа, что она просто обязана дать пирог с капустой, коль мы всучили ей деньги.
19
Так трудно признаться себе, что все, о чем мечтаешь - пустое, а все, чего боишься - и есть жизнь. Я не о мечте вообще, а о состояниях восторженно умилительной тупости, когда, например, выходишь поздно ночью от приятелей, с которыми распил бутылочку-другую да сыграл в преферанс, и томно так думаешь, мочась в темноте на придорожный столб: "Хорошо бы, чтобы так было всегда!" Вот, что тянет нас к вечной жизни, понимаемой как житие-бытие день за днем, год за годом, век за веком. К такой псевдовечности зовут нас инстинкты, комплексы, страсти, слабости, заблуждения etc., но отнюдь не истина.
Мы мечтаем, чтобы жизнь была сытой и спокойной, чтобы нас обошли беды и лишения, чтобы мы спали на чистом белье, чтобы исправно работала канализация, чтобы не болел живот или зубы, чтобы каждый вечер в натопленной гостиной нас ждал душистый чай со слоеным пирогом, чтобы нас все любили и во всем шли навстречу. Мы мечтаем, наконец, чтобы весь этот кретинизм длился до бесконечности долго. Прервите себя в любой момент бодрствования (и даже сна) и зафиксируйте свои доминирующие желания: они только об этом. Так, слава Богу, что мы смертны!
Поддаваясь сладким мечтаниям, мы уступаем самих себя, выпускаем себя из своих рук и плывем по течению чуждых нам мутных потоков. Нам, а не прокравшимся в нас отупляющим желаниям, следовало бы грезить о другом: о том, чтобы состояться, то есть суметь (успеть) совершить поступок чести, поступок добра, поступок красоты, поступок любви, поступок благородства, поступок великодушия, поступок силы, поступок свободы, поступок обаяния, поступок самопреодоления, поступок утонченности, поступок мужества, поступок такта, поступок ума. А с этой точки зрения совершенно без разницы, где ты будешь спать сегодня ночью - на чистой простыне, постеленной поверх мягкой перины, или на затхлой соломе в душном бараке. И если ты смог проявить себя по-человечески в ледяной тундре, ты в равном положении с тем, кто поступил по-человечески на солнечном пляже. Здесь происходит редукция времени и пространства.
Реальная жизнь актуализируется через испытание, в том числе и на прочность, через риск. Пока человек ничем не рискует, он может говорить все, что угодно, как проверишь? С паническим ужасом осознаешь, что невозможно окунуться в реальную жизнь, не распростившись с тем, что вызвало желание иметь это всегда (завтра, послезавтра и т. д., то есть в ложно понимаемой вечности). В этом есть момент страдания. Однако следует знать, что это не более, чем страдание по оковам, за тебя решавшим твою судьбу. Сытость и стабильность обращают в рабство. Поддаваясь мечтаниям, что от лукавого, отклоняешься от своего назначения, от настоящей жизни. Очередной парадокс: кажущееся приятным - на самом деле, пустая бессмыслица, а там где страшно только там и возможна реальная радость, радость в своей полноте.
Клюнув на соблазны комфорта, мы превращаем условия, обстановку жизни в самоцель, в то время как действительно самоценное актуально вне зависимости от любых условий и любой обстановки. К тому же, мы и недостойны хороших, приятных условий существования, поскольку, пребывая в них, как правило, впадаем в свинство, то есть отдаем себя на откуп телу и психике, которые, на самом деле, не есть наше "я", и лишь страдание способно растолкать и вытащить нас за шиворот из состояния (душевной) спячки - она-то и есть смерть, как поняли уже давно. Лишь такой смерти следует бояться - когда в смене событий душа остается незатронутой.
Нам всегда более страшной видится потеря комфорта, и об этом мы переживаем в стократ чаще, чем об опасности лишиться ценностей невидимого (духовного) порядка. И лишь когда, заботясь о комфорте (теле), упускаем что-либо из неосязаемых богатств (тех, что не истребить моли), тогда только и понимаем, за что нужно было держаться обеими руками.
Ад - это исполнение мечты об обладании относительным благом, ради которого поступились благом абсолютным. Страшнее я ничего не знаю.
20
Эхом гонга. Сегодня, в житейской круговерти, меня сопровождал голос, выпевающий: "С остановившимся ви-до-оо-ом". Собственно, вся песня была по-таинственному спокойной, приближающей к завершенности, однако ее иномирное происхождение можно было оспорить. При соответствующем настрое парить вместе с ней было бы приятно, но способностью за шиворот вытащить из текучки в тот момент, когда ты в нее полностью погружен, песня не обладала. Лишь неожиданный переход к ноте, на которой пелось "до-оо-ом", в мгновение уносил к пределам этого мира и выталкивал наружу.
Одинакового для всех образа той страны, где мелодия "до-оо-ом" жила от веку, не существует. Сегодня для меня это была местность, где в мягкой тишине курился сладковатый туман, медленно заполняя собой все окрестности, состоящие, возможно, из вполне обычного горного пейзажа, даже конкретно кавказского пейзажа, где низкий кустарник сопровождал вьющуюся тропинку, и все, на что падал взгляд, сохраняло извечную расслабленность, которая, своей естественной пульсацией, и рождала этот неспешный, тягучий ритм, отзывающийся эхом, слегка меняющим ноту, и тотчас туман обволакивал, наконец, и самого слушателя, растворяя его в себе до такой степени, что он, превратившись из точки в пространстве и времени в самих пространство и время, лился музыкой над пасмурными, но согласными со своей участью долинами, которые тоже были он.
Мелодия спасала меня от пустопорожней суматохи, то есть от до тех пор полезных дел, пока не появляется перспектива "конечного счета"; не позволяя им завладеть мной полностью и задушить. Когда глазам (слуху, мыслям) не за что зацепиться, так как любой предмет -- лишь фрагмент другого и так до бесконечности, начинается головокружение, предупреждающее, что и твоя судьба здесь - потонуть, сгинуть. Легко потеряться на чужбине, где безумная возня на земной поверхности, вдвойне безумная оттого, что она еще и на что-то рассчитывает, так разительно контрастирует с небесным покоем, свидетельствующим всем возможным разумным существам инвариант своего происхождения. Через возню покой не возникает, возня порождает саму себя, только в еще больших размерах, а любая благородная цель, то есть цель из разряда "последних", единственно заслуживающих стремления, совпадает с покоем, так как сама она уже "ни для чего" и, будучи достигнута, пребывает в своей полноте, ни в чем не нуждаясь. Однако способ достижения такой цели это тайна в том отношении, что не укладывается в наше понимание. Ибо все цели, достойные быть таковыми, достигаются не через активность (суету), а через выход из суеты, когда совершается престранное, чудное открытие: все, что нам нужно - уже, собственно, есть, идти никуда не надо, оно имелось в наличии изначально, подобно мозаике на полу, которую мы, ринувшись, в считанные минуты затопчем своими грязными ногами, ее же и ища, а после будем в недоумении спрашивать друг друга: "Так где же она? Где?" Чтобы стать свободным, требуется лишь одно - понять, что ты уже свободен. Искомое здесь (покой, например) обретается не действиями, а их прекращением. Все, что мы ищем - обитало в нас еще до поисков, до метаний, которые способны лишь удалять нас от самих себя. Требующее подсуетиться - чуждое, пустое.
Опомнившийся уже только здесь, на чужбине, я знал, что на родину уже не вернуться физическим, буквальным способом. Снаружи родины больше нет, она живет у нас внутри, и, тем не менее, до нее еще надо добраться. Родина живет в нас так глубоко, что с ней не воссоединиться без особых приспособлений, вроде той мелодии, что воскресила для меня сегодня страну, где земной порядок гармонирует с небесным, а начало смыкается с концом, так что некуда спешить, коли ты вступил туда, что прежде всех времен.
Конечно, где-то под вечер я сбился с частоты, на которой ловилась музыка родины, а точнее сказать, та музыка, которая сегодня играла для меня роль (по разным, в том числе и не связанным с мелодией самой по себе, причинам) проводника к заповедным местам. Может, в этом была моя вина, а может и нет, просто мелодия постепенно лишилась своего волшебного покрова. Но это уже не суть.
21
Вы когда-нибудь видели снующего мудреца?
О, да! Вы приведете тысячу самых несокрушимых доводов, оправдывающих вашу беготню. Вы блестяще докажете, как это чертовски необходимо и жизненно важно: там - занять очередь, а там - поставить подпись, потом найти нужного человека, после чего обзвонить клиентуру, чтобы составить планы на следующую неделю. Закупить то, примерить это. Как без этого? Без этого - никак! Я и сам такой же.
НО
Вы когда-нибудь видели снующего мудреца?
22
Порассуждаем над одной поэтической строчкой, у меня же самого и вырвавшейся: "Я жизнь отдам за красоту!" Как ее понимать? Так, что поэту, конечно, жить хочется, но если уж возникнет ситуация, требующая во имя красоты отдать жизнь, делать нечего, придется отдавать? Да, нет же. Речь идет не о вынужденном шаге, а о мечте. Поэт (отвлечемся оттого, что это я) имеет в виду, что он желает умереть ради красоты, что он был бы счастлив, случись такое. А вот это уже расходится с нашими привычными представлениями о жизни.
Я вообще склонен заявить, что главная проблема человека так и формулируется: за что умереть? За что умереть? - вот в чем вопрос. Умереть в смысле растратить, отдать, посвятить свою жизнь. Я говорю не о тяге к самоубийству, но о поиске такого, во что можно вложить себя без остатка. Ведь не в себя же себя вкладывать (скорее, наоборот -- высвободиться из себя). Это другое существо имеет для нас абсолютное значение, сами же для себя мы играем сугубо подчиненную роль. Мы для себя не абсолют уже потому, что сами себе принадлежим, то есть, имеем право собою распоряжаться. А подчинить себя тому, что уже находится у нас в подчинении, мы не можем по определению. Это исключено. Самому себе человек вправе в чем-то отказать, самого себя заставить потерпеть, самому себе причинить боль, при этом, приказав закрыть рот, прикусить язык - ведь это же он сам! Мы даже жертвуем собой, если считаем, что так надо. Повторяю, что поскольку мы над собой властвуем, постольку мы себе не служим.
Итак, требуется найти нечто вне нас, чтобы мы направили себя ему на служение. Разумеется, направили сами, свободно и добровольно, так, как будто это служение необходимо нам самим (хоть оно и совершенно бескорыстно). Человек сам должен выбирать, что заслуживает того, чтобы он согласился за это умереть. О жертве ради чужих интересов речи нет и в помине. Если мне представлена свобода выбора, все выбранное мной - это с неизбежностью я и буду. Я, перекочевавший в то, что выбираю. Добровольно решая за что-то умереть, человек как бы превращает цель жертвоприношения в свое новое "я", по крайней мере, в частичку своего "я". Тот, кто сам выбрал за что-нибудь умереть, всегда умирает за свое, и, стало быть -- не умирает, рождаясь в том, ради чего, казалось бы, собой жертвует. Философы говорят в таких случаях о необходимости доступа к результатам предпринимаемых усилий. Понимание (выбор) и есть такой доступ, ведь когда понимаешь смысл какого-то действия, тогда можно соотнести его со своими мировоззренческими ценностями, самостоятельно прикинуть, нужно это или не нужно, стоит усилий или же нет. Понять - все равно что побывать там, куда поступят результаты, побыть их обладателем, вкусить их. И тогда - все в порядке. Ибо тогда никто не скажет, что он не успел вкусить плоды (а не потому ли мы так пугаемся смерти, что из-за нее можно не успеть осуществить задуманное?).
Стихотворная фраза (позволив себе длинное отступление, я все же возвращаюсь к начатому): "Я жизнь отдам за красоту", - вырвалась у меня на гребне очень мощной эмоционально-экзистенциальной волны. Волны радости, умиротворения, утоленной жажды по твердой почве под ногами, чувства долгожданной завершенности. Можно даже сказать - покоя, и в этом не будет противоречия, потому что когда странствуешь в поисках покоя долгое время, его обретение сопровождается сильным душевным переживанием. Меня словно, наконец, отпустили на волю. Будто я увидел, наконец, искомую пристань, если воспользоваться избитым сравнением. И можно теперь расслабиться, махнуть на все рукой, загорланить песню и пуститься в безумный танец. Невозможная, но чудовищно желанная ясность. Счастье сбывания. Просветление. Вас передернуло? Но я ли один буквально впиваюсь в состояния, когда уже не нужно волноваться ни о минувшем, ни о грядущем? Когда совершаемое тобой настолько бесспорно, что под защитой этой абсолютной истинности ощущаешь себя бессмертным и непобедимым? Уютно как в материнской утробе. Праздник пребывания в круге божественного света (Божественного Света). В точке абсолюта (Абсолюта).
Вот такие чувства завладели мной, когда я представил, что гибну за красоту. (Если вам смешно, то учтите, что я предельно искренен. А искреннее всегда выглядит неприлично детским и ужасно простым, почему мы и бережем его от посторонних, боимся выставить напоказ.) За красоту, как то, что ради самого себя. Употребляя выражения "красота ради красоты", "добро ради добра" мы сталкиваемся со структурами, закрытыми для времени, неподвластными ему. Вот в структуре, выражаемой словами "деньги ради пропитания", - время гуляет вовсю. В этом смысле, если опять вернуться к стихотворной строчке, красота выступает для поэта как абсолютное, то есть, грубо говоря, как начало и конец всего. Красота ради красоты - значит выше ее ничего нет. Ею нельзя пожертвовать, и именно по этой причине поэт мечтает во имя ее пожертвовать собой. Когда ясно видишь полную невозможность пренебречь красотой и ей подобным, возникает совершенно особое чувство. Ощущение вышеупомянутых праздника, счастья, просветления. Так радуется ребенок, нашедший маму, которую несколько минут назад потерял (вернее, от которой сам потерялся) в суете большого магазина. Красота, как весточка из мира, организованного по принципиально иным законам - есть спасение, а спасенный (скажем, от смерти или от ограниченности своего "я") - это тот, кто отдал себя ей.
Представь, что ты убегаешь от кого-то, и на бегу сбрасываешь с себя различные тяжести. Сбросил одно, второе, третье, взялся за четвертое - и вдруг отчетливо понимаешь, что распрощаться с этим - невозможно. Казалось бы, следует только раздосадоваться, ведь с ним бежать гораздо труднее, а ты, напротив, чрезвычайно рад своему открытию. Радуешься тому, что мешает тебе убежать от преследователей. Они догоняют, и ты их благодаришь. Не ведая того, они помогли тебе найти, узнать нечто, что увело тебя в область, где ни преследование, ни затрудненный бег не имеют ровным счетом никакого значения.
Не будь того, от чего нельзя избавиться, не будь того, ради чего можно и умереть - незачем было бы жить (бежать).
"Я жизнь отдам за красоту!" - восклицает поэт, потому что в пригрезившейся сцене ему увиделась максимальная наполненность жизни. Выражение "красота для красоты" - есть обозначение абсолютно полной, завершенной гармонии. Это предел. В том числе - предел мечтаний. В том числе - предел слов. Все страждущее находит здесь свое утешение. Все одухотворенное - смысл.
23
Почему искусство так много внимания уделяет душевным страданиям (равно как и радостям), и совершенно игнорирует физическую боль (равно как и физическое удовольствие)? Один из тех вопросов, постановка которых дает больше, чем сам ответ.
"Мне больно, мне так больно", - поется в песне, и все понимают, что имеются в виду терзания душевного порядка. Грусть расставания с любимой всего на каких-нибудь два часа становится поводом для нескончаемой поэмы, а ужасная страшная боль от тяжелой раны не удостаивается даже пары строчек.
На то имеется свой резон. В отличие от физического, душевное страдание обладает одним очень важным свойством: само по себе, оно на многое проливает свет, являясь, как ныне принято выражаться, знаковым событием. Душевная боль обязательно несет в себе информацию о том, кто ее испытывает. Физическое страдание, увы, ничего не сообщает нам о человеке. Добрый он или злой, романтик или прагматик, мудрец или глупец - из покалываний порезанного пальца не выводится. Они (покалывания) недостаточны с точки зрения характеристики владельца пальца. А вот из душевных мук всегда виден весь человек. "Расскажи, о чем болит твоя душа, и я скажу, кто ты". Душевное страдание преисполнено возвышенности - в нем непременно присутствуют бескорыстные мотивы. Душа никогда не болит за себя. О наличии души у по себе убивающегося говорить преждевременно. Душою болят по вечному. Этим и примечательны нелепые с точки зрения природы метафизические мучения. Рискну сказать, что душевное страдание - это всегда осознанный выбор. Оно не случайно, как случайно подскальзываются и ломают себе руки-ноги. Душевной болью откликаются лишь на то, что уже есть внутри. Душевной болью отзываются только по своей воле. К ней не может быть принуждения. Страдания души нельзя назвать и напрасными. Это закономерные события, наделенные большим внутренним значением. Не бывает зряшных душевных мук: они нужны тому, кто им предается. Так, боль за умершего есть продолжение любви к нему, его утверждение как безусловно ценного, и, в этом смысле, очень важно ее длить и усиливать.
О физической боли ничего такого не скажешь. Взятая сама по себе, она ни о чем нам не сообщает. Она всегда есть нечто случайное, навязанное, бессмысленное. Время, потраченное на ее
переживание не останется с тобой, не попадет в вечность.
24
Процентомания. "Хорошо ли то, что я сделал?" "Хорошо, процентов этак на 35". "А хорошо на 35( - это хорошо?" "Это хорошо на 35(".
Нет, в мире относительного нам не за что зацепиться. Неопределенность там правит бал. Там все хорошее одновременно является плохим, красивое безобразным, дорогое - дешевым. "Это, конечно, дорого, хотя с другой стороны, очень даже дешево. В зависимости от того, какие у вас доходы". Все мгновенно перевертывается - взялся за одно, глядишь, а под рукой уже другое. Как в фильме "From dusk till dawn", - прекрасные девушки оборачиваются жуткими монстрами.
Вот и манит нас абсолютное, обладающее заветной неделимостью. Ведь не бывает полуправды, полусвободы, полулюбви, получести и т.п. Либо это правда - либо ложь. Либо это свобода - либо рабство. Любить можно только полностью, а не на три четверти или даже на 99(. Кто любит на 99,9( - тот не любит. Столь суровая радикальность и привлекает нас в том, что безотносительно. Надежна только вечность. Только тамошнее добро - добро, тамошняя истина истина, тамошнее величие - величие. Строго говоря, кроме вечности и нет ничего. За ее рамками лежит мир иллюзии, мир сна. Любой, даже самый чуждый метафизики человек ощущает интуитивную потребность в абсолютном. В том, что не меняет лица на зад при смене угла зрения. Что верно на все 100(. А то, чья верность хотя бы на чуточку меньше 100(, - уже ненадежно. И что 2(, что 99( - все одно. И жди подвоха, как от того плавающего бревна, на которое лучше не ступать - оно перевернется. "Этот поступок благороден на 60(". Значит на 40( он подл. Так что же я совершил - благородство или подлость? Даже сотая доля процента подлости лишает нас права величать поступок благородным. Почему? Да потому что благородство - категория абсолютная. Не будь тех или иных неделимых качеств, мы не смогли бы оценивать ни свои, ни чужие деяния. Распался бы сам язык, и мы бы мычали, как коровы, в устремлениях которых нет ничего безусловного (безусловный рефлекс не в счет). В нашей жизни очень много такого, что следует рассматривать исключительно в абсолютном смысле. Это правило вошло в нашу плоть и кровь настолько, что после слов: "Я люблю тебя", - никто не просит уточнить: "How much"? А признаться: "Теперь я люблю тебя больше (меньше)", - значит выдать себя с головой. Метафизическое начало сидит во всех нас, поэтому вместо слов: "Я люблю тебя неделимой любовью", - мы, как правило, выражаемся немного более кратко.
25
Сейчас я буду говорить о сексуальном желании в его наиболее "голом", примитивном виде. О чистом, животном влечении без каких-либо привнесений. О возбуждении, что порождается так называемым либидо либо же просто природными инстинктами. Оно захватывает, когда забывают, что все, вложенное в нас природой (т.е. без нашего участия) - бессмысленно, не будучи преобразованным под влиянием иных, внеприродных порядков. Без этого все влечения и позывы будут "темными" и аффективными. Жгучие, но своекорыстные и потому гибельные (с точки зрения пустой траты драгоценного времени) страсти, владеющие нами в минуты душевной пустоты. Нет, сейчас я не собираюсь их анализировать, лишь пометил по ходу несколько представляющихся мне принципиальными соображений.
Все наблюдение, которым я хочу поделиться, заключается в том, что самые лучшие женщины (в том числе и в чисто физическом плане) никогда не становятся объектом такого желания. И это одна из тех странностей, благодаря которой, если мы обратим на нее внимание, появляется возможность понять основополагающие, магистральные законы нашего бытия и бытия вообще.
Правда, странно: когда красота женщины приближается к идеалу, ее восприятие нами становится куда более сложным, нежели инстинктивное половое влечение. Любопытная зависимость: красота возрастает - влечение сначала растет тоже, потом отступает. Мимо нас прошла дурнушка - ничего не произошло. Идет нечто более привлекательное, мягко покачиваются бедра - в наших глазах мелькнул огонек желания. Подходит дама еще соблазнительней огонек сильнее. Но вот появилось само совершенство - наш взгляд максимально пристален, но полового желания (в его примитивной, напоминаю, форме) в нем уже нет. Почему? Хороший вопрос.
Обнаруженная странность указывает нам на сущность красивого. Красивое случается не для того, чтобы удовлетворять чьи-то желания. Оно имеет самостоятельное значение. Поэтому, по мере усиления красоты женщин, мужчина все меньше думает о себе. В том числе и о том, что ему чего-то хотелось, хотелось сильно, очень сильно, сильнее, казалось, всего. Все это отступает при встрече с действительно прекрасной женщиной. Взятая сама по себе, она важнее любого корыстного желания. Она вытаскивает человека из его зацикленности на своих заботах, проблемах, нуждах. Красота засасывает своего наблюдателя внутрь себя. В том месте, где явила себя красота - нет ничего рядом, даже если до ее появления там была куча народу. Мистические вещи говорю. Чем больше в женщине красоты - тем меньше шансов рассматривать ее как вещь-для-нас. Прекрасная женщина - вещь-в-себе, поэтому вместо зова плоти появляются более сложные эмоции: желание бесконечно долго быть рядом, желание сделать ей приятное без расчета на ответный жест, радость оттого, что она есть. Нежность. Любовь. Ты прикасаешься к ней, но прислушиваешься отнюдь не к собственным ощущениям. На этом остановлюсь, дабы избежать кривотолков.
По отношению к прекрасным женщинам мы не вправе быть потребителями. Их назначение не вмещается в рамки простого использования. По своей важности они превосходят все то, что могло бы через их посредство удовлетворить свои запросы. Совершенство не годится для того, чтобы с его помощью решались чьи-то мелочные проблемы. А рядом с ним все проблемы - мелочь. Не кто иной, как их (проблем) обладатель приходит к таким выводам.
26
Привязанностью я называю иллюзию, в результате которой относительное наделяется чертами абсолютного. Поддавшись ей, человек верит в полную невозможность расстаться с тем, что, на самом деле, не является обязательным условием ощущения (душевного) комфорта. Так, привязанный к дому до ужаса боится пожара. Однако ни дом, ни мебель, ни привычка и т.п. не входят в число оснований, на которых держится наша жизнь. Пока мы боимся того, бояться чего не следует, мы не боимся того, чего следует бояться. А это опасно. Преходя, преходящее не должно увлекать за собой человека. Поэтому, в полном соответствии с традицией некоторых восточных учений, я настаиваю на необходимости отсекания каких бы то ни было привязанностей. А ту связь, посредством которой человек соединен с абсолютным, я называю свободой.
27
... он постоял, с минуту, медленно вдыхая свежий вольный воздух, затем вошел внутрь и мягко закрыл за собою дверь. Плавными движениями поснимал с себя все одежды, постоял, позволив телу искупаться в прохладной свободе, и юркнул под одеяло. Приняв удобное положение, он сильным вдохом вобрал в себя негу комфорта. Просветлев лицом, закрыл глаза. На выдохе его сознание вдруг озарило пиканье (пик-пик-пик) какой-то мысли. По привычке откликнувшись на ее зов, он изменил намерение и сильным но спокойным нефизическим жестом отодвинул ее куда-то влево, как отодвигают штору. Побарахтавшись в сплетениях космических токов, он, занявший собою всю Вселенную, безмятежно растаял в вязкой паутине сна...
То был царь мира...
...Чтобы уравновесить весы, нужно положить какой-либо груз на более легкую чашу. Благодаря тому, что вспыхнувшему в патроне пороху до зарезу нужно больше, гораздо больше чем в гильзе пространства, мы имеем благодатную возможность проткнуть человека насквозь маленьким кусочком железа - пулей. Но, найдя колодец, жаждущему (как жаждущему) уже незачем пускаться в путь. К вопросу: в чем нуждается тот, кто имеет все? Каким довеском можно привлечь внимание уравновесившихся относительно друг друга сил? Не подумайте, что оригинальничаю, но я бы ответил - никаким. Иначе, почему мы, пребывая в покое, осмеливаемся отогнать мысль, хотя ее еще даже не восприняли? Ведь обычно, чтобы решить, заслуживает мысль внимания или нет, нужно сперва ее выслушать. А вот в состоянии покоя нам уже заранее известно, что мысль не принесет нам ничего важного. Каким образом нам это известно? Восприятие мысли требует нарушения покоя. Но что такое мысль? Мысль -- это обещание. Чего? Разрешения какого-то сомнения, то есть -- достижение покоя. Но покой уже есть. Наполняясь им, мы одновременно переживаем понимание, что покуда он с нами - все, цель достигнута. Ведь, извините меня, куда еще стремиться, как не к покою? (Синонимы: равновесие, симметрия, согласие, контакт, мир в смысле peace, гармония...) Вот мы и отвечаем мысли: "Спасибо, но мы уже ничего не ищем" (вы согласны, что мыслить - значит искать?). Зачем отвлекаться на успокаивание себя, если ты уже спокоен? Ничтожен тот, кто не в силах удержать и так не часто посещающую нас безмятежность. А кто покой бережет и приумножает, тот, поистине, овладел искусством жизни.
Распространенное выражение: "А мне и так хорошо!" - звучащее в ответ на какое-нибудь уже ненужное предложение, весьма показательно. (Сразу предупреждаю, что речь идет не об эгоистическом пренебрежении к бедам окружающего.) Все, что делается, делается, чтобы было "хорошо". Вот то незыблемое, отсветом которого наделяется смыслом все остальное. Если "и так хорошо" -- делать больше ничего не надо. Нельзя жертвовать целью ради средства по ее же достижению. Подобное -- признак нездоровья.
Никакие доводы, никакие соблазны не убедят здорового человека потерять свой покой. Все сущее устремлено к покою, и только глупость вкупе с бессилием могут подтолкнуть к обратному движению. Если покой посетил твою душу - метания закончены. Это, слава Богу, не очередная ветка, которую следует использовать как трамплин для прыжка на следующую, и не более того. Это, если продолжить сравнение, искомое дупло, где тепло, безопасно и куча еды. Осенен покоем? Наслаждайся.
Покой - не что иное, как завершенность. Безбрежная, нескончаемая радость.
Божественное состояние.
28
"Красивыми считаются женщины с широкими бедрами (чтобы легче было рожать), с большой грудью (будет много молока)". Так пишет путешественник, некоторое время живший в племени, где господствуют первобытные нравы. По-моему, ему там самое место (там бы и оставался), так как приведенная цитата есть не что иное, как варварское разрушение правил употребления такого особенного и чрезвычайно важного понятия как красота.
Вот юноша, завороженно смотрящий на свою сверстницу. Он не может оторвать от нее своих глаз, фиксирует каждое ее движение. "О, как она хороша! Какая у нее большая грудь! Знать, много молока будет у моих детей, если я на ней женюсь". Вы чувствуете, что здесь что-то не так? Или, допустим, он подходит к девушке и говорит: "Тебе будет легко рожать с такими широкими бедрами, и потому я хочу быть рядом с тобою всю жизнь; и потому, глядя на тебя, поет моя душа!" Ведь не "потому", верно?
Кто отважиться утверждать, что когда мужчина видит женскую грудь, он первым делом вспоминает про молоко?
Еще никто ни в кого не влюбился (любовь в данном случае допустимо рассматривать как реакцию на красоту) из-за крепких или здоровых зубов, исправно работающего желудка, отсутствия плоскостопия и т. п. Жениться, кстати говоря, можно, а влюбиться нельзя. В противном случае, познакомившись, парам в первую очередь следовало бы представить друг другу результаты своих медосмотров, а к ним еще и справку о доходах и т. п. Невозможна влюбленность по причинам практического характера. Она ими необъяснима. Как, впрочем, и красота.
Из того, что широкие бедра - залог легкости процедуры деторождения, ничуть не вытекает, что они красивы. И хотя между гармонией правильных пропорций и здоровьем (т.е. возможностью выполнять утилитарные функции) имеется прямая зависимость, первая ко второму не сводится, выступая совершенно автономным феноменом. Да, именно приспособление к наиболее оптимальному варианту родов привело к расширению бедер у женщин. Но как только было замечено, что широкие бедра - красивы, то они уже красивы, потому что красивы, а не из-за того, что облегчают некие природные процессы. Рождаясь, красота отрезает пуповину, связывающую с тем, что ее вроде как произвело, и уходит в свободное плавание. Для зарождения красоты необходимы причины и они есть, но как только красота "распустилась", она уже никому и ничему не обязана своим происхождением. Эволюционные процессы являются причиной феномена широких бедер. Но причиной их красоты - нет.
Дело в том, что понятия, подобные понятию "красота", объясняются через самих себя. "Почему это красиво?" "Потому что красиво". Красоту не обосновать из чего-то внешнего по отношению к ней. Например, из полезности. После слов: "Эта женщина красива", - следует поставить точку. Здесь уже не требуется никаких дополнений. А вот если мы сказали: "Эта женщина выгодна", - без объяснений не обойтись. Как только всплывает особое словечко, наподобие "красоты", все "почему" становятся бессмысленными. Красоту отличает способность к самоподдержке. Она не нуждается в помочах. Сама себе приходит на помощь.
Или возьмем другое слово из того же разряда ни на чем, кроме себя, не держащихся понятий - "добро". Наш путешественник написал бы так: "В этом племени все стремятся делать добро (за каждый добрый поступок дают гроздь бананов)". Бог с ним, с обделенным.
"Почему Петр сделал добро Ивану?" Любой человек с "окультуренным" мышлением, ответит следующее: "Потому что Петр добрый". Действительно, почему же еще. Ведь ясно, что если Петр помог Ивану из-за того, чтобы заручиться поддержкой последнего в своей борьбе с Сидором, то это вовсе не добро. Культура обращения с особыми понятиями нашего языка подразумевает, что добро есть там, где нет других причин. Добро делается ради добра же.
Если вдуматься, то вопрос: "Почему Петр сделал добро Ивану", - при условии, что поступок Петра действительно был добрым, совершенно нелеп. Он логически невозможен. Чего не скажешь о вопросе: "Почему Петр сделал Ивану зло?" Зло всегда из чего-то вытекает. Добро же выводится из самого себя.
Там, где вспыхнули добро, красота или другие, замкнутые на самих себе структуры, наше стремление всему найти свое объяснение, следует отложить в сторону. Ведь нам привычно одно выводить посредством другого, другое посредством третьего и т. д.
После слов "она красива" или "он добр" будет правильным замолчать.
Потому что они сами себе "потому что".
29
На землю прилетает нездешнее существо.
Что ему покажется странным, смешным, нелепым из того, что составляет нашу жизнь? Что вызовет его полное непонимание?
Задачка не праздная: так открываются условности, которые прежде не замечались. То, что когда-то было принято как условность, но мы об этом факте уже давным-давно забыли, и нам стало казаться, что это разумеется само собой и понимаемо всеми - представителями других культур, других планет точно также, как это понятно нам.
О, это так важно, взглянуть иногда на себя глазами инопланетянина! Взять, да и не понять то, что вроде бы понятно даже школьнику, и тогда освобожденный от условности взгляд поймает в свое поле зрения нечто такое, что раздвинет горизонты. Отсюда, если хотите, все великие произведения искусства, открытия науки и самый источник философствования.
Забавно, что когда человек с освобожденным сознанием увидит некую новую возможность (скажем, новое звучание музыкального инструмента), через некоторое время человеческое стадо возьмет это звучание на вооружение в настолько массовом порядке, как будто по-иному играть на этом инструменте просто невозможно. А ведь это был всего один вариант, которых миллиарды!
30
В определенном отношении букву "е" русского алфавита можно по праву рассматривать как своеобразный пример абсолюта. С точки зрения философии она резко выделяется среди других и вызывает неподдельный философский интерес. Ни из какой другой буквы, взятой самой по себе, мы не можем извлечь, является ли она ударной, или же нет. Для этого нам, как минимум, требуется знать все слово. А вот дойдя до буквы "е", нам уже нет нужды дочитывать слово до конца, чтобы выяснить, куда поставить ударение. Указание на свою "ударность" "е" содержит в себе самой. Все остальные буквы могут быть ударными или безударными в зависимости от обстоятельств. Прояснить, ударные они или нет, возможно, лишь привлекая что-то "наружное", дополнительное. Их "ударность" определяется через иное по отношению к ним. Они, так сказать, за себя в этом смысле не отвечают, собой не распоряжаются. В свою очередь, буква "е" - самодостаточна и свободна. Подобные феномены всегда привлекали внимание не закрытых от своей сущности людей. А сущность такова: нельзя начинать, не ведая, чем закончится. Нет утешения в том, что само не в состоянии придать себе значение и, зажатое иным на входе и выходе, компетентное лишь в своих всегда узких пределах, ничего не знает о Целом. Только ведая об окончательном, то есть уже не требующем привлечения посторонней помощи, можно обрести уверенность. Не зря в аду пляшут и прыгают на раскаленных сковородах. Слишком сильно жжет их поверхность, чтобы на ней закрепиться и успокоиться. "Относительность" - имя тем сковородкам.
31
Когда она приходит после долгого перерыва, я беру ее на руки, ложусь на диван и кладу сверху. Затем я погружаюсь в состояние, внешне напоминающее дремоту. Взгляд стекленеет, тело само себе говорит "Relax", уши пропускают звуки через себя, вместо того, чтобы их вбирать; сознание фиксирует происходящее, никак на него не реагируя. Витая в каком-то вакууме, я равнодушно взираю на Сущее.
Для нее мое поведение, понятное дело, кажется странным. В самом деле, ведь она пришла не в больничную палату к пациенту, который находится в коме. Она ждет движений, слов, событий. Недовольно ерзая, она строит коварные замыслы. Однако первое время я просто не способен ни целоваться, ни раздеваться, ни есть, ни пить, ни говорить. Воссоединение обдает меня покоем. Я бы даже не возражал, если бы мне позволили заснуть. Нет, не думаю, что налицо некое отклонение - это состояние довольно быстро проходит, и я вновь оживаю. Но после предшествующих дней суматохи (а суматошно лишь то, что ущербно), нельзя не плениться возможностью никуда не стремиться и ничего не желать. Ведь когда она лежит на мне и недовольно сопит, кто сказал бы на моем месте, что ему чего-то недостает?
32
Заботливая бабушка наставляла юного внука, собравшегося идти на день рождения к другу: "Если на стол подадут грибные блюда, не кушай их. Вдруг они неправильно замаринованы, или поганку по ошибке за съедобный гриб приняли. Можно очень сильно отравиться и даже умереть. Сейчас полно таких случаев. Скажи, что не хочешь. Пусть другие съедят. Отдай свою тарелку кому-нибудь. Береги себя, внучек".
Внук представил, как он сидит за праздничным столом, а вокруг корчатся от боли или уже лежат мертвыми его друзья. Почему-то бабушка вдруг стала ему несимпатична. "Нет, - сказал внук бабушке, - я буду есть наравне со всеми". "Ах ты упрямец, как же мне с тобой трудно! Когда уедешь к родителям, ешь там, что хочешь, а здесь ты меня должен слушаться!"
ремарка: С появлением человека стало очевидно, что выживание - это не самая главная проблема.
33
Слова: "Мне не прожить без тебя и дня", - которые люди говорят своим любимым, не следует считать преувеличением или следствием неизжитого романтизма. Того, кто уверяет, что не выдержит и дня разлуки, а потом терпит и день, и неделю, и месяц (и даже - случается и такое - годы), неправильно называть лгуном.
Да, действительно, проходит один день и наступает новый, ты встаешь, умываешься, ходишь, говоришь как и прежде, казалось бы, как и прежде, если судить по внешним признакам. Однако, важно учесть, что все это происходит не по твоей воле и без твоего участия. Жизнь продолжается вопреки твоему на то согласию. И этого вполне достаточно, чтобы не называть ее жизнью. С этого угла зрения вскрывание вен выглядит чем-то излишним и не вполне грамотным (ибо физика путается с метафизикой). В то же время, будем честнее многих, нельзя наложить абсолютное табу на решение взяться за бритву, хотя, в большинстве случаев, чрезмерная активность (пускай и в направлении самоумертвления) лишь заглушает чувство любви или горя, либо выдает их неистинность. Чашу пьют до дна и любой отход должен быть естественным, то есть вызревшим изнутри. Все же повременим углубляться в эту опасную тему. Пока я хочу лишь напомнить, что ежели человек дышит, это еще не показатель того, что он живет. Жизнь, которая не увлекает, не зажигает и не вдохновляет, - это, на самом деле, только декорация. Реальная жизнь обязательно несет удовольствие, чувство силы и осуществления, вызывает благодарность к тому, кто даровал ее возможность, а также желание соучаствовать в ее длении. Если этого нет, и новое утро не является твоим выбором - ты не живешь в единственно не-пустом смысле этого слова. Ты не желал разлуки, выходит, ты и не жил с самой первой секунды ее наступления. Так разве тебя можно упрекнуть в том, что ты не хозяин своего слова? Нельзя. И баста.
С другой стороны, в большинстве случаев это обязательно превратиться в отговорку. "Почему ты еще жив?" "Видишь ли, это всего лишь тело"... А тело жирное, сытое, довольное... Отличная мишень для метафизического пистолета. 34
Маньяки. Когда кто-то много говорит о красоте бескорыстия, публично отстаивает необходимость помогать ближнему, а потом демонстрирует его соответствующим поступком - его шаг, увы, вызовет куда меньше восхищения, чем бескорыстный поступок того, кто не предварял и не сопровождал его какими-либо рассуждениями. Или, когда кто-нибудь, прилюдно и обстоятельно изложив свою conception, согласно которой ради любви можно пожертвовать всем, бросает и в самом деле очень многое и отправляется за той, кого называет своей возлюбленной - та, вероятно, встретит его с известной долей опаски.
Действительно, в данных случаях очень высока опасность того, что человек совершает добрый поступок не ради попавшего в затруднительное положение, но чтобы подтвердить свои умозаключения, проиллюстрировать их; следует за любимой не потому что любит, а просто у него такая теория (а то и вовсе из печальной необходимости отвечать за слова). Такие люди встречаются, и имя их вынесено в заголовок. А упомянул я о них за тем, чтобы развести их и себя на всякий случай.
Разумеется, подлинные бескорыстие, любовь и т.п. берутся не из головы, рождаются не из теорий. В противном случае, мы имеем дело с очередным досадным проявлением патологии. Кроме того, давно замечено, что кто делает, тот не говорит. Делание настолько увлекает, что лучше сделать в очередной раз, нежели об этом рассуждать.
(Вышеизложенный текст не содержал ни грана антитеоретического пафоса.)
35
Пусть глупцы считают это несправедливым, однако истина указывает следующее: первым должен протянуть руку тот, кого обидели, кто пострадал.
Для чего еще существует страдание, как не для того, чтобы, ощутив его на себе, положить ему конец? Узнав, что такое боль, перестать ее причинять?
Нанесенная обида - это всегда шанс. Шанс простить. В противном случае, тебя обидели напрасно. В привычном употреблении, выражение "незаслуженно пострадавший" имеет совсем другой смысл. В действительности, это словосочетание означает, что человек еще не дорос до того, чтобы его обижать; недостоин обиды, поскольку не способен прощать.
Когда обидчик, раскаявшись, приходит с извинением, и его прощают - это неплохо, это приветствуется. Однако равновесие (примирение) еще не полное теперь не сразу простивший обиженный смотрит на своего обидчика сверху вниз ("так и быть, прощу, сделаю одолжение"), становится судьей над ним, ставит его в позорную зависимость, требуя новых извинений или унижающе отчитывая, одним словом, отыгрывается... Нет, конец злу так не положишь. Еще, конечно, есть время спохватиться, сказать: "Не извиняйся, не надо, все в порядке, я не испытываю к тебе недобрых чувств, все осталось в прошлом".
Поза оскорбленной добродетели - унылое зрелище. Физиономия упивающегося своей правотой и своим вынужденным страданием из-за чьей-то несправедливости имеет чрезвычайно глупый вид. Настолько глупый, что когда ее обладатель идет, преисполненный чувством незаслуженности имевшего место обхождения, еле сдерживаешься от желания подставить ножку, дабы показать "праведнику", насколько он ослеп и отключился от реальности, поскольку его персона заслонила от него все остальное. Или просто чтобы сбить это нестерпимо кретинское выражение с, в общем-то, умного и живого лица.
Сам факт, что обидевший пришел с извинением, говорит прежде всего о том, что его еще не успели простить. То, что виновный пошел на опережение, вызывает законный вопрос: "А где же обиженный? Почему он до сих пор молчит"? Обидчик сделал свое дело - обидел, дело - за ответом (им может быть только прощение), но его-то и не последовало.
Пострадавший должен двинуться навстречу первым уже потому, что очередь действовать - за ним. Согласно простому порядку очередности. В противном случае он истукан, а не живой человек.
"Это он виноват, пусть он первым и мирится". Само просчитывание, кому первому начинать, уже свидетельствует о том, что одна из сторон продолжает преследовать свою выгоду, всецело занята только собой и рассматривает примирение как всего-навсего сделку. А главное, обиженный по-прежнему считает обидчика виновным - война, следовательно, продолжается, враг отброшен за линию границы, но граница-то осталась! В этом случае, извинения обидчика - победа для обиженного, перешедшее к нему право торжествовать, тогда как в подлинном примирении победителей и побежденных нет. Здесь побеждает не одна из сторон, но обе, или, лучше сказать, сам мир, который всегда есть нечто большее, чем взаимовыгода.
Только когда руку для пожатия протягивает пострадавший, тот, у кого есть все основания этого не делать, тот у кого от такого шага нет никаких выгод и никаких для него причин (обидчик, допустим, до сих пор не раскаялся), - лишь тогда отменяются все прежние счеты, и отношения начинаются с нового старта, на равных. Другим способом вражду не прекратить, перетягивание одеяла на себя будет длить ее до бесконечности, и виноваты в таком развитии событий станут обе стороны, вне зависимости от того, кто первый начал.
Для установления мира (гармонии) требуется нечто абсолютное, поступок, взламывающий логику обстоятельств. Им может стать безоговорочное прощение пострадавшим своего обидчика.
Прощение без причин.
36
Вспоминая грядущее. Рассказ незнакомца. "У меня очень долго не получалось держать в голове лишь единственно реальное и единственно имеющее смысл, по-настоящему для меня как человеческого существа важное в этой жизни. Я никак не мог избавиться от мелких, сиюминутных, никчемных мыслишек. Мелочность, по-видимому, вошла в мой характер. Недостойные, не стоящие выеденного яйца страсти сотрясали мою душу и мое тело большую часть суток. Аффект неизменно одерживал верх над спокойной созерцательностью и проявлениями свободной, "зрячей", ответственной и согласной с собой личности. Я знал о своем недостатке. Бывало, я усилием воли заставлял себя поднять глаза к горним вершинам, но уже через ничтожно малый промежуток времени срывался, и, вместо того, чтобы жить тем, что мне действительно интересно и близко, о чем только и вспомню обязательно на смертном одре, с головой уходил в пустое и гиблое. Сотрясаемый призраками (все временное призрачно) тростник, потерявший право на дополнение "мыслящий".
Подлинных тем для размышлений, коими следовало бы предаваться, например, в свободные минуты одиночества, не так уж много. Лишь нравственные, любовные, эстетические и им подобные переживания, испытание воли да отстраненность мышления наполняют человека, напрягая его сущностную струну. (На самом деле, как вы понимаете, речь только что шла о Едином.) Все прочее - опустошает, сдувает до подобия безобразных костлявых чучел. Я знал об этом или, во всяком случае, догадывался, но, в силу неправильного воспитания (и прежде всего - самовоспитания), мой ум, непосредственно ничем не занятый, был не в состоянии отогнать назойливых мух в виде бытовых и деловых проблем, чтобы бесшумно, подобно искушенному пловцу, вонзиться в чистые, звонкие и теплые воды, не побоюсь этого слова, вечности. Он был несознательным, как рабочий класс в начальную стадию своего становления.
Мне помогло страдание. Когда жизнь дала трещину, когда случилось непоправимое, страшное, бесповоротное, мой внутренний взор разом прояснился. Я начал жить. Меня стала трогать природа, завораживать музыка, терзать чужая боль и радовать чужое счастье. Я начал уделять быту, делам, мелким неприятностям ровно столько, если даже не меньше, внимания, сколько они того заслуживают. Я стал благороднее, великодушнее, снисходительнее. Находиться рядом со мной стало интереснее и веселее. Я обрел мужество и волю. Мое лицо стало более привлекательным и запоминающимся. Я получил возможность глубже, острее и яснее чувствовать, мыслить и говорить. Наконец-то, я пришел к тому, чего мне так долго не хватало - к (внутренней) свободе.
Но все это случилось только после того, как я потерял все. То, без чего я не могу жить.
Мне так хорошо, потому что мне ужасно плохо. Я так остро чувствую жизнь, получаю сильнейшее удовольствие от ощущения себя живым в этом большом и разном мире, хотя меня как бы уже и нет среди вас. Все без исключения клеточки моей души впитывают окружающее и посылают ответные сигналы, в то же время души своей я как раз и лишился. Я изменился, как того желал, но изменилась и та моя часть, которая желала.
Как, как все это понимать? Я не знаю. Но зайдя немного со стороны, я осознаю, что всякий, на своей шкуре дошедший до вышеозначенного вопроса, уже имеет 99( из того, что только можно иметь. Не дошедшие до него, имеют меньше".
37
Ч.1. Она возникла давным-давно, но сохранилась до сих пор -бесхитростная, полудетская легенда о храбром герое, который приходил на помощь всем претерпевающим обиду или унижение людям, и всякий раз, когда последние, восстановив свое имя или свободу, предлагали ему вознаграждение, отказывался от него со словами: "Торжество справедливости - вот та награда, ради которой я предпринимал усилия!" История проста и непритязательна, однако сказано в ней вполне достаточно. Достаточно для того, чтобы даже в отсутствии в багаже человечества философии, религии, высказываний мудрецов и даже Книги Книг -- человек по праву назывался сыном Бога.
Дальнейшее ни в коем случае не следует понимать как аргументацию заявленного тезиса. Просто очередной просвет понимания дался такими силами, что сохранить его, держа в уме, не представляется возможным. А ведь это -ценность.
Герой отстоял справедливость ради того, чтобы отстоять справедливость. Его поступок, таким образом, принадлежит не сфере разорванного, нуждающегося в дополнении и поддержке извне бытия, а области абсолютных, соотносимых лишь с собою смыслов. Справедливость восстановлена - герой полностью удовлетворен. Больше ему от этого ничего не нужно. "Мне больше ничего не нужно",- а ведь так говорят счастливцы, достигшие гармонии, обретшие цельность и уверенность. "А мне больше ничего не нужно"!- дерзко смеются они в лицо миру, засуетившемуся с тем, чтобы предложить им разнообразные соблазны в качестве платы за содеянное, которые неизбежно крадут свободу у тех, кто на них "клюнул", усугубляют ускользаемость и неустойчивость существования. Так приятно отказать миру сему в предлагаемых им сделках, опершись на нечто такое, что перевесит все его дары, потому как не расчетом на подобное им держится. Так, вспышкой свободы, рождается в мире новая автономия. Новое Все, возникшее из ничего.
Благодаря своему самостоятельному значению, свершенное отправляется прямиком в вечность. Имей поступок служебное значение - его судьба решалась бы в зависимости от того, удастся ли осуществить то намерение, во имя которого к нему прибегли, привело ли оно к добру, к истине, или же, наоборот, ко лжи и злу и т.п. Из самого поступка судить об этом было бы невозможно. Он не в состоянии задавать направление следующему шагу, так как нельзя влиять на то, чему подчиняешься. В свою очередь, восстановлению справедливости ради справедливости уже плевать и на грядущее, и на прошедшее. Служа исключительно самому себе, оно не имеет границ. А безграничное нельзя отодвинуть в сторону, заслонить чем-либо другим, перешагнуть через него. Что может быть поставлено над имеющим самодовлеющую ценность, ориентированным на самого себя в качестве своей цели, находящим исчерпывающее удовлетворение в своем утверждении как таковом, взятом самом по себе? Ничего. В противном случае мы приходим в противоречие с самой постановкой вопроса. Быть нижестоящим и не служить вышестоящему невозможно. Можно ли перечеркнуть полностью закрытое по отношению ко всему внешнему? Нельзя, ведь, простите за просторечие, из него вовне ничего не высовывается. Черкать нечего. Не по чему. Тот, кому не нужно дышать кислородом, не испугается заявлению о том, что его перекрывают.
Задача, решаемая не для того, чтобы с ее помощью решались какие-то другие задачи, предполагает законченность и полноту. Задача, решаемая для того, чтобы с ее помощью решались какие-то другие задачи, предполагает ввергнутость в поток, характеризуемый коротким, но емким словосочетанием: без Бога.
Ч.2. Рефлексируя над своими текстами, я в состоянии догадаться, что звучат они настораживающе маргинально, чересчур высокопарно, чертовски несовременно и безумно невыгодно с точки зрения моего самопредставления пиплу. Пожалуй, пора отмежеваться от образа автора, который может возникнуть в силу ряда особенностей сих записок.
Я не ставил своей задачей к чему-либо призывать. К примеру, творить добрые дела. Я не проповедник нравственности или любви, и не педагог. Я ничему не учу - тем более тому, что насаждается уже с детства. У меня нет склонности повторять общие места или носиться с избитыми истинами. Хотя, возможно, складывается именно такое впечатление. ("Увы, очень часто", написал на полях один из первых читателей рукописи.) Я просто отслеживаю ход мысли. Мне интересно, как то, что мы считаем важнейшим в жизни, придающим смысл, несущим оправдание и т.п., вплетено в сетку Мышления. Философ я.
Разумеется, глупо расписывать, как хороши бескорыстные поступки. Умиление - опасная привычка. Умиляющийся подобен человеку с извращенной сексуальной ориентацией. Во всяком случае, так же отпугивает. Даже перед ребенком не стоит злоупотреблять морализаторством - не то, что перед взрослым. Но, верится, в мой огород этот камешек не попадает.
Просто я увидел точное соответствие между тем же бескорыстием и формальными признаками принадлежности к истинному бытию, к вечности как полноте. Поэтому когда я сказал: "Добро - вечно", - эта фраза не имела ничего общего с точно таким же высказыванием, но произнесенным исключительно пафоса ради, без понимания. Бывает, иногда попадаешь в десятку совершенно случайно, не целясь. Однако в нашем случае человек даже не знает, что попал. Что, к примеру, возникает в моей голове при утверждениях: "зло не может быть истиной" или "красота -- бессмертна"? Я спрашиваю себя, как это можно понять, сделать живым? В поисках ответа я могу обратиться к формальным признакам "смертного" и "бессмертного". Признаком первого будет ущербность, то есть нужда в дополнении, в оправдании извне; признаком второго -полнота, завершенность. В свете этих признаков, вопросы "как?" и "почему?" находят свое исчерпывающее удовлетворение. Теперь я понимаю. Слова "красота бессмертна" имеют теперь для меня смысл, потому что вызывают в моей голове шевеление мысли. И, прокрутив в голове, что красота, как существующая для себя, а не для чего-то другого, то есть значимая per se, являет собой пример полноты, - я могу согласно кивнуть в ответ на раздавшееся утверждение. Разумеется, в описанном способе зарождения жизни там, где была пустыня, нет ничего экстраординарного. Но это лишь пример многочисленных узелков понимания, которыми я заполняю пустой сосуд с прилепленной к нему бумажкой, на которой написано то или иное понятие, высказывание, принятый среди людей оборот речи, популярная тема, всплывающая всякий раз, когда разговор заходит о так называемом смысле жизни т.д. Те или иные значения, которыми люди оперируют, не задумываясь (и правильно, во многих случаях, делают), вовлечены в моем сознании в живой, взаимосвязанный, шевелящийся клубок, в котором нет (почти) ни одного напрасного, не-промысленного, пропущенного без моего ведома слова. Употребляя пускай и расхожие слова, я наделяю их для себя той первоначальной смысловой нагрузкой, которую они когда-то несли. Моя заслуга в том или нет, но мне выпадает на какое-то время плавно проскользнуть в Мышление. А находясь там, видишь как все работает. В том числе, и многое из того, что на слуху. О чем поют в пошлых песенках, пошлых потому, что их форма требует такого же дешевого содержания, ан нет. В принципе, можно было изменить каждое предложение, оставив ту же мысль, но выразив ее более достойно представляющим автора образом. В самом деле, нужно отделять автора от мыслей, брать в расчет, что ему, помимо их сканирования с невидимых папирусов, требуется еще и уважение, и почет, как всякому живому человеку, стремящемуся добиться признания и от мира сего тоже. Можно было бы отказаться и от некоторых клише. Но если этого не произошло сразу, к чему нагнетать искусственность? К тому же, давайте не забывать, что автора у сих заметок и нет вовсе, что встречающееся в тексте "я" - лишь для удобства используемое слово. Если же кто-то может воспринять мысль лишь в том случае, когда она завернута в соответствующую его эстетическим наклонностям обертку, он просто априорно исключен из числа воображаемых читателей моих текстов. При этом - от чего никуда не деться - сам я облекаю "свои" мысли (они, на самом деле, могут быть только ничьими, и лишь пока я -- никто, я могу сказать, что они -- мои) в такие формы, которые, как минимум, не очень противоречат моей эстетике. Итак, я увидел связь дальнего с близким. Смысла своих (и любого другого человека) усилий, поисков, желаний и смысла бытия вообще, человеческих ценностей и устройства мироздания, живого содержания и логики формы. Я как бы двигался с двух сторон, и линии моего движения пересеклись! Ежели кто скажет, что меня "заклинило" - пускай. О таком "клине" можно только мечтать. Мне жалко того, кто, в данной ситуации, спокойно прошел бы мимо. Каков бы ни был результат, меня манила глубина, а не поверхность. Как раз неудовлетворенный общими местами -- а иначе, откуда интерес к философии?! -- я всегда искал и ищу истоки. Мне требуется понимание оснований, строгое отслеживание смысловых связей и пересечений лучей, идущих от разных способов обнаружения (проявления) Целого, так как только в точках таких пересечений Целое обретает свой объем, а значит -максимально воздействует на захваченного им.. Обозначенное как "основания" никогда не станет базарной площадью, так как требует риска и индивидуальных усилий. Очень, замечу, больших.
Я вижу, как одно соотносится с другим, чувствую законы, организующие бытие. Я в состоянии, наткнувшись на кирпич, поднять глаза на все здание. Найдя себя на первом этаже, я в силах сконструировать лифт, который поднимет меня до последнего. Часть этой работы сознания находит свое блеклое отражение в письменной речи. Зачем нужна эта работа? Затем, чтобы испытать чудо понимания.
Я строю свою философию. Я познаю. Я участвую в бытии (Целого). Реализую свое призвание. Понимая - осмысляю. Двигаюсь навстречу самому себе. Вот что я делаю, пиша.
И ничего другого.
38
Эту историю поведал мне бывший священник Герман Крабов. Вру, конечно. Случай, о котором пойдет речь - из моей личной практики (а из чьей же еще!). Да это и не случай, а мелкий эпизод, который я, тем не менее, решил увековечить.
Итак, Герман Крабов лег спать после изрядно суматошного дня. Дабы отключиться от "деловых" мыслей (которые всегда назойливы) и быстро заснуть, он решил повторять слова молитвы. Не тут-то было. Не произнес он ее (в уме) и трех раз, как на подготовленную заботами дня минувшего почву - беспокойное состояние духа - не заставив себя долго ждать, ринулись заботы дня грядущего. Опомнился Герман, увидел, что сбился, и быстренько вытряхнул из сознания тревожное составление планов на завтра. Посреди возобновленной молитвы его внимание неожиданно поглотил обрывок дневного разговора. Снова вернулся Герман к занятию по изгнанию бесов. Ан нет, на сей раз взбунтовалось тело и возжелало ворочаться. Навертевшись, заполонившие Г. Крабова жадные и настырные демоны отнюдь не успокоились. Напомнила о себе ужалившая давеча мыслишка. И пошло-поехало. И вот лежит Г. Крабов с открытыми глазами, в теле -- напряжение, в голове -- шум, на лбу - испарина, на часах - 2 ночи, и говорит самому себе: "А мне не так уж и плохо. Несмотря на разрыв между теорией и практикой. Ведь я прекрасно знаю, что единственный способ заснуть - не решать дела и заботы, поощряя их притязания своим к ним вниманием, а отключиться от них. Я отлично понимаю, что нужно стиснуть зубы, сопротивляясь напору беспокойных томлений, и твердить молитву или даже любой однообразный текст. Игнорировать все, что идет от переутомленной и трусливой головы, и долбить свое. Знаю, чувствую, понимаю, но не в силах это осуществить. Я барахтаюсь в воде, вижу, за что уцепиться, чтобы не утонуть, и не могу. Смешно. Но без истерики. Наоборот. Невообразимо странно и легко. Странно, во-первых, что выход есть, во-вторых, что он не там, где ты думал, в-третьих, что он так прост, в-четвертых... Самое удивительное и поразительное заключено все же в том, что есть, где укрыться, черт побери. И этот факт чрезвычайно, обалденно приятен. И уже хорошо. Хотя и хочется, конечно, побывать там - в состоянии, которого достигают более сильные и упорные (это уже сверхцель). Я предчувствую, каково тогда, когда заботы не разрешены, а преодолены. Когда враг вроде как остался, только бьет он уже не по тебе, потому что ты сменил тело. И в этом отношении мне страшно интересно жить дальше". Крабов еще много о чем болтал с самим собой, пока, наконец, не задремал.
39
Она любовалась заревом заката, когда он завел речь о том, что у него завтра куча дел, и можно не успеть сделать все, а тогда могут возникнуть неприятности. "О чем он говорит"? -- удивилась она, глядя на красные облака.
Это чувство. Мы чувствуем неуместность корыстной возни на фоне Целого. Нам в чувстве дано понимание, что перед торжественностью бытия личные хлопоты просто неприличны. Бытие, в лице, скажем, безветренного комариного майского вечера задает нам как будто совершенно бесхитростный, ничем не опасный вопрос: "Ну, как дела"? Однако мы чувствуем, что как бы нам ни было худо, от нас, на самом деле, ждут только одного ответа: "Лучше не бывает"!
40
Весенняя философия. Это был не первый солнечный день марта, однако именно сегодня солнце спровоцировало во мне приступ блаженства. Оно напоминало мне о своем присутствии весь долгий день, мы были с ним один на один, без посторонних. Так получилось, что весь день я провел на сиденьи междугороднего автобуса, почти неотрывно глядя в окно. А за окном было солнце, преобразившее привычные пейзажи. До меня, наконец, дошло, что наступает весна. Весна не как простой календарный факт, но как чрезвычайно важное событие в моей (нашей с миром) жизни - именно так. В голове звучало буквально следующее: "Весной жизнь не может не приносить радость. Солнечные дни - вполне достаточное основание, чтобы ее испытывать. Разве имеются такие дела и проблемы, которые могут пересилить ощущение праздника, идущее от солнечного света, заполнившего улицы, поляны, комнаты и весь мир"? "Да вы, батенька, поэт"! Нет, я не поэт. Я и сам недоверчиво и опасливо покосился бы на того, кому вдумается произнести такие слова вслух в моем присутствии. Я считаюсь умным и трезвым человеком. Но, наверное, всех без исключения людей иногда переполняют чувства - то, что пытаются передать поэты. А любое чувство приобщает нас, взрослых, к непосредственности, сходной с детской, и единственной, кому доступна истина. Другими словами, я почувствовал именно то, что почувствовал. И я убежден, что чувство весны посещает кого-либо (если посещает) именно в той форме, в какой оно посетило меня. Здесь имело место не проявление специфически моей сентиментальности или чего-нибудь еще, идущего от меня (субъективное), но действие закона, который вызывает либо не вызывает к жизни конкретную эмоцию. Потому я и решился записать свои дорожные впечатления, поскольку, как философ, люблю постигать законы (по большей части, разумеется, не государственные), люблю все неслучайное, связанное с таинственной сущностью сущностей.
Ком чувств покатился дальше. Радостная свобода, рожденная от лобового столкновения с зачинающейся весной, трансформировалась в мечту о лете. А как иначе? Перевод чувства в слова принципиально ничем не отличается от предыдущего: "Сколько бы ни было у меня трудностей и беспокойных ситуаций, одно лишь то обстоятельство, что я выйду с утра из дома в тонкой рубашке и зашагаю по залитой горячим солнцем улице, или выскочу голым на балкон и увижу густую, липкую листву самых банальных тополей, вне всякого сомнения, должно напрочь заслонить все хлопоты светлым дурманом беспечного веселья".
Когда чувства - составляющие души - особенно интенсивны, когда ощущение жизни необычайно полно - заранее отметаются не только любые поползновения на то, чтобы поставив на него (ощущение) ногу, оттолкнуться и карабкаться дальше, но даже попытка - я уж не говорю: анализировать, - воспеть! - и та будет неоправданным, преступным отступлением. Ибо - ценнее уже не сделаешь, шарма не прибавишь; просто - некуда, и так - через край. Вот и мне бы сейчас - остановиться, да я так и сделал, покуда ехал - остановился на чувстве. Чем оно сильнее (вульгарно говоря - приятней), тем меньше потребность даже в таком важном деле как его преобразование в идею. Чувство способно держаться своей силой, вернее, на ее (силе) постоянном возрастании, дающем право всякий раз говорить мысли: "Подожди, из меня еще не все выжато". Не всем понравится, но это философский закон: получение удовольствия - выше самых достойных размышлений (первое указывает на полноту, вторые - на ее отсутствие). К слову, я сейчас не о том, что чувству не требуется обоснование извне - а это так; просто разговор идет в несколько другой плоскости. От добра добра не ищут. Если мне хорошо, я буду последним дураком, если снимусь с места. А мне было очень, очень хорошо.
Так хорошо, что философскими построениями лучше уже не сделаешь. Вполне можно закончить, констатировав факт (мол, вот какой у меня имеется опыт). Но, поскольку я замыслил изложить кой-какие свои мнения, мне представляется возможным, всецело памятуя о полноценности (достаточности, не-нуждаемости в дополнении) испытанных чувств, условно превратить их в иллюстративный материал для идеи. Поэтому, дабы не рвать нить повествования, давайте предположим, будто лирический герой рассказа являет собой весьма утяжеленную с точки зрения своего общения с реальностью конструкцию. Последнее проявилось в следующем: по наступлении вечера я (т.е. лирический герой) отправил свои притупившиеся эмоции на обработку пускающей слюнки мыслью.
Мысль подтвердила: испытанные днем переживания были одними из тех немногих моментов (моего) бытия, что отмечены печатью подлинности высшей пробы. Кроме того, она поздравила с приоретением богатства, которое никто не в силах у меня отнять. Этим богатством были весна и лето. Всякое может случиться - я могу пережить полосу неудач, сложностей, но возможность получать радость от таких невероятных, никак напрямую не связанных с моей жизнью пустяков, как смена времени года, останется при любом раскладе. Причем эта радость настолько сильнее всех житейских невзгод, что обладает способностью сводить их на нет. При условии, конечно, что сутолоке будней не будет позволено задвинуть ее куда подальше.
Вечерние размышления сыграли роль оправы для дневного бриллианта-чувства, так как сложились в довольно стройное сооружение. Из них, в частности, следовало, что мы лишь тогда переживаем самые яркие минуты своей жизни, когда, во-первых, упиваемся природой, музыкой, объектом любви и прочим, не имеющим для нас никакого практического смысла, а во-вторых, когда волей или неволей (чаще, неволей) выполняем психотехнику под названием "забвение себя". Впрочем, первое без второго невозможно.
Почему некто, проснувшись поутру, не радуется солнечным лучам, пробивающимся сквозь темную штору? По-видимому, он сразу же погружается в заботы предстоящего дня. Почему кто-то идет по улице в начале апреля и не принюхивается к связанным с приходом весны изменениям в запахах, наполняющих воздух, которые всколыхнули атмосферу, неизменную аж с ноября прошлого года? По той же самой причине. И он полагает, что по сравнению с "делами" все это - ерунда. Вообще-то, этот "кто-то" прав. Но он - глупец - и не догадывается, какие сладчайшие мгновения абсолютной свободы (в том числе и от всех суперважных проблем) мог бы пережить, выйдя из своего тела (понимаемого в широком смысле) виртуальным образом, то есть попросту переключившись на другое, чем он сам. Реши хоть все дела - это не принесет такого ощущения совершенного уюта, как окунание в то, что существует просто как данность, само по себе, ни к чему не приложимое.
Тем же междугородним рейсом ехали два папы с сыновьями примерно одного возраста. Один папа явно был человеком обеспеченным, другой, напротив, малого достатка. Об этом можно было судить и по манерам, и по одежде, и по тому, что один курил сигареты с фильтром, а второй - без фильтра. А также по другим, более мелким признакам, не укрывшимся, однако, от пытливого взора философа, чьи синонимы - притворщик и наблюдатель. Между прочим, я только что позволил себе пошутить. По-видимому, целый день в окружении солнца, светившего всего лишь в третий или четвертый раз после пасмурной зимы, повлиял на их умонастроение сходным с моим образом. Оба папаши несколько призабыли про самих себя. Поэтому на остановках они курили вместе, беседуя о том, как быстро растут дети, в то время как их мальчишки, подружившись, затевали поодать какую-то игру. Я обратил внимание на то (и сей факт был мне отраден), что сошлись они довольно резво и разговаривали друг с другом вполне на равных. Просто как два мужика и все. Иначе говоря, богатый отвлекся от того, что он богаче, а бедный - что он беднее. Соответственно, богатый отложил на "потом" свою надменность, а бедный - желание показать, что он хоть и попроще, но как личность - ничем не хуже. Между ними не стояло их пребывание на разных ступеньках общественной лестницы, и, благодаря этому, состоялась встреча - взаимное приятие. Вообще, человек реализуется именно в тех случаях, когда, сделавшись как бы никем, просто отзеркаливает возникшую ситуацию, позволяет ей воспользоваться им для своего развертывания. На самой зажигательной вечеринке невозможно расслабиться, не превратившись в своего рода медиум веселья. На настоящих вечеринках нет веселящихся - там пляшет веселье как таковое. Или, пока человек считает, что он - кто-то, ему никогда не понять, не прозреть ближнего. Не остолбенеть перед картиной живописца. Не засмеяться на оригинальную шутку. Можно ли радоваться ветру, шумящему в деревьях? Да и чему тут радоваться? Ответ на эти вопросы доступен тем, кто, в тот момент, сумел покинуть самого себя. В частности, отставить в сторону свои думы о хлебе насущном, планы по претворению в жизнь собственных амбиций или сведению счетов с соперниками, беспокойства по поводу бытовой неустроенности etc.
Когда-то я писал, что забвение себя - основа познания. "Некто" всегда отделен от реальности. Как бы ни был широк кругозор, его взгляд все равно не охватит всего. Сказать "я - некто", значит отделить себя, наложить ограничение. У "некто" имеется только своя правда, а своя правда - не иное, как ложь. Лишь "никто" может двигаться к объективной (то есть ничьей) истине. Никто как предоставивший себя истине, чтобы она встретилась сама с собой. Ныне я готов констатировать, что способность к отвлечению от себя это и основа чувственного восприятия тоже. Основа жизни как сверхприродного феномена.
41
Что съедает наши деньги? Пороки. Кто-то тратит их на наркотики, кто-то - на приобретение искусственной (не обоснованной практическими соображениями) известности, кто-то - на порнографические фильмы, кто-то - на азартные игры, кто-то, как я, на ...
Но не только пороки съедают наши денежки, но и то, что я называю чистыми интересами. У одних это - картины, фильмы, музыкальные записи и т.п., у других - благотворительность, у третьих - путешествия, у четвертых обостренное эстетическое чувство, требующее, в частности, хорошо одеваться, не всегда сообразуясь с уровнем своих доходов и т.д. Поневоле схватишься за голову, когда представишь, сколько средств можно было бы сохранить, не трать мы их на пороки и "чистые интересы". Сохранить и пустить на "дело". Причина же, по которой именно они опустошают наши кошельки, коренится в том, что и пороки, и "чистые интересы" имеют своей целью только самих себя. Они не направлены на приумножение богатств. Они выпадают из системы, согласно которой единственное оправдание любому вложению средств - их возвращение с прибылью. Той самой странной системы, которая отрицает (душит) даже то, что могло бы ее оправдать (поскольку сама по себе она бессмысленна). И это их, безусловно, сближает. ("Безусловно" - весьма характерный речевой оборот, в данном случае, совершенно неверный, однако применяемый, благодаря прочному утверждению в языке. С некоторых пор я обращаю на это внимание.)
Пороки и чистые интересы - не от мира сего, в противоречии с ним. Судьба и тех и других - трагична. У меня как апологета чистых интересов близкие к ним по своей бесполезности пороки вызывают толику сочувствия, ощущение, о котором романисты пишут следующим образом: "На мгновение мне стало его жалко. Но только на мгновение". Человек, не имеющий чистых интересов хотя бы пороками мог бы привлечь мое внимание. А "праведник", не кинувший на ветер ни копейки (т.е. повинующийся закону мира, в котором мы находимся) - вызовет лишь скуку и безразличие.
Сблизив эти понятия, теперь я намерен их развести. Ибо они и в самом деле разнятся. "Чистый интерес" вполне можно заменить на словечко "добродетель". Словечко устаревшее, но я прибег к нему по той простой причине, что оно по-прежнему остается единственно точным антонимом термина "порок". Под добродетелью я сейчас ни в коем случае не подразумеваю неукоснительное следование утилитарным надобностям. Нет, настоящая добродетель не земного - небесного порядка. Итак, уже в языке порок и чистый интерес противопоставлены друг другу.
Пускай порок и выступает чужеродным телом по отношению к миру релятивизма, сам по себе он является такой же, замешанной на тотальной относительности системой. Внутри порока нагнетается лишь ущербность. Ему всегда мало. "Дальше, дальше, дальше", - он знает только одно слово. Чего-то достигнув, порок заставляет своего агента с еще большей жадностью смотреть в будущее. Когда ему достается то, чего он так вожделел, порок отшвыривает добычу в сторону и требует еще. В этом и заключается парадокс: он даже не притрагивается к тому, по поводу чего исходил дрожью пока им не обладал. Порок не проживает наступившее желанное будущее: настоящее время для него закрыто.
Парадокс можно объяснить тем, что порок представляет собой не что иное, как абсолютизацию относительного. В том, к чему он стремится, пороку (давайте отвлечемся от человека, им одержимого) мнится завершенность, успокоение, финиш. И он чувствует, всякий раз достигая желаемого, что здесь что-то не так, что удовлетворение почему-то не наступает. Но он ошибочно полагает, что "просто нужно попробовать еще раз". Обжора весь день мечтает о сладкой булочке. Вечером, он, наконец, вкушает ее, но предполагаемого результата (ощущения целостности, полноты существования) нет и в помине. (Еще бы, ведь кто осмелится назвать еду абсолютной ценностью?!) Ничтоже сумняшеся, обжора тянется за второй.
С чистым интересом все обстоит с точностью до наоборот. Чистый интерес обитает в настоящем времени, причем в наиболее истинной его форме - форме вечного настоящего, где прошлое настоящее и будущее даны одновременно. Чистый интерес никогда не обманывается в своих ожиданиях - претворяясь в жизнь, они дают ему все, на что он рассчитывал. Искомое, будучи обретенным, удовлетворяет его сполна. И, надо заметить, с первого раза. Чистый интерес прямо-таки купается в результате своих усилий, вкушает, смакуя, плоды своего труда. Счастливый исход объясняется ориентацией чистого интереса на действительно имеющее абсолютное значение. Абсолют есть предел, за которым больше ничего нет. Он достигнут - сверх этого ничего не нужно. По такому поводу говорят, резко выдыхая и кивая головой: "Все".
42
Честь безумцу, который, живя внутри мира, начал о нем размышлять (свидетельствовать в никуда). Иными словами, взращенный здесь, вышел в безвоздушное пространство, где нет никаких условий для жизни. Выход за пределы мира трудно (и даже страшно) представить, но логическая необходимость указывает, что это именно так. Наблюдающий мир должен находиться за его рамками. Больше того, поскольку сам он -- частица мира, наблюдатель не может не наблюдать и за самим собой тоже, в этом мире живущим. Собственная жизнь должна представляться ему чужой. Наблюдатель не будет таковым, если он не дистанцирован от наблюдаемого.
Для начала, зафиксируем, что такая возможность является экстраординарной. Равнодушие к себе есть нонсенс. Если же судить по тому, какие горизонты она открывает человеку, ее следует классифицировать как чудо. Чудо, своей чудесностью не уступающее невероятному факту (как, например, явствует из доктрины христианства) принятия Богом человеческого облика и схождения в мир. Я еду в такси по делам, и в то же время я не еду в такси по делам, а наблюдаю за тем, как еду в такси по делам. Поставим это рядом с явлением Бога миру в человеческом обличии. Можно проверить по линейке - перед нами случаи одного масштаба.
Миру не нужно свидетельство о себе. Также и человеку, как частице мира, не требуется свидетельство о себе. Причина проста. Свидетельство не помогает в решении задач, которые ставят перед собой и мир, и человек. Мир ждет от нас четких реакций: если мы наткнулись на кучу золота, от нас требуется только одно - как можно быстрее набивать им свои карманы. Любое другое поведение вызовет непонимание. Хуже того: будет расценено как бунт. Мир не признает бунтаря своей частицей, обращенные на него глаза мира наполнятся холодом отчужденности.
Наблюдатель (в частности, за собой) видит и называет причины своих действий: "А сейчас ты льстишь своему начальнику, надеясь на повышение". Удивительное в том, что в мире не предусмотрено места для такого рода знания. Другими словами, в нем нет ровным счетом никакой необходимости. Ведь, если вдуматься, зачем льстецу знать, что он льстец? Это абсолютно излишняя информация, которая ему как льстецу ничего не даст. Лучше даже, чтобы он этого не знал. Льстец, знающий, что он льстец, уже нечто большее, чем просто льстец. (Последнее предложение, уважаемый читатель, понравилось тебе больше других. Тебе показалось, что ты начал что-то понимать. Однако ты ошибаешься. Внешняя эффектность предложения перекрыла его смысл. Если бы ты его понял, оно привлекло бы твое вниманием не больше, чем предыдущие, так как они несли никак не меньшую смысловую нагрузку.) Итак, миру незачем знать причины своей активности. "Ну, льстец я, ну и что"? Или: "Ну, я трус, ну и что"? "Да, я жадина, и что с того"? Жадине нужно жадничать, а не узнавать, что он - жадина.
Представьте, что автомобиль узнал, что он автомобиль. Что делать ему с этой информацией? К чему ее приложить?
Вот и странно, что некоторые существа, будучи в мире, могут за ним наблюдать. У этих существ непременно должна быть какая-то особенность. Такая особенность есть, и заключается она в заложенной в них догадке о существовании абсолютно, безусловно значимого, другими словами, о бытии Целого. "Что есть -- не я, не дом, в котором я живу, не этот город вокруг, не эта страна, - а вообще все"? "Какова не моя правда, правда этого дома, этого города, этой страны, а правда вообще"? Или, если попроще и наглядней, но не совсем точно: "А что это за машина, деталью которой я являюсь"? Данный вопрос -- далеко не праздное любопытство, а указание на месторасположение, на возможность со-участия в ее (машины) общей работе, а может быть даже на призвание отвечать за состояние машины в целом. Догадка о бытии Целого располагает этих существ как бы сразу в двух ролях: они и "деталь", и вся "машина". При этом настоящей сферой ведения, настоящим горизонтом жизни будет для них все-таки вся машина (если сохранять верность этому сравнению), Целое. Настоящей возможностью кого бы то ни было считается его предельная возможность. Можешь нести этот груз? Неси его, а не меньший. Ноша -- по плечу.
В мгновения захваченности Целым эти существа дорожат лишь тем, что является дорогим и для Целого, а именно - имеющим абсолютный смысл (имеющее относительный смысл для Целого смысла не имеет), обладающим законченностью. Поэтому наблюдение, что он, оказывается, жадина или лжец -- не является для кого-либо из этих существ пустой информацией, а служит сигналом к изменению, поскольку жадность и ложь не имеют безусловного смысла, не заканчивают.
А можно объяснить особенность тех, кто в состоянии наблюдать, и по-другому, более изящно, и при этом не менее правильно. В тех, кто способен к наблюдению, живет никто. Этот никто постоянно по ошибке принимает себя за кого-то и мучается его муками (а любой кто-то просто обречен на страдания, поскольку отграничен от остального, в силу чего вынужден его бояться). А иногда, вдруг, ему удается заметить: "Нет, я не этот кто-то", - и испытать облегчение. Никто, забывший, что он -- никто, но иногда нечаянно вспоминающий об этом -- вот кто такой наблюдатель. Наблюдение, вернее, сама его возможность, позволяет ему обнаружить, что тот, за кем он наблюдает -не он, хотя раньше он отождествлял себя с ним. Ведь если, скажем, я наблюдаю за самим собой, то я -- это, по крайней мере, не только я, но и еще кто-то. Кто-то? Кто-то должен быть где-то. А где наблюдающий, то есть тот, кто ни на что лично для себя не рассчитывает от чего-либо происходящего перед его взором? Нигде. И, чтобы не порождать путаницу, лучше сразу определиться, что кто-то -- это тот, за кем наблюдают, а наблюдает, соответственно, никто, смотрящий из ниоткуда. Наблюдающего в мире нет -- это мы выяснили еще в начале. Итак, никто, потерявший себя в ком-то, иногда все же вспоминает, кто он есть в действительности, а, вспомнив, начинает стремиться к аутентичности, убегая от одного кто-то, но, зачастую -- всего лишь в объятия другого. А чтобы окончательно стать никто, необходимо попасть в точку, откуда уже нельзя будет вести за собой наблюдение. Кстати, наблюдение нельзя вести за абсолютом - он включает в себя место возможного наблюдателя.
Я вырулил не совсем туда, куда наметился было вначале. Сие, однако, меня не удручает.
Вернусь к превознесению того, кто сумел быть в мире и свидетельствовать о нем. Он ведь не только над миром воспарил - и над собой тоже. Одна из фигурок, копошащихся там, вдалеке - он сам. Он покинул себя, вовлеченного в процесс, потому что участвующий свидетельствовать не в состоянии. Зачем же тогда за него цепляться? Спонтанно вырвавшийся вопрос высветил интуицию, подсказавшую, что ненужное для жизни свидетельство важнее этой самой жизни, причем в том числе и собственной (которая, впрочем, уже осознана как "не моя").
Правдой владеет тот, кто даже на самого себя смотрит как на персонаж фильма. Дистанция - первое условие мысли. Пока я - это я, о претензиях на знание истины не может быть и речи.
Отдалиться от себя страшно. Больше того, невозможно. Оставить себя на поле брани, среди рубящихся? Никак. Не ровен час - зарубят к шутам. Разве что ...со скуки. Случаются люди, которым скучно быть при себе, на привязи.
Как правило, от них не остается богатого наследства. Даже духовного: их мыслей, их истин, их аргументов.
Только свидетельство.
К чему оно? Жму плечами. Я знаю лишь, что свидетельство переживет все. И останется в потомстве (единственное нефилософское предложение в моем дискурсе). Но даже если никаких потомков не предвидится, свидетельствующий все равно будет свидетельствовать, ибо свидетельствуя, он попадает туда, где будущее, олицетворяемое потомками, уже наступило.
P.S. Свидетельство - история о том, что было, рассказанная наблюдателем, то есть тем, кому нет смысла перетягивать одеяло на себя. Снимок реальности. В пленке было много кадров - получился один. Во всех остальных случаях были нарушены те или иные правила фотографирования: снимающие забывали встать спиной к солнцу, не наводили резкость, выбирали не ту выдержку, подходили к объекту слишком близко, так, что он не влезал в кадр целиком, их руки дрожали, наконец, оставалась надетой крышка объектива. Короче, в альбом взяли лишь одно фото.
Свидетельства - это не только хроники исторического характера, случаи из жизни племен и народов. Вся поэзия - сплошное свидетельство. К примеру, стихи о грозе представляют собой взгляд на грозу не снизу, не с позиции заливаемой ею двуногой особи, но с перспективы, откуда гроза предстает как самостоятельное явление. Ученый, открывая какой-либо закон, тем самым, тоже составляет свидетельство. Будь он полностью внутри мира, ему бы ничего не открылось. Чтобы постичь закон природы, нужно замереть, остановиться, уподобившись праздному зеваке, которому ничего не нужно. Лишь тогда сработает понимание. Речь идет о способности увидеть тот или иной феномен сам по себе, вне связи с собой или с кем-то другим.
43
Это совершенно особый разряд воспоминаний, когда вспоминаются не события, а их фон: запахи, освещение, звуки, ощущения в теле. Идешь по тропинке, под ногами шуршат листья, и вдруг врывается прошлое - так же шуршала листва в осеннем парке, по которому гонял на велосипеде в детстве. Дым костра, сырой воздух, низкие облака возвращают в давние грибные походы. Солнечное утро воскрешает дни, когда, студентом на каникулах, зачитывался французскими романами.
В ситуациях, которые вспоминаются, не было фиксированности на их фоне. Я не любовался видами природы и звуками, наполняющими мир, катаясь на велосипеде по проселочным тропинкам и дорожкам в городских парках; не воспринимал солнце как повод для радости, просыпаясь, чтобы погрузиться в чтение романа. Не было и беззаботности. Не какие-то особенные, но совершенно обычные дни, когда душа все также металась, когда недовольство настоящим было ничуть не меньше, чем всегда. А хождения по грибы я вообще ненавидел. Но теперь, вспоминаясь, эти дни предстают как моменты совершенной, окончательной гармонии (последнее слово выскочило не из обыденного языка, сейчас за ним стоит многое; например, гармония полагается мной как то, что отменяет время). День самой безумной суеты, вспомнившийся благодаря сходному с сегодняшним сопровождавшему его ощущению отупения от жары, воспринимается как потерянный рай. И я уже давно искал ответ на эту загадку, которая, чувствовалось, является одной из самых таинственных, и при этом сулящих некое сверхзнание тому, кто их откроет, загадок.
Я заметил, что в мгновения подобных воспоминаний власть надо мной житейских забот, экзистенциальных проблем, поводов для личных мучений резко ослабевает. Грозящие опасности перестают устрашать, неуверенность тревожить. Ядра, от которых я постоянно уворачивался (занятие крайне утомительное), потому что считал смертельным столкновение с ними, оказываются картонными шарами, бессильными причинить мне какой-либо вред. Удушающая хватка рутины отпускает, позволяя вдохнуть воздух полной грудью. Иными словами, воспоминания приносят отдохновение и свободу. Они берут меня под защиту. Открывают лазейку, спасающую от надвигающегося пресса. Лазейку, ведущую туда, где покой и вечная радость.
Почему это происходит? Возвращение прошлого, от коего, однако, уцелели лишь детали обстановки, которых я не замечал, когда жил и действовал на их фоне, помещает меня в точку, откуда фрагменты фона неизбежно (то есть хочу я того или нет) смотрятся куда более привлекательными, чем беспокойные, дисгармоничные переживания действующего лица. Аромат воздуха, шелест листьев - в силу своей законченности - для меня самого делаются важнее, чем собственно я. Не чужой дядя, а моя же память подсказывает, что они важнее, поскольку уцелеть - значит сохранить значимость. Из вспоминающейся картинки удаляется сам вспоминающий, и, чистая от страстей (его страстей), она предстает как произведение искусства, сродни той же картине живописца. Да, это мое прошлое, но из забвения извлекается не моя тогдашняя слепота к происходящему, но сама реальность (то, что, собственно, было), а она уже ничья. Человеку трудно увидеть мир сразу же, он открывает его по прошествии времени, когда жившее тогда в нем "я" становится уже немного чужим. Реальность и потрясает меня, как всякое понимание. А потрясая, несет освобождение. От кого? От себя, от кого же еще. Я причащаюсь жизни, которая не знает страха, сомнений, недовольства. Реальность остается реальностью, как бы кто над ней не глумился, как бы чего над ней не вытворял. Реальность неуничтожима, потому что уничтоженная реальность будет ничем иным, как новой реальностью. И главное, у нее нет другой цели, кроме как быть реальностью. Чего хотят листья, когда шелестят? Дым, когда поднимается вверх? Он просто поднимается. Листья шелестят и все. На какое-то время я с этой же точки смотрю на свое сегодняшнее существование.
Отсюда радость покоя.
44
Как утверждают психологи, излечиться от крайних форм алкоголизма и наркомании удается очень немногим. А те, кто все-таки сумел вернуться к жизни, исцеляются исключительно благодаря либо вере в Бога, либо страстной любви. (Ну, может быть и по какой-нибудь другой причине, если она того же порядка, что и первые две.) Мне видится, что я в состоянии предложить философское обоснование такой статистики.
Наркоманы, алкоголики и т.п. по отношению к окружающему миру выступают в качестве потребителей. Они берут от окружающего то, что приносит им удовольствие. Ключевым словом здесь является "им". В принципе, в такой схеме отношений с миром нет ничего аномального. Скорее, наоборот, это правило, закон. Все без исключения люди (и не только люди) являются потребителями. И дело даже не в людях, а в самих основаниях мира. Этого мира. Уже в основаниях заложено, что единственным возможным вариантом отношений является потребительский подход.
Мой тезис заключается в том, что в рамках этого мира излечение крайних форм наркомании не представляется возможным. Почему? В качестве того, ради чего наркоману имеет смысл бросить наркотики, могут фигурировать только потребительские стимулы (ведь мы уже договорились, что этот мир не в состоянии предложить нам чего-либо другого). Пара иллюстраций: "Брось колоться, чтобы иметь возможность хорошо одеваться и ездить только на такси"; "Брось колоться, чтобы иметь возможность тратить деньги на женщин"; "Брось колоться, чтобы жить в шикарной квартире". Но от замены одного потребительского мотива на другой мало что меняется. Кому-то наркотик дает больше, чем все женщины, виллы, машины вместе взятые. Ведь в случае наркомании мы имеем дело с крайним проявлением потребительского подхода. Этот мир бессилен вырвать человека из порока, так как порочен сам. "Мне хорошо под кайфом", - говорит наркоман. И поди попробуй, в рамках этого мира убедить его в том, что "мне хорошо" - это еще не все.
Задача решаема только в том случае, если помимо этого существует еще некий иной мир. Мир сверхприродный (если этот - природный), сверхчувственный (если этот - чувственный) и т.д. Иной мир будет таковым только в том случае, если, в отличие от этого мира, он в целом и его составляющие в частности не предназначены для потребления. Назовем эти составляющие самоценностями, которые актуальны независимо от того, приносят они кому-либо (например, мне) удовольствие или нет. И если я сам признаю, что есть нечто самоценное, такое, что безотносительно мне, для чего мое бытие или небытие, моя веселость или печаль не играют ровно никакого значения; если я это признаю сам, то я вывожу себя за рамки потребительского подхода. Что это значит? Что и для меня моя персона перестает быть точкой опоры. В самом деле, ведь "ломает" ли меня, мучаюсь ли я с похмелья - имеется то, что важнее всех этих сугубо моих состояний. Это мои (то есть никому и ничему - вечности, к слову - не интересные) проблемы, которые ничто перед тем, что самоценно. И нельзя терять на них время, когда самоценное требует от меня внимания. Впрочем, само по себе оно ничего ни от кого не требует; с себя я начинаю требовать сам, едва сталкиваюсь с ним лицом к лицу. Просто оно - человек чувствует это - имело значение даже тогда, когда его и на свете-то не было, и будет продолжать иметь значение даже в том случае, если его не станет. Самоценность есть не для нас, и именно, именно поэтому мы решаем, что мы есть для нее, что она важнее нас и вообще -- святыня. Кстати, как это я вывел, что самоценнность важнее нас? Довольно просто. Она важнее нас, поскольку не для нас. Раз имеется то, что не для нас, логично, что мы отнюдь не высший предел. И со святыней я тоже не перебрал. Самоценность, которая, в отличие от нас, действительно, есть "высший предел" -- это точка успокоения и обретения смысла. Только она - окончательность, как то, над чем больше ничто не возвышается (а над самоценностью по определению ничто не возвышается, так как свою ценность она получает исключительно от себя). Самоценность не преходит (не умирает), выполнив свою функцию, как это происходит с тем, что получает свою значимость через другое, с ценным-для-иного-чем-само. Вообразим, что некто отправился в путь, чтобы добраться до прекрасной страны, увидев которую даже краешком глаза, можно испытать незабываемое ощущение счастья. В дорогу он взял много разных вещей. Так вот, каждая из них будет выброшена, как только отработает ту задачу, ради решения которой ее, собственно, взяли. Их несли ровно до того препятствия, которое каждая из них помогла преодолеть. После этого они уже не нужны. Ценное-для-иного-чем-само, короче говоря, не сможет увидеть прекрасной страны, ожидающей в конце пути.
Итак, иной мир сталкивает нас с тем, перед лицом чего мы лишаемся всякой возможности заявить: "Мне хорошо, и это самое главное".
Идею двух миров можно на время отложить и чуть иначе взглянуть на то, как и почему происходит девальвация ценности "мне хорошо".
Раз имеется все бытие (отложим на время идею двух миров), значит полнота возможна только в его масштабе, а отнюдь не в масштабе фрагмента. Поэтому самим фактом своего наличия все бытие лишает фрагмент права исходить из себя как абсолюта. Лишь с обхватом всего как Целого сбывается мечта о завершенности. Я могу претендовать на главенство, лишь будучи Целым, выражая его интересы, выступая от его имени. Пока этого нет, мои претензии незаконны. Сей закон, увы, не есть нечто внешнее по отношению ко мне (тогда бы я смог его ослушаться). Притязания части на роль абсолюта предполагают незнание, что она -- всего лишь часть. Когда же я сам знаю (открылось вдруг! -- вопреки всем желаниям), что я -- это не все, что ко мне нужно добавить еще очень многое, чтобы действительно получилось Целое, мои претензии лишаются своего условия. Я не смогу заявить, что мои желания -- это последняя инстанция, так как претендовать на все ("ну-ка, все мне служите"!) может тоже только "все". Чтобы иметь привилегии абсолюта, надо быть им. Лишь Целое может требовать к себе всеобщее внимание. Лишь Целое вправе рассчитывать на признание себя в качестве точки отсчета. Лишь Целому позволено претендовать на истину, на понимание, на любовь. Как бы нагло я себя ни вел, от себя-то мне не скрыть, что я "больше" не пуп Вселенной. И этого предостаточно, чтобы отравить мое самодовольство. Мне-то известно, что, как ни пыжься, я далеко не все, что только есть. И пускай мне и удастся пустить кому-нибудь пыль в глаза, перед собой я не в силах не признать факт наличия Целого, которое выше меня. Я буду постоянно держать в уме взгляд возможного наблюдателя, для которого я чертовски жалок и смешон в своих поползновениях. Нет, зная, что ты -- часть, нельзя оставаться эгоцентристом. Какие могут быть амбиции, когда сам понимаешь, что ущербен? Вот и берешь остальной мир в долю, расширяешь границы своего "я" до границ всего, что только есть. А прежнее "я" - это утлое суденышко -- пускай плавает себе в безбрежном и извечном океане с глаз долой. Возможно, скоро оно пойдет ко дну. И что с того?
Унизили ли мы достоинство человека, наплевательски отнесясь к возможности его скорой гибели? Отнюдь. Ведь в том случае (но и только -- в том случае!), когда я живу интересами Целого, от меня уже нельзя отпихнуться, мною уже нельзя пренебречь. Ибо в свете Целого и я становлюсь самоценностью. Но это -- для других, сам же перед собой я по-прежнему отдаю приоритет самоценностям или Целому, если исходить из второго способа рассуждения. А значит имею шанс излечиться, если до этого, предположим, я успел заболеть алкоголизмом.
Отказываться от одного удовольствия ради другого можно лишь в том случае, когда, если другое несет большее удовольствие. Как же тогда избавиться от того, что, принося максимум удовольствия, привело к страшному заболеванию? Никак. Ведь у нас больше нет козыря под названием "еще большее удовольствие". Отказаться от удовольствия можно лишь ради того, что важнее удовольствия. Важнее не того или иного конкретного удовольствия, а удовольствия в принципе. Без иного мира (без самоценностей) здесь не обойтись.
Иной мир загадочен. Обращенный к нему поступает, казалось бы, в ущерб себе. Есть возможность заняться сексом (забавная штука, кто посмеет это отрицать?), а он говорит, что, видите ли, будет ждать возвращения своей любимой. Кто-то отворачивается от вкуснейшего блюда, а все из-за того, что помнит, как плохо сейчас кому-то из его знакомых. Кто-то отказывается от состояния, нажитого на чужих бедах. "Блин, да что за фигня такая? -негодует этот мир. -- Жри, трахайся, отрывайся, покуда есть возможность"!
При всей незримости и "тихости" своих благ (ну что это, скажите пожалуйста за удовольствия -- сдержать слово или поступить по совести?), иной мир оказывается более предпочтительным. Он держится на более прочном, чем "мне хорошо". Так же, как в случаях секса без любви и денег без чести, обстоит дело и с наркотиками. "Брось колоться во имя того, что полагаешь более важным, чем ты сам". И это работает.
Бог и любовь принадлежат иному миру. Они помогают вспомнить (и помнить дальше), что ты пришел в мир "зачем-то". Не для того, чтобы попользоваться его благами, а с миссией. И в философски понимаемом "конце" (который уже наступил, какой бы момент времени мы ни взяли) тебе будет велено отчитаться о ее выполнении.
45
Когда Герман Крабов еще не был священником, в его жизни имелся период, когда он много и тяжело работал. Работа была нервной, суматошной и поглощала Крабова целиком. Курьез в том, что блаженные моменты отдохновения приносило ему простое плотское желание. Вот как это было.
Иногда деловые обязанности вынуждали Крабова к продолжительным поездкам в трамвае. Нередко, в трамвай забредала какая-нибудь красотка, и Герман, глазея на нее, переносился в какой-то другой мир, где нет работы, начальника, опасений не успеть, забыть, перепутать. Иными словами, красавицы вытесняли в сознании Крабова все остальное. Оставались только он и она, только он, она и их (возможные) взаимоотношения. Рождался совершенно самостоятельный мир, в котором только он, объект его страсти и этого, собственно, вполне достаточно. А все, что исходило не от них, не имело никакого значения. Крабов забывал, что он в городе, ему чудилось, что он где-то в тропиках на берегу океана: легкий ветер шумит в пальмах, жара, полная погруженность в настоящее и беззаботность. А тут еще раскинувшаяся в гамаке загорелая, манящая и наконец-то доступная амазонка.
Переживание чудесным образом происходящего избавления от ноши, которой он был нагружен необходимостью, было настолько отрадно, что сопровождалось тихим стоном, долгим выдохом, ощущением провала в невесомость.
Все дела упразднялись, а потому в женском образе Крабову брезжился некий спасительный окончательный приют. Ибо в каком случае уже нет нужды в делании "дел", делании, свидетельствующем об ущербности? Когда установилась гармония, замкнувшаяся на самой себе. Что означает ощущение полной независимости от того, что вне тебя? Что произошло столкновение с чем-то, способным организовать завершение, а всякий финал, говорю я, вносит полноту.
Получалось, что просыпающийся в Крабове мужчина (самец) играл роль проводника к волшебному царству свободы. Низменный инстинкт связывал с горним миром.
И еще раз остановлюсь на уже упоминавшемся моменте. Поскольку при виде красотки Крабов чувствовал, что его плечи свободны от только что пригибавшей к земле тяжелой ноши, значит цель, ради которой он нес ее на своих плечах (а ношу несут только в надежде, в расчете когда-нибудь ее сбросить), уже собственно, достигнута. Это картина конца: ноша на земле, путник расправляет плечи. И если она наблюдается уже сейчас, значит -- все, дальше идти не надо. Короче, уже из возможности пренебречь делами можно смело делать вывод: то, ради чего они делались, наступило. Только из одной точки можно ощутить свободу -- из точки Конца. Очередное прекрасное создание помещало Крабова в такую точку Конца, наступившего посередине. А значит тот путь, который прервало наступление Конца, вел в никуда, и шагать по нему дальше нет никакого смысла.
Теперь, когда Крабов уже давно стал другим человеком, ему есть что вспомнить. Но он до сих пор не забывает своих переживаний в те минуты, когда его зад плющился на трамвайном сиденьи.
46
Рекомендации психолога и философа вполне могут совпадать. Не совпадет лишь объяснение причин эффективности рекомендуемых приемов. Нет оснований считать, что одно из этих двух объяснений, например психологическое, будет ложным. Скорее, позиция психолога имеет целый ряд преимуществ с точки зрения своей убедительности. Однако версия философа лично для меня привлекательней тем, что она всегда увязывается со смысловым началом. Любой жест здесь рассматривается в плане участия (или отказа от участия) во всеобщей мистерии Бытия.
Взять ту же медитацию. Психолог, настаивая на ее полезности, будет толковать о расслаблении мышц, о циркуляции крови, о наполнении энергией и т.д. Мое понимание эффективности медитационных практик будет принципиально иным. При этом я отнюдь не отрицаю, что мышцы медитирующего расслабляются, дыхание стабилизируется, прекращаются утомительные мытарства ума... Но я бы не сказал, что именно это - помогает. Вернее, это, конечно, помогает, только... только для меня, идеалиста, изменения в душе важнее и первичнее изменений в теле, к коему я отношу и психику.
Медитация есть вхождение в состояние полноты. Ее цель - оказаться в моменте, из которого уже не нужно испытывать потребностей, кои суть желание воссоединиться с частицами самого себя, волею судеб оторванными от тебя и вынесенными вперед, в будущее, коего необходимо дожидаться, чтобы, наконец, обрести себя полностью и, что называется, "зажить". Глядя из состояния, достигнутого медитацией, любая спешка (а таковою видится любое, даже черепаховое движение) представляется крайней нелепостью. Зачем? Вопрос указывает, что спрашивающий имеет все, в чем он только мог нуждаться. Можно не гнаться, можно не быть начеку, можно не ждать. Так, медитирующему дается сделать глоток из источника под названием завершенность. Этот глоток и помогает ему справляться с испытанием, назначенным Богом, - жить в царстве относительности.
Сказать, что мое объяснение красивее - и даже этого будет мало.
47
Я уже не раз интуитивно чувствовал, что условия, при которых человек вызывает вдруг (именно -- вдруг) у находящихся рядом с ним других людей неожиданный и сильный приступ симпатии или уважения (либо же не вызывает ничего), связаны с неким сущностным моментом. Теперь эта связь стала для меня абсолютно прозрачной.
Вам это должно быть знакомо: смотришь на иного двуногого и вдруг испытываешь непреодолимое желание рассмеяться, хотя никаких видимых причин для столь буйного проявления веселости нет. Иногда, глядя на кого-нибудь, возникает стремление его обнять или, как минимум, хлопнуть по плечу. А когда мы непроизвольно думаем о нем, нам вспоминаются совершенно определенные, причем совсем не событийные мгновения. Повторюсь, речь идет о таких чувствах, для которых нет никаких вразумительных объяснений. Человек не очень-то нам близок, ничего драматичного в данный момент не происходит, но, внезапно, мы чувствуем к нему небывалое расположение, кажется, будто мы знаем его давным-давно...
Все это случается тогда, когда этот человек ведет себя безотносительно происходящему рядом. Народ веселится, а он сидит грустный. Скажу с уверенностью, что так вести себя могут только уникальные люди. И это, действительно, впечатляет. Посидите на вечеринке с печальным лицом и в вас (и только в вас!) влюбятся все присутствующие женщины. Суть в том, что когда кто-либо действует спонтанно, без оглядки на других, он проявляет себя как автономию, которая, следовательно, имеет смысл не как приложение к чему-либо, а взятая в своей отдельности. А под того, кто ни под что не подлаживается, остается только подладиться самому. Он предстает как самостоятельное явление, не ориентированное на своих реальных или гипотетических зрителей. Зрители не есть дополнение, без которого он сродни мотору, не запускающемуся из-за отсутствия важной детали; он полон без них. Он не зависит от зрителей, потому и мы, те, кто поначалу счел было себя ими понимаем, что нас как жаждущих развлечься ("-ся", напомню, это сокращение от "себя"), на самом деле, здесь нет. Во всяком случае, мы не соотносим его с собой, он воспринимается нами сам по себе, как таковой, как единственное, что есть во Вселенной и вообще как Вселенная. Когда некто воспринимает другого без соотнесения с собой... А почему бы не назвать это любовью?
На лице человека отражаются мысли о чем-то своем. Он улыбнулся не тому, что произошло в комнате, а чему-то внутри себя, каким-то мыслям или воспоминаниям. И это сразу притягивает. Ибо действие продиктовано не (или: не продиктовано) сложившимися обстоятельствами и заслуживает почтения как тайна, в которую не дано проникнуть извне. На спонтанную реакцию может подтолкнуть и внешнее событие, выбивающее из привычки проверять себя глазами других, забывая, что ты -- никто, что тебя -- нет. Принесли котенка, и обычно застенчивая девушка вскрикнула во весь голос: "Какая прелесть"! -- а затем пылко прижала его к груди. Котенок помог отвлечься от обстоятельства, что кругом на нее смотрят люди. Юноша, который прежде эту девушку не воспринимал, вдруг проникается к ней резким, щемящим приятием. У мужика, увидевшего идущего навстречу по улице инопланетянина, совершенно непозволительно отвисает челюсть: "Не... себе"! И зрители фильма разражаются хохотом, и кто-то из них мысленно включает героя в число своих друзей: "Вот с этим я бы выпил".
Уже давно я обращал внимание на то, что особенно эффектны те фотопортреты, когда человек не смотрит в объектив. И, наконец, понял, почему это происходит. Фотографируемый смотрит в сторону от фотокамеры. Таким образом, создается впечатление, будто он не знал о существовании фотографа или присутствие последнего не представлялось для него существенным. Смотри он с карточки нам в глаза, его бытие оценивалось бы как бытие-для-нас (поскольку он предполагает наше на него смотрение, то есть на что-то от нас рассчитывает и, тем самым, продает себя). Однако он глядит куда-то в сторону, мимо нас -- вспоминаются словосочетания, которые превратились в устойчивые обороты, характеризующие независимость: невзирая на нас, несмотря на нас. В таком случае его бытие обретает самостоятельное значение, что, собственно говоря, и потрясает зрителя, разглядывающего фото. Он словно бы прикасается к тайне, к фрагменту жизни, не предназначенной для чужих глаз. Эта жизнь не может рассматриваться зрителем применительно к себе -- место для такового здесь вообще не выделено -- и, следовательно, предстает как нечто святое, достойное того, чтобы занимать собой весь мир, почему мы с готовностью освобождаем для ее актуализации и ту его частичку, которую занимаем сами.
В свою очередь, человек, действующий с оглядкой на публику, учитывающий ее присутствие, подлаживающийся под других вызывает скуку. Он не запоминается, так как в нем не было ничего, не сводимого к ситуации, сложившейся вокруг него, хотя бы маленького ядрышка, лишенного пространственно-временной определенности.
48
Вскоре она повернулась к нему спиной и заснула. Крабов забеспокоился: "А мне чем заняться, пока она спит? Может, это на час, а то и на два. И как мне быть с этой уймой времени"? Он начал перебирать в уме всевозможные варианты, основными из которых были: а) негромко включить музыку; б) почитать какую-нибудь книгу; в) сбегать за кока-колой, чтобы потом медленно потягивать ее в постели. Все три способа развлечься требовали, как минимум, встать с кровати. И тут вдруг Крабов спохватился: "Что за привычка убивать время? Можно же просто лежать и наслаждаться каждым его мгновением! Зачем я, лежащий, сам себя поднимаю? Было бы понятно, если бы меня подняли обстоятельства, но сам...! Это безумие. Я так мечтал о минутах, когда ни в чем нет нужды, когда можно просто чувствовать жизнь, без намерения что-нибудь выудить из нее для себя, присущего рыбаку, который следит за поплавком из вполне конкретного интереса. Чувствовать жизнь, что это значит? Почти тривиальное - слушать детские крики, пение птичек и шум проезжающих машин за окном, прислушиваться к ощущениям в теле, радоваться нежности одеяла, свежести ветерка, проникающего в открытое окно, прикосновениям к теплой коже близкого существа... Если я все это воспринимаю, значит я живу. Это несомненное подтверждение факта моего присутствия. Я -- есмь, я участвую в жизни, в ее приливах и отливах. Если же я, занятый заботами, не воспринимаю проявления окружающего мира, меня нет, я -- не жилец. Возможность замечать красоты природы, волноваться при звуках музыки, слышать собеседника, чувствовать свое тело, отзываться на происходящее рядом и т.п. означает, что человек ожил, а оживило его обретение полноты. Возможно и обратное: ожить и обрести полноту. То есть заставить себя прислушаться к детским крикам за окном, к боли в коленке, к словам из радиоприемника -- и в скором времени со спокойной радостью удивления констатировать, что ни в чем не нуждаешься и ничего не боишься".
Крабов припомнил, что как только на него надавливались заботы, он всякий раз начинал упоенно грезить покоем и свободой. Вот настанет это заветное времечко, и уж он вкусит жизни сполна. Но когда свобода (в виде отпуска ли, каникул, пустой квартиры и т.п.) приходила, возникало странное желание побыстрее от нее избавиться. Она воспринималась как пустота, которую необходимо чем-то заполнить. Крабов с удивлением, если не с ужасом сделал открытие, что он, собственно, всю жизнь только тем и занимается, что губит возможности выскользнуть из текучего времени. То он собирается походить по парку, чтобы слиться с природой и отдохнуть от городской бессмыслицы. Но едва войдя в парк, начинает думать о том, чем будет заниматься, когда вернется обратно, и с неодобрением смотрит на видимо по глупости приглашенного спутника, которому нравится бродить среди деревьев, который не торопится возвращаться домой. То он рвется послушать новую музыку любимой группы, но, включив кассету, ловит себя на том, что с первых же аккордов ждет, когда же она закончится.
"Это что же происходит? - спросил себя Крабов. - Вместо того, чтобы радоваться своей свободе от чего бы то ни было, я уговариваю себя идти за кока-колой. Кока-кола -- штука хорошая. Но если я настою перед собой, что никакая кока-кола мне не нужна, то испытаю ощущение полной самодостаточности, которая с лихвой перекроет удовольствие от прохладного напитка. Да, хочется. Но, захлопнув перед кока-колой дверцу: "А я уже в свободном полете"! - показав ей кукиш, я бы только усилил ощущение, что я есть, что я живу. Да и на кока-коле я бы не упокоился. Наверняка потребуется что-то еще. Почему, встретившись с бытием, мне необходимо от него заслониться? Зачем я стремлюсь поскорее похоронить настоящее, если только им и можно жить? Из-за привычки к рабскому состоянию? Из-за страха быть? Но ведь быть - это единственное мое желание".
Надо сказать, что те два часа, что она спала, Крабов провел замечательно. Он просто лежал и, как воронка, собирал в себя все, что происходило вокруг - звуки, запахи, ощущения, даже рисунок обоев на потолке. Он весь присутствовал в здесь-и-сейчас. Обычно разорванный на части, раскиданные по разным точкам пространства и времени, сегодня Крабов чувствовал свою цельность.
49
Почему мудрость молчалива? Почему тот, кто знает о жизни больше других, отходит в сторону во время жарких дискуссий о смысле бытия? Почему не знающие из кожи вон лезут, а знающих не слыхать?
В компании зашла речь о некоей женщине. Один заметил, что она какая-то странная. Другой сказал, что, по его мнению, она -- лесбиянка. Третий рассказал, как встретил ее в каком-то ресторане, где она напилась до полусмерти. Четвертый вспомнил случай, когда шел с нею в дождь под одним зонтом и видел как под тканью колыхалась ее грудь. Пятый молча курил сигарету. В самом деле, не признаваться же им: "А я с ней спал". Контекст не позволяет.
50
Когда я стану стареньким, я смогу спокойно, как сторонний наблюдатель, обозреть всю свою жизнь. В этом смысле, старость - золотое времечко. Я буду смотреть на свою жизнь - какою бы она ни была - без сожаления или восторга (главное, конечно, без сожаления). Возможно, именно в старости человеку легче всего понять, что он - это не он. В этом - ее оправдание. Вспоминая самые драматичные моменты своей жизни, я - старик - не испытаю волнения, хотя и не буду безучастным. Просто это будет уже не так важно, в силу того, что покой Целого, который откроется мне как единственно существенное, придавит собою ужас и нелепость иных эпизодов.Боль от содеянных мною глупостей трансформируется в чувство радости, поскольку я безусловно признаю, что ничего, на самом деле, не потерял. Я начну понимать свою жизнь и, таким образом, избавляться от нее.
Я пойму, как нужно было поступить в той или иной ситуации, но не стану сокрушаться из-за того, что понимание пришло слишком поздно. Я могу даже сделать вывод о том, что всю жизнь прожил неправильно, шел не по своей дорожке. Но этот вывод не вызовет тревоги и беспокойства. Я не буду чувствовать себя ущемленным в сравнении с тем, кто сумел держаться именно своего пути. Старость, вернее тот угол зрения, к которому она подталкивает человека, сравняет нас.
Те, кому я сделал зло, поселятся в моем внутреннем мире и будут общаться со мной так, как будто никакого зла не было и в помине. В свою очередь, общаясь внутри себя с теми, кто сотворил неприятности мне, я отвечу на их извинения или уловленное мной ощущение зависимости от меня, вернее, от недоброго поступка, совершенного по отношению ко мне, которая мешает им взмыть на свободу, держит на коротком проводке: "Никаких проблем, ребята. Теперь прошлое не имеет значения, и, как выяснилось, не имело значения даже тогда, когда было настоящим. Вред от ваших деяний не достигает меня здесь, на том месте, где я с удивлением себя обнаружил. Так пусть и ваша прошлая глупость не влияет на ваше теперешнее самочувствие. На самом деле, мы близки друг другу. Раньше мы были собратьями по несчастью, теперь, вот, наоборот. Я узнаю в вас себя и -- ну надо же! -- готов заявить, что вы мне симпатичны". Разумеется, моя реальная речь не будет такой высокопарной. В любом случае, сказанное явится результатом того, что я буду гораздо дальше и выше себя же и своих интересов, настолько дальше и выше, что зло, совершенное по отношению к частному лицу (пусть это даже буду я) воспримется мной как общая беда мира, где все страдают от этого зла в равной степени.
Обстоятельство, что с кем-то я уже не смогу встретиться физическим образом не смутит меня ничуть - настоящая встреча уже состоится (так неизбежное будущее становится фактом сегодняшнего дня -- ведь не может быть, чтобы она не состоялась когда-нибудь, например, когда всех живших соберут на последнюю вечеринку, которая, опять же, будет, потому что должна быть, потому что может быть помыслена, а мысль - не что иное, как отраженный свет). Я вдруг нутром почувствую, что прощен даже за самые тяжелые свои грехи. Реально меня никто еще не простил, но я буду уверен, что это - так. Старику виднее, в чем -- продолжение, а в чем -- исход. Чему уйти, а чему -остаться. Старость чует Конец, а в Конце те, кого развела жизнь обязательно соединятся, и все обиды уступят место любви. Завершение просто не может быть иным. Прозрев спасительный смысл Конца, я найду блаженную отраду в мысли о неминуемом торжестве завершенности (которая предпочтительнее даже в том случае, если она и не победит, а значит -- она победит). Ибо в ней никто не может быть ущемлен или отвергнут. И еще я увижу, что Конец - не завтра, что он - всегда, а потому уже сейчас можно считать (так оно и есть), что все возникшие по ходу моей биографии острые углы - сгладились, напряжения - уравновесились, противоречия согласовались, конфликты - рассосались. Все восполнилось и образовало гармонию, чтобы, наконец, закончиться и перейти в вечность.
И с таким умонастроением я проведу остаток дней своих.
THE END
Никто никогда бы не сделал свое творение достоянием общества, если бы видел в нем претензию на утверждение каких-то истин. Что его примирило с идеей обнародования, так это присутствие в "Записках" ряда крупных заблуждений. Порой он не улавливал, что задает его мысли то или иное напрвление; а ведь скрывает себя лишь то, что ложно -- отсюда вывод о возможных заблуждениях. Никто хотел бы, чтобы его опус воспринимался как опыт ошибок, которых он сам не распознал, но которые мог бы увидеть и, таким образом, избегнуть их в собственном мышлении читатель.
Особенно поднаторевшие в философии могут указать на слабый категориальный аппарат (как вам такой, с позволения сказать, термин: "эти существа"?), на неумение ради стройности изложения жертвовать любимыми, но не вписывающимися в линию разворачиваемой мысли и к тому же уже развитыми в других местах идеями, а также на целую кучу других недостатков. Настоящие асы мысли вообще придут к выводу, что никто зашел в тупик и бьется о стену... Вот только они не посмотрят на него свысока. Почему?


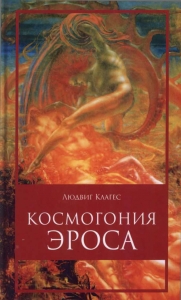
Комментарии к книге «Записки Никто», Роман Шорин
Всего 0 комментариев