Оксана Тимофеева История животных
© О. Тимофеева, 2017
© Szizek, предисловие, 2017
© OOO «Новое литературное обозрение», 2017
* * *
Лошадь, не надо. Лошадь, слушайте – чего вы думаете, что вы сих плоше? Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь. Владимир Маяковский. Хорошее отношение к лошадямСлавой Жижек От животного до «Stamina Training Unit»
В своей лекции «Мистер Беннетт и миссис Браун», прочитанной в 1924 году, Вирджиния Вулф провозгласила: «Где-то в декабре 1910 года человеческая природа изменилась»[1]. В книге «Структура, логика, отчуждение» Франсуа Бальм пишет, что биогенетика подрывает:
…условия человеческого воспроизводства и радикально отрывает его от встречи двух полов, открывая тем самым возможность всеобщей евгеники, производства клонов, монстров или гибридов, которые расшатывают границы видов. Границы биологически реального действительно смещаются, и самые устойчивые ограничения того, что должно быть символизировано, – жизни, смерти, родства, телесной идентичности, различия полов – оказываются хрупкими. Клонирование позволяет нам, в принципе, освободиться от партнера и, таким образом, от пола, или от другого как такового: увековечивать себя в неизменном виде. Происходит историческая мутация, которая не менее радикальна, чем гибель человеческого вида, возможность которой открывается благодаря ядерному делению[2].
Этот процесс, который изменит само определение человека, является историческим фоном рассуждений, которыми Оксана Тимофеева делится в ее замечательной книге: именно сегодня, когда человечество, как кажется, оставляет животность позади, вопрос о ней встает с новой остротой. Неудивительно, что последняя часть книги посвящена Андрею Платонову, одному из трех, вместе с Беккетом и Кафкой, абсолютных авторов ХХ века, который, помимо прочего, писал как об изменении человеческой природы, так и о нашем родстве и солидарности с животными.
В коротком памфлете «Антисексус», уникальном произведении, написанном в конце 1925 года, Платонов выдает себя за всего лишь переводчика рекламной брошюры большой западной компании, которая хочет пробиться на советский рынок. За предисловием переводчика следует обращение главы компании, который описывает предлагаемый ею продукт, а затем – комментарии и отзывы о нем различных знаменитостей (от Муссолини до Ганди, от Генри Форда до Чарли Чаплина, от Дж. М. Кейнса до маршала Гинденбурга). Речь идет о промышленном производстве для массового потребления мастурбаторной машины, помогающей пользователю быстро достичь интенсивного оргазма. Посредством этого механизма человечество может выбраться из лабиринта сексуальной любви. Половая потребность изживает свой бесконтрольный характер и подлежит планированию; ее удовлетворение больше не предполагает затратного в плане времени и энергии процесса соблазнения и становится легкодоступным всякому, таким образом возвещая новую эпоху гармонии и мира. «Антисексус» – это, конечно, сатирическое произведение, однако как только мы предпринимаем попытку определить с большей точностью, каков именно объект сатиры, все оказывается не так просто. Обычно считается, что единственный негативный отзыв, принадлежащий Чаплину: этот продукт лишит нас насыщенного и глубоко духовного межличностного контакта, свойственного настоящей сексуальной любви, – выражает позицию самого Платонова; но так ли это? Разве платоновские тексты 1920-х годов не отмечены глубоким недоверием к любви полов?
Его великие произведения того периода – «Чевенгур» и особенно «Котлован» – обычно трактуются как критическое изображение сталинской утопии с ее катастрофическими последствиями. Такое понимание глубоко ошибочно. Почему? В этих двух работах Платоновым построена не утопия сталинского коммунизма, а гностико-материалистическая утопия, против которой зрелый сталинизм выступил в начале 1930-х годов. В этой утопии преобладают гностико-материалистические мотивы: сексуальность и вся телесная область размножения/разложения воспринимаются как ненавистная тюрьма и будут преодолены путем научного конструирования нового, десексуализированного, бесплотного и бессмертного тела (вот почему антиутопия Замятина «Мы» также является не критическим изображением тоталитарного потенциала сталинизма, а экстраполяцией гностико-утопической тенденции революционных 1920-х, с которой сталинизм как раз и боролся. В этом смысле прав был Альтюссер, не отвлекающийся на дешевые парадоксы, когда утверждал, что сталинизм – это форма гуманизма: его «культурная контрреволюция» была гуманистической реакцией против «экстремистских» гностико-утопических и постгуманистических 1920-х). Следует отметить, что Ленин с самого начала скептически относился к этой гностико-утопической ориентации (привлекавшей, среди прочих, Троцкого и Горького) с ее мечтой о прорыве к новой пролетарской культуре и новому человеку. Тем не менее нужно понимать, что гностический утопизм – это своего рода симптом ленинизма, проявление того, что послужило провалу революции, зерно ее последующей «смутной катастрофы». Возникает вопрос: является ли утопический мир, описанный Платоновым, экстраполяцией имманентной логики коммунистической революции или логики, подрывающей деятельность тех, кто не может следовать сценарию «нормальной» коммунистической революции и втягивается вместо этого в милленаристский проект, обреченный на унылое поражение? В каком отношении идея коммунистической революции находится с милленаристской идеей мгновенного воплощения утопии? Можно ли вообще четко разделить эти идеи? В конце концов, была ли это «настоящая» и «зрелая» коммунистическая революция? И если нет, то что это значит для самого понятия коммунистической революции?
Платонов находился в постоянном диалоге с этим до-сталинским утопическим ядром, и поэтому его окончательная «сокровенная» и двусмысленная любовь/ненависть к советской реальности связана с обновленным утопизмом первой пятилетки; после этого с подъемом сталинизма и его культурной контрреволюцией координаты диалога изменились. В той мере, в какой поздний сталинизм был антиутопическим, платоновский поворот к более «конформистскому» соцреалистическому письму в 1930-е не следует отбрасывать как простое внешнее приспособление в условиях усиленной цензуры и репрессий: это было скорее имманентное ослабление напряжения и даже в некоторой мере знак искренней близости. У позднего сталинизма были другие критики (Гроссман, Шаламов, Солженицын и т. д.).
Вот почему Платонов является фигурой двусмысленной и неудобной для поздних диссидентов. Ключевой текст его соцреалистического периода – повесть «Джан» (1935), и хотя типичная платоновская утопическая группа все еще здесь – народ, пустынное сообщество отбросов, утративших желание жить, – контекст полностью поменялся. Герой повести – сталинский воспитатель, получивший московское образование, который вернулся в пустыню, чтобы ввести народ, его группу, в научный и культурный прогресс, вернуть им волю к жизни. Платонов, конечно, остается верен своей двойственности: в конце повести герой вынужден принять то, что он не способен учить других. Такой сдвиг отмечен радикально изменившейся ролью сексуальности: если для Платонова 1920-х сексуальность представляла собой антиутопическую, «грязную» силу инерции, то здесь она реабилитирована как привилегированный путь к духовной зрелости. Не состоявшись как учитель, герой находит духовное утешение в телесной любви, так что народ становится лишь фоном для создания пары.
Это возвращает нас к «Антисексусу». Важность этого текста заключается в парадоксальном сведении вместе трех независимых друг от друга, а иногда даже антагонистичных направлений, лежащем в основании этого эссе: гностического приравнивания секса к грехопадению (Платонов очень интересовался сектой скопцов, которая в XIX веке была широко распространена в России и получила свое название в честь практики добровольной кастрации); биотехнологического проекта полного управления сексом и даже его ликвидации; капиталистического потребления. Современные биотехнологии открывают новые пути осуществления старой гностической мечты избавиться от секса. Однако гаджет, который позволяет это сделать, прибывает из капитализма и представляет собой совершенный товар. Здесь кроется скрытое напряжение платоновского эссе. Новый гаджет для мастурбации сводит воедино эти три или даже четыре тенденции: гностический материализм, царство современной науки, советскую тотальную регуляцию жизни и капиталистический мир приносящих прибыль товаров. Между этими тенденциями возможны различные отношения: техно-гностический проект технологически регулируемого духовного воздержания; капиталистическая коммодификация нашего сокровенного опыта оргазма; одухотворенный коммунизм, стремящийся к постчеловеческому преодолению сексуальности, и так далее. Что делает платоновское эссе «Антисексус» столь богатым вопреки его кажущейся сюжетной простоте, так это отсутствие общего «когнитивного картирования»: к чему в пространстве этих координат относится машина мастурбации? Интересно отметить, что сходное прославление десексуализированной витальности присутствует и в сталинизме: хотя тотальная мобилизация первого сталинского пятилетнего плана стремилась побороть сексуальность как последний очаг буржуазного сопротивления, это не помешало попытке использовать сексуальную энергию в целях активизации борьбы за социализм. В начале 1930-х годов разнообразные тонизирующие средства под названиями «Спермин», «Спермол» и «Секар – семенной экстракт» широко рекламировались в советских средствах массовой информации и продавались в аптеках[3].
Устройство, придуманное Платоновым, прекрасно вписывается в современный сдвиг господствующей либидинальной экономики, в которой отношение к другому мало-помалу заменяется пристрастием людей к тому, что поздний Лакан окрестил неологизмом les lathouses – консюмеристскими объектами-гаджетами, которые привлекают либидо обещанием доставить непомерное удовольствие, а на самом деле лишь воспроизводят саму нехватку. Психоанализ подходит к либидинально-субъективному импульсу новых технологических изобретений следующим образом: «техника – это катализатор, она увеличивает и усиливает что-то, что уже есть»[4], в данном случае – фантазматический виртуальный факт, сродни частичному объекту. И конечно, эта реализация меняет все: как только фантазия реализована, как только фантазматический объект непосредственно появляется в реальности, реальность уже не та. Между прочим, сегодня на рынке существует аппарат, похожий на описанный Платоновым, – нечто под названием «Stamina Training Unit», мастурбаторное устройство, которое по виду напоминает фонарик (так что потребителю не стыдно носить его с собой): вы вставляете эрегированный пенис в отверстие и совершаете движения вверх и вниз, пока не достигнете удовлетворения. Имеются устройства различного цвета, плотности и форм, имитирующих вагинальное, анальное или оральное отверстия. Покупая этот товар, вы приобретаете не что иное, как частичный объект, эрогенную зону саму по себе, отдельно от неудобного довеска в виде целого человека. Фантазия сведения полового партнера к частичному объекту здесь оказывается непосредственно реализованной, что меняет всю либидинальную экономику сексуальных отношений[5].
Как же вырваться из этой угнетающей ситуации? Оксана Тимофеева указывает путь: полное принятие нашей животности – принятие, которое не означает «возвращения к нашим естественным корням», «свободного наслаждения нашей природной сексуальностью» или чего-то в этом роде. Это принятие проходит через негативность, а свобода предстает как результат парадоксального движения, необходимость которого задним числом обнаруживается в метафизической философии и христианской культуре, традиционно (и ошибочно) противопоставляющей себя «животной» природе и якобы отделенной от нее.
Введение
В декабре 2015 года я ездила в Рамаллу, палестинский город на Западном берегу реки Иордан. Это оккупированные территории, окруженные многокилометровым разделительным барьером, или, попросту говоря, Стеной. Чтобы попасть за стену и обратно, нужно каждый раз проходить через КПП. Один из них называется чек-пойнт Каландия – через него я возвращалась обратно. Когда ворота КПП остались позади, я оглянулась: за уродливой серой стеной виднелись крыши и минареты. Стена была высотой метра три, с натянутой поверху колючей проволокой. Над ней пролетела небольшая птица. Только что она была на территории Израиля и вот уже – в Палестине. Тремя годами ранее я окончила работу над первым английским изданием этой книги. В ее последнем абзаце появляется образ животного, пересекающего границы вне каких бы то ни было специально установленных проходных. Тогда это было абстрактное животное. Я придумала его, но никакого конкретного примера у меня в голове не было. Это мог быть любой другой зверь, преодолевающий любые другие заградительные барьеры, но сама история так сложилась, что именно в это время я оказалась именно в этом месте – и увидела эту смелую птицу.
Название «История животных» не мое. Я намеренно заимствовала его у Аристотеля – чтобы наделить это словосочетание новым смыслом, связав животное и историческое. Я исходила из того, что, хотя животных традиционно относили к некой неисторической природе, у них, конечно, есть история. По крайней мере, их положение в качестве рабочей силы или ресурса наделяет животных собственной исторической материальностью. Логика этой истории не отражается, однако, в зеркале гуманизма и прогресса, представляющем оптимистическую картину будущего, в которой животные окончательно эмансипированы и наделены всеми возможными правами и свободами. Что, если дело обстоит совсем наоборот и со времен первобытного тотемизма, когда люди отступали перед величием зверей, почитаемых как прародители, до сегодняшней реальности, в которой сосуществуют массовые промышленные скотобойни, зоопарки, зоомагазины, салоны красоты для питомцев и глобальное сафари, животные – за исключением человека – не стали ни свободнее, ни счастливее? Что, если исторически они проиграли? Что это была за игра? На чьем поле она велась и по каким правилам?
Джон Берджер пишет, что «в течение последних двух веков животные постепенно исчезают»[6]. По мере того как они исчезают, появляются зоопарки. Берджер обращает внимание на синхронность этих процессов: «Публичные зоопарки стали появляться в начале того периода, в течение которого наблюдается исчезновение животных из повседневной жизни»[7]. Что это за период? Речь идет не о какой-то абстрактной хронологии; речь идет о модерности, или, иначе говоря, о времени капитализма: «Историческая утрата, памятниками которой служат зоопарки, сегодня непоправима для культуры капитализма»[8]. Все больше и больше животных уходит, одно за другим, оставляя человечество со своими репрезентациями, домашними питомцами и игрушками. К этим пронзительным наблюдениям Акира Мизута Липпит, автор книги «Электрическое животное», добавляет, что животные «никогда не исчезают полностью», но скорее продолжают существовать «в состоянии постоянного исчезновения». Их существование становится призрачным; «в терминах сверхъестественного, современность обнаруживает животных бродящими по миру как живые мертвецы»[9]. Исчезая с горизонта нашей повседневной жизни, призраки животных появляются в искусстве, теории, визуальной культуре. Современная философия тоже не стоит в стороне: животные в ней – желанные гости. В своем намерении идти по их следам я не оригинальна. Особенность этого проекта в том, что я предлагаю читать историю философии как историю животных. Это моя, если так можно сказать, главная претензия.
Что философия говорит о животных? Кажется, что, в самом широком обобщении, в ней доминирует – или до недавнего времени доминировала – традиционная модель восходящей иерархии. Уже у Аристотеля возникает идея, что животные «лучше», чем растения, люди «лучше», чем животные, мужчины «лучше», чем женщины, а свободные граждане «лучше», чем рабы. Не потому, что тот, кто стоит на более «низкой» ступени этой иерархии, «плох», а потому, что тот, кто стоит на более «высокой», лучше знает, что лучше, что хорошо, что есть благо. Даже те, кто, очевидно, позиционирует себя на стороне животных и борется за их права и освобождение, в конечном итоге преследуя цель добиться чего-то вроде равного представительства видов в нашем все еще слишком человеческом мире, так или иначе вынуждены выстраивать свои дискурсивные стратегии исходя из идеи доминирования (на этот раз подвергаемой бескомпромиссной критике) человеческого рода над нечеловеческой природой, как если бы последняя действительно нуждалась в нашей помощи, поддержке, уважении и признании.
Животных, в свою очередь, совсем не заботит человеческая забота о них: мы приносим их в жертву, везем на бойню, едим, эксплуатируем, дрессируем, вовлекаем в современное искусство, даем им права и документы – а они остаются безразличными. Конечно, это наблюдение не вполне распространяется на домашних и других прирученных животных, чье индивидуальное выживание напрямую зависит от людей, которым они принадлежат, и заставляет их как-то отвечать на отчаянные попытки этих людей привлечь к себе внимание.
Моральную установку людей по отношению к животным можно вернуть к ее аффективному истоку, к желанию, которое предшествует любым этическим и прагматическим соображениям. Что, если обратной стороной восходящей иерархии является своего рода нисходящая ревность и зависть? Что, если мы втайне (от нас самих прежде всего) завидуем животным? Порой именно философы, при всем своем высокомерии, демонстрируют трогательную зависть по отношению к животным, которые якобы наслаждаются, но совершенно этого не осознают. Как пишет Жорж Батай,
человек, вопреки кажимостям, должен знать, что, говоря о человеческом достоинстве в присутствии животных, он врет как собака. Ибо в присутствии беззаконных и в высшей степени свободных существ (тех, кто по-настоящему вне закона) тупое чувство практического превосходства отступает перед самой тяжелой завистью[10].
Репрезентация животности – одна из важнейших тем современных теоретических дискуссий. По следам картезианского приговора – мыслю, следовательно, существую – философия обращается к вопросу о том, как мыслить живое существо, которое само, как предполагается, не мыслит. В этой области, можно сказать, уже даже есть нечто вроде консенсуса, в соответствии с которым нашему пониманию недоступна животность как таковая, но только ее конструкции. Более того, в каком-то смысле можно сказать, что в этом дискурсивном горизонте «животного не существует», поскольку в конечном счете мы имеем дело только с репрезентациями. Животное не дано, но лишь представлено, то есть оно фигурирует или как представление, или как представитель. В качестве представления животное соответствует «внешней» идее о том, что оно объект (например, в искусстве, науке, массовой культуре), а в роли представителя обнаруживает некое «внутреннее» содержание, желание, интерес – то есть заявляет о себе как воля или как субъект (например, в движении за права животных или animal studies, критически позиционирующих себя по отношению к гуманитарным наукам).
Если говорить о культурной традиции прошлого, то в ней животные играли довольно активную роль, не только репрезентируя определенные человеческие пороки и добродетели, но и выступая в качестве представителей власти или посредников богов. Инцитат, любимый конь Калигулы, стал не только гражданином Рима, но и сенатором и, более того, кандидатом на пост консула: эта анекдотическая фигура замечательно воплощает идею исполнительной власти как таковой. Из более современных практик в психоанализе, к примеру, животные выступают в роли своего рода агентов, связанных с законом и символическим порядком, семейной структурой, сексуальностью (так, волки на ореховом дереве символизируют отца на матери, как в известном фрейдовском случае Человека-волка). Репрезентация – это такая неизбежная рамка, в которой наш доступ к животным ограничивается символическим опосредованием. Но, в свою очередь, именно это символическое опосредование делает возможной саму идею реального животного, которое не репрезентировано и не репрезентирует, но открывает для нас некую непосредственную данность реального человеческого существа, пусть и задним числом. Двусмысленность фигуры животного, которое есть прежде всего представление, но вместе с тем, в качестве реального, непредставимо, создает высокое напряжение в точке пересечения политики, онтологии и психоанализа. Любопытно проследить, каким образом животное производится из человеческого и наоборот в этом очень нестабильном силовом поле.
Начну с двух очень коротких предварительных замечаний, касающихся словоупотребления. Прежде всего, в славянских языках «животное» происходит от слова «живот» (жизнь, тело), тогда как латинская основа для animal – anima (жизнь, душа). Этимологически животная жизнь является, таким образом, своего рода местом встречи и примирения души и тела, между которыми в рамках христианской культуры существует противоречие, влияние которого на весь наш символический мир порождает целый ряд как мелких, так и серьезных недоразумений. Животная жизнь, частным случаем которой является жизнь человеческая, – это такое единство, в котором душа и тело суть одно и то же (почти как гегелевское бытие и ничто, единство которых образует становление, процесс).
Далее, на уровне морфологии и синтаксиса одна, казалось бы, простая бинарная оппозиция разбивается на две – животное/человек как подлежащие и животное/человеческое как определения. Прилагательное «человеческий» происходит от существительного «человек», то есть «человек», уже обладая некой субстанциальностью, наделяет своим качеством другие предметы или явления (человеческий разум, человеческий взгляд и т. д.). «Животное» же, в отличие от «человека» и «человеческого», является одновременно и существительным, и прилагательным. Существительное «животное», указывающее на живое существо, возникает в результате субстантивации прилагательного, которое служит определением для чего-то: так, говорят о животном начале, животной природе, животном инстинкте. Если человек, можно сказать, предшествует своему определению, то животное, как бы лишенное собственной субстанции, которую выражало бы отдельное существительное, определяет само себя, рождается из своего качества, из некой определенности.
Философы всегда проводили различие между людьми и животными, применяя в качестве его критериев такие характеристики, как мышление, язык, осознание смерти и т. д. Можно выделить два типа классического философского подхода к животному. Дискурс исключения, или, если использовать определение Жан-Мари Шеффера[11], человеческой исключительности, исходит из идеи этического и онтологического превосходства человека, который радикально выделен из животного мира: человек исключителен, а животное – исключено, и ему, в свою очередь, нет места в мире людей. Дискурс включения опирается на идею некой общности всех видов, допускающей возможность коммуникации и взаимодействия. В этой перспективе, открытой для разного уровня эмпатии, человек представляется, конечно, одним из животных, но и у других животных обязательно обнаруживается что-нибудь «человеческое» (своего рода мышление, своего рода язык, своего рода осознание смерти и т. д.). Однако оба дискурса связаны друг с другом как две стороны одной медали – этой медалью человек сам награждает себя за то, что устанавливает и поддерживает определенный порядок вещей. Как подчеркивал Батай, в основе этого порядка лежит трансцендентность «человеческого», которая требует жертвоприношения несводимой «животной» природы. Космический порядок, государственный порядок, мировой порядок и, в конце концов, символический порядок – все они важны для нашей альтернативной истории, в которой задействованы животные.
Мишель Фуко писал, что животное – это внутренняя истина безумия, обнажающая границы человеческого, и что «для эпохи классицизма безумие в крайних своих формах – это человек в непосредственной связи с собственной животностью, безотносительно к чему-либо иному, постороннему»[12]. В животном субъективность находит свой негатив, как бы зеркального двойника, немыслящего и немыслимого. По мысли Жака Лакана, глядя в зеркало, человек присваивает себе собственный образ извне[13]. Но что, если тот двойник в зазеркалье, в котором он узнает или не узнает себя, является животным? Критически перечитывая Лакана, Жак Деррида замечает, что настоящая загадка – это не человек, уставившийся на свое зеркальное отражение, а животное, которое смотрит на него с другой стороны[14].
Джорджо Агамбен называет эту игру внутреннего и внешнего, включения и исключения антропологической машиной – машиной, устанавливающей границу между человеком и «животным» другим. К антропологической машине, опять же, вполне применима лакановская метафора: человеческое существо узнает себя в животном как в зеркале и на этой как бы стадии зеркала начинает обретать свою «человечность».
Совершенно в духе времени антропогенная (или – мы можем позаимствовать выражение у Фурио Джези – антропологическая) машина является машиной оптической ‹…› и состоит из ряда зеркал, в которых человек рассматривает свой образ, уже искаженный в обезьянью морду. Homo – это в основе своей «антропоморфное» животное ‹…›: чтобы быть человечным, человек должен познавать себя как не-человека[15].
Добавим, что этот оптический механизм, отвечающий в культуре за производство и воспроизводство человеческого, является двойным, поскольку узнавание здесь сопровождается неузнаванием. Человек должен был сначала узнать себя в животном, чтобы затем не узнать животное в самом себе: вслед за узнаванием хрупкое единство антропоморфного мира распадается, и зеркало встает между человеком и его бессловесным двойником. По мысли Агамбена, это не только метафизическая, но и политическая операция, исторически меняющаяся конфигурация производства человеческого и нечеловеческого через включение и исключение, производства границы:
Антропологическая машина древних функционирует абсолютно симметрично ‹…› Если машина эпохи модерна производит внешнее посредством исключения внутреннего, то здесь внутреннее производится посредством включения внешнего, не-человек – посредством гуманизации животного: человекообезьяны, enfant sauvage’a или Homo ferus’a, но также и – прежде всего – раба, варвара, чужака как фигур животного в человеческой форме ‹…› В связи с этой крайней формой человеческого и нечеловеческого речь идет не столько о вопросе, какая из двух машин (или из двух вариантов одной и той же машины) является лучшей, или более эффективной, или, скорее, менее кровавой и смертоносной, сколько о том, чтобы понять способ ее функционирования и при необходимости остановить ее[16].
В отличие от Агамбена, я не претендую на то, чтобы остановить антропологическую машину, или машину метафизики, которая питается энергией спрятанного внутри нее животного – подобно лошадиным силам в автомобиле. Мне бы скорее хотелось понять и исследовать, может ли этот механизм работать по-другому.
Исследуя некоторые фигуры, репрессированные в западной философской традиции, особенно животных, невольно сталкиваешься с характерным стилем или стратегией, используемой современными критиками: обвинять мыслителей прошлого в плохом отношении к животным (или в недооценке животных, в теоретическом или практическом неуважении к ним – как лишенным разума, языка, свободы и т. д.). Подобного рода проекция является на самом деле необходимой частью Эдипова сценария отношений с отцами философии, и такая тема, как животность, открывает для нее самый широкий простор. Разумеется, философы прошлого, укорененные в метафизике, теологии, рационализме или гуманизме, повсеместно использовали антропоцентричные, специецистские, сексистские, расистские или европоцентричные подходы, так что любая критика или деконструкция их мысли, как правило, имеет своим результатом однозначный приговор.
Очевидно, для постгуманистической теории «врагами» оказываются такие авторы, как Декарт, Кант, Гегель, Хайдеггер или Левинас. Под подозрение, однако, попадает даже Делёз, который, казалось бы, одним из первых предпринял серьезную попытку избавиться от антропоцентризма и рассуждал о становлении-животным, или Деррида – философ животности par excellence, посвятивший этой теме свои последние работы (Derrida 2008, 2009, 2011), критиковавший не только Хайдеггера, но и Лакана за антропо-фалло-логоцентризм и теоретически поставивший вопрос о животном в рамках деконструкции метафизики субъекта (Wood, 1999; de Fontenay 1998). Современные авторы буквально соревнуются в разоблачении и обличении своих предшественников в «дурном обращении» с животными. Мы, как говорил Ленин, пойдем другим путем. А именно попытаемся воздержаться от обвинительной риторики и не участвовать в судилище – не для того, чтобы оправдать философов перед царством животных, но для того, чтобы в их принципиальной амбивалентности попытаться разглядеть какой-то иной потенциал.
Это не философский бестиарий: я не касаюсь вопроса животного символизма, но сосредотачиваюсь скорее на «наивном», буквальном, прямом или симптоматическом прочтении метафизической традиции, соблюдая ее правила игры, даже если они всегда уже являются устаревшими, не претендуя на то, чтобы разоблачить за этой игрой какую-то реальность. Нарративная структура этого изложения складывается без оглядки на то, что можно было бы назвать «критическим реализмом», – позицию, необходимо конституированную через отсылку к текущему положению дел. В моей «Истории животных» люди, вещи, души, космос, отчуждение, коммунизм и т. д. – это персонажи, у каждого из которых своя роль в никем не написанном метафизическом сценарии.
Конь Эдип
В книге девятой трактата «История животных» Аристотель описывает нравы зверей. Подчинение взрывоопасного буйства жизни порядку научного изложения требует терпеливого внимания к деталям, даже если они кажутся незначительными или неправдоподобными. Источниками знания о повадках тех или иных существ философу служат, помимо наблюдений, легенды, слухи, истории, рассказанные очевидцами и прочими знающими людьми. Имеющийся в изобилии и крайне разнородный эмпирический материал заслуживает бережного к себе отношения. Необходимо в первую очередь зафиксировать и учесть его, не упуская подробностей, не поддаваясь соблазну легкой редукции и не спеша с теоретическими обобщениями. Вот почему принципы классификации здесь еще не слишком жестки. Однако они есть. И один из таких принципов впоследствии будет назван антропным[17].
Животный мир Аристотеля человекоразмерен, но не в силу субъективного превосходства, а в силу предполагаемой самопонятности человека[18]. Люди представляют собой как одну из частей этого мира, так и его универсальную модель. Прочие существа, включая самых причудливых, в большей или меньшей степени к ней приближены и наделены качествами, которые мы без труда распознаем как человеческие. Одни дружелюбны, другие воинственны, одни хитры, другие простодушны, одни благородны, другие низки, кто-то мужественен, а кто-то кроток. Животные не только похожи на людей, но и на свой манер подражают людям. Именно так, а не наоборот: ласточка, строящая гнездо, подражает человеку, строящему дом:
Вообще, относительно образа жизни можно усмотреть у других животных много подражаний человеческой жизни, и скорее у малых или небольших видна точность ума, например, прежде всего у птиц – устройство ласточкиного гнезда. Ибо в укладывании соломинок на грязь ласточка сохраняет один и тот же порядок: она переплетает с прутиками грязь и, если не хватает грязи, смочив себя, катается крыльями в пыли[19].
Важен порядок: сохраняя его, аристотелевская ласточка имитирует человеческую рассудительность. Ведь и люди придерживаются порядка в своих делах. Человек и птица соблюдают, кто как может – один по разумению, другая по привычке, – некий общий порядок. Они делят между собой разумно упорядоченный мир. В этом мире растение, животное и человек делают в сущности одно и то же, хотя и совершенно разными способами. Растения подражают животным, животные – людям, но все они растут, размножаются, умирают в свой час. Между человеком и ласточкой существует, если использовать определение Ж. Симондона, функциональная непрерывность, которая распространяется на все живое и обеспечивает его единым принципом – принципом жизни:
Привычка животного – это разновидность опыта, который имитирует человеческую предусмотрительность. «Имитирует» значит здесь: выступает функциональным аналогом человеческой предусмотрительности, но при этом действует по другим принципам. ‹…› Соответственно, даже если признать (а признать это, по мнению Аристотеля, необходимо), что разум – отличительная черта и специфическая особенность человека, все равно существует преемственность, функциональные аналогии между разными уровнями организации, между разными принципами существования живых организмов[20].
В своих лекциях о животном и человеке Симондон рассматривает принцип жизни как инвариант биологической теории Аристотеля – теории функций: наличие grande hypothèse возводит эту теорию в ранг научных (тогда как концепции более ранних авторов, по мысли Симондона, еще невозможно отделить от мифа[21]). Следует заметить, однако, что наука эта не обладает достаточной автономией, но в качестве момента включена в общую логику и обретает полный смысл только внутри метафизической системы, где даже в скромном убранстве ласточкиного гнезда отражено устройство целого мира.
Растения, животные и люди сохраняют космический порядок, при котором много выше человека есть еще звезды: «А если [сказать], что человек лучше [всех] прочих живых существ, то это ничего не меняет, ибо даже человека много божественнее по природе другие вещи, взять хотя бы наиболее зримое – [звезды], из которых состоит небо (kosmos)», – пишет Аристотель в «Никомаховой этике»[22]. Мимесис помогает организовать обмен между разными уровнями бытия: в подражание человеку «приветствуя царя», аристотелевский слон[23] поддерживает мир, словно купол цирка.
Совместно с другими существами аристотелевское животное занято удержанием космоса. Которое, впрочем, не требует от него никакого дополнительного усилия по отношению к тому, что оно и так делает само по себе на своем месте и в свойственной себе манере. У каждого особенный способ участия в соблюдении общего мирового порядка, не человеком заведенного и не человеком наведенного, однако человеком измеряемого: и вот мы уже замечаем, что каждый, хоть и особенным способом, но подчиняется общим законам и общим запретам, иногда слишком похожим на человеческие.
Обратим внимание на главу XLVII, состоящую из двух небольших, но впечатляющих историй.
(237) Верблюды не покрывают своих матерей, и если даже принуждаются к этому, не хотят. Случилось как-то, что, за отсутствием производителя, верблюжатник, закрывший мать, подпустил к ней ее сына; когда же во время случки покрывало упало, тот прекратил случку, а немного спустя, укусив верблюжатника, убил его.
(238) Рассказывают также, что у скифского царя была породистая лошадь, от которой все лошади родились хорошими. Желая, чтобы самый лучший из них жеребец произвел потомство от матери, его подвели для случки, а он не хотел; после того, как она была закутана, не зная, он покрыл ее. Когда же по окончанию случки голова кобылы была открыта, жеребец, увидя ее, убежал и бросился в пропасть[24].
Странность этого сюжета, красноречиво иллюстрирующего наши соображения по поводу всеобщих законов, действие которых распространяется на особенных существ, не должна быть переоценена. В современной этологии существует предположение, что некоторые животные и в самом деле инстинктивно избегают «инцеста»: в частности, образ жизни, связанный с перемещением молодых особей в новые места обитания, уменьшает вероятность встречи с родителем как с сексуальным партнером. Некоторые ученые склонны признавать, что биологически этот запрет, у людей имеющий культурный характер, обоснован, связан с требованиями отбора и, в конечном счете, оправдан некими объективными интересами вида.
Подобным теориям традиционно противопоставляются как факты относительной сексуальной свободы, которой безо всякого ущерба для потомства наслаждаются животные, практикующие полигамные отношения, так и альтернативные варианты объяснения феномена экзогамии. Более того, с древнейших времен люди знали, что инбридинг (близкородственное скрещивание) может иметь позитивные следствия, и активно использовали его в искусственной селекции. При всех возможных рисках инбридинг способствует закреплению полезных фенотипических признаков: именно такого эффекта пытались добиться в конюшне скифского царя, но, как «рассказывают», животное оказало самое отчаянное сопротивление.
Меня, однако, интересует в этой связи не научная достоверность источников, близость к истине или объективность наблюдений Аристотеля как ученого-естествоиспытателя. Вынося за скобки сколь угодно сложные рассуждения о соотношении роли естественного и культурного факторов в происхождении известного запрета, следует допустить, что именно так – под звездным куполом аристотелевского неба – должны были повести себя и бесславный верблюд бедняка, и породистый царский конь.
В особенности за печальной историей последнего трудно не увидеть тень известного мифа: чем является для молодого жеребца небрежный жест конюха, закутавшего кобылу, как не пародией на слепую судьбу, которая привела Эдипа в объятия Иокасты? Эпизод с самоубийством животного сразу после обнаружения истины случившегося краток, но экспрессивен. Исходящая от него тревога рисует в нашем воображении одинокую, нелепую фигуру стремительно несущегося к обрыву скакуна: что за невозможный порыв животной души толкает его в пропасть?
В книге шестой «Никомаховой этики» Аристотель отмечает, что «…даже иных зверей признают „рассудительными“, а именно тех, у кого, видимо, есть способность предчувствия того, что касается их собственного существования»[25]. Однако это случайно перепавшее зверям признание не в состоянии отменить основополагающую связь рассудительности «с человеческими делами и с тем, о чем можно принимать решение»[26]. Из всех животных, по Аристотелю, только человек способен к самостоятельному разумному суждению, сознательному выбору и поступку.
Как возможно, в таком случае, чтобы конь бросился в пропасть? Ведь это именно поступок. Рассудительным его, конечно, не назовешь, зато безрассудным – вполне. Если мы ищем для него объяснение, стараясь подражать аристотелевской логике, то нам на помощь приходит сама идея подражания, обеспечивающего непрерывность и преемственность всего живого. Безрассудный поступок зверя – это подражание безрассудному поступку человека. Будь у коня руки, он, вероятно, даже ослепил бы себя, подобно своему мифологическому прототипу. Аристотелевский конь ведет себя так, как при сходных обстоятельствах повел бы себя человек. Он поступает даже слишком по-человечески. «Отрицая себя» как лошадь, как живое существо. Становясь человеком – в короткий миг падения, чтобы сразу погибнуть.
Очевидно, тема запрета на инцест настолько распространена в культуре греческой Античности, что с легкостью проецируется на животных. Необходимо лишь уточнить, что предметом страха служит здесь не столько инцест сам по себе, сколько спровоцированное им нарушение космического порядка. Не надо забывать, что Конь Эдип, впавший в отчаянное безрассудство, явился к нам из разумно упорядоченного мира, устойчивость гармоничной структуры которого была гарантирована пассивным участием каждого из ее функциональных элементов. Локальный сбой наносит ущерб целому и способен подорвать принцип жизни как таковой.
Разрушая традиционную семейную иерархию и преемственность поколений, инцестуозная связь навлекает на всех беду. Так, в «Эдипе» Софокла она оборачивается мором для народа Фив. Мы догадываемся, что мор (неурожай, бесплодие, массовая гибель людей) символически замещает так называемое «вырождение», которое в человеческих сообществах привычно ассоциируют с эндогамией. Весь ужас ситуации, когда «мужем дан ей муж и сыном – дети»[27], состоит в прерывании нормального хода вещей, схлопывании последовательного ряда закономерных и ожидаемых событий, связанных с воспроизводством жизни, во внезапном, фатальном замыкании.
В любой момент хрупкий мир может потерять равновесие – в этом главная опасность нарушения порядка, которое правильнее рассматривать как проступок или как ошибку, чем как преступление, поскольку совершается оно исключительно по неведению, вслепую. Никто не будет делать дурного по собственной воле, ведь рассудительность аристотелевских людей и подражающих им «иных зверей» состоит в том, чтобы искать блага. Зло совершает тот, кто попросту не знает своего блага, кто недостаточно рассудителен, кто ослеплен гневом или страстью или кому неведомы законы.
Знание же высшего блага и высших закономерностей разумно упорядоченного мира доступно вовсе немногим, и эти немногие, очевидно, становятся правителями государства: его иерархическое устройство соответствует, по Аристотелю, самой природе человека, душа которого господствует над телом, а разум – над чувствами. Женщина находит благо в подчинении мужчине, а рабы – свободным людям. Печально известное оправдание рабства в «Политике» Аристотеля предполагает, в частности, что рабы таковы по природе и даже в своей телесной организации ближе к животным, выполняющим полезную работу: «у последних тело мощное, пригодное для выполнения необходимых физических трудов»[28]. Точно так же и животным, поскольку они неразумны, «предпочтительнее находиться в подчинении у человека: так они приобщаются к своему благу»[29]. Соблюдать законы, не зная их, возможно в подчинении тем, кто знает. В этом, как замечает Кафка в рассказе «К вопросу о законах», есть что-то мучительное:
Наши законы известны не всем, они являются тайной маленькой группы аристократов, которые над нами властвуют. Мы убеждены в том, что эти древние законы строго соблюдаются, и тем не менее есть в этом что-то в высшей степени мучительное, когда над тобой властвуют по законам, которых ты не знаешь[30].
Впрочем, и над тем, кто занимает наиболее высокое положение в человеческом обществе, над правителями, царями и аристократами, есть еще такая власть высшего ранга, как неизвестная им воля богов – она может казаться несправедливой и абсурдной, но имеет силу закона. А незнание закона не освобождает от трагической вины ни царского коня, ни самого царя. У них близкие судьбы, и потому их неожиданная встреча не должна стать поводом для упрека со стороны наивного «антропоцентризма». Угроза возвращения хаоса нависает и над человеком, и над конем в той мере, в какой оба они – повторю это – удерживают общий космос.
Аристотелевский человек все еще живет в большой звериной семье, где все немного на него похожи. Он узнает себя в животном, интерпретируя его жесты как неумелую пародию на свои собственные, и чувствует с ним глубинное родство. Это ощущение родства является, наверное, отголоском старинной веры в метемпсихоз, в причудливый обмен телами между растениями, животными, богами и людьми: единицей такого обмена выступает anima, живая душа, так же как и греческий космос, никем не присвоенная и не присваиваемая до конца. Ссылаясь на Диогена Лаэртского, Симондон приводит «ироничное, по мнению некоторых комментаторов, высказывание Пифагора, который однажды на улице увидел каких-то людей, жестоко избивающих собаку, щенка. Тогда Пифагор подошел к живодерам и сказал: „Прекратите, это же мой покойный друг, душа которого переселилась в зверя“»[31].
В языческом мире существа разных уровней соприкасаются друг с другом и пребывают в отношениях неустойчивой близости: видимое отсутствие жестких и неподвижных границ между ними производит эффект единства космоса. В производстве такого внушительного эффекта участвуют звезды, человек, ласточка, слон и прочие, включая лошадь. Причем последняя занимает в этом дружном ансамбле одно из самых почетных мест: лошадь изображена на обороте золотого статера, денежного эталона античной Греции. В эссе «Академическая лошадь» Батай, рассуждая о соответствии интеллектуальных, социальных и телесных феноменов, определяющих ту или иную культуру, подчеркивает математическую точность и благородство «лошадиной» формы пластического выражения гармонии:
Можно без колебаний отметить, что, как бы парадоксально это ни казалось, лошадь, по удивительному совпадению находящаяся у основания Афин, представляет собой одно из наиболее совершенных выражений идеи, так же как, к примеру, платоновская философия или архитектура Акрополя. Все изображения этого животного классического периода, как видится, превозносят, выдавая всеобщее высокомерие, глубокое родство с эллинским духом. Все обстоит так, как если бы формы тела, как и социальные формы или формы мысли, устремлялись к какому-то совершенному идеалу, из которого происходит всякая ценность; как если бы прогрессивная организация этих форм была направлена на то, чтобы соответствовать непреложной гармонии и иерархии, которые греческая философия имела склонность отдавать на правах собственности идеям, внешним по отношению к конкретным фактам. Дело в том, что люди, более всего подчиняющиеся своей потребности видеть, как благородные и неотменяемые идеи управляют ходом вещей, могут легко перевести это благоговение в изображение лошадиного тела: отвратительное или комичное тело паука или бегемота не могло бы соответствовать этому вознесению духа[32].
Академическую лошадь греков – воплощенный эйдос – Батай сравнивает с невероятными, безумными лошадьми, изображенными на галльских монетах. Он отмечает, что примерно с IV века до н. э. галлы стали чеканить собственную монету, подражая греческому оригиналу, и в том числе заимствовали образ лошади, который, однако, был подвергнут серьезным деформациям. Эти деформации не случайны. Они не являются результатом лишь технической ошибки, но передают мироощущение, никак не совместимое с идеалами гармонии и совершенства. Неуклюжие и абсурдные лошади варваров – знак иной, неупорядоченной и полной исступления жизни, которой правильные формы и соответствие высокому идеалу совершенства так же чужды и противны, «как нормативное полицейское предписание – забавам криминальных классов»[33]. Симпатии Батая однозначно на стороне «забав», рассматриваемых как трансгрессия или как бунт против идеалистического порядка:
Безродные галльские лошадеподобные обезьяны и гориллы, животные низкой морали и несравненного уродства, но также грандиозные видения, ошеломляющие, удивительные, дают таким образом однозначный ответ бурлескной и пугающей человеческой ночи на пошлость и высокомерие идеалистов[34].
Эстетическая деградация образа коня представляет собой материальный след процесса, который принято называть впадением в варварство или возвращением в животное состояние. «В цивилизованном мире» малейший намек на возможность такого процесса легитимирует сколь угодно жесткие формы удержания порядка и закрепления социальной иерархии, наделяя правом на насилие тех, кто оказывается на ее вершине. На каждую воровскую забаву всегда найдется свое «нормативное постановление».
Хаос в подобном случае представляют как единственную альтернативу существующему порядку, по умолчанию нежелательную: если не принять некоторых разумных полицейских мер, то воцарится ночь человеческая и на место милых аристотелевских зверушек, у которых добрый нрав и приятный вкус, придут обезумевшие монстры. Кони-люди превратятся в коней-обезьян. Сами люди превратятся в животных. Мир перестанет быть умопостигаемым и антропоморфным. «Лошадиные мартышки и гориллы», утратив человеческие черты, уже не будут заботиться, как ласточки, о сохранении порядка и тем более не станут приветствовать царя, подобно кроткому аристотелевскому слону.
Кому из людей не знаком этот страх энтропии, заставляющий суетиться, совершая порой даже самые бессмысленные и нелепые из ритуалов? Воспроизводство условий человеческой жизни требует перманентных усилий, и гармоничные формы классических эпох свидетельствуют о том, что эти усилия были не напрасны. Именно были: все выглядит так, как если бы сохранявшиеся в качестве потенциальной угрозы, в которую никто не верил, силы хаоса – потоп, нашествие, война, извержение вулкана, эпидемия, революция – однажды взяли верх. Стало быть, те же гармоничные формы свидетельствуют одновременно и о хрупкости космоса, удержать который все-таки не удалось.
Между «академической лошадью», изображенной на греческой монете, и эдипизированным конем Аристотеля много общего. Вернее, опять же, было много общего – до того момента, пока «хороший» аристотелевский конь не нарушил мировой порядок, не впал в безрассудство и не стал абсурдным конем-самоубийцей. Сумасшедшему, ему нет места в дивном полицейском мире, где правят по законам, которые ему неведомы. Он должен стать своего рода изгоем, узнав нечто, чего по своему рангу не должен был знать. Ему бы следовало довериться человеку, который понимал его благо лучше него самого, но лошадиная природа взбунтовалась себе во зло.
Вообще же звери Аристотеля – это звери «академические». Они пусть не так совершенны, как люди, но человекообразны и потому безобидны: наделяя их большим кредитом доверия, философ верен онтологическому единству, благодаря которому мир поддается рациональному объяснению на основании неких общих законов. Как уже было отмечено выше, такому миру соответствует иерархическое устройство, при котором менее разумные (животные, рабы, женщины) подчиняются более разумным.
Для системы Аристотеля как будто не существует внешних врагов: она функционирует за счет включения, а не за счет исключения различных элементов. Однако подобная система не предусматривает опасности, связанной с тем, что подражающее человеку животное может потерпеть неудачу, не справившись с возложенной на него полезной функцией удержания космоса, и, далее, с тем, что масса таких неудачливых, нелепых, не соблюдающих порядок существ однажды станет критической и сам порядок рухнет. Подобная опасность актуальна уже для другого типа охранительного мышления – мышления, основанного на недоверии к чужаку. Очагом ее часто представляется как раз животная природа: инертная и безыскусная, с одной стороны, непредсказуемая, с другой, она остается безразличной к тонким изобретениям интеллектуального и духовного человечества, которые так трудно уберечь от случайного деструктивного воздействия. И звери в этом отношении – одни из самых неблагонадежных. Они приходят извне, чтобы топтать наши посевы и воровать наши запасы. Чем меньше они похожи на нас, тем большая тень подозрения падает на них. Они представляют иной, нечеловеческий мир.
В философских системах, единство которых достигается не за счет включения, а за счет исключения некоторых элементов, признаваемых чужеродными, животное представляет собой, как правило, существо иной природы, чем человек. Это фундаментальное различие упирается в представление о неоспоримом достоинстве человека, который обладает уникальным доступом к логосу (идеям, благу, истине, бытию) и который поэтому все-таки лучше других. Вот почему, рассматривая проблематику животного в философских учениях от досократиков до Нового времени, Симондон справедливо называет подобные системы аксиологическими, мифическими или этическими[35] – там, где имеет место онтологический дуализм, существует и безусловная этическая дифференциация. Если у Аристотеля речь идет о преемственности всего живого и, соответственно, о принадлежности человека животному миру, то у Сократа или Платона между людьми и природой – непреодолимая дистанция, и, заметим мы, та иерархия, что в первом случае выстраивается как некое естественное следствие преемственности живого, во втором является причиной разрыва между человеческими и нечеловеческими формами жизни.
Не существует, собственно говоря, античной концепции животного, утверждает Симондон, – как не существует и концепции христианской или нововременной. В каждый из названных (и неназванных) периодов философы склонялись либо к натуралистской идее непрерывности и преемственности, как Аристотель, либо к спиритуализму и этической бинарности, как Сократ – первый, «кто в античный период противопоставил растительное и животное жизненное начало жизненному началу человека»[36] и, таким образом, изобрел человека, заложив фундамент антропологического различия под здание будущего гуманизма.
Признавая верность предложенного Симондоном разделения на этические и натуралистические учения и видя за ними логику исключения и включения, не следует, однако, забывать, что один не существует без другого. Включение животных в человеческий мир (а людей – в мир животный) – это в каком-то смысле лишь другая сторона исключения. Чтобы возник этический дуализм, нужно долго и безуспешно навязывать животным в качестве всеобщих законы нашей морали – а потом еще и судить их по этим законам. Всякий раз звери уходят или изгоняются в безумие яростной природы, но всякий раз возвращаются обратно, чтобы снова жить в нашем мире, подчиняться нашим законам и соблюдать наши приличия. И всякий раз терпят неудачу: так благородные аристотелевские кони становятся несусветными батаевскими монстрами, для которых нет места в гармоничном и пропорциональном мире.
Симондон, по всей видимости, в большей мере симпатизирует тем из философов, кто настаивает на сходстве человека и зверя (Аристотель, Монтень), и критикует тех, кто отталкивается от идеи различия (Сократ, Платон, Декарт). Сам он, в свою очередь, преодолевает эту оппозицию, предлагая рассматривать физическое, биологическое (витальное), психическое и психосоциальное как уровни бытия, в смысле становления, или, точнее, как режимы индивидуации[37]. В онтологии Симондона[38] принципиального различия или границы между людьми и животными нет, а есть скорее общий онтогенезис подвижной материи. Все границы потенциально переходимы: «Это не значит, что есть живые существа и существа, которые живут и мыслят: возможно, иногда животные оказываются в психической ситуации – только эти ситуации, которые подталкивают к мыслительному акту, у животных не так часты»[39].
По мысли Симондона, биологическое, психическое (что также может означать субъективное) и т. д. – это не субстанции, а скорее различные формы доиндивидуального как своего рода потенциальности, которая – в случае живой материи – реализуется в действии. Жизнь, говорит Симондон, есть «театр индивидуации»[40]. Любое живое существо в принципе способно действовать, когда перед ним возникают какие-то новые, неразрешимые в рамках привычного поведенческого арсенала, проблемы «настоящий психизм возникает, когда витальные функции больше не могут решить проблемы, встающие перед живым существом»[41].
У живого есть индивидуация, которая осуществляется индивидом, а не просто функционирование, которое было бы результатом индивидуации, совершенной раз и навсегда, как если бы она была изготовлена; живое существо разрешает проблемы, не просто приспосабливаясь, то есть изменяя свое отношение к окружающему (что может делать машина), но изменяя себя, изобретая новые внутренние структуры и всецело входя в аксиоматику витальных проблем[42].
Значит ли это, что животное может проявить психическое или интеллектуальное усилие и даже, выражаясь языком Аристотеля, совершить поступок, если другие имеющиеся в его распоряжении средства – когти, зубы, копыта, крылья и прочее – окажутся недостаточными?[43] Если да, то не слышны ли здесь те же аристотелевские нотки – дать всем живым существам, независимо от степени их совершенства, разумеется условной, шанс приобщиться к универсальному и разумному порядку?
Чтобы вообразить эти потенциальные индивидуации, следует вспомнить абсурдистских животных Кафки и драматические примеры их становления людьми. Самый успешный их них – случай обезьяны, которая превращается в человека в результате отчаянной попытки вырваться из тесной клетки. Не то чтобы эта обезьяна, от имени которой ведется повествование в «Докладе для академии», хотела стать человеком – вовсе нет. Как поясняют Делёз и Гваттари, «для Кафки животная сущность является выходом, линией ускользания, пусть и на одном и том же месте или в клетке. Выход, а не свобода. Живая линия ускользания, а не нападение»[44]. Человек-обезьяна не устает повторять: «Нет, свободы я не искал. Только выхода»[45]; «подражание людям меня не привлекало; я подражал потому, что искал выход, и ни по какой другой причине»[46].
Таким образом, превращение животного в человека не было призвано служить выражением свободной воли или чего-то в этом роде. Скорее наоборот – у него не было других вариантов, не было выбора. Настоящий выход бывает только оттуда, откуда выхода нет, из безвыходной ситуации, в которой не дано выбора:
В прежней жизни у меня было столько выходов, а тут ни одного. Я был в тупике. Даже если бы меня пригвоздили, я не был бы больше поражен в моем праве на свободу передвижения. Но почему? Чешись хоть до мяса между пальцами ног, все равно не найдешь причины. У меня не было выхода, но я должен был его отыскать, потому что без него я не мог жить[47].
Ситуация, в которой оказался персонаж, всем телом вжатый в клетку, была настолько невыносимой, что после многих попыток использовать свои привычные способности и умения он в конце концов попробовал что-то совершенно новое. Он – задним числом – «заключил», что сам факт, что он находится в клетке, обусловлен его, так сказать, родовым бытием, его бытием обезьяной, и что, чтобы выбраться, ему следует «перестать быть обезьяной»[48] и начать подражать людям, свободно передвигающимся туда и сюда за пределами клетки. В этой ситуации невозможности он буквально применил мимесис, и «план сработал»:
Я не рассчитывал, но с большим вниманием и в полном спокойствии наблюдал. Я смотрел, как приходят и уходят эти люди, всегда с одними и теми же лицами, с одними и теми же движениями, часто мне казалось, что это вообще только один человек. Так вот, эти люди – или этот человек – ходили совершенно беззаботно. И передо мной замаячила великая цель. Никто мне не обещал, что если я стану таким, как они, то прутья решетки раздвинутся. Таких обещаний за совершение того, что кажется невозможным, тебе не дадут нигде. А когда ты это совершил, тогда задним числом появляются и эти обещания, и именно там, где ты их тщетно искал раньше […] Подражать этим людям было так просто![49]
Кафкианский мимесис, который в итоге позволяет животному уйти из зоопарка, заметно отличается от аристотелевского, который не влечет за собой никакой радикальной индивидуальной трансформации, но скорее способствует сохранению ситуации, в которой все остаются на своих местах. Среди других индивидуаций Кафки – философствующая собака-голодарь, из исследовательского интереса проводящая над собой биологический эксперимент («Исследования одной собаки»), суетливый обитатель норы, перед лицом незнакомой опасности доходящий до идеи общественного договора, который, однако, не с кем было бы заключить («Нора»), чувствительные мыши-меломаны («Певица Жозефина, или Мышиный народ») и, конечно, доктор Буцефал, ученый конь-адвокат, некогда возивший на себе Александра Македонского, а после «погрузившийся в кодексы» («Новый адвокат»). В самом деле, изучение кодексов – чем не альтернатива для животного, которое в противном случае ожидает судьба оказаться вне закона – или в клетке, в тюрьме собственной животности?
Так что, может быть, действительно самое лучшее – погрузиться в кодексы, как это сделал Буцефал? Свободный, не ощущая на своих боках ляжек всадника, вдали от гула Александровых битв, он читает и перелистывает при свете мирной лампы страницы наших старых книг[50].
У врат закона
Животное у врат закона: по ту или по эту сторону оно находится? Если верить Деррида и Агамбену, животное – так же как и его двойник, суверен – очевидно, вне закона. Так, животное Агамбена может быть описано в терминах голой жизни, то есть такой формы жизни, которая, в отличие от человеческой, не может быть принесена в жертву, но может быть просто уничтожена безо всякой церемонии (например, на скотобойне). Она либо лишена каких бы то ни было прав, либо наделена определенными правами, легко отчуждаемыми в той мере, в какой они гарантированы самими инстанциями отчуждения. Голая жизнь, открытая любому произволу, – это связанное с хозяйственной деятельностью человека на Земле бытие вопреки процессу расширения области права, в которую животные не как вещи и предметы собственности, а как субъекты включаются вслед за другими «другими» – а именно в прошлом бесправными группами людей (женщинами, чернокожими, детьми, мигрантами и т. д.). Замечу, однако, что так было не всегда: голая жизнь не является бессменной сущностью животного. Задолго до возникновения института права животные уже были субъектами закона, и убийство некоторых из них было повсеместно запрещено.
Строгий запрет на убийство животных был характерен, в частности, для первобытного тотемизма. Нарушение этого запрета, однако, являлось необходимым предписанием и происходило в акте ритуальной трансгрессии. Приносимые в жертву животные обладали сакральным статусом покровителей или прародителей группы людей, осуществляющей ритуал. Они были, таким образом, вне закона, по ту сторону границы запрета, в амбивалентности сакрального. Они же были, как отмечает Берджер, и первыми объектами изобразительного искусства: «Возможно, первой краской была кровь животных»[51].
Жорж Батай, посвятивший довольно много текстов пещерной живописи эпохи палеолита, обращает особое внимание на то, что изображения животных были обнаружены в труднодоступных местах, которые едва ли можно рассматривать как места постоянного проживания людей. Очевидно, первобытные художники прилагали серьезные усилия, чтобы проникнуть в эти места и рисовать там в темноте или при тусклом свете факелов. По мысли Батая, подобные усилия могут быть оправданы только сильными чувствами, вызываемыми в людях самой фигурой животного, и эти чувства носят прежде всего, религиозный характер. Батай придерживался идеи религиозного происхождения искусства – как и вообще человеческой культуры. Его излюбленный пример – знаменитое наскальное изображение в пещере Ласко, в труднодоступном участке «на дне своего рода котлована», куда не допускаются туристы: изображение огромного животного и маленького человека под маской зверя:
Умирающий бизон, из которого вываливаются внутренности, изображен здесь рядом с мертвым (очевидно, мертвым) мужчиной. Другие детали едва ли добавляют понятности этой странной композиции. Я не настаиваю: я могу вспомнить лишь, насколько ребяческий этот образ мужчины; еще более поразительно, что у мертвого мужчины – голова птицы. Я не претендую на то, чтобы объяснить эту знаменитую загадку. Никакая из известных интерпретаций не кажется мне удовлетворительной. Однако, глядя на нее в только что представленной мной перспективе, располагая ее в мире религиозной двусмысленности, достигаемой в насильственных реакциях, я могу сказать, что это изображение, погребенное в глубинах святая святых пещеры Ласко, есть мера этого мира, сама мера этого мира. Этого подвижного и постигаемого мира, откуда возникла религия, а затем разрастающееся множество религий[52].
Культ животных в тотемизме связан, во-первых, с очевидностью для первобытных людей изначального с ними родства. Человек у Батая входит в мир через признание этого родства и в то же время через его отрицание и отделение от него. Во-вторых, он указывает на изначальное превосходство животного над человеком. Разумеется, животное было сильнее; убийство крупного животного требовало усилий целого коллектива охотников. Но дело не только в этом. Батай подчеркивает контраст между ничтожностью человека и величием зверя и говорит о божественной природе последнего. Животные – это первые боги; наскальные рисунки – первые иконы. Первобытные животные Батая божественны и суверенны. Суверенность же, в его представлении, обозначает, в противоположность рабству, не столько господство, сколько свободу – животные не работают:
Эти трогательные изображения в каком-то смысле противоположны изображениям человека, и нам следует задуматься о чувстве неполноценности первобытного человечества, которое трудилось и говорило, перед явлением безмолвного животного, которое не работало. Изображения людей в пещерах жалки, они смахивают на карикатуру и часто скрыты под маской зверя. Поэтому мне кажется, что животность для человека разрисованной пещеры – как и для сегодняшних архаичных охотников – была ближе к религиозности, которая позже стала называться божественностью[53].
В отличие от первобытного пещерного художника, современный художник может только имитировать этот изначальный импульс жертвоприношения. Так делает, например, Герман Нитш, определяющий себя «не как художник, а скорее как священник, который работает с основами всех религий и ищет новые основания для религиозного чувства в современном мире»[54]: в своих театральных перформансах 1960-х годов он имитирует жертвоприношения животных.
Проблема, однако, не в том, что Нитш совершает «ненастоящее» жертвоприношение, в отличие от «настоящих», практикуемых первобытными людьми. В каком-то смысле любое жертвоприношение ненастоящее и совершается «понарошку». По определению Батая, жертвоприношение – это «симулякр», спектакль, в котором жертвователь, по сути, замещает себя приносимым в жертву объектом (в частности, животным), за чужой счет таким образом как бы переходя границу между жизнью и смертью и сам при этом оставаясь в живых. Здесь следует воздержаться от широкой дискуссии по поводу того, чем отличается настоящее от ненастоящего, подлинное от неподлинного, и от ностальгических упований на то, что в былые времена все было по-настоящему, а сейчас мы имеем дело лишь с бледными подобиями.
Как отмечает Давид Килпатрик, среди звучавших в адрес Нитша обвинений были «обвинения в убийстве животных, хотя, придерживаясь своего манифеста 1962 года, Нитш использовал исключительно тех животных, которые уже умерли от старости, или которых нужно было забить»[55], что «представляет собой значительное препятствие для полной реализации того, что он обозначил как „первоначальный эксцесс“: так как тела, которые он использовал, были уже мертвы, наиболее сильный элемент ритуала жертвоприношения отсутствовал»[56]. Нитш приносит в жертву европейских сельскохозяйственных животных, купленных на бойне. Эти животные уже мертвы – и в произведении искусства они умирают снова.
Можно ли определить убийство уже мертвого как жертвоприношение? Юридически нет: нельзя принести в жертву то, что не является сакральным, но может быть просто убито на бойне. Статус животного в современном обществе несовместим с идеей жертвоприношения. Если традиционные ритуалы жертвоприношения основаны на трансгрессии, нарушении запрета – прежде всего запрета на убийство кого-то или чего-то, чья жизнь для членов данного сообщества обладает священной ценностью, – то здесь нет запрета, который можно было бы нарушить. Убийство этой овцы не запрещено законом: это не сакральная, но голая жизнь. Она уже обретается в серой зоне между жизнью и смертью. Эта зона населена мертвоживущими животными, подлежащими множественному убою, захваченными в круговорот, где они не перестают умирать. Бойня – это бесконечная петля десакрализованной смерти.
Рассуждая о мифопоэтических аспектах жертвоприношения от Ницше до Нитша – через Батая, который кладет жертвоприношение в основу своей философии, – Килпатрик подчеркивает, насколько вырван из контекста этот художественный жест, совершаемый в поисках новой религии. Надо сказать, упоминание этих трех фигур в одном ряду совершенно оправданно, ведь и Батай тоже – по крайней мере в 1930-е годы – хотел воссоздать некоторые предпосылки для религиозного опыта в нашем нерелигиозном, профанном мире, как если бы тогда, давным-давно, первые люди испытывали некую интенсивность реального, которая для нас сегодня отсутствует или ощущается нами как утраченная. В период основания журнала и тайного общества «Ацефал» (1936–1939) Батай на полном серьезе задумывался о том, как возродить религию через ритуал[57].
Батай действительно не без ностальгии обращается к первобытным временам. Однако ностальгическая утопия подлинности изначального человеческого сообщества – это не самая главная и принципиальная «ошибка» Батая (как считает, например, Жан-Люк Нанси)[58]. Зачарованность первобытным обществом с его архаическими ритуалами естественно вызывающая большое недовольство современных авторов, на самом деле не так уж сильно влияет на его основной критический импульс. Это скорее стиль мысли, которая не обязательно растет из ностальгии по ушедшим временам, но которая имеет тенденцию приписывать непосредственность и наивность более или менее далекому прошлому. Батай верит в то, что неандерталец наивно верит в своих животных богов, а Нанси верит, что Батай наивно верит в наивную веру неандертальца. Аналогичным образом, к примеру, Деррида, как замечает Славой Жижек, верит в фаллогоцентризм философов прошлого, наивно веривших во всемогущество разума:
Сквозь призму современной «рациональной» мысли, принятой за стандарт зрелости, Другой представляется как «примитивные» люди, захваченные магическим мышлением, «и правда верящие», что их племя происходит от их тотемного животного, что беременная женщина была оплодотворена духом, а не мужчиной, и т. д. Рациональная мысль порождает таким образом фигуру «иррациональной» мифической мысли – и здесь мы (снова) имеем процесс насильственного упрощения (редукции, стирания), которым сопровождается появление Нового: чтобы утверждать что-то радикально новое, все прошлое, со всеми своими несоответствиями, должно быть сведено к какой-то основной определяющей характеристике («метафизика», «мифическая мысль», «идеология»…). Сам Деррида осуществляет подобное упрощение в своей деконструктивистской форме: все прошлое обобщается как «фаллогоцентризм» или «метафизика присутствия»[59].
Описываемую Жижеком тенденцию – которую он, критикуя Деррида, называет также «здравым смыслом деконструкции» – можно определить и через проекцию. Батай проецирует наивность жертвоприношения на дикарей, наивность закрытой системы – на Гегеля, а наивность имманентности – на животных. Нанси проецирует на Батая наивность ностальгической проекции. Однако, повторяю, это не самая большая проблема: ностальгическая проекция – это скорее одна из «дурных привычек» или симптомов философии, ее идиосинкразический стиль.
В конечном итоге проблема с Батаем здесь не в том, что он проецировал особую религиозную чувственность на первобытных людей, но скорее в том, что он не видел религии в настоящем. Можно сказать, что миф, объединяющий Нитша и Батая – это миф об отсутствии мифа, о настоящем, лишенном сакрального. Вопреки всем попыткам объединенных сил просвещения, рационализма и капитализма, современности так и не удалось окончательно секуляризировать человеческое общество и расколдовать мир. И религия, и миф все еще существуют, как существуют верования и ритуалы. Речь не только о взрывных волнах фундаментализма, которые накрывают нас сегодня, но и о том, о чем Вальтер Беньямин писал уже тогда, когда Батай считал религиозность утраченной, о том, что сам капитализм является религией. Капитализм не только «религиозно обусловленная конструкция, как думал Вебер, но и религиозный феномен по своей сути»[60]. Общество, в котором мы живем, не свободно от религии; просто сущность религии изменилась. И – что здесь самое важное – животное в этой религии во многом утратило центральное и сакральное место[61]. Батай, тем не менее, не обходит вниманием «…переход от изначального противопоставления между животностью-божественностью с одной стороны и человечностью с другой к противопоставлению, которое все еще доминирует сегодня, и которое царит в умах даже чуждых всякой религии, между животностью, лишенной любого религиозного смысла, и человечностью-божественностью»[62].
Статус животных изменился. Они больше не боги. И, однако, следы их родства с богами и людьми остаются и после тотемизма. И древние греки делят с ними свой космос, и в средние века они все еще живут в том же мире, что и люди – в мире божественного творения. В отличие от первобытного искусства, изображавшего человека под маской зверя, в живописи средневековья у животных, даже в бестиариях, часто человеческие лица. И не только у животных – у детей тоже на удивление взрослые лица. В мире творения, сделанном по образу и подобию Бога, присутствуют лишь многообразные вариации на тему одного и того же лица – вернее, лика. Сингулярность и инаковость средневекового образа соотносится с универсальностью и тождественностью Бога.
В той мере, в какой божественное присутствовало в каждом элементе творения, закон имел силу не только над людьми: средневековая юридическая система распространялась и на животных. Если в эпоху тотемизма животных приносили в жертву, то в средневековой Европе их можно было казнить и отлучать от церкви. Животные подлежали наказанию в судебном порядке. А это значит, что они считались вменяемыми и несли ответственность за любое совершенное ими «преступление» и за весь причиненный ими вред. Формально их юридический статус был близок к человеческому, что и отражалось в таких со всей очевидностью абсурдных практиках, как суды над животными.
В наше время мысль о том, что животных можно судить по человеческим законам, кажется дикой. Сегодняшняя юридическая система по большей части не предполагает ответственности животных, но зато склоняется в сторону признания их прав, дрейфуя таким образом в направлении новой формы включенности, которая, парадоксальным образом, отсылает к более раннему состоянию «животного в законе». Как если бы, после долгого периода исключения нечеловеческого животного из просвещенного и рационального мира, когда юридически оно было приравнено к вещи, нам, современным людям, вновь не терпелось принять их в свой мир закона и права.
Суды над животными не являются, конечно, исключительно средневековым феноменом. Они практиковались и до, и после Средневековья (вплоть до сегодняшних дней). Йен Джирджен, автор статьи, подробно описывающей и анализирующей феномен судов над животными, упоминает в числе прочих подобную практику – о которой известно совсем немного – в Древней Греции:
На самом деле не существует непосредственного свидетельства того, что такого рода суды действительно имели место. Однако, вероятнее всего, судебное преследование животных могло преследовать ту же главную цель, что и преследование в Греции неодушевленных объектов: избавиться от скверны, которая из-за этого преступления «загрязнила» сообщество. В ходе судебного процесса, если истцы по факту и закону объявляли животного виновным, его, скорее всего, казнили. Его тело затем надлежало «выбросить за границы», чтобы очистить землю от скверны[63].
Одно из свидетельств находим у Платона:
Если подъяремная скотина или иное какое-нибудь животное убьет человека (исключение здесь составляют те случаи, когда это постигает атлета, выступающего на общегосударственном состязании), то родственники должны выступить судебным порядком против убийцы; дело разбирают агрономы, выбранные в любом числе каким-нибудь родственником. Уличенное животное убивают и выбрасывают за пределы страны[64].
Греческий суд над животными связан, таким образом, не столько с идеей наказания, сколько с идеей избавления от скверны и поддержания сообщества в безопасности и чистоте его границ. Все, кто несет беду, должны быть выброшены за пределы. Не потому, что они совершили преступление, а потому, что их поступок становится причиной несчастий. Как утверждает Вальтер Хайд, греки верили, «что моральное равновесие сообщества было нарушено убийством и что кто-то или что-то должны быть наказаны, иначе беда – мор, засуха, поворот человеческих судеб – завладеет этой землей»[65].
Избавляясь от таких опасных элементов, греческий космос пытается восстановить свой хрупкий баланс. В свою очередь, средневековый мир управляется по закону совсем иному, чем слепая воля богов. Христианский закон известен, он дан людям, должен быть понятен и тщательно соблюдаем. Но даже самое совершенное законопослушание не освобождает от вины, поскольку, как мы знаем, вначале было грехопадение.
По мысли Джирджена, средневековая Европа знала, в общем и целом, два типа судов над животными – оба проходили почти так же, как и суды над людьми. В светских судах «обычно проводились процессы над отдельными домашними животными» или расследовали дела и наказывали животных, которые «причинили физический ущерб или смерть человеку», тогда как юрисдикция церковных судов распространялась скорее «на группы диких животных, такие как рои насекомых» или на животных, которые «нарушили общественный порядок (что обычно означало уничтожение урожая, предназначенного для человеческого потребления)». Среди животных, которых судили индивидуально, были свиньи, коровы, быки, лошади, мулы, ослы, козы, овцы и собаки. Церковным судам подлежали главным образом кроты, мыши, крысы, звери, птицы, улитки, черви, саранча, гусеницы, термиты, различные жуки и мухи, а также другие насекомые и «паразиты» и даже угри и дельфины[66].
Несмотря на нетрадиционность своих подсудимых, и религиозные, и светские суды относились к этим актам очень серьезно и строго следовали правовым традициям и формальным процедурным правилам, установленным для осуждаемых за преступления людей. Община за свой счет обеспечивала обвиняемое животное защитой, и эти адвокаты приводили сложные юридические аргументы в пользу своих подзащитных животных. Животные, проходившие по уголовным делам, иногда содержались в тюрьме вместе с человеческими заключенными. Доказательства рассматривались и приговоры выносились так, будто подсудимым был человек. В конечном итоге в светских судах, когда дело доходило до наказания (обычно смертной казни), суд прибегал к услугам профессионального палача, которому платили точно так же, как и в случае более традиционных подсудимых[67].
Животных, приговоренных к смертной казни, чаще всего сжигали на костре, вешали или обезглавливали. Среди множества историй Э.П. Эванс, в книге «Уголовное преследование и смертная казнь животных» (1906) задокументировавший около двухсот случаев судебных преследований животных и отлучений их от церкви в период с IX по XX век, пересказывает, например, следующую. В 1938 году Фалезский трибунал приговорил свинью к отрубанию ноги и головы, а затем повешению за то, что она разорвала руку и лицо ребенка, который от этого умер. Свинья была казнена в человеческой одежде на городской площади перед ратушей[68].
Суды над животными не всегда заканчивались смертным приговором. Так, в 1712 году в Австрии собака якобы укусила за ногу члена муниципального совета. Собака была осуждена и приговорена к одному году так называемой Narrenkötterlein – чему-то вроде позорного столба или железной клетки, устанавливавшихся на базарной площади для богохульников, гуляк, хулиганов и других нарушителей спокойствия[69].
При всех серьезных идеологических различиях в греческих и средневековых формах осуждения провинившихся животных есть у них и нечто общее, и нельзя не согласиться с Джирдженом, который объясняет эту общность в терминах порядка. Ранее речь уже шла о порядке, мера которого оказывается применима к животным, бегающим туда и сюда через границы запрета и врата закона.
Теории, фокусирующиеся на порядке и контроле, особенно полезны в понимании мотивов, стоявших за судами. Предполагается, что греки и средневековые европейцы изначально проводили такие суды, чтобы учредить когнитивный контроль за беспорядочным миром ‹…› Другими словами, суды над животными произросли из заботы о порядке. Людям нужно было верить, что природный мир закономерен, даже если некоторые события, такие как убийство человеческого детеныша свиньей, казалось, бросали вызов всем разумным объяснениям. Тогда они обратились к судам[70].
Я уже упоминала доктора Буцефала, «нового адвоката» Кафки. Конечно, животное-адвокат – фигура фантастическая, она живет в литературе. Но вот адвокаты животных – это вполне действительные представители средневековой правовой системы. Как отмечает Эстер Коэн, эти люди «относились к своей работе очень серьезно, посвящая огромное количество времени, багаж знаний и юридического опыта защите своих клиентов»[71].
Одним из самых известных таких публичных защитников животных был Бартоломе Шасене, который позже стал первым председателем высшего суда Прованса (пост, соответствующий главному судье) и внес важнейший вклад в развитие французской правовой мысли XVI века. В 1522 году в деле, которое впоследствии поможет ему утвердиться в качестве выдающегося исследователя права, Шасене был назначен к защите крыс из Отена, обвиняемых в уничтожении урожая ячменя в этой провинции. Оправдывая неявку своих подзащитных в суд в ответ на официальную повестку, Шасене сначала заявил, что его клиенты живут в разных местах и в разных деревнях, и одна-единственная повестка могла не достичь адресата. Суд согласился, и вторая повестка была оглашена во всех приходах, где обитали крысы. После того как крысы не появились по этой второй повестке, Шасене объяснил, что в этот раз их неповиновение было обусловлено тем, что путь в суд – долгий и трудный; далее он утверждал, что крысы испугались кошек, поджидавших их на пути…[72].
Подобными объяснениями, однако, не исчерпывался весь арсенал защиты животных перед судом. Со временем аргументы становились все более и более общими, тонкими и рациональными. Адвокаты, защитники животных, среди прочих, стояли у истоков гуманистической мысли. Их главный довод сегодня звучит банально, но в свое время он был, конечно, революционным: мы не можем судить животных, потому что они не обладают разумом. Показателен отрывок из подобного выступления:
Во-первых, призывать к суду можно только того, кто способен рассуждать, кто в состоянии свободно действовать и кто в состоянии понимать смысл преступления. Но так как животные лишены света разума, которым одарен один лишь человек, то, следовательно, и процесс, затеянный против них, недействителен ‹…› Но удивительнее всего то, что над этими бедными тварями хотят произносить анафему, на эти бедные существа хотят обрушить самый суровый меч, имеющийся в руках Церкви для наказания преступников. Но эти животные не могут совершать ни преступлений, ни грехов, ибо для того, чтобы грешить, нужно обладать разумом, который отделял бы добро от зла и указывал бы своему владельцу, чему нужно следовать и чего нужно избегать. Животные не могут быть изгнаны из лона Церкви, никогда не бывши там. Это может быть направлено против людей, владеющих душою, а не против неразумных животных. Так как душа этих животных не бессмертна, то их не может поразить анафема[73].
Появление гуманистической аргументации в защиту животных – решающий шаг на пути становления рациональности Нового времени. Парадокс заключается в том, что именно такой гуманизм становится затем основой отношения к животным как к вещи (я имею в виду прежде всего их правовой статус) и исключения их из мира людей за отсутствием у них разума и других достоинств, которые человек традиционно приписывает самому себе. Классическая гуманистическая защита животных выстраивается на идее превосходства человека над животным (которая часто шагает в паре с идеей превосходства человека над человеком, основанной на предположении о том, что последний больше похож на животное, чем первый). Адвокаты заявляли перед судом: мы не можем обвинять животных, потому что мы вообще не можем с ними говорить, потому что они не могут нас понимать, они не знают закона и чужды ему. То есть, по сути, требовалось признать их в каком-то фундаментальном смысле невменяемыми.
Безумец
Средневековье знало, однако, и другой довод в оправдание животных – их невинность. Перед нами вся двусмысленность христианской традиции, с одной стороны, сокрушающейся о греховности животной плоти человека, с другой – уповающей на невинность и наивность зверя, не ведающего добра и зла. Невинность и наивность, у которой на этот раз есть чему поучиться самому человеку. По мысли христианина Честертона, умиление перед святой простотой божьей твари возникает на месте вытравленных инквизиторами следов языческого поклонения природе. Честертон писал, что языческая цивилизация была не просто высокой, а «высочайшей из всех достигнутых человечеством». Древние греки изобрели непревзойденные способы и словесного, и пластического изображения мира; вечные политические идеалы; стройные системы логики и языка. Но они сделали еще больше – они поняли свою ошибку:
Эта ошибка так глубока, что нелегко найти для нее подходящее слово. Проще и приблизительней всего назвать ее поклонением природе. Можно сказать, что древние были слишком естественны. Греки – великие первооткрыватели – исходили из очень простой и на первый взгляд очевидной мысли: если человек пойдет прямо по большой дороге разума и природы, ничего плохого случиться не может, тем более если человек этот так разумен и прекрасен, как древний грек ‹…› Но тот, кто поклонился здоровью, не останется здоровым. Если человек идет прямо, его дорога крива. Человек изогнут, как лук; христианство открыло людям, как выправить эту кривизну и попасть в цель. Многие посмеются над моими словами, но поистине благая весть Евангелия – весть о первородном грехе[74].
В отличие от средневековых людей, средневековые животные не знают греха, не различают добра и зла. Они никогда не покидали лона природы, или, скорее, как говорят христиане, никогда не покидали царства божия[75]. Но если они не знают греха, то не знают и благой вести. Святой Франциск Ассизский верил, что их можно приобщить к универсальному Божьему закону, но лишь освободившись от собственных грехов и через обретенное таким образом знание вновь приблизившись к их невинности и наивности. Он стал проповедовать птицам и лесным зверям; как рассказывают, его проповедь имела успех. По легенде, Франциску удалось обратить даже «брата волка», который был злым, а после стал добрым; животные собирались вокруг святого отца, слушали его и задавали ему вопросы, каждое на своем языке, чтобы затем – каждое на своем языке – бесконечно славить Бога. В этом славословии всякое живое существо, даже самое, как пишет Честертон, «бесформенное чудище» обретает смысл: теперь оно – частица нового единства веры, которая прокладывает себе дорогу через самую пропасть в сердце мира, расколотого пополам:
Если объяснять вещи, они становятся чудеснее, мы больше дивимся им, меньше их боимся; ведь вещи чудесны, когда они что-то значат, а не тогда, когда они не значат ничего. Пусть бесформенное, или глухое, или злое чудище будет больше гор – его, в полном смысле этого слова, можно назвать незначительным, если оно ничего не значит. Для мистика, каким был св. Франциск, любое чудище значит что-то, оно передает свою весть, говорит на знакомом языке. В этом и смысл преданий – правдивы они или нет – о том, что он как волшебник знал язык зверей и птиц[76].
Для того, однако, чтобы разговаривать со зверями и птицами, необходимо было пройти нелегкое очищение, избавиться от всего лишнего, стать бедным, как звери и птицы. Проповедь животным, распахивавшая для них двери в праведную жизнь, была возможна в ту пору, когда бедность – и даже нищенство – не только не считались пороком, но, напротив, принадлежали порядку святости. Позже, с Реформацией и утверждением в своем господстве, говоря языком Макса Вебера, «протестантской этики и духа капитализма» причастность к благу, всеобщему и индивидуальному, станет измеряться скорее собственностью и богатством. Не случайно, как бы в противовес этому, некоторые современные философы провозглашают своего рода «францисканскую этику и дух коммунизма», все чаще оглядываясь на средневековое и раннее христианство, которое своеобразную духовную власть нищеты противопоставляло духовной нищете власти, замаскированной богатыми владениями официальной церкви и государства. Бедность, в этой традиции почитаемая, обещает раскрыть особые возможности коммуникации, послужить основой подлинного сообщества. Такого, в которое каждый волк мог быть включен как равный, как «брат».
Так, Дж. Агамбен анализирует регламентацию быта францисканских монахов, разрабатывая на основе этого анализа понятие формы жизни как «высшей бедности», которая состоит в одном только пользовании вещами без владения ими. Это жизнь по ту сторону собственности. Она не принадлежит тому, кто ее проживает, но скорее находится в общем пользовании[77]. Слово «общее» здесь является ключевым, так как задает мотив общности, совместного бытия, формирующегося посредством коллективных аскетических практик. В свою очередь, М. Хардт и А. Негри «радикализуют обратимость агамбеновской трансформации „голой жизни“ в источник трансцендентности, рассматривая эту „нищету“ и „наготу“ как обогащающую силу»[78] и напрямую связывают францисканскую бедную жизнь с коммунистической утопией:
Пролить свет на будущее коммунистической борьбы могла бы одна старинная легенда – о святом Франциске Ассизском. Вспомним его деяния. Чтобы победить нищету масс, он принял ее как данность и открыл в ней онтологическую силу нового общества. Борец-коммунист делает то же самое: он видит в нынешнем положении масс условие их невероятного богатства. Франциск, в противоположность зарождающемуся капитализму, отверг любую инструментальную дисциплину, а в противоположность умерщвлению плоти (в нищете и смиренном согласии со сложившимся порядком) он проповедовал счастливую жизнь со всеми радостями природы и естества, со зверушками, сестрицей-луной и братом-солнцем, с полевыми птахами, с несчастными и измученными людьми, объединившимися против сил власти и разрушения. В период постсовременности мы снова оказываемся в тех же условиях, что и Франциск, противопоставляя убожеству власти радость бытия. Вот та революция, которую не сможет остановить никакая власть, поскольку биовласть и коммунизм, кооперация и революция объединяются – в любви, простоте и невинности. Это и есть безудержная радость быть коммунистом[79].
В первой части своей знаменитой «Истории безумия» Мишель Фуко пишет о том, как в ходе Реформации в связи с возрастанием этической ценности труда вопиющая праздность подвергается моральному осуждению, а нищета утрачивает ореол святости и становится преступлением против общественного порядка:
…возникает опыт нового пафоса, когда человеку ничего не говорят ни о блаженстве страдания, ни о спасении, в котором соединятся Бедность и Милосердие, а лишь подсказывают его обязанности перед обществом и внушают, что убогий бедняк – это результат царящего в обществе беспорядка и одновременно помеха, не позволяющая восстановить порядок ‹…› нищета выпадает из диалектики унижения и славы; отныне ее место – в пределах соотношения порядка и беспорядка; внутри категории виновности. ‹…› Из сферы религиозного опыта, ее освящавшего, она соскальзывает в область моральных категорий, где подлежит осуждению[80].
Такого чудака, как Франциск, в этот период, очевидно, сочли бы не святым, а безумным и поместили бы в изолятор вместе с бродягами и попрошайками за то, что он «по собственной воле преступил границы буржуазного порядка»[81]. Безумец, который, по словам Фуко, «с точки зрения средневековой идеи милосердия заключал в себе толику тайного могущества нищеты»[82], перестает быть вестником сакрального мира, этой нищетой увенчанного, и отправляется в ад разнузданной животности, буйство которой для рациональной геометрии становящегося таким образом нового мирового порядка страшнее проказы: не случайно местом приюта умалишенных становятся бывшие лепрозории.
По мысли Фуко, преступные нищета и праздность сочетаются в фигуре безумца с животным, нечеловеческим началом, ведь человек, и особенно человек классической эпохи – это тот, кто мыслит. Тот же, кто не мыслит – не человек. Безумие обнажает бессмысленность звериной природы человека в ее агонии, бесформенности, болезненности, но одновременно и ее свободе:
Тот негативный факт, что «с безумным обращаются не как с человеческим существом», имеет вполне позитивное содержание; бесчеловечное равнодушие к умалишенному в действительности означает своего рода навязчивую идею, уходящую корнями в далекое прошлое, в те страхи, из-за которых животный мир со времен Античности и особенно Средневековья предстает привычно-загадочным, чудесным и угрожающим, несет в себе какое-то неясное беспокойство. Однако этот страх перед животным, который сопровождал восприятие безумия, привнося в него все разнообразие картин своего воображаемого, был уже не тем, что двумя или тремя веками ранее: превращение человека в животное перестало быть зримым признаком присутствия дьявольских сил или плодом адской алхимии неразумия. Явление зверя в человеке не означает больше его принадлежности к потустороннему миру; зверь – просто его безумие, не указывающее ни на что, кроме себя самого: его безумие в природном состоянии. Буйствующее звериное начало безумия лишает человека всего человеческого – но при этом не отдает его во власть иных сил, а лишь низводит на нулевой уровень его собственной природы. Для эпохи классицизма безумие в крайних своих формах – это человек в непосредственной связи с собственной животностью, безотносительно к чему-либо иному, постороннему[83].
Как показывает Фуко, умалишенные практически приравниваются к животным. Даже места изоляции, куда их помещают для исправления, в своем внутреннем устройстве мало отличаются от зверинцев. Изоляция направлена на то, чтобы обезопасить разум от безумия, общественный порядок – от разгула беспризорной нищеты, а человека – от животного, которое снова перестает быть на него похожим. Животные, неработающие и неимущие, оказываются за чертой, рядом с низшими классами и отбросами социальной системы.
Фуко объясняет, что феномен исключения безумия (в форме изоляции) следует понимать как меру «правопорядка», что, конечно, напоминает об уже упомянутых батаевских «полицейских предписаниях» классической Греции – в противовес «забавам криминальных классов». Зачем, однако, нужна полиция? Какого рода порядок она должна охранять? Фуко непосредственно связывает полицейские меры с необходимостью принудительного труда. И безумный, и нищий не работают – как не работают и животные[84].
Изоляция как массовое явление, признаки которого обнаруживаются в XVII в. по всей Европе, принадлежит к сфере «правопорядка». Правопорядка в том узком смысле, в каком его понимала классическая эпоха, – т. е. в смысле совокупности мер, обеспечивающих возможность и одновременно необходимость трудиться для всех, кто не может прожить иначе; современники Кольбера уже задавались вопросом, который вскоре сформулирует Вольтер: «Как! Вы сидите на шее народа и до сих пор еще не постигли секрета, как обязать всех богатых заставить трудиться всех бедных?! Значит, вы не усвоили и азов „правопорядка“»[85].
Однако, помимо этого, полицейские меры нужны человеку в первую очередь для того, чтобы защитить себя самого от собственных животности и безумия. Классическая эпоха видит такую опасность и верит в то, что ее можно предотвратить; безумие, внедряющееся извне, рассматривается в это время как социальная проблема. Социальные практики изоляции сопровождаются теоретическим сдвигом, представленным картезианской рационалистической метафизикой, или, как называет это Фуко, картезианским исключением. С него-то Фуко и начинает свою историю, вспоминая Декарта, который мог усомниться во всем, кроме собственного сомнения. Перед тем как установить истинное и достоверное основание знания, Декарт перечисляет главные формы иллюзий и заблуждений: чувств и чувственного восприятия, безумия и т. д. В конце концов он выдвигает гипотезу, в соответствии с которой все, что мы видим, это не реальность, а сон или обман, разыгранный злым гением, Богом-обманщиком. Но даже если все, что мы видим – это иллюзия, даже если все подлежит сомнению, я не могу усомниться в том, что сам я мыслю: такова достоверность cogito, основанная, по мысли Фуко, на исключении безумия.
Именно невозможность не мыслить отличает мыслящего субъекта, непоколебимого в достоверности своего cogito, от «сумасбродов», прежде всего чуждых истине: «мысль безумной быть не может»[86]. Позволю себе добавить, что животное в системе Декарта представляет собой еще более чуждое человеку существо, чем безумный, поскольку даже из уст безумного можно услышать осмысленную речь, но из пасти животного – никогда. В «Рассуждении о методе» он заявляет:
…ибо замечательно, что нет людей настолько тупых и глупых, не исключая и полоумных, которые не были бы способны связать несколько слов и составить из них речь, чтобы передать мысль. И напротив, нет ни одного животного, как бы совершенно оно ни было и в каких бы счастливых условиях ни родилось, которое могло бы сделать нечто подобное ‹…› Это свидетельствует не только о том, что животные менее одарены разумом, чем люди, но и о том, что они вовсе его не имеют[87].
Декартовское животное не может не только мыслить, но и чувствовать. Не имея мыслящей души, оно не способно ни желать, ни страдать, поэтому и становится объектом естественно-научных экспериментов, которые в перспективе современного экологического сознания выглядят, прямо скажем, кровожадными. Так, в одном из писем Декарт отмечает, что сердца рыб, «после того, как их вырезать, продолжают биться гораздо дольше, чем сердца любых наземных животных». Философ пускается в объяснения, как он опроверг взгляды Галена на функционирование сердечных артерий, «вскрыв грудь живого кролика и удалив ребра, чтобы стало видно сердце и ствол аорты ‹…› Продолжая вивисекцию, я отрезал половину сердца»[88].
«Я хотел бы, чтобы те, кто никогда не изучал анатомии, потрудились рассмотреть сердце любого достаточно крупного животного, обитающего на земле…» – призывает Декарт в «Описании человеческого тела»[89] и там же делится своими наблюдениями: «Если, например, вскрыть грудь какого-нибудь живого животного и недалеко от сердца перевязать его большую артерию так, чтобы кровь не проходила по ее разветвлениям, а затем рассечь ее между сердцем и перевязанным местом, то вся или по крайней мере большая часть крови через короткое время выйдет в это отверстие»; «Если у живой собаки отсечь верхушку сердца и ввести палец в одну из его полостей, то при каждом сокращении сердца ясно чувствуется давление на палец, а при каждом удлинении сердца – прекращение этого давления»[90].
Собачьему сердцу недолго суждено пульсировать на анатомическом столе Декарта. Жизнь этого пса, вероятно бездомного, как и жизнь других декартовских зверей, длится до того момента, пока кровь полностью не вытечет из артерии. Эти животные почти уже мертвы, вернее они своего рода живые мертвецы, и, между прочим, именно этот зазор, это их короткое пребывание в серой зоне между жизнью и смертью является объектом пристального естественн-научного интереса.
Впрочем, категории жизни и смерти не вполне релевантны в отношении картезианских животных. В своих экспериментах ученый просто пытается исследовать работу машины, называемой телом. Причем человеческое тело является такой же машиной, как и тело животного. Понимая, как функционирует последнее, мы узнаем и о работе первого. В механистической вселенной Декарта животные движутся как автоматы, приспособленные к определенному типу операции, «…и природа в них действует сообразно расположению их органов, подобно тому, как часы, состоящие только из колес и пружин, точнее показывают и измеряют время, чем мы со всем нашим благоразумием»[91].
Но что в таком случае отличает человеческое тело от животной машины? Мыслительная активность души, представляющей собой отличную от слепой машины тела непротяженную субстанцию, которая у животных попросту отсутствует. Бессмертная душа наполняет человеческое тело жизнью. Она расположена в маленькой шишковидной железе в центре мозга. А что наполняет ощущениями шишковидную железу, делая тело по-настоящему человеческим, то есть по-настоящему живым, в отличие от простой машины или мертвого тела, которое не может чувствовать? – Тончайшие волокна, или поры мозга, которые Декарт называет животными духами. Животные духи циркулируют по нервам и мускулам между мозгом и конечностями, сообщая человеку чувства – боль, желание и, конечно, страсти.
Понимая животное как механизм, неспособный чувствовать, желать, страдать и тем более мыслить, а только демонстрировать определенные реакции, подобно автомату, состоящему из органов, мускулов и костей, можно пытаться объяснить и сделать предсказуемым его поведение, а значит, оградить себя от его внезапного вторжения и непосредственной стихийной агрессии, которая таким образом оказывается нейтрализованной знанием. Звери не вхожи в буржуазный уют картезианского мира («то, что я здесь, сижу перед огнем, одетый в домашнее платье…»[92]): сюда не залетит ни рассудительная аристотелевская ласточка, ни благословенная птичка святого Франциска.
Нет, однако, дела более простого и неблагодарного, чем критиковать Декарта за жестокое отношение к животным. Конечно, всем знаком Декарт – философ cogito, якобы чистого и свободного как от животности, так и от безумия. Но был еще и другой Декарт – тот, который, как замечает Жижек, сам себя неправильно понял, «ошибочно перейдя от cogito к res cogitans», поскольку «cogito не является отдельной, отличной от тела субстанцией»[93]. Этот другой Декарт стоит на грани перехода от радикального сомнения к радикальному разрыву и, можно сказать, на самом деле имеет опыт безумия (а также животности) как невозможности – в той мере, в какой он к нему не просто негативным образом небезразличен, но вообще не может с ним сосуществовать.
С одной стороны, этот опыт может проявляться как нечто исключенное, нечто за границами разума, окружающее его рациональный мир, не просто угрожая ему извне, но активно конституируя самое что ни на есть внутреннее ядро субъективности. Двойник же ее, который безумен, подвергается исключению. Такова позиция Фуко: безумие, как и, собственно, разум, – это некоторая функция отношений власти и исторически обусловленный дискурсивный конструкт. Декарт пытается бороться с безумием посредством cogito и – в последней инстанции – заручается гарантией от Бога, который все-таки не может быть обманщиком: как в разных местах замечает Лакан, картезианское сомнение черпает силы из этого предельного доверия по отношению к большому Другому; cogito избегает того, чтобы остаться наедине с собой, и отдает себя на милость божества.
С другой стороны, это может быть по-настоящему внутренний опыт. Такова, скорее, суть аргументации Деррида, который в знаменитой полемике с Фуко заявляет, что «философия, возможно, есть не что иное, как эта обретенная в непосредственной близости от безумия застрахованность от его жути»[94]. Жижек популярно объясняет позицию Деррида в этом споре:
В своей интерпретации «Истории безумия» Деррида сосредоточился на четырех страницах из Декарта, которые, по его мысли, дают ключ к пониманию всей книги. Посредством детального анализа он старается продемонстрировать, что, вовсе не исключая безумие, Декарт доводит его до предела: универсальное сомнение, когда я подозреваю, что весь мир есть иллюзия – это величайшее безумие, которое только можно вообразить. Из этого универсального сомнения и возникает cogito: даже если все на свете иллюзия, я все еще могу быть уверен, что я мыслю. Безумие таким образом не исключает cogito: cogito не то чтобы не безумно, но cogito истинно, даже если я совершенно безумен[95].
Этот гиперболический момент безумия внутренне присущ философии и составляет ее основу, но, совсем как животное, он «одомашнен» и подверстан к «образу человека как мыслящей субстанции»: «разумеется, любая философия старается контролировать, вытеснять собственный избыток – но, вытесняя его, она вытесняет свою собственное глубинное основание»[96].
Существует, конечно, некоторая асимметрия между исключением как эффектом исторически обусловленной совокупности социальных практик и дискурсивных процедур, с одной стороны, и вытеснением (подавлением, репрессией), которое обозначает скорее универсальную политическую операцию и вместе с тем субъективный опыт бессознательного. Однако в каком-то смысле оба подхода справедливы и даже дополняют друг друга. Следующим шагом будет предъявление третьей позиции, принадлежащей Лакану, которая, можно сказать, «реабилитирует» Декарта через Фрейда. По мысли Лакана, ego и cogito не совпадают; субъект – это не ego, субъект бессознателен, и все-таки он мыслит (и, что важнее всего для Лакана, говорит – бессознательное говорит телом):
Декарт не знал этого – для него субъект был субъектом достоверности и знаменовал собою отказ от всякого предшествующего ему, предваряющего знания. Мы же, благодаря Фрейду, знаем, что субъект бессознательного так или иначе о себе заявляет, что еще прежде достижения им достоверности налицо мысль[97].
Декарт не знал, но мы знаем: за этой формулой маячит идея, что и Декарт, и Фрейд – и, конечно, сам Лакан – имеют дело с одним и тем же субъектом, который не совпадает с «я» и мыслит еще до его появления. Как пишет Младен Долар в статье, посвященной проблеме cogito у Лакана,
Лакан широко определял свой проект через лозунг, провозглашавший «возвращение к Фрейду», но впоследствии оказалось, что этот лозунг должен быть дополнен выводом: возвращение к Фрейду проходит через Декарта. Существует огромный разрыв, отделяющий Лакана от остальных представителей структуралистского поколения, которые определяли себя в основном как антикартезианцев[98].
Если же, понимая под cogito скорее субъект бессознательного, мы вернемся к «Недовольству культурой», где Фрейд излагает свою теорию органического вытеснения, и вспомним о непростой, сопровождающейся отрицанием связи, которую он устанавливает между животным инстинктом и бессознательным влечением[99], из которой рождается мысль, то сможем разглядеть затаившееся в глубинах cogito настоящее картезианское животное.
Для Фрейда, чей «…нарратив предполагает, что попытки отказаться от собственной животности произвели человеческое бессознательное»[100], эволюционный процесс находит отражение в развитии человеческой личности, и успешное становление ребенка взрослым проходит через преодоление животного и стирание его следов. Сегодня это звучит совершенно очевидно и просто, но важно понимать, что животность, таким образом «преодоленная», подвергнутая отрицанию или вытесненная, не есть что-то, что наивно предшествовало органическому вытеснению, но возникает задним числом как результат этого процесса. Фрейдовский субъект всегда уже является человеческим и в качестве такового производит весь набор проекций того, чем он был или не был ранее, на каком-то предыдущем этапе своего развития: животное, вытесненное человеком, рождается вместе с этим вытеснением.
В «Интерпретации сновидений» Фрейд высказывает предположение, что работа сновидения включает некий процесс интерпретации, в котором само бессознательное пытается стереть собственные следы, заполнить пробелы в ткани значения, подвергнуть сновидение интерпретации внутри него самого – еще до всякой возможной интерпретации. И если, рассуждая о Лакане и Декарте, Младен Долар вводит фигуру cogito как субъекта бессознательного, то в другой своей работе, посвященной Гегелю и Фрейду, он говорит о «бессознательном философе, маячащем посреди сна». Этот философ пытается, но не может целиком «скрыть свои следы, он всегда „выпускает кота из мешка“[101], по крайней мере какую-то часть кота»[102]. Бессознательный философ Декарта прячет в мешке cogito без «я», иннервированное животными духами.
Собака Минервы
Как и Декарт, Гегель – величайший представитель по умолчанию антропоцентрической философской традиции, который, как и подобает крупному философу своего времени, «плохо относился» к животным, считая их недостаточно исполненными духа. Некоторые авторы предсказуемо и, конечно, вполне справедливо ставят это Гегелю в упрек[103].
Так, Эндрю Бенджамин в своей крайне интересной и захватывающей критике гегелевского антропоцентризма исследует тему болезни в «Философии природы» и показывает, как она связана с проблемой другого и в конечном счете, очень сложным образом, с расизмом и даже антисемитизмом[104]. В философии Гегеля болезнь объясняется слабостью силы понятия. Если понятие поддерживает единство субъекта, то болезнь угрожает этому единству и способна разрушить его в результате разрастания какой-то одной части, которая стремится заменить собой целое. Животные же в такой перспективе больны по самой своей сути, так как живут в окружающей среде, полной опасностей, и, в отличие от людей, не могут противопоставить этой негативной среде известную способность созидания себя как целостности. Между тем, подчеркивает Бенджамин, и еврейство, по Гегелю, – своего рода болезнь или частность в людях, которая должна быть преодолена в пользу некоего целого[105].
Другой автор, Элизабет де Фонтене, в книге «Молчание зверей» указывает на две противоположные тенденции в гегелевской философии животного. Первая, которую она упоминает довольно бегло, не уделяя значительного внимания, связана с феноменологической традицией рассмотрения живого организма как субъективности, которая «через внешние процессы всегда поддерживает единство в себе»[106]. Вторая тенденция, которой Фонтене посвящает целую главу своей книги, озаглавленную «Пасть без духа», – это идеализм, и здесь как раз дает о себе знать «высокомерие» немецкого классика по отношению к животным, находящее наиболее яркое выражение в «Эстетике», где он рассуждает о красоте природы, или, точнее, об ущербности естественной красоты. В отличие от красоты, скажем, произведения искусства, естественная красота, по Гегелю, не достигает идеала, который представлял бы собой конкретное единство не только в себе, но также и для себя и, стало быть, для других:
Но хотя и животная жизнь, как представляющая собою вершину красоты в природе, уже выражает одушевляющее начало, однако всякая животная жизнь все же насквозь ограничена и связана с совершенно определенными качествами. Ее круг существования узок, и над ее интересами господствует естественная нужда в пище, половое влечение и т. д. Ее душевная жизнь, представляющая собою то внутреннее, что получает выражение в ее облике, бедна, абстрактна, бессодержательна. Кроме того, это внутренне не проявляется как внутреннее: принадлежащее царству природы живое существо не открывает своей души самому себе, ибо принадлежность к царству природы состоит именно в том, что душа принадлежащего этому царству остается лишь внутренней, т. е. не проявляет себя как идеализованное. Душа животного, как мы уже вкратце указали, не есть для самой себя это идеализованное единство; если бы она была для себя, то она проявлялась бы в этом для-себя-бытии также и для других. Лишь сознательное «я» есть впервые простое идеализованное, которое в качестве идеализованного само для себя знает о себе как об этом простом единстве и сообщает себе поэтому некую реальность, которая сама носит не исключительно только внешне чувственный и телесный, а идеализованный характер[107].
Получается, что в плане эстетики, с точки зрения Гегеля, проблема животных в том, что они недостаточно красивы. Их внутренний мир (душа) остается заключен в темницу тела – тайный, скрытый, непроявленный (отголоски подобной идеи мы далее можем услышать, например, у Хайдеггера, полагающего открытость истине критерием отличия уникального человеческого бытия, Dasein, от бытия простого живого существа). Гегелевское животное показывает нам только свой внешний облик. На уровне внешнего облика различие между животным и человеком определяется в некоторых аспектах, которые я сейчас перечислю, опираясь на гегелевский текст.
Прежде всего, тело животного, каким оно нам предстает, покрыто чешуей, шерстью, перьями, колючками и т. д. И все эти чешуя, шерсть, перья и колючки указывают, по Гегелю, на некоторую недоразвитость кожи. Чем кожа развитее, сильнее и чище, тем красивее живое существо. Развитие кожи, ее становление более гладкой, избавление от естественных защитных покрытий сопровождает рост духовности, которая таким образом становится более открытой. В «Философии природы» Гегель делает несколько любопытных замечаний по этому поводу:
Кожа млекопитающих переходит в шерсть, волосы, щетину, колючки (у ежа), даже в чешую и панцирь (у броненосца). Человек, наоборот, обладает гладкой, чистой, гораздо больше оживотненной кожей; его кожа свободна, далее, от всего костевидного. Пышная волосяная растительность свойственна женскому полу. Обилие волос на груди и в других местах у мужчины считается признаком силы; но оно свидетельствует лишь о сравнительно слабом развитии кожи[108].
В еще большей мере, чем кожа, глаза свидетельствуют о проявлении духа. Только у человеческого существа функция глаза, через который открывает себя душа – видимая и видящая (вспомним расхожую фразу: «глаза – зеркало души»), – преобладает над обычными естественными функциями, тогда как у животных главной формообразующей частью тела является выдающаяся вперед пасть. Именно это отличает человеческое лицо[109] от головы животного, в которой главное – это «пасть как орудие пожирания вместе с верхней и нижней челюстями, зубами и мускулами, служащими для жевания». Остальные органы по отношению к этому являются «служебными и вспомогательными: главным образом, нос для обнюхивания, нет ли где-нибудь вокруг пищи, а затем глаза – эти органы менее важны – для ее высматривания»:
Ясно подчеркнутый характер этих органов, посвященных исключительно естественной потребности и ее удовлетворению, сообщает животной голове выражение голой целесообразности для выполнения природных функций, выражение, лишенное всякой духовной идеальности. Таким образом, исходя из орудий пожирания, мы можем понять весь животный организм. А именно, определенный род пищи требует определенного строения морды, особого рода зубов; с ними в свою очередь находится в тесной связи структура челюстей и мускулов, служащих для жевания, скуловых костей, далее, спинной хребет, бедренные кости, когти и т. д. Тело животного служит исключительно природным целям; вследствие этой зависимости лишь от чувственной стороны, от корма, оно получает выражение бездуховности[110].
У человека рот и другие органы, которые были самыми важными для животного, практически относящегося к вещам, отодвигаются на второй план, уступая место более «теоретическим» органам:
Человеческое лицо имеет поэтому второй центр, в котором дает о себе знать исполненное души, духовное отношение к вещам. Это имеет место в верхней части лица, в раздумывающем лбе и лежащих ниже, отражающих душу, глазах с прилежащими к ним частями лица. А именно, со лбом находится в связи раздумывание, размышление, уход духа в себя; внутренняя его жизнь выглядывает с ясной концентрированностью из глаз. Благодаря выступанию вперед лба, в то время как рот и челюстные кости отступают назад, человеческое лицо получает духовный характер[111].
Любопытно сравнить эти рассуждения Гегеля с наблюдениями Батая, также рассуждавшего о главенстве пасти в животном теле. В коротком эссе «Рот» (1930) он пишет:
Рот – это начало или, если угодно, передняя часть животного; в наиболее характерных случаях это самая живая часть, иными словами, внушающая наибольший страх находящимся рядом животным. Но у человека не такая простая архитектура, как у зверей, и невозможно даже сказать, где он начинается ‹…› глаза или лоб играют значимую роль животных челюстей[112].
Однако в свойственной себе манере Батай сопровождает это наблюдение то ли тревогой, то ли зачарованностью, внушаемой животной природой человека, замечая, что в моменты возбуждения, ярости и т. д. открытый рот обнажает наши непристойные, взрывные импульсы. Отсюда, заключает он, «узкий запор строго человеческой позиции, повелительный вид лица с закрытым ртом, прекрасный в той мере, в какой безопасный»[113].
Что, по мысли Гегеля, действительно по-настоящему прекрасно, так это греческий профиль – художественная модель, идеальным образом соединяющая в себе индивидуальное и всеобщее, в которой стерты все животные следы и даже рот является чистейшим воплощением духовного:
Напротив, при смягчении и выравнивании различий, при прекрасной гармонии между верхней и нижней частями лица, которую являет нам греческий профиль, в мягкой непрерывной связи одухотворенного лба и носа, именно благодаря этой связи нос кажется в большей мере присвоенным лбу и в силу этого, входя в систему духовного, получает сам духовное выражение и характер. Обоняние становится как бы теоретическим, нос получает тонкий нюх к тому, что касается духовного […] Но то же мы сможем сказать и относительно рта. Он, правда, с одной стороны, предназначен быть орудием удовлетворения голода и жажды, а с другой, он выражает также и духовные состояния, помыслы и страсти. Уже у животных он служит в этом отношении для крика, у человека же он еще служит для речи, смеха, вздохов и т. д., причем уже самые очертания рта имеют характерную связь с духовным состоянием красноречивого сообщения своих мыслей или радости, страдания и т. д.[114]
Продолжая свой анализ скульптурного выражения формы лица, Гегель опережает возражение, которое могло бы заключаться в том, что «такая форма лица представлялась подлинно прекрасной только грекам, а китайцы, евреи, египтяне считали столь же или еще более прекрасными совершенно другие и даже противоположные очертания», и спорит с выводом, что «отнюдь еще не доказано, что греческий профиль представляет тип подлинной красоты» или что абсолютной модели совершенной красоты нет вообще. Подобные заключения, по его мысли – «пустая болтовня»:
Греческий профиль должен рассматриваться не как лишь внешняя и случайная форма, а сам по себе присущ идеалу красоты, так как он, во-первых, есть тот характер лица, в котором выражение духовного совершенно оттесняет на задний план чисто природное, а во-вторых, он больше, чем всякий другой, отходит от случайности формы, причем, однако, не являет только голой целесообразности, не изгоняет всю и всякую индивидуальность[115].
Разумеется, в наше время такое заявление не может не привлечь внимание критиков. Элизабет де Фонтене указывает, в частности, на неизбежную связь, вытекающую отсюда, между видовой дискриминацией и расизмом:
Гегель вывел из сравнительного анализа черт – сходств или различий между людьми и животными, с одной стороны, и между самими людьми, с другой, – объективную реальность, где уровни духовности выражают себя ‹…› Если бы кто-то хотел высмеять его, как Мольер Аристотеля, можно было бы сказать, что у некоторых людей, некоторых человеческих рас более, чем у других, дух погружен в материю, и они внешне ближе к животным видам[116].
В свою очередь, Эндрю Бенджамин в своем уже упомянутом исследовании фигур животного и еврея в контексте проблемы другого у Гегеля также обращается к его теории скульптуры и подчеркивает, что и здесь другой появляется как частность или даже болезнь, которая должна быть преодолена в пользу универсального человечества:
Скульптуры других – «китайцев, евреев, египтян» – отдалены от идеала красоты, и таким образом, от связи, которую скульптура могла бы иметь с духовным. История скульптуры в своем развитии может в конечном итоге обойтись без животных и могла бы превзойти работы, не являющиеся выражением духовного. Их присутствие ограничено моментом в истории, моментом, который следует преодолеть[117].
Преодоление – жест, бесспорно, в гегелевской диалектике один из самых важных. В разворачивании истории нет ни единого момента, который мог бы быть описан как чистая позитивность. Путь духа складывается из серии трудных шагов самоотрицания и самопреодоления, в том числе преодоления в себе «животного». Это негативное движение особенно выражено в прямостоянии, которое, по Гегелю, является результатом сознательного и произвольного действия. Прямостояние – это еще один критерий, задействованный в проведении границы между человеческим и животным телом. С одной стороны, оно тесно связано с той же функцией рта, которая в случае человека теряет свое первенство также и потому, что человеческое существо буквально поднимает голову, тогда как у животных пасть и позвоночник располагаются на одной линии. С другой стороны, удержание вертикальной позы и прямохождение, по мысли Гегеля, предполагают наличие свободной воли, не имея которой животные не могут даже стоять прямо:
Что касается положения, то первое, что представляется даже поверхностному рассмотрению, – это прямое положение человека. Тело животного идет параллельно земле, морда и глаза имеют то же направление, что и хребет; животное не может самостоятельно, собственными силами устранить это свое отношение к тяжести. Совсем не так обстоит дело у человека, так как смотрящий прямо глаз в своем естественном направлении образует прямой угол с линией тяжести и тела. Человек, правда, может так же ходить на четвереньках, как и животные; дети действительно так поступают; однако, как только сознание начинает пробуждаться, человек вырывается из этой животной связанности с землей и стоит свободно, самостоятельно, прямо. Стоять прямо – некоторый акт воли, ибо как только прекращается желание стоять, наше тело рушится, падает на землю. Уже в силу одного этого прямое положение имеет характер некоторого духовного выражения, поскольку прямое стояние, освобождение от связанности с землей находится в связи с волей и поэтому с духовным и внутренним, как и в самом деле о свободном в себе и самостоятельном человеке, не ставящем своих помыслов, воззрений, намерений и целей в зависимость от других, мы привыкли говорить, что он стоит на собственных ногах[118].
Конечно, свободная воля нужна не только для того, чтобы стоять на ногах. Она нужна – и для Фонтене это драматическая точка пересечения между гегелевской натурфилософией и его философией права, – чтобы распоряжаться собственной жизнью. У людей в этой связи имеется знание о смерти, которое и делает акт свободной воли основным принципом человеческой жизни[119]. Животные не то чтобы не чувствуют и не страдают, как у Декарта. Наоборот, они чувствуют и страдают сполна, но не знают о смерти, не могут по-настоящему умереть, смерть не существует для них как нечто осознаваемое. А если они не распоряжаются по-настоящему собственной смертью и, значит, не распоряжаются по-настоящему собственной жизнью, они не могут быть и субъектами закона – об этом Гегель пишет, соответственно, в «Философии права»[120]. Животные не владеют, не распоряжаются своей жизнью и смертью, зато мы можем распоряжаться не только своей, но и их жизнями. Вот так, заключает Фонтене, действует метафизическая машина (которую, напомню, Агамбен называет антропологической): она дает людям всю власть распоряжаться жизнью животных на свое усмотрение, в соответствии со своими потребностями и желаниями. Фонтене призывает покончить с этой «кровавой тавтологией»[121].
Невозможно не согласиться с этим требованием, возникающим из желания отдать справедливость животным после многих веков угнетения и вытеснения. Выражая полную солидарность с этой критикой, я, тем не менее, хочу напомнить, что она черпает свою легитимность из эмансипаторной этико-политической интеллектуальной повестки XX века и общей теоретической установки – от Хайдеггера и Батая, через постструктурализм и деконструкцию, и до современного постгуманизма – покончить со всей метафизической традицией, выйти за ее пределы. Лакан резюмировал эту установку еще в 1955 году: «Мне не очень нравится, когда кто-нибудь утверждает, будто Гегеля или, скажем, Декарта уже превзошли. Да, мы всё превосходим и остаемся ровно на том же месте»[122].
Если мы хотим поймать хотя бы часть кота, выпрыгнувшего из метафизического мешка, я полагаю, следует набраться терпения, вернуться именно к той точке, которую мы «превзошли» (по Лакану, мы все еще там), и поискать в ней другого Гегеля. Хотя этот другой будет на самом деле тем же самым, Гегелем тотальности системы, в этой системе животные будут играть более двусмысленную и вместе с тем более важную роль. Дело в том, что, обращая внимание исключительно на репрессивные аспекты различия между человеком и животным, мы рискуем оказаться в поле чисто этической проблематики. Это не заведет нас далеко, а скорее размажет по поверхности «слишком человеческого» самосознания или даже «нечистой совести» философии, в которой давно стерты все звериные следы.
Итак, я предлагаю сделать условный шаг назад – к тому моменту у Гегеля, который Фонтене, охарактеризовав его как феноменологическую тенденцию, упоминает лишь вскользь, как если бы он был чем-то менее значимым. Для этого следует вернуться к переходу от радикального картезианского исключения к радикальному же гегелевскому включению, когда животное прежде всего проявляет себя как субъективность.
В классическую эпоху «место безумия – в сфере исключенности, – пишет Фуко, – и лишь „Феноменология духа“ отчасти выпустит его на свободу»[123]. А вместе с ним – главным образом во втором томе «Энциклопедии философских наук» – на свет разума, можно сказать, выйдет животное, этот безумец, вдруг оказавшийся высшей точкой природы.
Социальные и интеллектуальные практики исключения и изоляции, подобные описанным Фуко, служат, на наш взгляд, элементарной гигиенической мерой, позволяющей закрепить некоторую иерархию. Они сохраняют свою актуальность, пока основанный именно на этой иерархии мировой порядок не упрочится до такой степени, чтобы вновь безбоязненно включить в себя элементы, ранее отброшенные за его пределы. Или даже – но это уже что-то новое – освоив все ресурсы того, что Фуко несколько иронично, всегда ставя это слово в кавычки, называет «правопорядком», разум раскрывает эти элементы в самом себе и готовится к тому, чтобы принять их, в том числе и в качестве необходимых и конститутивных, а не просто каких-то случайных или пришлых.
Полицейские меры уже не имеют прежнего эффекта, потому что от «другого» так легко не избавиться – его уже нельзя просто послать прочь, исключить, изолировать. Я сам «потенциально безумен», или, как вслед за Артюром Рембо повторяет Лакан, «Я – это другой»[124]. Гегелевскую формулу безумия удачно резюмирует Жижек:
Как Гегель утверждает в протофукианских терминах, безумие – это не случайная ошибка, искажение, «болезнь» человеческого духа, но что-то, что вписано в основополагающую онтологическую конституцию индивидуального духа, ибо быть человеком значит быть потенциально безумным ‹…› Не будучи фактической необходимостью, безумие тем не менее является формальной возможностью, конститутивной для человеческого разума: это что-то, угроза чего должна быть преодолена, чтобы мы могли стать «нормальными» субъектами, а значит, «норма» может возникнуть только из преодоления этой угрозы[125].
В философской системе Гегеля разум наделяется такой силой, что заявляет о своей способности охватить и поглотить всю враждебную ему сферу негативности опыта, включая опыт животности, безумия и даже смерти. Цель универсального человечества, завершение его принципиальной задачи состоит в том, чтобы обеспечить материю духовным содержанием, сделать ее умопостигаемой посредством разворачивания системы науки. Любая субстанция становится возможностью субъекта. Эта возможность реализуется в негативном движении, в то же самое время являющемся тотальностью духа, который проходит через стадию отчуждения и разрыва с самим собой и встречается лицом к лицу с конечностью, чтобы ее преодолеть. Конечность же постигается через природу, которая есть «идея в форме инобытия»[126]. Природа есть зеркало духа, его отрицание, его объективное, внешнее, отчужденное существование. В этом зеркале дух должен узнать себя, чтобы обрести себя в своем единстве через процессы опосредования и самоотчуждения. В заключении «Философии природы» Гегель пишет:
Цель настоящих лекций – дать изображение природы, с тем чтобы одолеть этого Протея, найти в этом внешнем бытии лишь зеркало нас самих, увидеть в природе свободное отражение духа, познать бога не в рассмотрении духа, а в этом его непосредственном наличном бытии[127].
Гегелевская философия природы проходит через все уровни и формы неорганической и органической материи. Оживает практически весь материальный мир, оживает геологическая порода, океан, атмосфера, кристаллы. Возникает ощущение, что ни одна самая ничтожнейшая инфузория, ни один мельчайший гриб или даже морской планктон не сумели скрыться от какой-то, прямо скажем, нечеловеческой одержимости Гегеля все включить в свою систему и каждую точку вселенной вовлечь в общий процесс становления. Природа подвергается тотальной инвентаризации – с тем, чтобы ее невероятное богатство, в стихию которого погружается, отчуждая сам себя, дух, было затем присвоено им без остатка. Ничто не должно потеряться, остаться неучтенным или, хуже того, исключенным. Все, напротив, поймано в гигантский зверинец духа, единство которого видит свое отражение в множественности изобильной природы (между единством и множественностью здесь – диалектическая связь). Животные, конечно, становятся важнейшим элементом этой тотальности и потому подлежат тщательной классификации.
Человеческая культура знает много способов классифицировать животных. Можно встретить самые разные подходы к этой задаче в мифах, религии, науке и искусстве. Встречаются и такие забавные, как, например, классификация из знаменитой «Китайской энциклопедии» Борхеса, цитируемой Фуко в начале его книги «Слова и вещи»:
Животные подразделяются на: а) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую классификацию, и) буйствующих, как в безумии, к) неисчислимых, л) нарисованных очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти, м) и прочих, н) только что разбивших кувшин, о) издалека кажущихся мухами[128].
По словам Фуко, эта классификация вызывает «… смех, который колеблет все привычки нашего мышления – нашего по эпохе и по географии – и сотрясает все координаты и плоскости, упорядочивающие для нас великое разнообразие существ, вследствие чего утрачивается устойчивость и надежность нашего тысячелетнего опыта Тождественного и Иного»[129]. По мысли Фуко, нас заставляет смеяться, в конечном счете, гетерогенность, или гетеротопия, отсутствие унифицирующего принципа, совершенно немыслимое в рамках западной традиции. Поражает, по мысли Фуко, не просто странность такого сопоставления, но то, что разрушено само основание для него: «Невозможным является не соседство вещей, но общая почва их соседствования»[130]. Поскольку же для Гегеля «существует только один тип животного, и все различия суть лишь его модификации»[131], кажется, что его классификация – нечто противоположное китайской. Однако это не совсем так.
Замечу, что для Гегеля классификация сама по себе составляет большую проблему, идущую от философской идеи, что между внеположной реальностью, действительностью, природой, с одной стороны, и понятием, с другой, существует разрыв:
Классифицируя животных, поступают так: отыскивают то общее, к чему сводятся конкретные образования, и притом в каком-нибудь простом, чувственном свойстве, являющемся тем самым и внешним. Но таких простых определений не существует. Если взять, например, общее представление «рыба», как принадлежащее всему тому, что объединяется под этим названием в представлении, и если спросить: в чем простой признак рыб, их единое объективное свойство? – то ответ «плавание в воде» будет неудовлетворителен, ибо ведь плавает и множество сухопутных животных. Плавание не есть к тому же ни орган, ни образование, ни вообще какая-нибудь определенная часть формы тела рыбы, а некоторый способ ее деятельности. Нечто столь всеобщее, как рыба, именно как всеобщее не связано ни с каким особенным способом своего внешнего существования. Когда принимают, что такой общий признак должен определенно наличествовать в виде какого-нибудь простого определения, например плавников, а потом оказывается, что такового нет, тогда задача классификации животных становится затруднительной[132].
Гегель понимает, что само по себе «многообразие, свободное раздолье жизни не допускает ничего всеобщего»[133]. Его нет в реальности самой природы, но, по мысли Гегеля, его следует искать в другой плоскости, которая не совпадает с природой, а именно на стороне духа и науки. Если Аристотель в своей классификации животных отталкивается от эмпирической действительности, чтобы по мере возможности привести свою теорию в соответствие с этой действительностью, то Гегель настаивает на том, что мы должны отталкиваться от теории, от понятия, от «всеобщих определений». И вот оно, крылатое утверждение: если действительность не соответствует понятию, тем хуже для действительности:
Бесконечность животных форм нельзя поэтому учитывать с такой точностью, которая возможна, если бы необходимость системы соблюдалась абсолютно строго. Надо, наоборот, возвести в правило всеобщие определения и с ними сравнивать естественные образования. И если последние не соответствуют правилу вполне, но все же приближаются к нему, если они одной своей стороной подходят под него, а другой нет, то не правило, не характеристика рода или класса и т. д. должны быть изменены, словно они обязаны соответствовать данным существующим формам, а, наоборот, последние должны соответствовать первым; и поскольку действительность им не соответствует, постольку это ее недостаток[134].
Понятие, таким образом, это не то, что должно соответствовать определенной действительности природы или отражать ее, но то, что подчиняет действительность со всеми ее частностями универсальному. Как уточняет Младен Долар,
для Гегеля факты не могут противоречить теории не из-за их низшей природы, но потому что факты могут существовать, только если они схвачены понятием, факт может приобрести достоинство факта только через доблесть теории, которая выбирает его и представляет как актуальный[135].
Между тем надо отметить, что универсальность понятия требует специфического философского отношения, некой примордиальной веры в понятие. Гегель учредил определенный этос истины, согласно которому если с действительностью что-то не так, в том смысле, что она не соответствует понятию, не согласуется с имеющимися классификациями и всеобщими определениями и, таким образом, не может быть объяснена, то это не потому, что действительность сама по себе неадекватна, но потому, что она как бы отстает от понятия, плетется позади него. Если это так, то понятие нас не подведет и действительность в конце концов обязательно его догонит:
Из понятия надо исходить; и если оно не справилось еще с «богатым разнообразием» природы, как принято выражаться, все-таки понятию следует доверять, даже если многие частности остаются пока необъясненными ‹…› Понятие же имеет силу для себя; отдельные подробности придут уже потом[136].
Одним словом, природа – не костная и неизменная данность, а реальность, которая трансформируется в соответствии с логикой истины, которую представляет разворачивающийся в истории дух. Ограничиться простым сведением этого философского этоса к идеализму означает понять его неправильно. Конечно, сам Гегель эксплицитно характеризует свою позицию как идеализм. Однако если мы хотим понять его правильно, мы должны оценить радикализм его веры, от которой только один маленький, но очень важный, решительный и, очевидно, волюнтаристский шаг к тому, что резюмировал Маркс в своем знаменитом одиннадцатом тезисе о Фейербахе.
Начиная с Гегеля теория, устав от попыток поймать действительность за хвост, провозгласила свое превосходство. Противоречие стало пониматься не как проблема теории, которая не соответствует действительности, а как проблема действительности, которая не соответствует теории, проблема эмпирической действительности, которая не соответствует своему понятию. Тем не менее никак не желающий сокращаться разрыв между теорией и действительностью свидетельствует не столько о верности или неверности правила всеобщих определений, сколько о том, что у действительности, как она есть, имеется недостаток и что, каким бы истинным ни было понятие, этот недостаток не позволяет истории и жизни продвинуться настолько, чтобы действительность со временем сама собой за этим понятием «подтянулась», как того хотел бы Гегель. А поскольку сама действительность имеет в себе недостаток и представляет собой проблему, постольку от идеалистической критики теории требуется переход к материалистической критике действительности. Та действительность, с которой мы имеем дело день ото дня, не является иллюзорной, но не является и истинной. Это действительность действительная – и тем не менее ложная, а значит, теория должна выбраться из-под уютного одеяла собственной автономии и превратиться в практику. От критики теории следует двигаться не только к критике действительности, но и далее – к практике (однако это уже шаг Маркса).
Один из основных моих тезисов заключается в том, что фигура животного у Гегеля как раз и подводит нас к этому переходу. Чтобы представить ее в этом аспекте, мы должны прежде всего провести предварительный анализ тех моментов уязвимости, когда не понятию не удается следовать за природой, а у природы не получается следовать за понятием. Если природа – это зеркало духа, то это зеркало кривое, но смотреть в него тем не менее нужно, потому что именно из его искажений и драматических несоответствий рождается историческая субъективность.
Этот предварительный анализ проходит через гегелевскую классификацию животных, которая разворачивается от так называемых примитивных до так называемых высокоразвитых, от червей до людей. Гегель основывает эту классификацию на традиции, начинающейся с Аристотеля и развитой затем Кювье и Ламарком. Аристотель подразделял все живые существа на животных с кровью и бескровных. У всех животных с кровью, согласно наблюдениям Аристотеля, имеется позвоночник. Впоследствии от этой идеи отказались, но ее суть сохраняется в некой измененной форме и в дальнейших научных конструкциях. Так, Ламарк делит животных на позвоночных и беспозвоночных. Кювье объединил принципы Ламарка и Аристотеля: в его теории у позвоночных кровь красная, а у беспозвоночных – белая. Похожим образом думает и Ламарк, но кровь он определяет через насыщенность красного цвета, поэтому получается, что у беспозвоночных все-таки нет настоящей, то есть красной, крови. Однако в соответствии со всеми этими классификациями беспозвоночные и бескровные – все-таки часть того же самого животного мира, что и позвоночные и животные с кровью[137]. Наличие или отсутствие крови или костей позволяет каким-то образом упорядочить бесконечное разнообразие живых существ, и, конечно, не нужно забывать, что этот порядок – традиционно иерархический: беспозвоночные без крови располагаются где-то на нижних ступенях, а позвоночные с кровью – на верхних.
В целом, Гегель принимает традиционное деление животных на беспозвоночных и позвоночных. Классификация позвоночных, в свою очередь, производится «согласно стихиям неорганической природы: земле, воздуху и воде»[138], которым соответствует телесная организация этих животных, согласно их понятию. Таким образом, имеются сухопутные животные, птицы и рыбы: «Млекопитающие, эти настоящие сухопутные животные, наиболее совершенны; за ними следуют птицы, и наименее совершенны рыбы»[139].
Я бы хотела обратить внимание на одну деталь, которая кажется маргинальной, но на самом деле она очень важна. В дальнейшем описании млекопитающих коротко упоминаются «пресмыкающиеся, или амфибии – промежуточные образования, принадлежащие частично земле, частично воде», которые, как говорит Гегель, «заключают в себе нечто отвратительное»[140]. Можно задаться вопросом: почему эти животные не нравятся Гегелю? Если мы отнесемся к этому вопросу со всей серьезностью, то окажется, что неприязнь Гегеля к рептилиям соответствует его принципиальной теоретической позиции.
Хорошо известно, что наличие переходных форм часто используется в качестве доказательства идеи эволюции. Однако для Гегеля нет и не может быть эволюции в природе:
Древняя, а также новейшая философия природы исходили из неудачного представления, будто эволюция форм и сфер природы и переход их в высшие формы и сферы являются внешним и фактически порождением, которое (порождение), однако, отодвигалось в тьму давно прошедших времен единственно лишь для того, чтобы сделать его более ясным для нас. В действительности же природе как раз свойствен характер внешности, ей свойственно дать различиям обособиться и выступать как безразличные друг к другу существа. Диалектическое же понятие, сообщающее поступательное движение ступеням, является внутренним в них. Мыслительное рассмотрение должно воздержаться от такого рода туманных, чувственных в своей основе представлений, как, например, представление о так называемом происхождении растений и животных из воды или представление о происхождении более развитых животных организаций из низших и т. д.[141]
За это Гегеля многие критиковали – например, Бенедетто Кроче:
Эволюция и диалектика понятий в гегелевской «Философии природы» чисто идеалистические. Они оставляют естественные виды нетронутыми и, конечно, провозглашают их стабильность ‹…› Это чистая враждебность гипотезе трансформации, и это то, чего и следовало ожидать от Гегеля, который не признает никакой историчности в природе[142].
Конечно, негативное отношение Гегеля к идее эволюции вырастает из его радикального идеализма и веры в понятие. Существование промежуточных форм демонстрирует не эволюционный процесс трансформации, а попросту «бессилие Природы остаться верной понятию и прийти к мыслительным определениям в их чистоте»[143]. Не случайно поэтому Гегель отдает явное предпочтение «настоящим животным» и не испытывает особой симпатии к китам, пресмыкающимся, земноводным и так далее. Гегелевская амфибия – это ошибка природы, изъян действительности, не преуспевшей в своем соответствии понятию, свидетельство которого – чистота и определенность данного типа, – и оттого являющей собой «жалкое зрелище»:
Но если и сухопутное животное может в виде китообразных снова вернуться в воду; если рыба в виде амфибий и змей снова поднимается на сушу, являя там самое жалкое зрелище, поскольку у змей, например, есть зачатки ног, не имеющие, однако, никакого значения; если птицы становятся плавающими птицами и Ornithorynchus составляет даже переход к сухопутным животным, а в страусе птица становится сухопутным животным, подобным верблюду, покрытым больше волосами, чем перьями; если некоторые сухопутные животные, например вампиры и летучие мыши, способны даже летать, как существуют и летающие рыбы, – то все это не снимает тем не менее указанного основного различия, которое не должно быть общим, но определено в себе и для себя[144].
В этом заключается один из центральных принципов «Философии природы», который ясно показывает, как работает гегелевская система – только как тотальность истины:
Животная природа есть истина растительной природы, а последняя – истина минералогической природы. Земля есть истина Солнечной системы. Во всякой системе наиболее абстрактное является первым членом, а истиной каждой сферы является последний член; но столь же верно, что этот последний член является лишь первым членом некоторой высшей ступени. Дополнение одной ступени другой представляет собой необходимость идеи, и мы должны понимать различие форм как различие необходимое и определенное[145].
Диалектика духа, таким образом, свершается во внутреннем единстве истины; становление не является видимым или доступным наблюдению процессом трансформации: «Но это не значит, что из водного животного естественным образом возникло земное и последнее поднялось в воздух, и точно так же это не значит, что птица снова упала на землю и превратилась в земное животное»[146].
В природе с ее многообразием и множественностью нечто становится иным только в себе. Дух овнешняет себя только через индивидуализацию видов и родов существ в их соответствии общим определениям, но не через их смешение. Природа, кривое зеркало единства духа, – это сфера различия. Именно так она провозглашает себя в качестве субстанции, становящейся субъектом, учитывая, что субъект – это не только то, что трансформируется, но и то, что всегда остается тем же самым сквозь все эти трансформации. Внутренняя диалектика становления выражает себя в форме конкретной индивидуальности – камня, цветка, минерала, дерева, лошади или мужчины. И все это может существовать только в тотальности, когда одно является истиной другого и вступает с ним в отношение.
В конце концов, можно сказать, что в каком-то смысле гегелевская «Энциклопедия» не так уж сильно отличается от китайской, где в числе прочих мы можем найти сразу два типа животных – «включенных в настоящую классификацию», с одной стороны, «и прочих», с другой. «И прочие», стало быть, тоже включены, как те гегелевские летучие мыши и вампиры, которые не слишком хорошо вписываются в логику понятия, но, тем не менее существуют в этом изобилии животной жизни, пусть даже на правах «ошибки природы»: мы-то знаем, что ошибка, по Гегелю, – это часть истины.
Гегель продолжает свою классификацию млекопитающих, определяя их согласно поведению «как индивидуальности по отношению к другим животным» или согласно частям тела или средствам, с помощью которых они вступают в отношения друг с другом:
Отстаивая себя своим оружием как индивидуальность против своей неорганической природы, животное обличает себя тем самым как сущий для себя субъект. Согласно сказанному, млекопитающие отчетливо распадаются на следующие классы: 1. на животных, у которых ноги стали руками, – человек и обезьяна (обезьяна есть сатира на человека, который будет охотно смотреть на нее, если не захочет принять ее слишком всерьез, а захочет лишь позабавиться над самим собой); 2. на животных, конечности которых являются когтями, – собаки и хищные животные, такие как лев, этот царь зверей; 3. на грызунов, у которых особенно развиты зубы; 4. на летучих мышей с перепонкой между пальцами, встречающейся уже и у некоторых грызунов (они ближе граничат с собаками и обезьянами); 5. на ленивцев, у которых пальцы частично или совсем отсутствуют и заменены когтями; 6. на животных с плавникообразными членами – китообразные; 7. на животных с копытами, каковы свиньи, слоны, имеющие хобот, рогатый скот, лошади и т. д.[147]
Конечно, среди млекопитающих и вообще животных человек – самый совершенный, и вышеупомянутая обезьяна, у которой тоже есть руки, является просто «сатирой на человека». Не только обезьяна, самое антропоморфное животное, но и другие звери классической западной философской традиции, начиная с аристотелевских ласточек, коней или слонов, подражающих человеку, представляют собой своего рода «сатиру» или «пародию» (в противоположность этой тенденции, у Батая первобытный человек – и вообще человек – имитирует животное, прячется под маской зверя, «смахивает на карикатуру»).
Неудивительно, что, переходя непосредственно к рассмотрению животного, Гегель во многом опирается на Аристотеля. Так, три типа органической жизни у Гегеля – растительная, животная и человеческая – соотносятся с тремя душами у Аристотеля. Все они одной природы, но наделены разными способностями, количество и качество которых от растения к человеку, разумеется, возрастает:
Животное имеет и растительную природу, оно относится определенным образом к свету, к воздуху, к воде; но, далее, оно обладает ощущением, к которому в человеке присоединяется еще мышление. Аристотель говорит поэтому о трех душах – растительной, животной и человеческой – как о трех определениях в развитии понятия[148].
В этом отношении не следует забывать, что и аристотелевский миметический космос, и гегелевская тотальность существуют благодаря включенности и фундаментальному единству всех элементов, и если для Аристотеля, как указывает Симондон, принципом единства является жизнь, то для Гегеля таким принципом будет скорее негативность.
Важно (хотя об этом часто забывают), что Гегель описывает все организмы как субъективности, и животные тоже оказываются в этом списке – между растениями и людьми. Животные являются субъектами в той мере, в какой они находятся в негативном отношении к определенным предметам. Если нужен яркий пример негативности в животном, следует обратиться к удивительному пассажу из «Феноменологии духа», в котором Гегель, критикуя идею чувственной достоверности, сравнивает животного с проходящим инициацию участником Элевсинских мистерий:
С этой точки зрения можно посоветовать тем, кто утверждает названную истину и достоверность реальности чувственных предметов, обратиться в низшую школу мудрости, а именно к древним Элевсинским мистериям Цереры и Вакха, и сперва изучить тайну вкушения хлеба и пития вина; ибо посвященный в эти тайны доходит до того, что не только сомневается в бытии чувственных вещей, но и отчаивается (Verzweiflung) в нем и, с одной стороны, сам осуществляет их ничтожность, а с другой стороны, видит, как ее осуществляют. Даже животные не лишены этой мудрости, а, напротив, оказываются глубочайшим образом посвященными в нее; ибо они не останавливаются перед чувственными вещами как вещами, сущими в себе, а, отчаявшись в этой реальности и с полной уверенностью в их ничтожности, попросту хватают их и пожирают; и вся природа празднует, как они, эти откровенные мистерии, которые учат тому, что такое истина чувственных вещей[149].
В гегелевских элевсинских животных можно без труда разглядеть своего рода субверсивную пародию на картезианское cogito, подвешенное между собственной достоверностью и кабинетным радикализмом сомнений по поводу чувственного мира. Животные не просто «сомневаются» в существовании чувственных объектов. Нет, как говорит Гегель, они отчаялись (Verzweiflung) и в отчаянии отрицают эти объекты. Их животность раскрывает себя как субъективность через негативный жест по отношению к действительности, посредством которого они обретают свободу. Все гегелевские субъективности делают это при том необходимом условии, что от одного уровня к другому свобода становится все менее индивидуальной, ограниченной и все более универсальной. Если растения, например, остаются прикреплены к своим местам (благодаря корневой системе), то животные обретают некую элементарную свободу движения, и пусть они, как я уже отметила, не могут стоять прямо, они все же начинают преодолевать силу тяжести и перемещаться по собственному произволу, свободно выбирая себе место:
Животное обладает способностью случайного самодвижения, ибо его субъективность, подобно свету, этой освобожденной от тяжести идеальности, есть свободное время, которое, будучи изъято из реальной внешности, самостоятельно определяет свое место во внутренней случайности[150].
Выбор данного места находится, таким образом, во власти животного и не полагается другим: животное само полагает себе это место. Все остальное прикреплено к отдельным местам, не будучи сущей для себя самостью. Животное, правда, не исходит из всеобщего определения единичного места; но вот это место полагается им самим. Именно поэтому субъективность животного не просто отличается от внешней среды, но сама отличает себя от нее; и это составляет в высшей степени важное различие – это самополагание как чистая самостоятельная отрицательность вот этого места и вот этого места и т. д.[151]
Более того, у гегелевских животных есть голос, эта «высокая привилегия», которая «ближе всего к мышлению»[152]. Причем особое изумление у Гегеля в его наполненном голосами мире вызывают птицы – не только своим свободным полетом, но и своим пением:
Животное обнаруживает вовне, что оно имеет внутреннее бытие для самого себя; и это обнаружение вовне есть голос. Но только ощущающее может обнаружить вовне, что оно ощущает. Птицы небесные и другие животные издают звуки, чтобы выразить боль, потребность, голод, сытость, желание, радость, страсть; конь ржет, отправляясь в битву; насекомые жужжат; кошки мурлычат от удовольствия. Но теоретическое излияние поющей птицы есть более высокий вид голоса; и это свойство птицы есть уже нечто новое по сравнению с тем обстоятельством, что животные вообще имеют голос. Ибо тогда как рыбы немотствуют в воде, птицы свободно парят в воздухе как в своей стихии; оторванные от объективной тяжести земли, они наполняют собой воздух и выражают свое самочувствие в особой стихии. Металлы обладают звучностью, но еще не голосом; голос есть становящийся духовным механизм, который овнешняет себя этим способом. Неорганическое обнаруживает свою специфическую определенность лишь тогда, когда его побуждают к этому извне, когда по нему ударяют; но животное существо звучит само собой. Субъективное проявляет себя как обладающее душой, сотрясаясь в самом себе и заставляя сотрясаться воздух[153].
Однако голоса гегелевских животных лишены смысла. Голос животного – это еще не язык, не осмысленный набор звуков. Бытие звучит и сотрясает воздух, но ничего не сказано. И только в человеке дух приходит к своему подлинному выражению в языке. Как подчеркивает Жан Ипполит,
Язык сознает индивидуацию всеобщего, или же манифестацию экзистенциального единства единичного и всеобщего. Язык провозглашает одновременно объект, о котором говорят, и субъекта, который говорит; язык – это голос, который, когда он говорит, узнает себя уже не как голос, лишенный «я»[154].
Обладание языком как привилегия человека – это один из нерушимых столпов традиционной философской метафизики, и Гегель, очевидно, сидит на его вершине. Однако, как подчеркивает Агамбен, в книге «Язык и смерть» детально исследующий этот вопрос у Гегеля, язык возникает именно из пустоты голоса животного. Агамбен цитирует «Йенскую реальную философию», в которой Гегель описывает процесс обретения голосом смысла и становления его «голосом сознания», то есть процесс артикуляции:
Пустой голос животного обретает смысл, который бесконечно определяется в себе. Чистый звук голоса, гласный, различен тогда, когда голосовой орган представляет его артикуляцию с ее различиями. Этот чистый звук прерывается немыми [согласными], подлинным и чистым прерыванием простого резонирования. Изначально посредством этого каждый звук имеет значение для себя, так как различия простого звука в песне определены не для себя, а только в отношении к предшествующим и последующим звукам. Язык в той мере, в какой он является звонким и артикулированным, – это голос сознания, поскольку каждый звук имеет смысл[155].
Комментируя этот фрагмент, в котором «артикуляция возникает ‹…› как процесс дифференциации, прерывания и сохранения голоса животного», Агамбен ставит следующие вопросы:
Почему эта артикуляция голоса животного превращает его в голос сознания, память и язык? Что содержалось в «чистом звуке» «пустого» голоса животного, что простая артикуляция и сохранение этого голоса смогли дать начало человеческому языку как языку сознания?[156]
В поисках ответа Агамбен обращается к другому гегелевскому высказыванию на тему голоса животного: «Каждое животное находит голос в своей насильственной смерти; оно выражает себя как изъятая самость»[157]. А если так, то, по мысли Агамбена,
мы теперь можем понять, почему артикуляция голоса животного дает жизнь человеческому языку и становится голосом сознания. Голос как выражение памяти о смерти животного больше не простой, естественный знак, который находит свое инобытие вне себя. И хотя это еще не осмысленная речь, он уже содержит внутри себя силу негативного и памяти ‹…› Умирая, животное находит свой голос, оно усиливает душу в одном лишь голосе, и в этом акте оно выражает и сохраняет себя как мертвое ‹…› Только потому, что животный голос не совсем «пустой» (в гегелевском фрагменте «пустой» просто значит лишенный какого бы то ни было определенного значения), но содержит смерть животного, человеческий язык может, артикулируя и приостанавливая чистый звук этого голоса (гласный) – то есть артикулируя и удерживая голос смерти, – стать голосом сознания, осмысленным языком[158].
Вот почему «смерть животного – это становление сознания»[159]. Отсюда, если продолжать логику Агамбена, можно сделать вывод, что человеческое сознание и артикулированный язык не только происходят из смерти животного, но и сохраняют и несут в себе своего рода немертвое животное, которое само уже является памятью. Человеческое сознание хранит в себе это животное, все еще помнящее себя как «изъятое»[160]. Животное могло бы быть совсем забытым за этим негативным жестом, которое Батай назовет жертвоприношением. По мысли Батая, «Гегель упустил „момент“ жертвоприношения, этот момент включается имплицитно во все движение „Феноменологии“ – в котором именно негативность смерти, в той мере, в какой человек берет ее на себя, обращает человеком человеческое животное»[161].
Батай пишет это в эссе «Гегель, смерть и жертвоприношение» и там же утверждает:
О жертвоприношении в философии Гегеля я могу по существу сказать, что в некотором смысле человек обнаружил и обосновал человеческую истину как раз в жертвоприношении: в нем он животное в себе, оставляя от этого животного (и от себя) существовать только нетелесную истину, которую и описывает Гегель, обращающий человека – по выражению Хайдеггера – бытием к смерти, или, по выражению самого Кожева, «смертью, проживающей человеческую жизнь»[162].
Однако собственная животность человека, которая таким образом была подвергнута отрицанию со стороны универсального духа, чтобы дать начало сознанию, знанию и истории, никуда не делась; она никогда полностью не исчезает. Подчеркивая это, Батай напоминает о том простом факте, что если уничтожить свою собственную животную жизнь – животную жизнь, предположительно являющуюся носителем сознания, – человек умрет вместе с животным в тот же самый момент. Таким образом, по Батаю, главное в жертвоприношении то, что оно имеет игровой, зрелищный характер:
В сущности, смерть открывает человеку его природное, животное бытие, но это открывание не может иметь места. Ибо едва умирает животное бытие, поддерживающее человеческое бытие, так сразу прекращает быть и последнее. Чтобы – в конце концов – человек открыл себя самому себе, ему следовало бы умереть, но ему следовало бы это сделать в жизни – созерцая собственное умирание. Другими словами, сама смерть должна была бы стать сознанием (себя) – в тот самый миг, когда она уничтожает сознательное бытие. В некотором смысле так бывает, когда прибегают к увертке (которая едва-едва должна иметь место или которая имела место неуловимо, скоротечно). В жертвоприношении [жертвователь][163] отождествляет себя с животным, сражаемым смертью. Таким образом, жертва умирает, видя собственное умирание, и даже некоторым образом по своей воле, единодушно с жертвенным клинком. Но ведь это комедия![164]
Попросту говоря, жертвенное животное всегда замещает человека; они умирают «за нас». Жертвоприношение – это хитрость: умрет другой; смерть, которую мы преодолеваем, не совсем «наша», но та, свидетелями которой мы являемся (это также ключевой момент батаевской дискуссии по поводу диалектики раба и господина, в которой обе стороны симулируют). Можно, однако, сказать и наоборот – что смерть, свидетелями которой мы являемся, на самом деле «наша», так как она принадлежит нам как схваченная, ставшая фактом сознания. Как поясняет Ипполит, «животное не осознает бесконечной тотальности жизни в ее целом, тогда как человек становится для-себя этой тотальности и интернализирует смерть. Вот почему основополагающий опыт человеческого самосознания неотделим от фундаментального опыта смерти»[165].
Фундаментальный опыт интернализированной смерти – это та территория, на которой психоанализ встречается с жертвоприношением, парадоксальная территория памяти о забытом, населенная животными. Но это не гегелевская территория. Это неясное место пересечения отсутствует у Гегеля, потому что в его системе нет бессознательного – по крайней мере в том смысле, в котором оно есть в учении Фрейда. То, что осталось позади (грубо говоря, животность), не вытеснено, не подавлено, а «снято»; оно сохраняется в снятом виде, но никогда не возвращается. Однако, как не устают подчеркивать Жижек и Долар, есть нечто, что делает Гегеля очень близким Фрейду и Лакану. В частности, можно указать в этой связи на тезис о способности человеческого сознания создавать из себя субъективное единство: еще до сознания, на органическом уровне, это единство расколото. Жизнь – это раскол, и как раз из этого раскола, из несовпадения с собой, из болезненности животного как органического существа появляется субъект. Ипполит отмечает:
Однако даже на уровне животного есть момент, предвещающий сознание, – а именно болезнь. В болезни организм внутренне разделен с самим собой. Жизнь, которая обретается в частном существе, находится в конфликте с жизнью вообще. Этот конфликт между моментом частности по отношению ко всеобщему конституирует в больном организме позитивность и судьбу истории. Гегель исследовал этот раскол в человеке и человеческой истории в своих ранних работах. Видя в органической болезни прообраз сознания, которое всегда внутренне разделено в себе и есть несчастное сознание в той мере, в какой это сознание «позитивности жизни как несчастья жизни», Гегель изменяет смысл этого сравнения. Человеческое самосознание способно восторжествовать там, где организм терпит неудачу[166].
Болезнь характеризует изначальную уязвимость живого существа. Коротко говоря, как это уже было отмечено в связи с критикой Эндрю Бенджамина, недостаток гегелевских животных, который должен быть преодолен в людях, заключается в их неспособности свободно создавать самих себя в качестве внутреннего единства, чтобы противостоять, сопротивляться внешней действительности. Природное бытие животного, предоставленное случайности окружающей среды и опасностям жизни с ее постоянным насилием, подводит его к состоянию беспрестанной «смены здоровья и болезни» и делает его «неуверенным, робким и несчастным»[167]. Бенджамин тщательно анализирует этот момент:
Невозможность самоконституирования у животного – позиционирование, которое локализует животную сингулярность и определяет ее как постоянно «больную», – можно объяснить множеством разных способов. Самое значительное в этом контексте – объяснение в терминах гегелевского различения между «инстинктом» (Instinkt) и «влечением» (Trieb), с одной стороны, и волей, с другой. Воля – это то, что позволяет «Человеку» возвыситься над инстинктами и влечениями. Более того, воля позволяет «Человеку» считаться совершенно «неопределенным», тогда как животное всегда определено[168].
Что у гегелевских животных определенно отсутствует, так это названная неопределенность, или свобода воли, которая, в конце концов, позволяет человеку не только ходить прямо, но и распоряжаться своей животной жизнью, символически опосредуя или отрицая ее. Зверь же все еще привязан к окружающей среде, а также к человеку и зависим от внешних условий своего естественного существования. Вдобавок ко всему, как это всегда случается, незаметно подкравшаяся антропологическая машина отбрасывает в болезненную непосредственность животного мира еще и некоторые категории людей: «Человек в большей степени образует свою самость в самом себе, но все-таки южный человек тоже не в состоянии объективно сохранить свою самость, свою свободу»[169]. Возникает, однако, следующий вопрос: если животные и «южные люди» недостаточно свободны и поэтому уязвимы перед опасностью и насилием, то насколько сами мы, человеческие существа, свободны?
Этот вопрос выходит за рамки метафизики трансцендентности с характерной для нее логикой жертвоприношения и подводит нас к проблематике современной биополитики. Здесь следует вспомнить агамбеновскую критику понятия жертвоприношения у Батая, а также идею Жан-Люка Нанси о существовании, не приносимом в жертву[170]. По мысли Агамбена, сакральный статус человеческой жизни и вообще жизни, уже утратил всякую релевантность, и любая жизнь теперь выставлена напоказ и отдана на произвол самому неограниченному насилию:
В современности принцип сакральности жизни таким образом полностью освободился от идеологии жертвоприношения, и в нашей культуре значение слова «сакральный» продолжает семантическую историю homo sacer, а не жертвоприношения (и поэтому демистификации идеологии жертвоприношения, распространенные сегодня, недостаточны, даже если они верны). Сегодня мы имеем дело с жизнью, которая как таковая уязвима перед беспрецедентным насилием именно в самом профанном и банальном смысле[171].
Но не становится ли в таком случае каждый своего рода «неуверенным» гегелевским животным? Агамбен не столько думает, что человек «утратил» свой трансцендентный сакральный статус, сколько смещает регистры и прилагает другого рода оптику, некую историческую генеалогию, которая фиксирует неизменные метафизического порядка через изменения в порядке юридическом. И если, следуя агамбеновской логике, анимализация человека это не просто побочный эффект, но необходимый результат работы антропологической машины, то можно было бы легко перейти от этого к идее, что любое метафизическое утверждение о человеческом превосходстве над животным в конце концов обязательно приведет нас к этому жалкому состоянию.
Однако – возвращаясь к Гегелю и принимая во внимание его тезис о субъективности любого живого организма безотносительно его антропогенетических возможностей, – парадоксальным образом именно это «неуверенное», уязвимое положение животных («южных людей», «евреев» и т. д.) перед насилием как со стороны природы, так и со стороны людей образует зазор, в котором у них неожиданно появляется некий «шанс». Сама их жизнь, сущностно расколотая в своей болезненности и несчастье, содержит в себе силу негативности, выражающую себя в том, что Гегель в «Науке логики» называет «беспокойством»[172]: «беспокойство – присущее (всякому) нечто и состоящее в том, что в своей границе, в которой оно имманентно, нечто есть противоречие, заставляющее его выходить за свои пределы»[173].
Не только зверь, а вообще всякое нечто знает и испытывает это внутреннее беспокойство, будучи в каждый момент становления гонимо из себя стремлением не быть тем, что оно есть, преодолеть себя, преодолеть гравитацию и то, что обычно обозначают императивом «знать свое место»: отчаянное беспокойство животного или раба, желающих обрести большую свободу или хотя бы, как животные Кафки, найти выход.
Все наши дороги, даже если они проходят через Гегеля, ведут к Кафке. К его превращениям, становлениям, индивидуациям, мутациям и монструозности. А правы ли Делёз и Гваттари, когда утверждают, что для животных Кафки свобода совсем не важна? Всегда ли достаточно просто найти выход – как в случае обезьяны, которая становится человеком, чтобы выбраться из клетки? На самом ли деле этот человек, ранее бывший обезьяной, говорит правду, заверяя, что он никогда не искал свободы, а только выхода? Или скорее – если предположить, что он должен говорить правду, так как животные не лгут, – нашел ли он то, что искал (выход), или обрел что-то еще (свободу)? Если настоящий выход – это выход оттуда, откуда выхода нет (прорыв), то свобода – это что-то еще.
Нанси в своей интерпретации Гегеля определяет свободу как «доступность для смысла»: «Гегель в первую очередь заставляет подумать вот о чем: смысл никогда не дан и не имеется в наличии; следует сделать себя доступным для смысла, и эта доступность зовется свободой»[174]. Что, если человек-обезьяна Кафки, выступающая с докладом перед академией – это своеобразная мутация аристотелевского миметического животного? Подражая, он вдруг совершает прорыв, находит выход, но вместе с тем обретает что-то еще, что позволяет ему описать собственный опыт становления, дать смысл тому, что с ним произошло, самому стать доступным для этого смысла. Обезьяна обретает свободу, которой она не искала – свободу как дело смысла, то есть, по-гегелевски, само-отношения.
Вспомним еще об одной мутации у Кафки – о собаке-философе, которая посвящает свою жизнь тому, что называет научным исследованием самой себя, своих инстинктов, своего тела и ума. Рискуя своей жизнью – естественной жизнью животного, собака создает по отношению к самой себе дистанцию, помогающую ей вести наблюдения над окружающим миром и своей предшествующей жизнью, записывая собственную историю. Как и человек-обезьяна, собака-философ пытается задним числом описать и объяснить процесс своего становления; она наделяет смыслом то, что с ней происходило прежде, в предыдущей собачьей жизни:
Как изменилась моя жизнь – и как все-таки она, в сущности, не изменилась! Когда я теперь думаю о минувшем и возвращаюсь памятью к временам моей прежней собачьей жизни со всеми ее заботами, которые я, собака среди собак, делил с ними, я при ближайшем рассмотрении все-таки нахожу, что в этой жизни с давних пор было что-то не так, какой-то в ней был маленький излом, какое-то чувство неловкости охватывало меня в среде самых достопочтенных участников народных гуляний, а иногда даже и в узких кругах – и даже не иногда, а очень часто; уже просто взгляд какой-нибудь симпатичной мне собаки, просто взгляд, но брошенный как-то по-новому, делал меня беспомощным, приводил в смятение, в испуг и даже в отчаяние. Я пытался в какой-то степени успокоить себя, друзья, с которыми я делился, помогали мне, и снова наступали спокойные времена – времена, в которые подобные неожиданности если и происходили, то хладнокровнее воспринимались, хладнокровнее включались в бег жизни; возможно, они делали меня печальным и усталым, однако в остальном позволяли мне быть хотя и несколько холодной, сдержанной, пугливой, расчетливой, но, в общем и целом, все-таки нормальной собакой. Да и как смог бы я без этих передышек достичь того возраста, которому я теперь радуюсь, как смог бы я пробиться к тому спокойствию, с которым я вспоминаю теперь страхи моей юности и переношу страхи моей старости, как смог бы я дойти до того, чтобы сделать выводы из моего – я признаю это – несчастного или, выражаясь осторожнее, не очень счастливого положения и жить почти в полном соответствии с ним?[175]
И обезьяна, и собака Кафки рассказывают нам свои истории: в обоих случаях голос животного как бы обращается в язык, так что само-отношение, рефлексия настоящего задним числом наделяет прошлое смыслом. Отмечу, однако, что здесь задействованы два не совсем одинаковых типа мимесиса: если обезьяна подражает тому, что есть (человеку, которого она считает свободным), то собака имитирует – и через эту имитацию изобретает – то, чего еще не было: новую науку. Если обезьяна даже в своей саморефлексии все еще является объектом наблюдения со стороны реально существующей человеческой науки, то собака – это субъект во всех смыслах этого слова, «пес – основатель новой науки»[176]. Новой науки, которую он практикует как свободу. Причем такой уникальной и свободной эту науку делает не что иное, как именно собакина изначальная неспособность к ней, ее неадекватность, наблюдаемые ею собственные ограничения – короче, ее собаковость, животность. Собака «откровенно и даже с некоторой радостью» признается в своей «…непригодности к науке, слабосильном уме, плохой памяти, и в первую очередь в неспособности постоянно видеть перед собой научную цель» и парадоксальным образом обнаруживает здесь не просто конститутивный момент новой науки, но необходимую начальную точку для прорыва, без которого свобода не была бы возможной:
Ибо мне кажется, что более глубокая причина моей непригодности к науке кроется в некоем инстинкте, и инстинкт этот воистину неплох ‹…› И этот инстинкт, может быть, как раз во имя науки – но какой-то другой, не той, которой занимаются сегодня, а какой-то самой последней науки – заставлял меня ценить мою свободу выше всего остального. Свобода! Впрочем, та свобода, которая возможна сегодня, – растеньице хилое. Но все-таки это свобода, все-таки какое-то достояние[177].
Если Делёз и Гваттари предпочитают говорить о выходе или ускользании, а не о свободе, то Младен Долар, комментируя «Исследования одной собаки», утверждает, что «свобода» – это «секретное слово» Кафки:
Это последнее предложение истории. Самое последнее слово всего этого, le fin mot как le mot du fin, – это свобода, с восклицательным знаком. Не заблуждаемся ли мы, не должны ли здесь себя ущипнуть: возможно ли, чтобы Кафка в конце концов произнес это слово? Пожалуй, это единственное место, где Кафка явным образом говорит о свободе, но это не значит, что в остальном его мире повсюду несвобода. Совсем наоборот: свобода всегда уже здесь, во все времена, это fin mot Кафки, как то секретное слово, которое мы не осмелимся произнести, хотя оно все время у нас на уме ‹…› И это лозунг, программа новой науки, которая сможет иметь с ней дело, иметь ее в качестве своего объекта, исследовать ее, самая последняя наука, наука о свободе[178].
Что это за наука? По мысли Долара, «Кафке недостает для нее подходящего слова, он не может ее назвать – а это 1922 год; и ему стоит лишь оглядеться, осмотреть ряды его австрийских еврейских сородичей. Конечно – психоанализ»[179]. Значит ли это, что самая последняя наука – это когда субъект лежит на кушетке и рассказывает свою историю? В каком-то смысле, может быть и так, но я должна добавить, что за эту конкретную собаку гегелевская наука могла бы сразиться с фрейдовской. Что-то подсказывает мне, что в результате сражения собака должна остаться ничьей, однако есть, конечно, большой соблазн разглядеть в этой собаке наряду с важным для психоанализа инстинктом доступность для смысла (о которой в связи с Гегелем говорит Нанси). Собака учреждает новую науку, позволяющую ей сказать, что она была собакой. Можно было бы сказать, что это собака Минервы, собака-сова, родственница той знаменитой совы, о которой Гегель пишет в предисловии к «Философии права»: «Когда философия начинает рисовать своей серой краской по серому, тогда некая форма жизни стала старой, но серым по серому ее омолодить нельзя, можно только понять; сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек»[180].
Сова Минервы – философское животное, которое появляется после и создает, наделяя смыслом, то, что было до. Всех тех зверей, которые были оставлены позади, забыты, вытеснены, принесены в жертву – «неуверенные, робкие и несчастные» субъективности, разбросанные по гегелевскому миру. И наоборот: свобода этого самого последнего, ретроактивного, философского или психоаналитического существа должна была быть предвкушена, ее беспокойное предчувствие было в самой животности. Таким образом, и перед фрейдовским органическим вытеснением, и перед гегелевским сохраняющим отрицанием (снятием) встает пока неразрешимый парадокс. Как подчеркивает Кэри Вулф,
человеческое существо, становящееся человеческим только через акт органического вытеснения, должно уже знать, до того, как оно стало человеческим, что органическое должно быть вытеснено, так что фрейдовский «человек» пойман в цепь бесконечной дополнительности, как сказал бы Деррида, которая никогда не остановится на некоем начале, которое могло бы конституировать разрыв с животностью[181].
Безработная животность
Как же так вышло, что негативность теперь ассоциируется исключительно с человеком и его творческой деятельностью? Почему субъективность с ее беспокойством приписывается только людям и почему диалектика, особенно во французской мысли XX века, ассоциируется с метафизическим круговым движением между человеком, бытием и языком, из которого исключены животные и другие нечеловеческие существа? Важным шагом на этом пути стала антропологизация негативности Александром Кожевым в его очень влиятельной, но неверной интерпретации Гегеля, во многом основанной на прочтении Хайдеггера и Владимира Соловьева[182].
Как известно, Александр Кожев, племянник Василия Кандинского, бежал из революционной России в Европу, где стал вначале философом, а затем советником по экономике и торговой дипломатии и одним из создателей Европейского союза. С 1933-го по 1939 годы он вел семинар по гегелевской «Феноменологии духа» в парижской Практической школе высших исследований. На этом семинаре Кожев читал некоторые главы из немецкого текста «Феноменологии», переводил их на французский и комментировал. Интерпретация Кожева пользовалась полным доверием. У него был большой талант рассказчика. Его феноменология духа – это своего рода философский роман с яркими персонажами и драматическими эпизодами.
Ключевые моменты кожевской интерпретации книги Гегеля можно резюмировать следующим образом: начало времен совпадает с появлением человека. До этого момента времени нет. Есть только природное бытие – или пространство, которое вечно, неизменно, тождественно себе и пребывает в состоянии покоя. В нем обитают животные. История начинается, когда одно из этих животных вдруг превращается в человека. Появление человека – активного, действующего, страдающего, борющегося и трудящегося Ничто – противопоставит этому Бытию Историю и Время, в которых человек будет отрицать данность, руководствуясь идеальными, внеприродными целями. Человек станет тем Ничто, которое ничтожествует в Бытии в качестве Времени: «Реальное присутствие Времени в Мире называется, стало быть, Человеком. Время есть Человек, и Человек есть Время»[183]; «Он коренным образом отличается от внешнего природного мира в той мере, в которой он – действие (или, если хотите, ничто, ничтожествующее внутри налично-данного бытия Природы, отрицающее его борьбой и трудом и осуществляющееся в нем в ходе и посредством этого отрицания)»[184].
Итак, у негативности Кожева – человеческое лицо. Гегелевскую феноменологию он превращает в антропологию. Условием возникновения, по Кожеву, человека является его биологическая реальность как существа, способного желать. И хотя эту способность Кожев от имени Гегеля признает за всеми животными особями, человек, по его мысли, – единственный, для кого эта способность абсолютно фундаментальна. Желание побуждает человека к действию, которое отрицает объект этого желания, преобразует его и ассимилирует, созидая некое положительное содержание Я, субъективную действительность. Желание человека, в отличие от желания животного, это не просто желание того или иного объекта:
Конечно, у животного тоже есть желания, которые отрицают реальное: оно ест и пьет так же, как и человек. Но желания животного естественны; они распространяются на то, что есть, и они детерминированы тем, что есть[185].
Животное желание живет настоящим, оно желает того, что есть в наличии, чем можно непосредственно завладеть, тогда как человеческие желания направлены в будущее, на то, чего еще нет, на несуществующие, сверхъестественные, фантазматические объекты. Более того, у человека желание само по себе становится объектом желания. Люди хотят быть желаемы другими людьми, быть признаны другими в своем человеческом достоинстве. Они борются за признание или, как сказал бы Жорж Батай, за престиж. Так и запускается ход истории – истории сражений, войн, революций, посредством которых человек активно изменяет мир в соответствии со своими желаниями.
Это описание могло бы быть сколь угодно долгим, однако прежде всего важно отметить принципиальный для Кожева момент: точка конца истории должна совпадать с точкой начала. То есть в конце истории человек снова должен стать животным. Это очень двусмысленный и в то же время ключевой момент. История, по Кожеву, описывает свой круг лишь один раз, не повторяясь. Это история становления человека, которая, как думал Кожев, уже завершилась (круг замкнулся). В конце истории человечество должно создать универсальное гомогенное государство взаимного признания[186], тотальное государство, в котором все желания будут удовлетворены.
Следуя логике Кожева, теоретически такое состояние уже достигнуто. Остается только подогнать под эту теорию соответствующую реальность, то есть найти правильное государство, которое теперь будет служить моделью для дальнейшего постисторического развертывания того же самого. Человеческая борьба увенчалась успехом, и с появлением институтов абсолютного признания история подходит к концу. Ничего нового уже не случится на Земле. Тотальность уже достигнута, историческое время со всеми его проектами на будущее завершилось, и теперь мы имеем дело с вечным настоящим, в котором все проекты реализуются, а все желания удовлетворяются прямо и непосредственно. В конце истории человеку больше не нужно изменять мир в работе и борьбе: удовлетворение возможно здесь и сейчас. Кожев настаивал на том, что для Гегеля воплощением абсолютного духа как конечной точки истории была наполеоновская империя: Гегель даже назвал Наполеона мировым духом, или мировой душой, по легенде, увидев его въезжающим в Йену верхом на белом коне[187].
В апокалипсисе от Кожева нет ничего катастрофического: конец времен вовсе не является трагическим прерыванием текущих исторических процессов или тем более жизней. Скорее это завершение в смысле свершения, успешная реализация некой разумной программы. Возможно, смысл истории, по Кожеву, заключался в том, чтобы сделать несчастное животное счастливым, а человек, время, история, негативность, труд, борьба и т. д. – это не что иное, как длинный путь от одного к другому.
Однако есть один вопрос, делающий эту историю при всем ее неправдоподобии крайне любопытной: кто или что остается, когда история заканчивается? С одной стороны, история предполагает развитие духа, самосознания и знания. Постисторический человек тогда должен, по Кожеву, быть мудрецом, который вбирает сознание истории и завершает ее посредством самосознания. С другой стороны, этот пост-исторический мудрец не трудится, не борется и не испытывает больше человеческих желаний. Он просто получает непосредственное удовлетворение, наслаждаясь всем, что делает его счастливым – искусством, любовью, игрой, спортом и т. д. Мудрец оказывается животным, но не простым, а очень особенным животным, – тем, кому удается в ходе кровавой истории войн и революций окончательно присвоить себе все богатство мира и иметь его в своем полном распоряжении. Но кто это, человек или зверь?
В 1948 году Кожев признавал, что если в конце истории человек снова становится животным, то такой конец уже наступил. В очень длинном примечании ко второму изданию «Введения в чтение Гегеля» он пишет:
В то время, когда я писал это примечание (1946 год), возвращение человека в животное состояние не казалось мне столь уж немыслимым в качестве некой перспективы (впрочем, более или менее близкой). Но вскоре (в 1948 году) я понял, что гегелевско-марксистский конец Истории уже не будущее, но настоящее. Наблюдая происходящее вокруг и размышляя о том, что происходило в Мире после Йенской битвы, я понял, что Гегель был прав, видя в ней конец собственно Истории. В этой битве и посредством этой битвы авангард человечества виртуально достиг предела и цели, то есть конца исторического развития Человека. То, что происходило потом, было лишь распространением универсальной революционной власти, учрежденной во Франции Робеспьером – Наполеоном. Со строго исторической точки зрения следствием обеих мировых войн и сопровождающих их больших и малых революций было лишь то, что отстающие окраинные цивилизации стали равняться на наиболее передовые (реальные или виртуальные) европейские исторические позиции[188].
Примерно в это же время Кожев оставил философскую карьеру, сменив ее на государственную службу. Он приступил к работе в Национальном центре международной торговли при французском Министерстве экономики и финансов, где остался служить до конца своих дней в качестве «серого кардинала». Кожев внес достаточно большой вклад в создание объединенной Европы, был автором Всеобщего соглашения о тарифах и торговле и одним из архитекторов Европейского союза. Этот переход вполне согласовывался с его тогдашней мировоззренческой позицией: поскольку история, а вместе с ней и философия закончились, вполне логичным было забыть о них и поступить на службу французскому государству, которое он, таким образом, признал универсальным.
Впрочем, у Кожева было несколько последовательных версий того, где именно заканчивается история. Сначала он возлагал некоторые надежды на сталинизм, затем (1948–1958) – на американский образ жизни, основанный на широких практиках потребления, которые как раз и заставляли задуматься о «счастливом» возвращении в животное состояние:
Все это привело меня к заключению, что American way of life есть образ жизни, свойственный пост-историческому периоду, и что настоящее Соединенных Штатов – это прообраз «вечного настоящего» всего человечества. Так, возвращение Человека к животному представилось мне уже не возможностью в будущем, но действительностью в настоящем[189].
Эта версия конца истории приобрела, пожалуй, наибольшую известность – во многом потому, что она была популяризована в работе Фрэнсиса Фукуямы, который позитивно связал конец истории с американской либеральной демократией и капиталистической глобализацией. Кожев, однако, в очередной раз пересмотрел свои взгляды в 1959 году, посетив Японию. Наблюдая за японской культурой и, в частности, за такими знаменитыми японскими ритуалами, как театр Но, чайная церемония или искусство составления букетов – которые Кожев называет «недосягаемыми вершинами снобизма», – он пришел к выводу, что любой японец, совершенно вне западной логики борьбы за признание, а также политических, социальных и других исторических ценностей, «в принципе способен совершенно „бескорыстно“, из чистого снобизма, покончить с собой»[190]. «Ни одно животное не может быть снобом», – заявил Кожев, в конечном счете отбросивший идею смерти человека, наступающей с концом истории, и связавший этот конец с формальной, снобистской, японской перспективой:
Японская «пост-историческая» цивилизация сложилась на путях, прямо противоположных «американскому пути». Несомненно, в Японии раньше не было ни Религии, ни Морали, ни Политики в «европейском», или «историческом», смысле этих слов. Но Снобизм в чистом виде создал там такие формы отрицания «природных», или «животных», данностей, которые по эффективности далеко превосходят те, которые были порождены – в Японии или где-либо еще – «историческим» Действованием, т. е. Борьбой (войнами и революциями) и вынужденным Трудом[191].
Это, как кажется, позволяет думать, что недавно начавшееся взаимодействие Японии и западного мира в конце концов приведет не к ре-варваризации японцев, а к «японизации» западных людей (включая русских). Поскольку ясно, что ни одно животное не может быть снобом, то весь «японизированный» пост-исторический период будет сугубо человеческим[192].
Таким образом, выбор между животным и человеком Кожев делает в пользу человека, который по завершении истории не возвращается счастливым в животный мир на правах хозяина, а отдается игре форм, освобожденных от своих исторических содержаний. В той же заметке Кожев пишет:
Чтобы остаться человеком, Человек должен быть «Субъектом, противопоставленным Объекту», даже при том, что уже нет «отрицающего данности Действования, или Ошибки». Что означает, что, говоря отныне вполне адекватно обо всем, что ему дано, пост-исторический Человек должен по-прежнему отделять «формы» от их «содержания», но уже не затем, чтобы действием транс-формировать это последнее, но с тем, чтобы противопоставить себя самого в качестве чистой «формы» себе самому и остальным, взятым в качестве каких угодно «содержаний»[193].
История заканчивается, но у нее есть нередуцируемый остаток, и этот остаток – не животное, а, наоборот, именно то, что в человеке является самым человеческим. Самое же человеческое в человеке, получается – не история, не политика, не борьба и даже не труд, а его основополагающая формальная противопоставленность как субъекта какому бы то ни было объективному содержанию. После конца истории это противопоставление освобождается от шума времени, а форма очищается от случайности материальных содержаний. История приводит человечество к состоянию чистого формализма, к царству чистого искусства (или скорее, как сказали бы сегодня, тотального дизайна). Заметим, что это противоречит изначальному предположению Кожева, что с концом истории разом умирают и философия, и человек, и искусство. Искусство возвращает человека миру, но выхолащивает из него всю содержательную историческую материальность.
«Человек без содержания» – так называется книга Агамбена, посвященная философии искусства. Рассуждая о Гегеле, Агамбен подчеркивает, что тот на самом деле говорил вовсе не о смерти или конце искусства, а о том, что искусство отрицает и таким образом преодолевает само себя, выходит за свои пределы. В чисто художественном жесте воплощено «самоуничтожающееся ничто»:
Если мы теперь снова зададимся вопросом: а как же искусство? Что значит: искусство направляется за собственные пределы? Наверное, мы можем ответить: искусство не умирает, но, став самоуничтожающимся ничто, вечно переживает само себя ‹…› Его закат может длиться дольше, чем все его предшествовавшее существование, потому что его смерть – это именно невозможность умереть, невозможность соизмерить себя с сущностным истоком произведения. Художественная субъективность без содержания теперь является чистой формой отрицания, которая везде и во все времена утверждает только саму себя как абсолютную свободу, отражающуюся в чистом самосознании[194].
В этой книге Агамбен обращается, вслед за Гегелем, к «Племяннику Рамо» Дидро и рассуждает о «человеке вкуса» как своего рода перверсии, указывающей не столько на конец искусства, сколько на новую способность, исторически приобретенную людьми, определять ценность и качество произведения искусства. Человек вкуса приходит на смену человеку искусства. Исчезает фигура художника как творца, или, в терминах Ницше, воли к власти – активного, желающего, производящего и совершающего насилие человека в историческом смысле. Появляется фигура зрителя, незаинтересованного созерцателя, кантианского наблюдателя. Не случайно, по мысли Гегеля, эта фигура возникает во времена Французской революции (которая для Кожева, напомню, символизировала конец истории):
С Французской революцией эта частная перверсия человека вкуса была доведена до предела Дидро в его коротком сатирическом произведении, которое, будучи переведено на немецкий Гёте уже на стадии рукописи, оказало огромное влияние на молодого Гегеля. В этой сатире племянник Рамо – человек необычайно хорошего вкуса и вместе с тем жалкий подлец. Любые различия между добром и злом, благородством и заурядностью, доблестью и пороком в нем исчезли: только вкус посреди абсолютного извращения всего в свою противоположность поддерживал достоинство и ясность сознания… В племяннике Рамо вкус действовал как своего рода моральная гангрена, пожирая любое другое содержание и любое другое духовное определение, а в конце он оборачивается абсолютной пустотой[195].
Новая способность, которой наделен человек вкуса, конечно, связана со знаменитой способностью суждения, проанализированной Кантом в его третьей критике. Человек вкуса различает, что хорошо, а что плохо, если дело касается искусства. Он достиг такого знания, которое теперь делает его неспособным действовать, создавать произведения искусства, он «больше не видит никакого смысла в том, что существенно, потому что любое содержание и любое моральное определение уничтожены»[196], но зато позволяет выдвигать, так сказать, автономные эстетические суждения.
Агамбен, с большим вниманием относящийся к идеям Кожева, сам, в свою очередь, тоже задумывается о конце истории. В его версии, однако, то, что остается после конца, выглядит иначе, чем человек вкуса? – по крайней мере, если обратиться к его работе «Открытое» (которую я уже цитировала выше и из которой позаимствовала понятие антропологической машины). В начале этой книги Агамбен рассказывает об одной из миниатюр из еврейской Библии XIII века, обнаруженной в Амвросианской библиотеке в Милане, – на ней изображена мессианская трапеза праведников Судного дня, которые сидят в коронах за богато накрытым столом. Агамбен обращает внимание на одну крайне любопытную деталь:
…миниатюрист представил увенчанные главы праведников не с человеческими, а несомненно звериными лицами. У трех фигур эсхатологических животных справа можно распознать грозный клюв орла, красную голову вола и львиную главу, а у двух остальных праведники наделены гротескными чертами: один напоминает осла, у другого – профиль пантеры. И у двух музыкантов – головы зверей, в особенности у правого, который лучше виден и играет на своего рода виоле, – морда, напоминающая обезьянью[197].
Агамбен описывает это изображение в первой главе книги. Во второй главе он обращается к Батаю, а в третьей – к Кожеву и его идее пост-исторического снобизма. Агамбен как будто бы верит в идею конца времен, но, пытаясь ответить на вопрос, что после него остается, делает другой выбор. Коротко говоря, по мысли Агамбена, что остается после конца истории, так это животное – и именно животное представляет собой наиболее интригующую часть всей драмы. Это не столько консюмеристское потребительское животное, сколько животное последнего дня, субботний зверь, из глубокой тоски которого явится мессия. В противоположность Кожеву, увлеченному идеей смерти, Агамбен более всего интересуется жизнью. Животная жизнь, голая жизнь, вечная мессианская жизнь – все они наделены равно высоким онтологическим статусом. От голой и животной до мессианской и божественной – жизнь, являющаяся агамбеновским ответом Кожеву, остается верной своим характеристикам – покой, шаббат, конец всякой работы.
Возражая против идеи конца истории, Батай в своем ответе Кожеву, прозвучавшем еще в 1937 году, тоже говорит о жизни. Только это совсем не такая жизнь, как у Агамбена. Батаевская жизнь, напротив, не знает покоя. По сути, его возражение можно свести к следующему: «История закончена – а как же я?» В знаменитом «Письме X, руководителю семинара по Гегелю» Батай пишет:
Если действие («делание») есть – как говорит Гегель – негативность, тогда встает вопрос, исчезает ли негативность того, кому «больше нечего делать», или сохраняется в состоянии «безработной негативности»: лично я склоняюсь только к одному решению, поскольку сам я и есть именно «безработная негативность» (я не смог бы определить себя точнее) ‹…› Воображаю, что моя жизнь – или ее провал, или, лучше, зияющая рана моей жизни – сама по себе образует опровержение замкнутой системы Гегеля[198].
После конца, таким образом, остается «открытая рана» – негативность, которая все еще присутствует (особенно, как поясняет Батай, в произведении искусства), но в которой, похоже, уже нет больше необходимости. Человечность человека, выброшенная на помойку. Непристойные отбросы желания. Батай высказывает предположение, что для Кожева подобного рода остаток – это просто неудача, сравнимая с положением тех «окраинных цивилизаций», что плетутся в хвосте исторического прогресса: «То, о чем я говорю Вам, заставляет Вас думать, что случилось несчастье, вот и все: находясь перед Вами, я не нахожу другого самооправдания, кроме звериного крика, так кричит зверь, лапа которого попала в капкан»[199].
Не следует, однако, попадаться в ловушку батаевского «я». Его вездесущее «я» – это своего рода концептуальный персонаж негативности. В этом персонаже ничего персонального, ничего индивидуального. Батай говорит «моя жизнь», но поясняет: «По правде говоря, дело идет не о несчастье, не о жизни, только о том, что станется с „безработной негативностью“, если правда, что с ней что-то станется»[200].
Складывается впечатление, что батаевская негативность неприменима к животным, так как Батай из тех философов, которые проводят разделительную черту между людьми и животными[201], а безработная негативность как раз и представляет собой то исключительно человеческое, что остается с человеком после конца истории и не позволяет ему окончательно свершиться[202]. Смех, игра, эротика, искусство, религия и другие формы деятельности, ассоциирующиеся с трансгрессией и непродуктивной растратой за пределами механизмов труда и производства, описываются Батаем как сущностно человеческие моменты суверенности и автономии. Таким видением он, очевидно, обязан Кожеву, а вовсе не Гегелю, чья негативность, как мы видим на примере «Философии природы», отчетливо заявляет о себе не только в царстве животных, но и во всей природе. Важно отметить, что Кожев фактически полностью отвергал «Философию природы», в которой он видел только «абсолютный идеализм» и спиритуализацию материи; говоря о Гегеле, Батай, соответственно, подразумевает прежде всего «Феноменологию духа» в интерпретации Кожева. Однако есть способ поставить Батая «с головы на ноги» – для этого нужно обратиться к его пониманию не конца, а начала истории.
Начнем с того, что «открытая рана», о которой говорит Батай, возникает в результате волюнтаристского отрицания человеком его «животной природы». Если мы говорим о границе между человеком и животным у Батая, не нужно забывать об эротизме, который идет рука об руку с осознанием смерти, языком и производительным трудом. Эротика, говорит Батай, это нечто исключительно человеческое, противоположное животной сексуальности как обычному биологическому феномену, предполагающему спонтанное, непосредственное поведение особи в естественной среде. По мысли Батая, люди строят свою жизнь из ограничений, правил, законов, ритуалов и запретов, тогда как у животных нет закона, который можно было бы нарушить. Животные просто наслаждаются, бесстыдно наслаждаются своей неограниченной сексуальной свободой: «Если и есть четкое различие между человеком и животным, то, наверное, оно заключается в следующем: для животных нет ничего запретного»[203].
Представление о механизме производства человеческого посредством отделения от животного (через запрет) и антропогенное объяснение негативности у Батая в основном связаны, конечно, с его рецепцией Кожева. Однако Батай, в отличие от «Х, руководителя семинара по Гегелю», рассматривает это отделение, с одной стороны, в исторической перспективе, как нечто случившееся, а с другой – как нечто невозможное, как симуляцию или комедию. Но даже будучи фиктивным, оно тем не менее очень болезненно, поскольку граница между человеком и животным проходит через само человеческое тело. В начале, по Батаю, был переход от животного к человеку. Это основополагающее событие произошло однажды, в далеком прошлом, и именно его Батай называет «первым шагом» человека. Первый шаг необратим: мы не можем просто так взять и вернуться в лоно природы.
Между тем идея первого шага содержит в себе парадокс, который, я полагаю, был не до конца осознан даже самим Батаем: на самом деле это не человек, а именно животное отрицает себя и становится, таким образом, субъектом первого исторического или, скорее, доисторического отрицания. В «Слезах Эроса» он с невероятной трогательностью описывает первых людей, начавших практиковать погребальные обряды:
Люди, положившие начало погребениям себе подобных мертвецов, кости которых мы находим в настоящих могилах, намного младше древнейших следов, оставленных человеком. Однако эти люди, первыми возложившие на себя заботу о трупах своих близких, не были еще, собственно говоря, людьми. Дошедшие до нас их черепа имеют ярко выраженные обезьяноподобные черты: выступающая вперед челюсть и по-звериному возвышающийся над надбровной дугой костный валик. Эти примитивные существа к тому же еще не достигли прямостояния, которое морально и физически характеризует нас – и которое удовлетворяет нас. Конечно, они вставали на ноги, но их ноги не обладали еще державностью наших ног. Следует также предполагать, что у них был, как и у обезьян, обильный волосяной покров, предохранявший их от холода[204].
Чтобы стать единственным, кто отрицает себя в качестве животного, это существо должно было прежде всего быть животным – которое вдруг по какой-то причине встало на задние ноги и заявило: «Я больше не животное». В этом пункте Батай оказывается даже большим гегельянцем, чем Кожев. Что если то, что он, следуя логике Кожева, считает самым человеческим в человеке – негативность, – на самом деле принадлежит именно животному – как то предвкушение смысла, которое возникает в нем ретроактивным образом? В этой связи нельзя не поставить батаевского доисторического человека, изображенного в Ласко под маской животного, рядом с агамбеновскими пост-историческими праведниками с головами зверей. Вот как рассуждает об этом Бретт Бьюкенен:
Разве не возможно в таком случае, что переход от животного к человеку или все еще продолжается и никогда не придет к завершению, или, что, может быть, то же самое, с самого начала был обречен на провал? Что, если трансгрессия границы, отделяющей человечество и животность, идет не против животности как таковой, а против идеи, что животность оставлена позади в мысли о нашем рождении? Если это так – а надо сказать, это лишь грубая гипотеза, – то на рисунках в Ласко изображено существо всегда уже дочеловеческое, или, иными словами, что человечество – это состояние, которое никогда полностью не сформировано, так как это постоянно продолжающийся процесс[205].
Определенная симметрия между дочеловеческим и пост-человеческим, между батаевской безработной негативностью и агамбеновской бездеятельной жизнью подводит нас к еще одному моменту, уже упомянутому в связи с живописью в пещере Ласко. Животные не работают; по Батаю, они суверенны. В небольшом эссе «Дружба человека и зверя»[206] Батай пишет, что хотя, конечно, некоторые животные и работают на человека, они все же не совсем отданы этой работе. Уточню (Батай об этом не пишет; его волнуют не столько экономические, сколько экзистенциальные стороны этой проблемы), что одно правило распространяется на всех домашних, сельскохозяйственных и прочих животных, эксплуатируемых людьми: они работают, но их труд остается неоплачиваемым. Наше выживание целиком основано на этом рабстве животных, тела которых – совершенный объект для эксплуатации, рабочая сила в своей совершенной и простой форме.
Однако, по мысли Батая, даже выполняя свою работу, животные остаются как бы отстраненными от нее, сохраняя в себе свою суверенность. Есть в них некая потенциальность: животное может прекратить работу в любой момент – такова, к примеру, внезапно понесшая лошадь. Если животных несет, нам их не остановить. У батаевских животных имеется опыт суверенности, о котором сами они не знают. Но и люди у Батая могут иметь подобный опыт. Например, пролетарии или философы, когда они прерывают свой пролетарский или философский трудовой процесс и отрицают свою несвободу посредством незамысловатого акта распития вина. В «Теории религии» Батай описывает такой момент на собственном примере (из бесконечной серии «философ и стол», которой следовало бы посвятить отдельное исследование):
Теперь я ставлю перед собой на стол большой стакан спиртного.
Я был полезен, я купил себе стол, стакан и пр.
Но этот стол больше не является орудием труда – он служит мне для пития спиртного.
Поставив на стол свой стакан, я уничтожил этот стол, или, по крайней мере, я уничтожил этот труд, который требовался для его изготовления…
Стоило мне один-единственный раз поймать за хвост убегающее время, как все предшествующее время оказалось во власти этого пойманного мига. И все нужды, все труды, которые позволили мне дожить до этого мига, внезапно оказываются уничтоженными – они, словно река, бесконечно изливаются в океан этого крохотного мига[207].
В книге «Суверенность» речь уже идет о рабочих, которые парадоксальным образом именно в силу своего полного отчуждения от продуктов и средств производства оказываются ближе к свободе, чем буржуазия, находящаяся в заложниках у своей собственности и привязанная к беспрерывному циклу извлечения прибыли. Бесполезный бокал вина погружает рабочего в чудесное, славное состояние:
В реальном мире зарплата рабочего позволяет ему выпить стакан вина; он может это сделать, чтобы, по его словам, придать себе сил, а на самом деле вырваться из-под власти необходимости, составляющей основу труда. Как мне представляется, если рабочий позволяет себе пропустить стаканчик, то в основном именно потому, что в состав вина входит нечто чудесное, которое именно и лежит в основе суверенности. Это как будто пустяк, но стаканчик вина на короткое мгновение дает рабочему ощущение, что он волен распоряжаться миром[208].
Можно сказать, что избыток суверенности, который батаевское животное делит с пьяными рабочими и философами, возвращает ему ту самую негативность, что была описана Гегелем на примере Элевсинских мистерий – «поедания хлеба и питья вина». Напомню, что в этом фрагменте из «Феноменологии духа» как раз появляются животные, в отчаянии пожирающие вещи. Разве не очевидно, что безработная негативность, которую Батай помещает на сторону человеческого – смех, эротика, игра и так далее, – первоначально исходит от этих отчаявшихся в истине чувственной достоверности зверей? Тем, кто хочет завершить историю, следует для начала прогнать это животное. В противном случае оно может стать тем, что Маркс называет субъектом Истории – ее высшей точкой, кульминацией, точкой отрицания и самоотрицания пролетария, которого, как подчеркивает Маркс, политическая экономия знает только как вьючное животное или рабочую скотину[209].
Однако надо иметь в виду, что эта фигура безработной животности вырастает из моего собственного партизанского чтения Батая вопреки ему самому, ведь для самого Батая все еще очень важно различие между непосредственной суверенностью животного и беспокойной негативностью человека, даже несмотря на то, что иногда это различие приводит к двусмысленности и путанице. Чтобы как-то с ней разобраться, следует рассмотреть еще один аспект животности в философии, а именно устойчивую параллель между животностью и имманентностью.
Диалектика рыбы
«Животное состояние есть состояние непосредственности, или имманентности»[210], – пишет Батай в «Теории религии», рассуждая о животном царстве как целом и противопоставляя его человеческому бытию, которое строится на опосредовании и негативности. В этой точке он подходит достаточно близко к Хайдеггеру, согласно которому животное «…на протяжении всей своей жизни находится в определенной среде, будь то вода, воздух или то и другое вместе, причем находится так, что принадлежащая ему среда остается для него незаметной»[211]. Батаевская животность не знает отрицания или разрыва и сохраняет себя в непрерывности жизни. Как подчеркивает Бенджамин Нойз, для Батая «мир животных – это мир без различия, так как животные ничего не знают о негативности и поэтому ничего не знают о различии»[212].
Ничего, что одно животное поедает другое, ведь одно не слишком отличает себя от другого (у животных вообще нет «одного» и «другого»). Оба они, и поедающее, и поедаемое, разделяют общую пульсацию бурной, расточительной жизни, которую Батай сравнивает с движением морских волн, захлестывающих одна другую: «Всякий зверь пребывает в мире, как вода в воде»[213]. Эта метафора неизбежно наводит на мысль о рыбе, почти незаметно скользящей где-то между волнами. Как отмечает Кэрри Роман, можно заподозрить, что когда Батай формулировал это «редукционистское определение онтологии животного»[214], он мог держать перед собой стихотворение «Рыба», написанное английским писателем Дэвидом Гербертом Лоуренсом:
Рыба, о рыба, Тебе все безразлично! Поднимется ли океан, покроет ли землю, Уляжется ли в пустоты земли, – Тебе все равно. В воде, под водой, В глубинах, Волной возбужденная. Катятся волны – Вместе с ними ты В едином порыве, В невидимом единстве[215].Как объясняет Роман, «рыбы обладают привилегированным опытом имманентности, так как их стихия – это изменчивая, вездесущая вода ‹…› Рыба буквально существует „в стихии, / не более“»[216]. Чтобы понять, как такое вообще возможно, следует сделать короткий экскурс в политическую онтологию рыбы. На удивление, именно рыба невидимо и молчаливо сопровождает значительную часть философских рассуждений. Рыба, так сказать, неизменно и негативно обитает где-то по краям метафизики. Это существо часто используется как периферийный, но типичный пример того, что живет в своей собственной стихии или среде, а именно в воде. Немая рыба, скользящая в водах, предстает как устойчивый образ имманентности, соответствия животного своей природной сущности. Философы часто вспоминают рыбу, когда хотят что-то сказать о сущности животного бытия: образ воды как стихии par excellence с бессмысленно плавающими в ней рыбами представляется абсолютно убедительным.
Один из наиболее ярких кульминационных моментов в философии имманентности рыбы можно найти в «Тысяче плато» Делёза и Гваттари, для которых неограниченное становление элементов – это само производство абстрактной машины космоса. Делёз и Гваттари использовали животное в качестве позитивной модели своей аффирмативной онтологии[217], вознося его на самую вершину философской вселенной становления:
Стать каждым – значит создавать мир, создавать некий мир. Благодаря устранению мы уже не более чем абстрактная линия или же деталь головоломки, которая сама по себе абстрактна. Именно сопрягаясь, продолжаясь с другими линиями, с другими деталями, мы создаем мир, который мог бы окутать первый как некая прозрачность. Животная элегантность, рыбка-камуфлятор, подпольное – по ним проходят абстрактные линии, не похожие ни на что и не следующие даже своим органическим делениям; но так дезорганизованная, дезартикулированная, она творит мир с линиями скалы, песка и водорослей, становясь невоспринимаемой. Рыбка подобна китайскому художнику-поэту – не подражательному, не структурному, а космическому[218].
«Создание мира», мирствование, в которое вовлечена делёзовская рыба, выглядит как своеобразная инверсия картины мира, представленной в «Монадологии» Лейбница. То, что у Делёза и Гваттари становится «дезорганизованным, дезартикулированным», у Лейбница все еще «культивируется», порядок вселенной монад защищен от любого хаоса или беспорядка:
Всякую часть материи можно представить наподобие сада, полного растений, и пруда, полного рыб. Но каждая ветвь растения, каждый член животного, каждая капля его соков есть опять такой же сад или такой же пруд. И хотя земля и воздух, находящиеся между растениями в саду, или вода – между рыбами в пруду не есть растение или рыба, но они все-таки опять заключают в себе рыб и растения, хотя в большинстве случаев последние бывают так малы, что неуловимы для наших восприятий. Таким образом, во вселенной нет ничего невозделанного, или бесплодного: нет смерти, нет хаоса, нет беспорядочного смешения, разве только по видимости; почти то же кажется нам в пруду на некотором расстоянии, с которого мы видим перепутанное движение рыб и, так сказать, кишение их, не различая при этом самих рыб[219].
«Нет смерти», «нет хаоса», нет причин для беспокойства: вот мантра, которую можно было бы всякий раз повторять в высшей точке мысли, когда остается, возможно, только один маленький шаг до бездны неразумия и предельного беспорядка. Делёз и Гваттари не столько предлагают сделать этот шаг, сколько провозглашают, что на смену монадам приходят номады. Элементы мира перестают быть замкнутыми на самих себя, они постоянно движутся, пересекают границы и сами становятся границами между собой и собой же, но уже другими.
Образ воды у Делёза и Гваттари становится скорее тревожным, когда из нее появляется монстр – Моби Дик. Моби Дик – «ни индивидуальность, ни род; он – граница»[220]. Такое животное, имеющееся в каждой стае, Делёз и Гваттари называют демоном, исключительной особью или аномалией. Аномалия есть феномен границы, «окаймления». То есть граница стаи проходит через исключительную особь: «По ту сторону границы множество меняет природу»[221], переходит в другое измерение. Как отмечает Катрин Малабу, роль аномалии – «маркировать конец серии и незаметный переход к другой возможной серии, подобно игольному ушку аффекта, точке перехода, благодаря которой один мотив привязывается к другому»[222]. Этот чрезвычайно динамичный мир множественностей и серий измеряется интенсивностями становления – на границах стай аномальные особи вступают в альянсы, образуют блоки становления, перехода.
Делёз цитирует капитана Ахава из романа Мелвилла: «„Белый кит для меня – это стена, воздвигнутая прямо передо мною“, белая стена. „Иной раз думается, что по ту сторону нет ничего“»[223]. В своем становлении-китом Ахав как бы пытается пройти сквозь эту белую стену, где животное становится цветом, «чистой белизной» (это становление приведет героя к смерти). Имманентность делёзовских животных простирается до самой смерти, которую они знают лучше людей. Об этом, в частности, Делёз говорит в первой статье своего знаменитого словаря, как раз таки посвященной животному: «В противоположность сказанному не люди, а именно животные знают, как умирать»[224]. У Андрея Платонова в «Чевенгуре» мы находим замечательную иллюстрацию человеческой зависти по отношению к животным, которые, как предполагается, знают, как умирать, владеют абсолютным знанием о жизни и смерти:
Захар Павлович знал одного человека, рыбака с озера Мутево, который многих расспрашивал о смерти и тосковал от своего любопытства; этот рыбак больше всего любил рыбу, не как пищу, а как особое существо, наверное знающее тайну смерти. Он показывал глаза мертвых рыб Захару Павловичу и говорил: «Гляди – премудрость. Рыба между жизнью и смертью стоит, оттого она и немая и глядит без выражения; телок ведь и тот думает, а рыба нет – она все уже знает»[225].
Человек, следуя за животным, пытается проникнуть в его имманентность, разгадать загадку смерти:
Созерцая озеро годами, рыбак думал все об одном и том же – об интересе смерти. Захар Павлович его отговаривал: «Нет там ничего особого: так, что-нибудь тесное». Через год рыбак не вытерпел и бросился с лодки в озеро, связав себе ноги веревкой, чтобы нечаянно не поплыть. Втайне он вообще не верил в смерть, главное, же, он хотел посмотреть – что там есть: может быть, гораздо интересней, чем жить в селе или на берегу озера; он видел смерть как другую губернию, которая расположена под небом, будто на дне прохладной воды, – и она его влекла. Некоторые мужики, которым рыбак говорил о своем намерении пожить в смерти и вернуться, отговаривали его, а другие соглашались с ним: «Что ж, испыток не убыток, Митрий Иваныч. Пробуй, потом нам расскажешь». Дмитрий Иванович попробовал: его вытащили из озера через трое суток и похоронили у ограды на сельском погосте[226].
В своем становлении-рыбой герой Платонова, подобно мелвилловскому Ахаву, пытается выйти за границу смерти. Но он не может разделить себя на две части – смерти и выживания – таким образом, чтобы нечто наподобие внутреннего человека могло продолжать существовать и наблюдать смерть своего же животного тела.
На самом деле безразлично, знает ли рыба о различии между жизнью смертью или не знает: это и есть способ существования, который философы обычно называют «имманентностью». Представим себе рыбу, которая внезапно вдруг переполнилась завистью к людям, которые сидят на берегу и спорят о политике освобождения животных, и попробовала выбраться из воды на берег и присоединиться к дискуссии. Одни скажут, что процесс эволюции не может происходить с такой быстротой, хотя нечто подобное действительно имело место в истории природы и некоторые рыбы на самом деле когда-то вышли из воды и освоили сушу (Дарвин). Другие будут утверждать, что подобного вообще быть не может и, главное, не должно (Гегель).
Гегелевской рыбе лучше оставаться в воде: так она будет соответствовать своему понятию и не превратится в «жалкое зрелище» (которое уже представляют собой киты, пресмыкающиеся, земноводные и водоплавающие птицы, застрявшие между водой, воздухом и землей). Однако гегелевская имманентность двусмысленна или, скорее, самопротиворечива. Как мы могли видеть, гегелевское животное – «больное», «неуверенное, робкое и несчастное» – самим своим беспокойством выражает себя как субъективность. Да, киты и другие чудовища – жалкие зрелища и постыдные ошибки природы, но не за спиной ли Гегеля вырастает «аномальная», демоническая фигура Моби Дика?[227] Превращение, переход границы (выход рыбы на сушу и другие аномалии отклонения от генеральной линии верности понятию) в гегелевской философии вроде как под запретом, и, однако, совсем по-батаевски этот запрет на каком-то более общем методологическом уровне, очевидно, выступает как некая отправная точка для трансгрессии. Рыба как бы и должна молча плавать в воде, но беспокойная негативность гонит ее из себя.
Отмечу, однако, что одного только субъективного, внутреннего беспокойства не хватит на то, чтобы по-настоящему вытолкнуть животное за пределы самого себя. Рыба может беспокоиться, но все еще находиться в воде: вода остается водой, а рыба остается рыбой. Даже самая мучительная тревога не в силах предотвратить примирение животного с действительностью. Рыба вряд ли выберется из воды только потому, что хочет выразить себя иным способом, чем плавание, – например, присоединившись к человеческой беседе. Но есть определенные условия, назовем их «внешними» или «объективными», при которых имманентность становится невозможной. В этой связи следует обратиться к Марксу и Энгельсу, которые в «Немецкой идеологии» критикуют Фейербаха за «непонимание существующего», происходящее из представления, что «бытие какой-нибудь вещи или какого-нибудь человека является вместе с тем и его сущностью», и что «условия существования, образ жизни и деятельность какого-нибудь животного или человеческого индивида есть то, что доставляет его „сущности“ чувство удовлетворения», а если кто-то или что-то не удовлетворен(о) условиями своего существования, то это исключение, несчастный случай, или «ненормальность». На это Маркс и Энгельс отвечают:
Если, следовательно, миллионы пролетариев отнюдь не удовлетворены условиями своей жизни, если их «бытие» даже в самой отдаленной степени не соответствует их «сущности», – то, согласно упомянутому месту, это является неизбежным несчастьем, которое следует, мол, спокойно переносить. Однако эти миллионы пролетариев или коммунистов думают совершенно иначе и в свое время докажут это, когда они практически, путем революции приведут свое «бытие» в соответствие со своей «сущностью»[228].
И тут-то выплывает рыба:
Ограничимся одним положением: «сущность» рыбы есть ее «бытие», вода. «Сущность» речной рыбы есть вода реки. Но эта вода перестает быть ее «сущностью», она становится уже неподходящей средой для ее существования, как только эта река будет подчинена промышленности, как только она будет загрязнена красящими веществами и прочими отбросами, как только ее станут бороздить пароходы, как только ее вода будет отведена в каналы, где рыбу можно лишить среды для ее существования, просто прекратив подачу воды[229].
Итак, даже Маркс и Энгельс не могут избежать соблазна прибегнуть к известной метафоре. Однако Марксова рыба привносит в нашу историю что-то совершенно новое, что-то, что очерчивает связь между животными, пролетариями и коммунистами. Сущность не совпадает с бытием, не совпадает с существованием (таков был уже гегелевский урок). История создает себя из этого несовпадения, несоответствия, которое является не каким-то случайным недоразумением или несчастьем, а необходимостью. В этой связи, возможно, одним из самых проблематичных моментов «Философии природы» Гегеля является предписание всем природным формам держаться своего понятия. Это предписание удерживает природу вне истории таким образом, что противоречие между ними ведет к «дурной бесконечности» взаимного искажения. Своим молчаливым бунтом Марксова рыба как бы говорит о неотложности и необходимости универсального и революционного изменения. Причина беспокойства живого существа – не столько в самом этом существе, сколько в мире, который вдруг становится для этого существа невыносимым.
Кто-то возразит: «Рыба не может совершить революцию». Но кто же может? Могут ли сделать это миллионы пролетариев, о которых пишет Маркс? Или же революция вообще проходит скорее через невозможность, которая сама по себе никогда не бывает абсолютной, но задним числом, диалектически превращается в возможность, доступность для смысла? Преодоление невозможности как историческая необходимость уже вписано в логику гегелевского становления. Оглядываясь, мы видим, что зверинец духа, населенный множеством несчастных и негативных существ, готов взорваться в любой момент. И чтобы пестрое, многоголосое и беспокойное множество гегелевских китов, коней, южных людей, певчих птиц и прочего гонимого из себя всякого нечто не воспользовалось своим парадоксальным шансом и не ринулось в зазор субъективности, метафизическая единица по имени человек, не оставляющая заботы о правопорядке, предпринимает очередные попытки сдержать эти потоки и вновь закрыть границы для непохожих на себя чужаков.
Стадо бытия
Хайдеггеровское животное – это большая и широко обсуждаемая в философии тема[230]. Как известно, Хайдеггер отвергал предшествующую традицию гуманистической философской антропологии, ставившей человека во главу угла. Однако его противостояние гуманизму, по его же определению, это не та мысль, что «скатывается до антипода гуманности и выступает за негуманность, защищает бесчеловечность и принижает достоинство человека. Мысль идет против гуманизма потому, что он ставит humanitas человека еще недостаточно высоко»[231].
Оставляя позади обширную метафизическую традицию понимания человека в его соотношении с животным началом, например как animal rationale, животное, наделенное разумом, языком и т. д., Хайдеггер заявляет, что человек вообще не является животным, что человек и животное – это две совершенно разные формы бытия и что различие между ними носит самый что ни на есть онтологический характер. «Тело человека есть нечто принципиально другое, чем животный организм», – пишет он в «Письме о гуманизме»[232]. Это тело ближе к богам, оно выставлено в просвет бытия: «Стояние в просвете бытия я называю эк-зистенцией человека. Только человеку присущ этот род бытия»[233].
Более того, сам человек и «есть „вот“ бытия, то есть его просвет»[234], освещенный в своей открытости его истине, тогда как животные просто есть, и к истине это не имеет никакого отношения. Между людьми и животными пролегает пропасть:
Во всяком случае, живые существа суть то, что они суть без того, чтобы они из своего бытия как такового выступали в истину бытия и стоянием в ней хранили существо своего бытия. Наверное из всего сущего, какое есть, всего труднее нам осмыслить живое существо, потому что, с одной стороны, оно неким образом наш ближайший родственник, а с другой стороны, оно все-таки отделено целой пропастью от нашего эк-зистирующего существа. Наоборот, бытие божества как будто бы ближе нам, чем отчуждающая странность «живого существа», – ближе в той сущностной дали, которая в качестве дали все-таки роднее нашему экстатическому существу, чем почти непостижимое для мысли, обрывающееся в бездну телесное сродство с животным[235].
Хайдеггеровская философия животного изложена главным образом во второй части «Основных понятий метафизики». Именно в этой книге Хайдеггер вычерчивает свой знаменитый треугольник: камень безмирен (weltlos), животное скудомирно (weltarm), человек мирообразующ (weltbildend). Он обращается к трудам биологов и зоологов (Ханс Дриш, Якоб фон Икскюль и др.) и анализирует животный организм как особый род сущего, которое живет, но не экзистирует.
Утопленное в своей среде обитания, где оно обнаруживает «добычу, пищу, врагов, половых партнеров», животное остается пленником этой среды, образующей своего рода замкнутый круг, который Хайдеггер называет мироокружением животного: «На протяжении всей своей жизни животное находится в своем мироокружении как в трубе, которая не расширяется, не сужается и не запирается»[236]. Мир животных – это не общий мир, а их ограниченная окружающая среда, к которой естественным образом приспособлено их тело: «Поведение животных всегда протекает в каком-то окружении, но никогда – в мире»[237]. В статье, посвященной хайдеггеровским животным, Сюзанна Линдберг объясняет:
В «Основных понятиях метафизики» Хайдеггер называет сущее, которое затрагивает животного, «растормаживателем» (disinhibitor, Enthemmung). Нечто меньшее, чем знак, растормаживатель тем не менее есть то, что для животного имеет смысл. Растормаживатель разрывает изначально закрытый и «заторможенный» способ бытия животного, открывая его среду, даже если поведение животного по отношению к этой открытости остается простым и тупым «оцепенением» ‹…› Следуя за Якобом фон Икскюлем, Хайдеггер полагает, что растормаживатели животного образуют его окружающую среду. Окружающая среда – это не пространство, в котором животное может повстречать различные растормаживатели, но все его растормаживатели в целом есть его среда и, в качестве таковой, точки, которые образуют его «очертание», или «круг», в котором движется животное. Жизнь животного есть ее непрекращающееся отношение со средой, обнаруживаемой посредством растормаживателей[238].
Любое движение животного, вызываемое в нем самом из себя самого некоторой нехваткой – например, голодом – с неизбежностью возвращает животное снова в очерчиваемый таким образом круг, который оно никогда не покидает и всегда как бы носит с собой. Это возвратное, замкнутое движение, окольцовывание – не столько выход вовне, сколько безвыходное столкновение с внешним миром, которым животное не может обладать так, как обладает человек: «Животное скудомирно, бедно миром»[239], тогда как «у человека есть мир»[240].
Иметь мир в своем распоряжении – это бытийная привилегия человеческого существа. У нас есть – и мы есть. Для Хайдеггера, как подчеркивает Деррида, «собственность человека, или идея того, что есть собственно человек, неотделима от вопроса о бытии или от истины бытия»[241]. Отношения собственности в хайдеггеровском мире возникают в просвете истины, а просвет истины – вероятно, достаточно узкий – уже занят людьми. Однако бедность животных – это такое не-обладание, которое в то же самое время есть и своего рода обладание. У животных не просто нет мира, как его нет, например, у безмирного камня, а особым образом нет – таким, что он, в принципе, мог бы и быть. Потенциальное обладание у животного всегда остается актуальным не-обладанием. Это и есть настоящая бедность: у животных имеется ограниченный доступ к тому, в чем они нуждаются, но у них отсутствует опыт владения этими вещами как они есть. Как объясняет Линдберг, последние не имеют «отношения к „как есть“, из которого состоит истина»[242], ведь сущие как они есть, то есть в их бытии, даны в языке и открыты через язык. А что такое, по Хайдеггеру, в конечном счете бытие, как не это «есть», которое живет и работает в языке и наделяет бытием всю совокупность сущих, выражаемых языком? По мысли Деррида, «„Бытие“ и язык – или группа языков, – которым оно правит или который оно открывает, – вот имя того, что обеспечивает совершаемый нами переход между метафизикой и гуманизмом»[243].
Чтобы понять, что значит «бедность миром», нужно прежде понять, что значит «мир». А мир, как пишет Хайдеггер в «Письме о гуманизме», и есть «просвет бытия»:
Поскольку растение и животное, хотя всегда и очерчены своей окружающей средой, однако никогда не выступают свободно в просвет бытия, а только он есть «мир», постольку у них нет языка; а не так, что они безмирно привязаны к окружающей среде из-за отсутствия у них языка. В этом понятии «окружающей среды» сосредоточена вся загадочность живого существа. Язык в своей сути не выражение организма, не есть он и выражение живого существа. Поэтому его никогда и не удастся сущностно осмыслить ни из его знаковости, ни, пожалуй, даже из его семантики. Язык есть просветляюще-утаивающее явление самого Бытия[244].
Пропасть между человеком и его бедным родственником есть, таким образом, пропасть онтологического неравенства. Это уточнение говорит о многом: дело не в том, что у животных нет мира потому, что у них нет языка, а в том, что у них нет языка, потому что нет мира. У них не просто нет, но и не может быть языка: язык принадлежит не сфере животных способностей, а сфере человеческих возможностей. В отличие от францисканской птицы, разносящей благую весть, или гегелевской, выражающей свое бытие, хайдеггеровская птица если и сотрясает воздух, то лишь производит этим бессмысленный шум:
Если «слышание», по Хайдеггеру, есть само условие возможности речи, то может ли животный «шум», или вопль, «говорить» с нами: звать нас, касаться нас, быть обращенным к нам? ‹…› С точки зрения Хайдеггера, животное вполне может выражать себя и свои чувства посредством своего голоса, однако оно не может быть услышано человеком – так как сущность речи это не само-выражение, но возможность разделить смысл. Человек не слышит того, что говорит ему животное ‹…› боги наделяют смыслом, тогда как животные лишь производят шум[245].
Животные другие. Не разделяя с нами смысла, они, по сути, не вступают в отношение ни с нами, ни с нашим миром – и даже живя в нашем доме, не покидают своего собственного кольца. Хайдеггеровская собака не просто не говорит, а даже не ест – но не так, как не ест собака Кафки (которая, сознательно воздерживаясь от приема пищи, проводит над собой научный эксперимент и делится с читателями его результатами), а так, как едят люди:
Мы держим домашних животных в доме, они «живут» с нами. Однако это со-бытие – не со-экзистирование, потому что собака не экзистирует, но лишь живет. Наше совместное бытие с животными таково, что мы позволяем им вращаться в нашем мире. Мы говорим: собака лежит под столом, она прыгает вверх по лестнице. Но собака – относится ли она к столу как столу, к лестнице как к лестнице? И все-таки она вместе с нами поднимается по этой лестнице. Она пожирает с нами пищу – нет, мы-то ее не пожираем. Она ест вместе с нами – нет, все-таки не ест. И все же – она с нами! Это сопутствие, перемещенность – и все-таки не так[246].
Если хайдеггеровская собака живет в нашем доме, то сами мы – каким-то более фундаментальным образом – живем в доме языка: «Язык есть дом бытия. В жилище языка обитает человек»[247]. Животные же бедны и не имеют своего собственного дома – вот они и «вращаются» в нашем, не умея не столько наделить смыслом, сколько разделить с нами смысл своей бедности. Да и саму бедность они не могут назвать своей, поскольку, в отличие от бедности людей, она не дана им «как есть». Разделять же смысл и вообще разделять что-то, делиться – это дело рук человеческих. Богатство и щедрость, возможность делиться вписаны в саму структуру человеческого тела. Если Гегель называет человека и обезьяну животными, чьи ноги стали руками, то Хайдеггер вычеркивает обезьяну из этого короткого списка:
Рука представляет собой нечто особое. Рука согласно обычному представлению принадлежит к организму нашего тела. Однако существо руки нельзя определить как телесный хватательный орган или исходя из этого объяснять. Хватательными органами обладает, например, обезьяна, но у нее нет руки. Рука от всех хватательных органов, как то лап, когтей, клыков, отличается бесконечно, т. е. их разделяет пропасть в существе. Только существо, которое говорит, т. е. мыслит, может иметь руку и в обращении с рукой (рукотворении) осуществлять произведения рук[248].
Человеческие руки не только используют орудия, пишут и производят. Руки – это то, что дает. Что протягивает, давая в дар. Только у человека есть дар. Дар бытия, дар мысли или дар языка. Человек одарен и способен одаривать сам, способен протянуть дарящую руку, тогда как лапа животного может только хватать. Животному никогда не выбраться из этой бездарной нищеты. Как подчеркивает Деррида в своем знаменитом эссе «Geschlecht II: Рука Хайдеггера»,
…рука человека дает и дает себя – как мышление или как то, что дано для мышления, и как то, что мы еще не мыслим; тогда как орган обезьяны или человека как просто животного, пусть даже как animal rationale [разумного животного], может лишь взять вещь, схватить ее, овладеть ею ‹…› Можно было также сказать, что животное может брать вещь и ею манипулировать лишь в той мере, в какой оно не имеет дела с вещью как таковой. Животное не позволяет вещи быть тем, что она есть в своем существе[249].
Но, может быть, мы можем дать им что-то? Предложить, протянуть руку? Такова была, например, инициатива Йозефа Бойса, который в 1974 году устроил знаменитый перформанс под названием «Койот: я люблю Америку и Америка любит меня» в Рене-Блок-галерее в Нью-Йорке. В течение трех дней художник, завернутый в войлок (изображая пастуха), находился в небольшом помещении вместе с живым диким койотом. Рассматривая этот жест художника в контексте критики хайдеггеровской философии, Стив Бейкер обращает внимание на следующую деталь: «Среди разбросанной соломы, кусков войлока, обрывков Wall Street Journal и всевозможных других материалов, которые художник принес с собой, была пара перчаток (которые он покрасил в коричневый цвет и то и дело бросался ими в койота)»[250]. Как объясняет сам Бойс, в этом перформансе «роли сразу же поменялись», и койот предстал «важным сотоварищем в производстве свободы», который подвел художника ближе к тому, чего «не может понять человек»:
Коричневые перчатки изображают мои руки. У них есть свобода делать множество разных вещей, использовать любой набор орудий и инструментов. Они могут орудовать топором и рубить ножом. Они могут писать и лепить формы. Руки универсальны, и в этом суть человеческой руки… Они не ограничены какой-то одной функцией, как когти орла или крота. Так что, когда я бросал перчатки в Малыша Джона, это значило, что я даю ему поиграть свои руки[251].
Животное в этом примере подвергается своего рода интерпеляции: его как бы призывают стать человеком. Делая его сотоварищем, художник дает ему то, что само может давать, – руки. Но может ли животное выступить с ответным даром? По Хайдеггеру, определенно нет. Бедному животному нечего нам дать, ему ничего не принадлежит.
И, однако, есть здесь еще одна возможность, еще один «бессознательный философ» маячит позади открытости истине хайдеггеровского Dasein. Животное, пребывающее в тупом оцепенении, на самом деле является крайне двусмысленной фигурой – то ли открытой в своей закрытости, то ли закрытой в своей открытости. Эта двусмысленность будет подхвачена и радикализирована Агамбеном, который в книге «Открытое» парадоксальным образом выводит саму сущность Dasein из сокрытости бессознательной животной жизни. По мысли Агамбена, точкой, в которой встречаются животное и человек, является глубинная скука – одно из главных настроений Dasein, которое Хайдеггер противопоставляет животному оцепенению.
Пребывая в оцепенении, животное находилось в непосредственном отношении со своими растормаживателями, но настолько вверено им и оглушено ими, что они никогда не могли ему раскрыться в качестве таковых. Животное как раз и неспособно приостановить и отключить свое отношение с циклом своих специфических растормаживателей. Окружающий мир животного устроен так, что в нем никогда не может проявиться такая вещь, как чистая возможность[252].
По мысли Агамбена, между глубинной скукой и животным оцепенением наблюдается не только огромная дистанция, но и в то же самое время тесная близость, в зоне которой одно переходит в другое:
В таком случае глубинная скука выступает в качестве метафизического оператора, благодаря которому осуществляется переход от обделенности мира к собственно миру, от животного окружающего мира к человеческому миру; здесь речь идет ни более ни менее как об антропогенезе, о становлении Dasein живого человека[253].
Живой человек принимает на себя «бремя» Dasein, но на самом деле этот его переход «не открывает никакого иного пространства, более просторного и светлого, завоеванного за пределами животного окружающего мира и не имеющего к нему отношения»[254]. Зато он приостанавливает отношения животного со своей окружающей средой, и именно «в этой приостановке, в этой пассивизации растормаживателей оцепенение животного и его выставленность в не-раскрытое могут быть впервые постигнуты как таковые»[255]. Агамбен связывает этот момент с хайдеггеровским мотивом открытости Dasein и «не-открытости-не-закрытости» животного мира и поясняет:
…это явление не-открытого как такового, приостановка и схватывание не-видения-жаворонком-открытого. Драгоценность, вставленная в оправу в центре человеческого мира и его Lichtung’a, – не что иное, как животное оцепенение; удивление перед тем, «что сущие есть» – не что иное, как схватывание сущностного потрясения, которое испытывает живое существо при выставленности в не-открытость[256].
Продолжая анализировать этот переход, Агамбен обращается к хайдеггеровскому курсу лекций о Пармениде:
Хайдеггер неоднократно указывает на верховенство lethe по отношению к несокрытости. Исток сокрытости (Verborgenheit) в сравнении с несокрытостью (Unverborgenheit) остается в тени до такой степени, что его можно понимать как своего рода изначальную тайну несокрытости ‹…› тайна несокрытости должна исчезнуть, поскольку lethe, господствующая в самом сердце aletheia, – не-истина, изначально причастная истине, – есть нераскрываемость, не-открытое, свойственное животному[257].
Животное ассоциируется с lethe – забвением, которое несет в себе истина, aletheia – и оказывается, таким образом, в эпицентре хайдеггеровского забвения бытия: не в том смысле, что животное «забыло» или «забылось», а в том, что, возможно, то, что забыто в забвении бытия как раз и есть животное. В этой связи я предлагаю перечитать буквально знаменитый афоризм Хайдеггера: «Человек – пастух бытия»[258]. Если человек – пастух бытия, то бытие – это стадо.
Не является ли зов бытия, к которому Хайдеггер прислушивается через забвение, эхом того самого неартикулированного животного голоса, который философ списывает на бессмысленный шум? Не исходит ли этот зов от животного, потерянного и забытого своим пастухом? Не тот ли это самый голос животного перед лицом насильственной смерти, из которого (если вспомнить агамбеновскую интерпретацию Гегеля) рождается язык и сознание?
Эта догадка снова возвращает нас к демону ретроактивности, который уже появлялся – в разных обличьях – у Кафки, Гегеля и Фрейда. Человеческий субъект рождается из жертвоприношения, или вытеснения, или забвения животного, множественного, бессознательного стада бытия. Хайдеггеровское забвение в этом смысле, безусловно, родственно фрейдовскому вытеснению, но есть и существенное различие, суть которого как раз в ретроактивном характере вытесненного. Условно говоря, в психоанализе собственно «забытое» (скажем, травма) совсем не обязательно предшествует забвению как вытеснению. Как говорит Лакан, поясняя тезис о том, что вытеснение и возвращение вытесненного – это одно и то же,
травма, в той мере как она оказывает вытесняющее действие, вмешивается задним числом, nachträglich. В такой момент нечто отделяется от субъекта в том самом символическом мире, в процессе интеграции которого субъект как раз и находится. Впредь это нечто уже не будет относиться к субъекту, не будет присутствовать в его речи, не будет интегрировано им. И тем не менее оно здесь же и останется и будет, если можно так сказать, выговариваться чем-то, субъекту неподвластным ‹…› Конституировав свое первое ядро, вытеснение начинает действовать[259].
Эти рассуждения Лакана послужили поводом к любопытной дискуссии между ним и Жаном Ипполитом по поводу хайдеггеровской игры между lethe и aletheia, забвением и истиной, в контексте практики психоанализа. Дискуссия началась с вопроса Октава Маннони о понятии «удачного вытеснения», или «удавшейся символической интеграции», которая, по мысли Лакана, «привносит своего рода нормальное забвение»[260]. Приведу отрывок из этой дискуссии:
ЛАКАН:…Интеграция в историю явно подразумевает забвение целого мира теней, которые не получают доступа к символическому существованию. А если такое символическое существование удается субъекту и полностью им принимается, оно не влачит за собой никакого груза. Тут уместно было бы обратиться к хайдеггеровским понятиям. Во всяком вступлении существа в его словесное жилище существует дополнительное по отношению к любому aletheia поле забвения, lethe.
ИППОЛИТ: В формуле Маннони мне остается непонятным слово «удачное».
ЛАКАН: Это выражение терапевта. Удачное вытеснение – это суть.
ИППОЛИТ: «Удачное» могло бы означать тогда самое глубокое забывание.
ЛАКАН: Об этом я и говорю.
ИППОЛИТ: Тогда «удачное» в некотором смысле будет означать полный провал. Чтобы достичь интегрированности бытия, необходимо, чтобы человек забыл суть. «Удачное» – это провал. Хайдеггер не принял бы слова «удачное». Лишь с терапевтической точки зрения можно говорить здесь об «удачном».
ЛАКАН: Это точка зрения терапевта. Тем не менее такое поле ошибки, наличное во всякой реализации бытия, Хайдеггер, похоже, возводит к своего рода основополагающей lethe, тени истины.
ИППОЛИТ: Для Хайдеггера удача терапевта – это самое худшее. Это забвение забвения. Хайдеггеровская подлинность состоит в том, чтобы не погрузиться в забвение забвения.
ЛАКАН: Да, поскольку Хайдеггер создал из такого возвращения к истокам бытия своего рода философский закон[261].
Ретроактивному животному некуда возвращаться, поскольку исток, истина и смысл его животного бытия – предвосхищение свободы (но вместе с тем и «травма», производящая разрыв между тем, что есть, и тем, что было, – активируется задним числом. Не в этом ли разрыве, в глубинной скуке, берет начало «пробуждение живого навстречу собственному оцепенению»[262], в результате которого рождается зверь свободной науки? И снова Кафка: «Наверно, именно из-за этого забвенья возникает какая-то печаль, неуверенность, беспокойность, какая-то омрачающая настоящее тоска по прошлому. И все же эта тоска есть важный элемент жизненной силы, а может быть, и она сама»[263].
Бедная жизнь
Из множества оттенков настроений, близких хайдеггеровской глубокой тягостной скуке, есть один, обозначаемый непереводимым русским словом «тоска». Как пишет Владимир Набоков,
ни одно английское существительное не передает всех оттенков этого слова. На самом глубоком и мучительном уровне это чувство сильнейшего душевного страдания, часто не имеющее объяснимой причины. В менее тяжелых вариантах оно может быть ноющей душевной болью, стремлением непонятно к чему, болезненным томлением, смутным беспокойством, терзанием ума, неясной тягой. В конкретных случаях оно означает стремление к кому-то или чему-то, ностальгию, любовные страдания. На низшем уровне – уныние, скуку[264].
В книге «Аффективное картирование: меланхолия и политика модернизма» Джонатан Флэтли также обращается к толкованию этого слова:
Хотя его употребление в каком-то смысле близко английской «меланхолии», тоска полагает свой объект так, как этого не могут делать ни депрессия, ни меланхолия. Если можно быть в депрессии или меланхолии по поводу чего-то, то это не предполагает того же самого активного чувства в отношении объекта, если речь идет о тоске по чему-то (по дому, по другу, по социализму) ‹…› Соответственно, у тоски есть и глагольная форма. Глагол выделяет потенциально и парадоксально активную природу нехватки чего-либо[265].
Добавлю к этому исчерпывающему объяснению, что тоска может быть не только по чему-то, но и против чего-то, или, точнее, это чувство может быть направлено против некой данности, определенной ситуации, которую субъект определяет как невыносимую, или же против всего вообще. Такая негативная тоска говорит о неотложности действия или необходимости перемен (в отсутствие которых ситуация продолжает быть невыносимой). Это некий аффективный порог, за которым мир уже должен быть другим. Понятая таким образом, русская тоска совсем не похожа на хайдеггеровскую. В ней нет ностальгии, она действует без оглядки на забытый исток. Это такое мучение, которое не дает вещам быть как есть.
У Андрея Платонова эта тоска свойственна не только людям, но и животным, и растениям. Она присутствует во всей природе, охваченной нестерпимым желанием перемен, вписана в бедность животной жизни и питает собой революционную утопию. Любопытно, что у таких разных авторов, как Хайдеггер и Платонов, имеется довольно много общих мотивов[266], среди которых – и тоска/скука, и бедность животных. Среди интеллектуалов, художников, поэтов и писателей, вдохновленных Октябрьской революцией, Платонов – фигура уникальная. Революция для него заключалась, в частности, в развитии подлинно марксистской литературной практики, в рамках которой он исследовал такие темы, как сообщество, сексуальность, гендер, труд, производство, смерть, природа, утопия и построение нового, лучшего будущего. Животное состояние – это важная часть платоновской трагической диалектики природы, выражающей уникальные мессианистские ожидания этой эпохи[267].
Андрей Платонов много писал о жизни, об ее отчаянной бедности. Бедная жизнь – это жизнь животных и растений, но также и жизнь людей, которые из самой этой жизни строят счастье и коммунизм. Бедность описывает определенное состояние мира, когда жизнь является главным или даже единственным материальным ресурсом, универсальным «веществом существования», из которого, как из алхимической субстанции, производится все на свете. И все великое, включая революцию, тоже производится из этого скудного, слабого вещества («человек рождается из червя»[268]). Вот почему так много внимания Платонов уделяет описанию различных животных – при желании на материале его прозы можно было бы составить уникальный бестиарий[269]. Однако моя задача заключается не в этом, а скорее в том, чтобы выделить некую обобщенную фигуру платоновского животного как форму локализации «бедной жизни» и поместить ее в конкретную политико-онтологическую перспективу.
Если хайдеггеровское животное – это бедная миром жизнь, живое существо, которому противостоит обладающее всем богатством бесконечного мира человеческое бытие (Dasein), имеющее сущностью собственную конечность и смерть, то Платонов рассуждает о внутреннем достоинстве мельчайших и слабейших живых существ:
Не может быть, чтобы все животные и растения были убогими и грустными – это их притворство, сон или временное мучительное уродство. Иначе надо допустить, что в одном человеческом сердце находится истинное воодушевление, а эта мысль ничтожна и пуста, потому что и в глазах черепахи есть задумчивость, и в терновнике есть благоухание, означающие великое внутреннее достоинство их существования, не нуждающееся в дополнении душой человека[270].
Внутреннее достоинство существования живого имеет для Платонова безусловную ценность и является предметом внимательного разыскания: писательский глаз присматривается к самым ничтожным и мелким представителям фауны и флоры, обнаруживая в них одухотворенность самой материи. Да, жизнь бедна миром, но еще беднее сам мир, которому энергия этой жизни нужна затем, чтобы отличаться от ничто и противостоять силам энтропии. Такое противостояние достигается упорством труда и заботой: и животные, и растения, и бедные люди непрерывно трудятся затем, чтобы жить и при этом, что важно, испытывать радость от жизни. Вот как описывается, например, заяц в рассказе «Среди животных и растений»:
Тот же мелкий, пухлый заяц младенец рылся там лапками в земле, добывая себе какие-то корешки или оброненный прошлогодний капустный лист. Он занимался заботой о своей жизни неутомимо, потому что ему надо было расти и есть хотелось беспрерывно. Поев то, что нашлось на земле, заяц начал играть со своим хвостиком, тремя лапками с четвертой, затем с остатком мертвой древесной коры, с кусочками своих отходов и даже с пустым воздухом, ловя его передними ножками. Отыскав водяную лужу, заяц напился, осмотрелся вокруг влажными нежными глазами, потом лег в ямку, свернулся в теплоту собственного тела и задремал. Он уже перепробовал все наслаждения жизни: ел, пил, дышал, осмотрел местность, почувствовал удовольствие, поиграл и уснул[271].
Платоновское животное – это животное, которое трудится, чтобы поддерживать в себе жизнь: труд жизни объединяет его с растениями и некоторыми людьми. Но это далеко не единственная его характеристика. Помимо трудолюбия платоновское животное отличается неизмеримой щедростью и обладает способностью к бескорыстному дару. Если хайдеггеровское животное может лишь брать, а вернее, хватать, – не только потому, что оно бедно и ему нечего дать, но и потому, что у него нет рук, то у Платонова именно бедность дает и дарит, в то время как богатые, напротив, проявляют жадность.
Платоновскому животному не нужны руки, чтобы изобильно дарить свою бедную жизнь, и относиться к этому дару следует бережно, потому что вместе с мясом животное отдает человеку свою субстанцию жизни, или «душу». В этом отношении оно близко жертвенному животному Батая[272], которое служит проводником исступленного человека из мира профанного в мир сакральный (правда, батаевское животное-жертва мыслится в терминах избытка и роскоши природы, тогда как платоновское – в терминах недостатка и нужды). Многочисленные сцены поедания людьми животных у Платонова недвусмысленно отсылают к ритуалу жертвоприношения, которое – в противоположность жертвоприношениям Батая, требующим эксцесса беспредельной растраты, – совершается в особом режиме предельной экономии:
Отец ел добытых животных и птиц экономно, разумно, приучая к тому же детей, чтобы погибший дар природы превращался в человеке в пользу, а не пропадал напрасно. Он советовал приобретать из мяса и костей убитых не одну лишь сытость, но и хорошую душу, силу сердца и размышления. Если же не можешь брать из птицы или зверя его лучшее добро, а хочешь только напитаться, тогда ешь одну траву во щах или хлебную тюрю. Отец считал, что зверь и птица – дорогие души на свете, и любовь к ним – это экономическое дело[273].
У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко мать, отец и я. Потом она родила себе сына – теленка, и он тоже ел из нее молоко, мы трое и он четвертый, а всем хватало. Корова еще пахала и возила кладь. Потом ее сына продали на мясо. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам все, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости, она была доброй[274].
Разве они наедятся одной или двумя птицами? Нет. Но тоска их может превратиться в радость, если каждый получит щипаный кусочек птичьего мяса. Это послужит не для сытости, а для соединения с общей жизнью и друг с другом, оно смажет своим салом скрипящие, сохнущие кости их скелета, оно даст им чувство действительности, и они вспомнят свое существование. Здесь еда служит сразу для питания души и для того, чтобы опустевшие смирные глаза снова заблестели и увидели рассеянный свет солнца на земле[275].
Мясо животных у Платонова и «служит для питания души», и одновременно дает тому, кто ест, свою «хорошую душу». Человеческая душа питается телом животного, а человеческое тело – душой, которую получает в дар от съедаемого животного вместе с его мясом на правах общей субстанции жизни. Душа, которая питается мясом или которой вместе с мясом напитывается тело, имеет, конечно же, мало общего с христианской индивидуальной бестелесной душой, после смерти улетающей на небо или соединяющейся с богом. «Бога нету нигде», – говорит героиня пьесы «14 красных избушек»[276]. Платонов – спонтанный аристотелик, его душа материальна; это anima – жизнь, материя жизни, – от которой произошли все звери (animalis) и прочие существа, включая людей. Речь идет о веществе, циркулирующем из тела в тело. Следует отметить, что переход общей субстанции осуществляется как между человеком и животным, так и между самими людьми, и между животными и растениями. Душа (живое вещество) передается от одного существа к другому независимо от видовой принадлежности, причем таинство этой передачи совершается не только с ритуально значимой едой, но и, например, в моменты близости людей или зверей, когда их охватывают эротические или дружеские чувства. Глубинный экзистенциальный смысл, который Платонов придает таким моментам, остроумно передан в реплике Чарли Чаплина, высказывающего свое негативное отношение к аппарату «Антисексус»:
Я против Антисексуса. Тут не учтена интимность, живое общение человеческих душ, – общение, которое всегда налицо при слиянии полов, даже когда женщина – товар. Это общение имеет независимую ценность от полового акта, это то мгновенное чувство дружбы и милой симпатии, чувство растаявшего одиночества, которое не может дать антисексуальный механизм. Я за фактическую близость людей, за их дыхание рот в рот, за пару глаз, глядящих в упор в другие глаза, за ощущение души при половом грубейшем акте, за обогащение ее за счет другой встретившейся души. Я поэтому против Антисексуса. Я за живое, мучающееся, смешное, зашедшее в тупик человеческое существо, растратой тощих жизненных соков покупающее себе миг братства с иным вторичным существом[277].
Платоновские животные при всем своем аскетизме, бедности и усталости от труда также не чужды сексуального наслаждения: не случайно Генри Форд, оппонент Чаплина по антисексусу, предлагает создателям механизма автоматического самоудовлетворения распространять свою продукцию «через скотоводов для всего животного населения планеты»[278]. Чем мельче животные, то есть чем короче время, которое они проведут на земле, тем они сладострастнее – перед лицом близкой смерти самая незначительная, «вторичная» живность, прячущаяся где-нибудь в камышах или в траве, спешит полюбить друг друга, чтобы в меру своих слабых сил поучаствовать во всеобщем движении жизни:
Затем начался камыш; когда Чагатаев вошел в него, то сразу закричали, полетели и заерзали на месте все здешние жители. В камышах было тепло. Животные и птицы не все исчезли от страха перед человеком, некоторые, судя по звукам и голосам, остались, где были. Они испугались настолько, что, ожидая гибели, спешили поскорее размножиться и насладиться. Чагатаев знал эти звуки издавна и теперь, слушая томительные, слабые голоса из теплой травы, сочувствовал всей бедной жизни, не сдающей своей последней радости[279].
Однако страсти платоновских людей и страсти платоновских животных проявляют себя по-разному. Если платоновские люди сдерживают себя, причем их воздержание – и в пище, и в чувственной любви – иногда доходит до абсурда, то платоновские звери абсолютным образом невоздержанны – их желание не знает ограничений. Страсть и желание животных – в осуществлении их судьбы, у которой нет альтернатив, поэтому и их страдание, любовь, тоска, голод или ярость не могут найти успокоения до смерти:
Он знал прямые нестерпимые чувства диких животных и птиц. Они не могут плакать, чтобы в слезах и в истощении сердца находить себе утешение и прощение врагу. Они действуют, желая утомить свое страдание в борьбе, внутри мертвого тела врага или в собственной гибели[280].
Корова теперь ничего не ела; она молча и редко дышала, и тяжкое, трудное горе томилось в ней, которое было безысходным и могло только увеличиваться, потому что свое горе она не умела в себе утешить ни словом, ни сознанием, ни другом, ни развлечением, как это может делать человек. ‹…› Корова не понимала, что можно одно счастье забыть, найти другое и жить опять, не мучаясь более. Ее смутный ум не в силах был помочь ей обмануться: что однажды вошло в сердце или в чувство ее, то не могло быть там подавлено или забыто. И корова уныло мычала, потому что она была полностью покорна жизни, природе и своей нужде в сыне, который еще не вырос, чтобы она могла оставить его, и ей сейчас было жарко и больно внутри, она глядела во тьму большими налитыми глазами и не могла ими заплакать, чтобы обессилить себя и свое горе[281].
Неограниченность и невоздержанность желания – очень важная характеристика платоновских животных. Позволю себе еще одну параллель. Адорно и Хоркхаймер, рассуждая в «Диалектике разума» об отсутствии концептуального мышления у животного, отмечают, что как раз в силу этого отсутствия оно испытывает сильнейшее страдание и не умеет противиться судьбе (чем напоминает, конечно, робких и несчастных гегелевских зверей). Их размышление на эту тему, безусловно, направленное против знаменитого утверждения Декарта о том, что животное «не страдает», находит неожиданное соответствие платоновской чувствительности в отношении беспокойного и несчастного животного мира:
Взамен утешения животное не обретает смягчения страха, отсутствие сознания счастья оно не обменивает на неведение скорби и боли. Чтобы счастье стало субстанциальным, даровав существованию смерть, требуется идентифицирующее воспоминание, успокоительное познание, религиозная или философская идея, короче – понятие. Есть счастливые животные, но сколь недолговечно это счастье! Течение жизни животного, не прерываемое освободительной мыслью, сумрачно и депрессивно. Чтобы избавиться от сверлящей пустоты существования, необходимо сопротивление, хребтом которого является язык. Даже сильнейшее из животных бесконечно дебильно[282].
Страдание этих существ не знает успокоения и пребывает в невыносимой длительности потому, что оно не знает диалектики разума с присущим ей дискурсивным прерыванием. Тем временем закон животной жизни – и я возвращаюсь здесь к Платонову – вписан в другую диалектику – диалектику природы. В этой диалектике есть свой трагизм, который состоит в жестокости жизни, в ее прочной сцепке со смертью и неизбежности поедания одних другими. В повести «Джан» Платонов описывает так называемый «овечий круг»: овцы бродят по пустыне вслед за исчезающей травой, люди – вслед за овцами, а хищники и санитары пустыни – вслед за людьми, подбирая мертвых:
В полдень старый Суфьян увел Чагатаева в сторону от сухой дороги. Он сказал ему, что близ амударьинских протоков еще можно встретить иногда две-три старых овцы, которые живут одни и уже забыли человека, но, увидя его, вспоминают давних пастухов и идут к нему. Эти овцы случайно выжили или остались от огромных одичалых стад, которые баи хотели угнать в Афганистан, но не успели. И овцы прожили вместе с пастушьими собаками несколько лет; собаки их стали есть, потом подохли или разбежались от тоски, а овцы остались одни и постепенно умирали от старости, от зверей, заблудившись в песках без воды. Но редкие из них выжили и теперь бродили, дрожа, друг около друга, боясь остаться в одиночку. Они ходили кругами по бедной степи, не сбиваясь в сторону со своей круговой дороги; в этом был их жизненный разум, потому что съеденные и затоптанные былинки травы вновь зарождались, пока овцы миновали остальной свой путь и возвращались на прежнее место. Суфьян знал четыре такие кочевые травостойные круга, по которым ходили до своей смерти остаточные овцы от одичавших, вымерших стад. Одно из этих кочевых колец пролегало невдалеке, почти на пересечении той дороги, по которой народ Джан шел теперь в Сары-Камыш[283].
Он знал многих зверей и птиц, которые поедают мертвых людей в степи. Наверно, позади народа – в невидимом отдалении – все время молча шли дикие звери и съедали павших людей. Овцы, народ и звери – тройное шествие двигалось в очередь по пустыне. Но овцы, теряя травяную полосу, иногда начинают идти за блуждающей травой перекати-поле, которую гонит ветер, и поэтому ветер является всеобщей ведущей силой – от травы до человека[284].
Трагедия – в природе, и, однако, в ней же живет надежда на спасение, причем надежда живет той самой бедной жизнью, которая питает неутомимую душу животного и смотрит изнутри его тела умными, человечьими глазами. Именно так: изнутри каждого платоновского животного выглядывает человек, ум и счастье которого заперты в темнице жестокой природы. Совсем как Пифагор, заявивший, что в избиваемого щенка переселилась душа его покойного друга, астрофизик Лихтенберг, герой платоновского рассказа «Мусорный ветер» (к которому я еще вернусь), узнает в собаке «бывшего человека»:
Утром собака, как нищенка, испуганно пришла в помойное место. Лихтенберг сразу понял, увидя эту собаку, что она – бывший человек, доведенный горем и нуждою до бессмысленности животного, и не стал пугать ее дальше. Но собака, как только заметила человека, задрожала от ужаса, глаза ее увлажнились смертельной скорбью, – утратив силу от страха, она с трудом исчезла прочь[285].
Всматриваясь в глаза и лица животных, Платонов всякий раз видит там запрятанного, забитого и оттого грустного человека. Описание немых страданий верблюда в повести «Джан» – одно из самых настойчивых:
Дойдя до сухой реки Кунядарьи, Назар Чагатаев увидел верблюда, который сидел, подобно человеку, опершись передними ногами в песчаном наносе. Верблюд был худ, горбы его опали, и он робко глядел черными глазами, как умный грустный человек. Когда Чагатаев подошел к нему, верблюд не обратил на подошедшего внимания: он следил за движением мертвых трав, гонимых течением ветра, – приблизятся ли они к нему или минуют мимо. Одна былинка подвинулась близко по песку к самому его рту, и тогда верблюд сжевал ее губами и проглотил. Вдали влачилось круглое перекати-поле, верблюд следил за этой большой живой травой глазами, добрыми от надежды, но перекати-поле уходило стороною; тогда верблюд закрыл глаза, потому что не знал, как нужно плакать[286].
Они взяли с собой в запас верблюжьего мяса, но Чагатаев ел его без аппетита: ему было трудно питаться печальным животным; оно тоже казалось ему членом человечества[287].
Приведу описания некоторых других животных:
…маленькая черепаха томительно глядела черными нежными глазами на лежавшего человека. Что было сейчас в ее сознании? Может быть, волшебная мысль любопытства к таинственному громадному человеку, может быть, печаль дремлющего разума[288].
Воробей был взлохмаченный, головастый, и многие перья его поседели; время от времени он бдительно поглядывал по сторонам, чтобы с точностью видеть врага и друга, и музыкант удивился его спокойным, разумным глазам. Должно быть, этот воробей был очень стар или несчастен, потому что он успел уже нажить себе большой ум от горя, беды и долголетия[289].
Чужой петух вошел во двор с улицы. Он был похож по лицу на знакомого худого пастуха с бородкой, который по весне утонул в реке, когда хотел переплыть ее в половодье, чтобы идти гулять на свадьбу в чужую деревню. Никита порешил, что пастух не захотел быть мертвым и стал петухом; значит, петух этот – тоже человек, только тайный. Везде есть люди, только кажутся они не людьми[290].
Волчек, должно быть, не знал, что он собака. Он жил и думал, как и все люди, и эта жизнь его и радовала и угнетала. Он, как и я, ничего не мог понять и не мог отдохнуть от думы и жизни[291].
Платоновское животное – это тайный человек, который мучается от своего невысказанного, непризнанного и спрятанного в теле ума. Если Хайдеггер в «Письме о гуманизме пишет о пропасти, разделяющей человека и его «ближайшего родственника», и эта пропасть зияет в самом сердце освещенного светом истины бытия хайдеггеровского мира, то персонаж платоновской повести «Ювенильное море», зоотехник Високовский, думает, что «коммунистическое естествознание сделает, вероятно, из флоры и фауны земли более близких родственников человеку» и что «пропасть между человеком и любым другим существом должна быть перейдена»[292].
Революция имеет целью продолжить эволюцию и в конечном итоге высвободить животное из самой его животности как формы помутнения разума (близкой гегелевскому безумию, которое необходимо преодолеть) и избавить его от бреда, скуки и тоски, которые принадлежат у Платонова не Dasein, а самой природной жизни:
Жара и скука лежали на этой арало-каспийской степи; даже коровы, вышедшие кормиться, стояли в отчаянии среди такого тоскливого действия природы, и неизвестный бред совершался в их уме. Вермо, мгновенно превращавший внешние факты в свое внутреннее чувство, подумал, что мир надо изменять как можно скорее, потому что и животные уже сходят с ума[293].
Важно отметить, что после Октябрьской революции идеи революции в природе или даже борьбы с природой постоянно в той или иной форме возникали в зарождающейся советской культуре. Предполагалось, что не только общество, но и природу необходимо изменить, освободить, сделать осознанной и научно организованной. Коммунистический авангард устремлялся к точке невозврата, готовился «жечь мосты», делал ставку на окончательный разрыв с традицией и на тотальное переустройство природного и социального порядка согласно принципам справедливости, равенства и свободы. Природа тоже представлялась ареной классовой борьбы. Потенциальная или актуальная трансформация одного вида в другой (например, животного в человека) связанная с достижением более высокого уровня сознания, – это тема, проходящая через раннюю советскую литературу[294] и поэзию в рамках более общего движения, которое можно охарактеризовать как радикальный революционный гуманизм (радикальный, так как он граничит с антигуманизмом: человека, в свою очередь, тоже нужно преодолеть; «старый» человек будет заменен «новым»)[295].
Сегодняшнему читателю эта позиция, конечно, может показаться антропоцентричной, связанной с волюнтаристской политикой, которая в конечном счете демонстрирует тенденцию к воспроизводству структур неравенства, доминирования и т. д. (что и происходит, когда сталинский «гуманизм»[296] берет верх, как бы переворачивая коммунистическую идею нового человека наизнанку и возвращаясь, таким образом, к «традиционным ценностям»). Важно, однако, понимать, чем именно она отличается от современных эмансипаторных политик природы, в частности от антиавангардистской, консервативной по своей сути утопии глубинной экологии, основанной на идее возвращения к корням, в лоно прекрасной, первозданной, гармоничной и как будто бы свободной природы. Природа совсем не прекрасна – русская революция видит ее в гегелевско-марксистском свете, как царство несвободы, несправедливости, страдания и эксплуатации, а животный мир служит своего рода моделью общества, которое нуждается в преобразовании. Дело не в превосходстве одних видов над другими, но, опять же, в намерении никого не забыть, всех включить в новый (пост)человеческий революционный мир. До тех пор, пока сохраняется неравенство видов, сохраняется и неравенство индивидов. Иными словами, если, по мысли Адорно, животные могут существовать и без диалектики, то диалектики без животных быть не может. Как подчеркивает Марко Маурици, исследовавший тему диалектики животных (в частности, у Адорно), история угнетения, насилия и власти одних людей над другими начинается с насилия людей над природой[297].
«Я вижу конские свободы/и равноправие коров», – пишет Велимир Хлебников[298]. Этот авангардистский посыл предшествует современной борьбе за права животных, но, опять же, кажется несколько более «агрессивным» в своей нацеленности не на защиту и охрану живой природы, но на ее переформатирование, которое обеспечат наука и техника. Животные страдают под гнетом старого режима – точно так же, как представители других угнетенных классов, крестьяне и рабочие. Коммунистическое же строительство вовлекает их в прогрессистскую утопию освобождения. В поэме Николая Заболоцкого «Торжество земледелия» (1931) солдат разговаривает с изнуренными трудом сельскими животными и рассказывает им свой сон:
Я дале видел красный светоч В чертоге умного вола. Коров задумчивое вече Решало там свои дела. Осел, над ними гогоча, Бежал, безумное урча. Рассудка слабое растенье В его животной голове Сияло, как произведенье, По виду близкое к траве. Осел скитался по горам, Глодал чугунные картошки, А под горой машинный храм Выделывал кислородные лепешки. Там кони, химии друзья, Хлебали щи из ста молекул, Иные, в воздухе вися, Смотрели, кто с небес приехал. Корова в формулах и лентах Пекла пирог из элементов, И перед нею в банке рос Большой химический овес[299].Концептуально очень сложное творчество Платонова, в котором двойственность технобиологической утопии, основанной на борьбе с инертной природой, подрывает любую идеологическую конструкцию, заслуживает особого внимания. В небольшом эссе «О социалистической трагедии» Платонов пишет:
[Природа] не велика и не обильна. Или так жестко устроена, что свое обилие и величие не отдавала еще никому. Это и хорошо, иначе – в историческом времени – всю природу давно бы разворовали, растратили, проели, упились бы ею до самых ее костей: аппетита всегда хватило бы. Достаточно, чтобы физический мир не имел одного своего закона, правда, основного закона – диалектики, и в самые немногие века мир был бы уничтожен людьми начисто. Больше того, и без людей в таком случае природа истребилась бы сама по себе вдребезги. Диалектика наверно есть выражение скупости, трудно оборимой жесткости конструкции природы, и лишь благодаря этому стало возможно историческое воспитание человечества ‹…› Между техникой и природой трагическая ситуация. Цель техники – «дайте мне точку опоры, я переверну мир». А конструкция природы такова, что она не любит, когда ее обыгрывают ‹…› Природа держится замкнуто, она способна работать лишь так на так, даже с надбавкой в свою пользу, а техника напрягается сделать наоборот. Внешний мир защищен против нас диалектикой. Поэтому, пусть это кажется парадоксом: диалектика природы есть наибольшее сопротивление для техники и враг человечества. Техника задумана и работает в опровержение или в смягчение диалектики. Удается ей пока это скромно, и поэтому мир для нас добрым быть еще не может[300].
Во втором томе книги «Мимесис» Валерий Подорога, анализируя платоновские машины и вообще машины авангарда, отмечает, в частности, немаловажное различие – более того, противопоставление – между жизнью и природой у Платонова:
Итак, жизнь понимается Платоновым в противопоставлении к Природе. Жизнь – нечто действительно неантропоморфное, в ней скрыто резервное пространство для всякой иной жизни. Жизнь неистребима, а раз так, то весь смысл социальной революции не в ее ближайших конечных целях, а в перестройке всей материи Космоса (Природы), а только затем и на ее основе – общества[301].
Ожидания Платонова от революции и в то же время обращенные к ней вопросы выходят, таким образом, далеко за рамки политики. Подорога пишет о пространствах у Платонова – а это, как правило, характерные (пост)апокалиптические пустыня или степь – и показывает, как в предельно дальнем плане эта противостоящая природе самовозобновляющаяся и неантропоморфная жизнь оборачивается смертью и опустошением, которую несет катастрофическое событие революции. Я же скорее, использую крупный план, следуя за платоновским героем, который вглядывается в траву, видит в ней оживление и суету мелких существ и понимает, что все они хотят коммунизма – даже сорная трава, которая «наравне с пролетариатом терпит и жару жизни, и смерть снегов»[302].
Желание коммунизма, для интерпретации которого, как отмечает Фредрик Джеймисон[303], «еще не нашлось своего Фрейда или Лакана», переполняет платоновских людей, животных и растения. Свою негативную энергию оно черпает главным образом в тоске и непереносимости существующего порядка вещей и самой природы. И чем мрачнее, печальнее, трагичнее природа, тем сильнее в жизни существ надежда на счастливое преобразование. Это даже не надежда, а требование, причем требование, которое не может более оставаться неудовлетворенным, потому что оно принадлежит самой жизни и имеет силу ее страсти, а эта страсть, повторю, состоит в осуществлении судьбы и в случае животного не знает альтернативы (разве только смерть).
Платоновские коммунисты – животные революции. Они буквально узнают в животных самих себя и проецируют на них свою собственную революционную страсть. И если, как люди, они придерживаются известной аскезы и отказывают себе в непосредственном удовлетворении своих человеческих желаний, то делают это потому, что их по-настоящему нестерпимым желанием оказывается желание коммунизма. Счастье должно быть реализовано для всех, включая самых мельчайших и малозаметных, но все же субъектов желания.
Желание коммунизма или социализма – это, стало быть, вовсе не сублимация и дискурсивное прерывание сексуального желания или влечения. Совсем наоборот – это род крайней невоздержанности. Необходимость, непременность, неотложность революции как полной смены всего планетарного порядка заложена в бессознательной животной природе, которая истосковалась и ждет от людей, от коммунистов, от «нас» некоего спасения. Платонов трогательно описывает не только не знающую покоя животную нетерпимость того, что есть, но вместе с тем и радостное предчувствие того, что будет.
Пустая земля пустыни, верблюд, даже бродячая жалкая трава – ведь это все должно быть серьезным, великим и торжествующим; внутри бедных существ есть чувство их другого, счастливого назначения, необходимого и непременного, – зачем же они так тяготятся и ждут чего-то?[304]
Иногда на камышовой вершине сидела разноцветная незнакомая птичка, она вертелась от внутреннего волнения, блестела перьями под живым солнцем и пела что-то сияющим тонким голосом, будто уже наступило блаженство для всех существ[305].
Он [секретарь райкома] вообразил красоту освещенного мира, которая тяжко добывается из резкого противоречия, из мучительного содрогания материи, в ослепшей борьбе, – и единственная надежда для всей изможденной косности – это пробиться в будущее через истину человеческого сознания – через большевизм, потому что большевизм идет впереди всей мучительной природы и поэтому ближе всех к ее радости; горестное напряжение будет на земле недолго[306].
В такой перспективе революция предстает не столько движением вперед, сколько диалектическим жестом разворота назад – лицом к тем слабым, забытым существам, которые чего-то от нас ждут. «Ты шлешь моряков на тонущий крейсер, туда, где забытый мяукал котенок», – пишет Маяковский в «Оде революции»[307]. В этой фразе вся невообразимость революционного жеста, его душераздирающее безумие, доброта и риск. Речь идет о жертвоприношении человеческого («моряки» Маяковского) во имя чего-то, что с точки зрения буржуазной морали или здравого смысла представлялось незначительным или абсурдным.
Проблема лишь в том, что для этого разворота назад всегда уже слишком поздно: крейсер пошел ко дну. Бедной жизни, сочувствием и состраданием к которой полны сердца платоновских коммунистов, кажется, не хватает жизни, чтобы осуществиться в полной мере, осуществить свое предназначение (судьбу) и использовать свой единственный уникальный шанс. Часто такой шанс распознается, только когда животное умирает. Жизнь, говорит Платонов, «есть упускаемая и упущенная возможность»[308]. Смерть животных всякий раз свидетельствует об этой упущенной возможности жизни, о неосуществившейся судьбе, о том, что мы опоздали, что пришли слишком поздно, что не успели помочь и спасти. Трагедия платоновской животности – в том, что во всякий момент случается невозможное, случается катастрофа, которую следовало предотвратить, упускается возможность, которая не должна была быть упущенной. Животное слабо живет и умирает, не испытав своего счастья, от горя и нужды – а человеку, приходящему слишком поздно, остается траур:
Наконец он увидел небольшую черепаху: она лежала с высунутой опухшей шеей, с беспомощно выпущенными лапками, не храня себя более под панцирем, она умерла здесь, при дороге. Чагатаев поднял ее и рассмотрел. Затем отнес в сторону и закопал в песок[309].
Знакомый машинист, которому Вася помогал недавно вести состав, и отец Васи вытаскивали из-под тендера убитую корову. Вася сел на землю и замер от горя первой близкой смерти[310].
Я уже отмечала, что, по мысли Хайдеггера, животное не умирает, а только издыхает, так как смерть не затрагивает его существа, и в этом его отличие от человека, экзистенциально повернутого лицом к смерти. Делёз называл эту мысль спиритуалистическим предрассудком, заявляя, напротив, что именно животное по-настоящему умирает – и с его смерти начинается литература: «пишут для умирающих телят» (писатель Делёза «становится животным» в момент, когда животное умирает)[311]. Герои Платонова не просто сочувствуют бедным животным, но меланхолически «не отпускают» их, дают им поселиться внутри себя: когда Чагатаев хоронит черепаху, он как будто бы обустраивает для нее могилу в своем сердце, а мальчик хочет сохранить корову в своей памяти («Я помню нашу корову и не забуду»).
Память – это верность души и мысли тому, кого или чего больше нет, но что тем не менее наделяет нас, как говорил Вальтер Беньямин во втором тезисе к пониманию истории, слабой мессианской силой:
Прошлое несет в себе потайной указатель, отсылающий ее к избавлению ‹…› между нашим поколением и поколениями прошлого существует тайный уговор. Значит, нашего появления на земле ожидали. Значит, нам, так же как и всякому предшествующему роду, сообщена слабая мессианская сила, на которую притязает прошлое. Просто так от этого притязания не отмахнуться[312].
Сохраняя в себе ушедшее, носитель памяти и траура спасает его от небытия забвения и, более того, имеет желание осуществить наконец ту возможность, которая была прервана смертью. Эта надежда, теплящаяся между двумя смертями – первой, реальной, оставляющей после себя траур, и второй, символической, навсегда уводящей мертвых в пустоту последнего забвения, – сама уже является своего рода слабой силой, которая воздействует на живых, связывая их неотложностью осознанного действия в настоящем. Если возможность жизни была упущена, если существо, в сердце которого «билось, как в клетке, невыпущенное, еще не испробованное счастье»[313], так и умерло бедным, убогим, грустным или рабом, то теперь только живые в силах помочь мертвым и своим существованием оправдать их ожидания. Платонов разделяет с Беньямином такой парадоксальный подход к материалистической диалектике истории. В рассказе «Взыскание погибших» он пишет о долге перед мертвыми тех, кто остался жить:
Нужно не только истребить намертво врага жизни людей, нужно еще суметь жить после победы той высшей жизнью, которую нам безмолвно завещали мертвые; и тогда, ради их вечной памяти, надо исполнить все их надежды на земле, чтобы их воля осуществилась и сердце их, перестав дышать, не было обмануто. Мертвым некому довериться, кроме живых, – и нам надо так жить теперь, чтобы смерть наших людей была оправдана счастливой и свободной судьбой нашего народа и тем была взыскана их гибель[314].
Нельзя не обратить внимания, что в этом высказывании Платонов отождествляет себя с неким народом-победителем, победы которого в настоящем, однако, недостаточно, поскольку война должна еще вестись за прошлое. Погибшие тоже ведь являются частью этого народа. Однако важно понимать и то, что в общем и целом Платонов не столько описывает реально существующий народ, сколько, по выражению Делёза, изобретает, «придумывает некий народ, которого не хватает»[315], подобно тому как Кафка придумывает мышиный народ. Не случайно Славой Жижек, рассуждая о коммунистической утопии, сравнивает Платонова и Кафку:
Фредрик Джеймисон прав, читая «Жозефину» Кафки как общественно-политическую утопию, как видение радикально эгалитарного коммунистического общества – за одним исключением: Кафка, для которого люди навсегда обозначены виной и суперэго, мог представить утопическое сообщество только среди животных[316].
Подобное утопическое сообщество, в отличие от реально существующих объединений людей, не имеет символических атрибутов, которые бы обеспечивали ему что-то вроде политического статуса народа. Как пишет Делёз,
речь не о призванном господствовать в мире народе. Речь о малом, вечно малом народе, втянутом в революционное становление. Может статься, что существует он лишь в атомах писателя – народ-бастард, низший народ, угнетенный, все время в становлении, все время далекий от завершения. Бастард означает уже не семейное положение, но процесс или дрейф целых рас. Я зверь зверем, на веки вечные негр низшей расы[317].
Именно такому народу-бастарду, живущему исключительно рабским трудом и жизнью настолько бедной, насколько можно вообще представить, посвящена уже не раз процитированная мной библейская повесть «Джан». Ее главный герой, Назар Чагатаев, получивший образование в Москве, по заданию партии отправляется в Среднюю Азию, чтобы отыскать некий затерявшийся, бедствующий кочевой народ «из разных национальностей». Чагатаев буквально водит этот малый народ по пустыне, чтобы в конечном итоге «научить его социализму». Джан – это и собирательный образ советского народа как такового, и неожиданная метафора еврейства в поисках обетованной земли, и вообще литературная форма, которая объединяет под именем народа всех несчастных людей и животных:
В нем есть туркмены, каракалпаки, казахи, персы, курды, белуджи и позабывшие, кто они. ‹…› Бедность и отчаяние того народа были настолько велики, что он о земляной хошарной работе думал как о благе, потому что ему давали в эти дни есть хлебные лепешки и даже рис. На чигирях тот народ работал вместо ослов, двигая своим телом деревянное водило, чтобы подымалась в арык вода. Осла надо кормить круглый год, а рабочий народ из Сары-Камыша ел лишь немного времени, а потом уходил вон. И целиком не умирал и на другой год снова возвращался, притомившись где-то на дне пустыни.
– Я знаю этот народ, я там родился, – сказал Чагатаев.
– Поэтому тебя и посылают туда, – объяснил секретарь. – Как назывался этот народ, ты не помнишь?
– Он не назывался, – ответил Чагатаев. – Но сам себе он дал маленькое имя.
– Какое его имя?
– Джан. Это означает душу или милую жизнь. У народа ничего не было, кроме души и милой жизни, которую ему дали женщины-матери, потому что они его родили.
Секретарь нахмурился и сделался опечаленным.
– Значит, все его имущество – одно сердце в груди, и то когда оно бьется…
– Одно сердце, – согласился Чагатаев, – одна только жизнь; за краем тела ничего ему не принадлежит. Но и жизнь была не его. Ему она только казалась.
– Тебе мать говорила, что такое джан?
– Говорила. Беглецы и сироты отовсюду и старые, изнемогшие рабы, которых прогнали. Потом были женщины, изменившие мужьям и попавшие туда от страха, приходили навсегда девушки, полюбившие тех, кто вдруг умер, а они не захотели никого другого в мужья. И еще там жили люди, не знающие бога, насмешники над миром, преступники. Но я не помню всех – я был маленький[318].
Народ здесь – своеобразное «вещество», материя, которая должна построить из самой себя коммунизм, но может раньше истощить себя, подобно ископаемому, ведь чем беднее жизнь народа, тем большее вожделение вызывает она у богатых, поскольку ничто не препятствует полному ее сведению к рабочей силе. Бедняка всегда можно продать в рабство или заставить работать, чем и злоупотребляют «буржуи», «басмачи», работорговцы, коррумпированные чиновники. Поэтому народ джан, по словам одного из его представителей, «боится жить»: «Он притворяется мертвым, иначе счастливые и сильные придут его мучить опять. Он оставил себе самое малое, не нужное никому, чтобы никто не стал алчным, когда увидит его»[319].
Бедная жизнь «притворяется смертью», становится почти неотличимой от нее, буквально уходит в песок вместе с полуобнаженными или обнаженными людьми. Платонов несколько раз обращает наше внимание на лохмотья, в которые одет этот народ и которых от ветхости становится все меньше и меньше. Читатель Джорджо Агамбена сразу же вспомнит о его понятии голой жизни[320]. Платонов начинает историю своего народа с нулевого уровня жизни, или, как сказал бы Агамбен, с серой зоны неразличимости между жизнью и смертью. Эта жизнь не является человеческой. Она лишена символического и культурного богатства. Ей не с чем отождествить себя и нечем себя защитить. Платонов пишет здесь об эксплуатации, которая истощает живую душу:
Чагатаев знал по своей детской памяти и по московскому образованию, что всякая эксплуатация человека начинается с искажения, с приспособления его души к смерти, в целях господства, иначе раб не будет рабом. И насильное уродство души продолжается, усиливается все более, пока разум в рабе не превращается в безумие[321].
Вот так переворачивается привычная диалектика, в рамках которой от Гегеля к Марксу красной нитью проходит мысль, что труд делает из животного человека, а из раба – господина. Гегелевский раб посредством своего труда, преобразующего мир, обретает самосознание и свободу, пока господин деградирует в удовольствиях потребления. Платоновский же бедный человек-животное трудится для поддержания жизни и надеется на лучший мир, но иссякает и впадает в отчаяние, последним прибежищем которого снова оказывается немое животное тело.
Становление животным, связанное с ощущением уже свершившейся катастрофы и бегством от человеческого, которое не оправдало ожиданий, ярче всего описано в повести «Мусорный ветер» (1933–1934). Альберт Лихтенберг, живущий в Германии физик космических пространств, постепенно превращается в животное, не умея оставаться человеком в фашистском мире. И если зоотехник Високовский «надеялся, что эволюция животного мира, остановившаяся в прежних временах, при социализме возобновится вновь и все бедные, обросшие шерстью существа, живущие ныне в мутном разуме, достигнут судьбы сознательной жизни»[322], то здесь происходит обратный процесс[323]: человек обрастает шерстью и мутнеет в разуме, за что и попадает в концлагерь (туда ведь отправляли именно тех, кто, по представлению фашистов, были не совсем людьми):
В лагерной конторе у Лихтенберга не стали спрашивать ничего, а осмотрели его, полагая, что это – едва ли человек. Однако на всякий случай его оставили в бессрочном заключении, написав в личном формуляре: «Новый возможный вид социального животного, обрастает волосяным покровом, конечности слабеют, половые признаки неясно выражены, и к определенному сексуальному роду этого субъекта, изъятого из общественного обращения, отнести нельзя, по внешней характеристике головы – дебил, говорит некоторые слова, произнес без заметного воодушевления фразу – верховное полутело Гитлер – и умолк. Бессрочно[324].
Судья объявил Лихтенбергу, что он осуждается на расстрел вследствие несоответствия развития своего тела и ума теории германского расизма и уровню государственного умозрения: в целях жесткого оздоровления народного организма от субъектов, впавших в состояние животности, в целях профилактики заражения расы беспородными существами[325].
Парадоксальным образом именно это впавшее в животное состояние существо, агамбеновский «мусульманин»[326], совершает в итоге подвиг, спасая из лагеря женщину, коммунистку и еврейку, а затем, подобно верблюду или овцам из «Джана», и вовсе приносит себя в жертву, правда уже абсолютно бессмысленную, пытаясь накормить собственным мясом потерявшую детей и обезумевшую женщину. Истощившись до предела, оно сходит на нет, и случайно нашедшая мертвое тело жена не узнает в нем бывшего человека:
Зельда увидела на земле незнакомое убитое животное, брошенное глазами вниз. Она потрогала его туфлей, увидела, что это, может быть, даже первобытный человек, заросший шерстью, но, скорее всего, это большая обезьяна, кем-то изувеченная и одетая для шутки в клочья человеческой одежды.
Вышедший потом полицейский подтвердил догадку Зельды, что это лежит обезьяна или прочее какое-нибудь ненужное для Германии, ненаучное животное; в одежду же его нарядили молодые наци или штальгеймы: для политики[327].
«Мусорный ветер» – одно из самых безнадежных, отчаянных произведений Платонова, в котором он переворачивает всю картину будущего и приоткрывает – на какой-то момент – секретный мир человеческого существа, спрятанного в теле животного: каждый «ненаучный», обросший зверь – может быть, «физик космических пространств». Но все дело в том, что та слабая мессианская сила, к которой, как к солнцу, обращена немота печального животного, обретается в нем самом. Даже прячась в смерть, бедная жизнь предъявляет себя как неистребимый остаток – что-то, что остается от того, кого лишают всего: не имеющее ни формы, ни имени, ни голоса, запрятанное в животное тело и остающееся неузнанным в этом теле, которое умирает или сходит на нет и глядя на которое трудно поверить, что внутри него билось «еще не испробованное» и так и оставшееся неиспробованным счастье. Альберт Лихтенберг – животное, которое с голыми руками (лапами) идет на Левиафана и оказывается раздавлено властной машиной, но с его смертью литература вступает в свои права, чтобы создать для него и ему подобных новый утопический мир, в котором мы распознаем ушедшую с ним надежду. Именно для таких существ пишет Платонов.
Человек становится животным, затем – мусором. Нечто подобное происходит и с Грегором Замзой в «Превращении» Кафки[328] – домработница выметает его, ставшего из большого выпуклого жука маленьким и плоским, вместе с пылью. В обоих случаях какие-то вроде бы родные, но ставшие совсем чужими люди находят ненужный трупик насекомого или зверя. «Как собака» – это последние слова К. в «Процессе», которые он произносит, когда ему вонзают нож в сердце. К этим словам Кафка добавляет: «Как будто этому позору суждено было пережить его»[329].
В посвященном Кафке эссе «Горбатый человечек» Вальтер Беньямин связывает этот стыд с «неведомой семьей» писателя, которая составилась из неведомо каких людей и животных и теперь «вынуждает Кафку ворочать в своих писаниях эпохами и столетиями»[330]. Беньямин следует за Кафкой вперед, по пути в забытое, в неискупимое прошлое, в мир животных:
Эпоха, в которую Кафка живет, не знаменует для него прогресса по отношению к праистокам. Действие его романа разыгрывается в мире первобытных болот. Тварь живая явлена у него на той стадии, которую Бахофен называет гетерической. А то, что стадия эта давно забыта, вовсе не означает, что она не вклинивается в наш сегодняшний день. Скорее напротив: именно благодаря забвению она и присутствует в нашей современности[331].
Но забытое – познание этой мысли ставит нас перед новым «порогом» кафковского мира – никогда не бывает только индивидуальным. Всякое забытое смешивается с забытым прамира, бессчетными, немыслимыми, переменчивыми способами сопрягаясь с ним во все новых и новых ублюдочных сочетаниях. Забытое – это то вместилище, из которого, теснясь, рвется на свет все неиссякаемое междумирие кафковских историй[332].
Мир предков у Кафки «как стволы тотемных деревьев у первобытных дикарей спускается вниз, к зверью», а его звери – это «вместилища забвения»[333]. Не забвения бытия, как у Хайдеггера (в этом случае, поскольку хайдеггеровское бытие привязано к языку, животное просто восполняет язык жизнью[334], а жизнь, по словам Бадью[335], – это еще одно имя для бытия), но забвения как такового, значимого ничто, вокруг которого наше бытие конституирует себя как негативность и память.
Не происходит ли забвение из того, что «Я – это другой», назовем ли мы друговость себя жертвоприношением, вытеснением, возвращением вытесненного или даже просто театром субъективности? Если так, то этот другой, при том что признаем мы его всегда слишком поздно – если вообще признаем, – наделяет нас драматическим и вместе с тем достаточно бесполезным знанием: мы то, что мы потеряли (вытеснили, забыли, принесли в жертву). Или же мы то, что буквально только что – но все-таки еще до того, как началась наша история, – убежало от нас, вильнув хвостом, и никогда не вернется. Это забвение, которое постоянно преследует память. Она без устали крутится вокруг забытого. Она верна тому, чего нет. Само-отношение человеческого существа построено на этом парадоксе: несчастное животное, которое мы ретроактивным образом производим из собственного отчаяния, бесславно погибает до того, как мы успеем оправдать его предвкушение свободы. Свобода и знание это не одно и то же. Не связана она и с очеловечиванием животного. Если свобода – а не просто выход – это секретное слово Кафки, если оно пронизывает кафкианский секретный мир, не значит ли это, что свобода есть только там и больше нигде?
Драма совы Минервы в том, что она всегда прилетает слишком поздно. Как пишет Малабу, «в своем сумеречном дискурсе, в начале своей ночи, философия – это, может быть, не что иное как провозглашение истины: уже слишком поздно для будущего»[336]. Сова Минервы прилетает, чтобы обнаружить, что двери в terra utopia, где мы могли бы реализовать последнюю надежду отчаявшейся животности, уже закрыты, и на них написано:
ИСТИНА. ВХОД С ЖИВОТНЫМИ ЗАПРЕЩЕН
Только животные не знают, что им запрещено входить в двери истины и что двери эти сделаны как раз для тех, кому вход в них запрещен. Для животных вообще не существует дверей, ворот, проходных. Где бы мы ни возвели стены и ни установили заграждения, звери пересекут их, как самые настоящие нелегалы, и найдут выход именно там, где, как нам кажется, его нет – а вместе с выходом найдут, возможно, и что-то еще.
Библиография
Adorno 1998 – Adorno T. Beethoven: The Philosophy of Music: Fragments and Texts. Trans. Edmund Jephcott. Stanford: Stanford University Press.
Agamben 1991 – Agamben G. Language and Death: the Place of Negativity / Trans. P.E. Pinkus and M. Hardt. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.
Agamben 1999 – Agamben G. The Man Without Content / Trans. Georgia Albert. Stanford: Stanford University Press, 1999.
Agamben 2002 – Agamben G. Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive / Trans. Daniel Heller-Roazen. New York: Zone Books, 2002.
Agamben 2013 – Agamben G. The Highest Poverty: Monastic Rules and Form-of-Life / Trans. by Adam Kotsko. Stanford: Stanford University Press, 2013.
Atterton, Calarco 2004 – Atterton, Peter and Matthew Calarco (eds.). Animal Philosophy: Ethics and Identity. London: Continuum, 2004.
Badiou 2000 – Badiou A. Of Life as a Name of Being, or, Deleuze’s Vitalist Ontology / Trans. Alberto Toscano // Pli. 10: 191 – 199.
Balmès 2011 – Balmès F. Structure, logique, alienation: Recherches en psychanalyse. Toulouse: Érès, 2011.
Bataille 1955 – Bataille G. Lascaux, or the Birth of Art / Trans. Austryn Wainhouse. New York: Skira, 1955.
Bataille 1970 – Bataille G. Œuvres complètes. Tome I. Paris: Gallimard, 1970.
Bataille 1985 – Bataille G. Visions of Excess / Trans. Alan Stoekl. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985.
Bataille 1986 – Bataille G. Metamorphoses // ‘Georges Bataille: Writings on Laughter, Sacrifice, Nietzsche, Un-knowing. October. 1986. 36: 22–23.
Bataille 1997 – The Bataille Reader / Botting, Fred and Scott Wilson (eds.). Oxford: Blackwell Publishing, 1997.
Bataille 2006 – Ades, Dawn and Baker, Simon (eds.). Undercover Surrealism: Georges Bataille and DOCUMENTS. Cambridge: MIT Press, 2006.
Bataille 2009 – Bataille G. The Cradle of Humanity. Prehistoric Art and Culture / Trans. Michelle Kendall and Stuart Kendall, New York: Zone Books, 2009.
Benjamin, Andrew 2007, What if the Other were an Animal? Hegel on Jews, Animals and Disease // Critical Horizons, 8: 1, 61–77.
Berger 2009 – Berger J. Why look at animals? London: Penguin Books, 2009.
Buchanan 2011 – Buchanan B. Painting the Prehuman: Bataille, Merleau-Ponty, and the Aesthetic Origins of Humanity // Journal for Critical Animal Studies. 11: 1/2.
Buck-Morss 2009 – Buck-Morss S. Hegel, Haiti and Universal History, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009.
Chernoba 2012 – Chernoba R. Hermann Nitsch: The Bloody Priest of Vienna // http:// .
Chiesa, Ruda 2011 – Chiesa L. and Ruda F. The Event of Language as Form of Life: Agamben’s Linguistic Vitalism // Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities. 16: 2.
Chiesa, Toscano 2009 – Chiesa L. and Toscano A. (eds.). The Italian Difference: Between Nihilism and Biopolitics. Melborne: Re.press, 2009.
Cohen 1986 – Cohen E. Law, Folklore and Animal Lore // Past & Present, 1986: 110.
Croce 1969 – Croce B. What is Living and What is Dead of the Philosophy of Hegel / Trans. Douglas Ainslie. New York: Russell & Russell, 1969.
Deleuze 2010 – Deleuze G. L’abécédaire de. A comme Animal / Trans. Dominique Hurth Maastricht: Jan van Eyck Academy, 2010.
Derrida 1969 – Derrida J. ‘The Ends of Man’ / Trans. Edouard Morot-Sir, Wesley C. Puisol, Hubert L. Dreyfus, and Barbara Reid // Philosophy and Phenomenological Research, 30: 1.
Derrida 2003 – Derrida J. And Say the Animal Responded? / Trans. Daniel W. Smith and Michael A. Greco, Zoontologies: The Question of the Animal, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.
Derrida 2006 – Derrida J. L’animal que donc je suis. Paris: Galilée, 2006.
Derrida 2008 – Derrida J. The Animal That Therefore I Am / Trans. David Wills. New York: Fordham University Press.
Derrida 2009 – Derrida J. The Beast and the Sovereign. Volume 2 / Trans. Geoffrey Bennington, ed. Michel Lisse, Marie-Louise Mallet, and Ginette Michaud. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
Derrida 2011 – Derrida J. The Beast and the Sovereign. Volumes 1 / Trans. Geoffrey Bennington, ed. Michel Lisse, Marie-Louise Mallet, and Ginette Michaud. Chicago: University of Chicago Press, 2011.
Dolar 2006 – Dolar M. A Voice and Nothing More. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2006.
Dolar 2008 – Dolar M. Telephone and Psychoanalysis // Ljubljana: Filozofski Vestnik, (in Slovene).
Dolar 2012 – Dolar M. Hegel and Freud // e-flux, 34 (4): -flux.com/journal/hegel-and-freud/.
Evans 1906 – Evans E.P. The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. New York: Dutton, 1906.
Fitzpatrick 2004 – Fitzpatrick S. Happiness and Toska: An Essay on the History of Emotions in Pre-war Soviet Russia’ // Australian Journal of Politics and History 50: 3, 357 – 371.
Flatley 2008 – Flatley J. Affective Mapping: Melancholia and the Politics of Modernism, London: Harvard University Press, 2008.
Fontenay 1998 – Fontenay E.de. Le silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité. Paris: Fayard, 1998.
Girgen 2003 – Girgen J. The Historical and Contemporary Prosecution and Punishment of Animals // Animal Law Review at Lewis & Clark Law School 9: 97-133.
Günther 2012 – Günther H. A mixture of living creatures: Man and Animal in the Works of Andrei Platonov // Ulbandus: The Slavic Review of Columbia University, 14: 251 – 272.
Hamilton 2000 – Hamilton J. Marengo, the Myth of Napoleon’s Horse. London: Fourth Estate, 2000.
Hegel 1931 – Hegel G.W.F. Jenenser Realphilosophie II. Die Vorlesungen von 1805–6. Leipzig.
Hegel 1932 – Hegel G.W.F. Jenenser Realphilosophie I. Die Vorlesungen von 1803–4. Leipzig.
Hyde 1916 – Hyde W. The Prosecution and Punishment of Animals and Lifeless Things in the Middle Ages and Modern Times // University of Pennsylvania Law Review. 64.
Hyppolite 1969 – Hyppolite J. Studies on Marx and Hegel / Trans. John O’Neill. New York: Harper & Row, Publishers, 1969.
Jameson 1994 – Jameson F. The Seeds of Time. New York: Columbia University Press, 1994.
Jameson 2010 – Jameson F. The Hegel Variations: On the Phenomenology of Spirit. New York: Verso, 2010.
Kilpatrick 2008 – Kilpatrick D. Sacrificial Simulacra from Nietzsche to Nitsch // Hyperion, 3: 3.
Lane 2012 – Lane T. A Groundless Foundation Pit // Ulbandus: The Slavic Review of Columbia University, 14: 61–75.
Lindberg 2004 – Lindberg S. Heidegger’s Animal. // Phenomenological Studies. Hamburg.
Lippit 2000 – Lippit A.M. Electric/Animal: Toward A Rhetoric of Wildlife. Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 2000.
Malabou 1996 – Maladou C. Who’s Afraid of Hegelian Wolves? // Deleuze: A Critical Reader. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
Malabou 2005 – Malabou C. The Future of Hegel: Plasticity, Temporality and Dialectics / Trans. Lisabeth During, London; New York: Routledge, 2005.
Maurizi 2012 – Maurizi M. The Dialectical Animal: Nature and Philosophy of History in Adorno, Horkheimer and Marcuse // Journal for Critical Animal Studies. 10: 1: 67–103.
Nancy 1991 – Nancy J. – L. The Unsacrificiable // Yale French Studies, No. 79. Literature and the Ethical Question: 20–38.
Nancy 2002 – Nancy J. – L. Hegel: The Restlessness of the Negative / Trans. Jason Smith and Steven Miller, Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 2002.
Noys 2000 – Noys B. Georges Bataille: A Critical Introduction, London: Pluto Press, 2000.
Noys 2010 – Noys B. The Persistence of The Negative: A Critique of Contemporary Continental Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010.
Noys 2011 – Noys B. The Poverty of Vitalism (and the Vitalism of Poverty) // To Have Done With Life: Vitalism and Anti-vitalism in Contemporary Philosophy (Zagreb, conference paper).
Rand 2010 – Rand S. Animal Subjectivity and the Nervous System in Hegel’s Philosophy of Nature // Revista Eletrônica Estudos Hegelianos.
Rohman 2009 – Rohman C. Stalking the Subject: Modernism and the Animal. New York: Columbia University Press, 2009.
Simondon 1964 – Simondon G. L’Individu et sa genèse physico-biologique. Paris: PUF, 1964.
Simondon 1995 – Simondon G. L’Individuation psychique et collective. Paris: Millon, 1995.
Simondon 2009 – The position of the problem of ontogenesis / Trans. Gregory Flanders // Parrhesia, 7: 4–16.
Steeves 1999 – Steves H.P. (ed.). Animal Others: On Ethics, Ontology, and Animal Life. Albany: State University of New York Press, 1999.
Timofeeva 2015 – Timofeeva O. Unconscious Desire for Communism // Identities: Journal for Politics, Gender, and Culture. 11: 32–48.
Timofeeva, Chiesa 2012 – Timofeeva O., Chiesa L. (Post)Socialist Animals and Plants // UMBR(a): A Journal of the Unconcsious. Technology. 2013. 115–128.
Tisdall 1980 – Tisdall C. Joseph Beuys: Coyote. Munich: Schirmer-Mosel.
Toscano 2006 – Toscano A. Theatre of Production: Philosophy and Individuation between Kant and Deleuze. London: Palgrave, 2006.
Waldau, Patton 2006 – Waldau P. and Patton K. (eds.). A Communion of Subjects: Animals in Religion, Science and Ethics, New York: Columbia University Press, 2006.
Wolfe 2003 – Wolfe C. (ed.). Zoontologies: The Question of the Animal.Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.
Wolfe 2010 – Wolfe C. What is Posthumanism. University of Minnesota Press, 2010.
Žižek 1998 – Žižek S. (ed.). Cogito and the Unconscious. Durham: Duke University Press.
Žižek 2007 – Žižek S. Cogito, Madness and Religion: Derrida, Foucault and then Lacan // .
Žižek 2010 – Žižek S. Living in the End Times. London: Verso, 2010.
Žižek 2012 – Žižek S. Less Than Nothing: Hegel and The Shadow of Dialectical Materialism. London. Verso, 2012.
Агамбен 2011 – Агамбен Дж. Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь / Пер. с итал. И. Левиной, О. Дубицкой, П. Соколова, М. Велижева, С. Козлова. М.: Европа, 2011.
Агамбен 2012 – Агамбен Дж. Открытое: Человек и животное / Пер. с итал. и нем. Б. Скуратова. М.: РГГУ, 2012.
Аристотель 1984 – Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1984.
Аристотель 1996 – Аристотель. История животных. М.: РГГУ, 1996.
Артемов 2003 – Артемов В. Суды над животными // История. 2003. № 2. .
Барнс 2005 – Барнс Д. История мира в 10 1/2 главах: [сб.] / Пер. с англ. В. Бабкова. М.: ACT; ЛЮКС, 2005.
Батай 1994 – Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПб.: Мифрил, 1994.
Батай 2006 – Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология / Пер. с фр. С.Н. Зенкина. М.: Ладомир, 2006.
Беньямин 2000 – Беньямин В. О понятии истории // НЛО. 2000. № 46.
Беньямин 2012 – Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения: Сб. статей / Пер. с нем. И. Болдырева, А. Белобратова, А. Глазовой, Е. Павлова, А. Пензина, С. Ромашко, А. Рябовой, Б. Скуратова и И. Чубарова. М.: РГГУ, 2012.
Беньямин 2013 – Беньямин В. Франц Кафка / Пер. с нем. М. Рудницкого. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.
Гегель 1938 – Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. Кн. 1 // Гегель Г.В.Ф. Собр. соч.: В 14 т. Т. 12. М., 1938.
Гегель 1940 – Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. Кн. 2 // Гегель Г.В.Ф. Собр. соч.: В 14 т. Т. 13. М., 1940.
Гегель 1975 – Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Том 2. М.: Мысль, 1975.
Гегель 1990 – Гегель Г.В.Ф. Философия права / Пер. Б.Г. Столпнера и М.И. Левиной. М.: Мысль, 1990.
Гегель 2002 – Гегель Г.В.Ф. Наука логики. СПб.: Наука, 2002.
Гюнтер 2011 – Гюнтер Х. «Смешение живых существ»: человек и животное у А. Платонова // НЛО. 2011. № 111.
Декарт 1950 – Декарт Р. Избр. произв. М., 1950.
Декарт 1989 – Декарт Р. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989.
Делёз 2002 – Делёз Ж. Критика и клиника. СПб.: Machina, 2002.
Делёз, Гваттари 2010 – Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. Я.И. Свирского. Екатеринбург: У-Фактория, 2010.
Делёз, Гваттари 2015 – Делёз Ж., Гваттари Ф. Кафка: за малую литературу / Пер. с фр. Я.И. Свирского. М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 2015.
Деррида 2000 – Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с фр. А. Гараджи, В. Лапицкого, С. Фокина. СПб.: Академический проект, 2000.
Дубин 2008 – Дубин Б. Агамбен Дж. Что остается от Аушвица. Архив и свидетельство: Реферат // Отечественные записки. 2008. № 4 (43).
Дужина 2008 – Дужина Н. Вымысел, основанный на реальности // Вопросы литературы. 2008. № 2.
Жижек 2016 – Жижек С. Сексуальность в постчеловеческую эпоху // Stasis. 2016. № 4/1.
Заболоцкий 2002 – Заболоцкий Н. Полн. собр. стихотворений и поэм. СПб.: Академический проект, 2002.
Зейфрид 1998 – Зейфрид Т. Смрадные радости марксизма: Заметки о Платонове и Батае // НЛО. 1998. № 32. С. 48–59.
Кафка 1920 – Кафка. Афоризмы. -reading.club/chapter.php/26513/2/Kafka_-_Aforizmy.html.
Кафка 2001a – Кафка Ф. Малая проза. Драма. СПб.: Амфора, 2001.
Кафка 2001b – Кафка Ф. Процесс. СПб.: Кристалл, 2001.
Кожев 2003 – Кожев Александр. Введение в чтение Гегеля. Лекции по «Феноменологии духа», читавшиеся с 1933-го по 1939 год в Высшей практической школе. СПб.: Наука, 2003.
Лакан 1998 – Лакан Ж. Семинары. Книга 1. Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/1954) / Пер. с фр. М. Титовой, А. Черноглазова. М.: Гнозис/Логос, 1998.
Лакан 2004 – Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основных понятия психоанализа (1964) / Пер. с фр. А. Черноглазова. М.: Гнозис; Логос, 2004.
Лакан 2009 – Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954–1955) / Пер. с фр. А. Черноглазова. М.: Гнозис/Логос, 2009.
Лане 2011 – Лане Т. Беспочвенность как основа // НЛО. 2011. № 11.
Левинас 1998 – Левинас Э. Время и Другой. Гуманизм другого человека / Пер. с фр. А.В. Парибка. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1998.
Лейбниц 1982 – Лейбниц Г.В. Монадология // Лейбниц Г. В. Избр. соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1982.
Лоуренс 2011 – Лоуренс Д.Г. Рыба / Пер. В. Постников. .
Лучанова 2005 – Лучанова М.Ф. История мировой литературы: Учеб. пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005.
Маркс 2000 – Маркс К. Социология / Пер. с нем. Ю.Н. Давыдова. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2000.
Маяковский 1978 – Маяковский В. Громада любовь: Лирика. М.: Молодая гвардия, 1978.
Набоков 1998 – Набоков В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Пер. с англ. СПб.: Набоковский фонд, 1998.
Нанси 2009 – Нанси Ж. – Л. Непроизводимое сообщество / Пер. с фр. Ж. Горбылевой и Е. Троицкого. М.: Водолей, 2009.
Олье 2004 – Олье Д. (Сост.). Коллеж социологии / Пер. с фр. Ю.Б. Бессоновой, И.С. Вдовиной, В.М. Володина. СПб.: Наука, 2004.
Платон 2014 – Платон. Законы. Послезаконие. Письма. М.: Наука, 2014.
Платонов 1989 – Платонов А. Живя главной жизнью. М.: Правда, 1989.
Платонов 1990 – Платонов А. Джан // Платонов А. На заре туманной юности: Повести и рассказы. М.: Сов. Россия, 1990.
Платонов 2002a – Платонов А. Рассказы. Т. 1. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». М.; Augsburg, 2002/1.
Платонов 2002b – Платонов А. Рассказы. Т. 2. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». М.; Augsburg, 2002/2.
Платонов 2003a – Платонов А. Рассказы. Т. 3. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». М.; Augsburg, 2003. .
Платонов 2003b – Платонов А. Антисексус // Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». М.; Augsburg, 2003.
Платонов 2003c – Платонов А. О первой социалистической трагедии // Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». М.; Augsburg, 2003.
Платонов 2004 – Платонов А. Рассказы. Т. 6. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». М.; Augsburg, 2004. .
Платонов 2006 – Платонов А. Чевенгур // Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». М.; Augsburg, 2006
Платонов 2012 – Платонов А. Смерти нет! Рассказы и публицистика 1941–1945 годов. М.: Время, 2012.
Подорога 2011 – Подорога В. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы: В 2 т. Т. 2. Ч. 1. М.: Культурная революция, 2011.
Симондон 2016 – Симондон Ж. Два урока и животном и человеке / Пер. с фр. М. Лепиловой. М: Grundrisse, 2016.
Софокл 2007 – Софокл. Царь Эдип. // Античная драма. М.: Эксмо, 2007.
Софронов 2009 – Софронов В.Л. Коммунизм чувственности: Читая Кьеркегора, Кафку, Пруста, Маркса. М., 2009.
Тимофеева 2005 – Тимофеева О. Об одном несостоявшемся заговоре (Рец. на кн. «Коллеж социологии» / Сост. Дени Олье; пер. с фр. Ю.Б. Бессоновой, И.С. Вдовиной, В.М. Володина. – СПб.: Наука, 2004) // НЛО. 2005. № 75.
Тимофеева 2008 – Тимофеева О. Кони в законе. Краткий набросок к философии животного // Синий диван. 2008. № 10/11.
Тимофеева 2009 – Тимофеева О. Введение в эротическую философию Ж. Батая. М.: Новое литературное обозрение, 2009.
Тимофеева 2011a – Тимофеева О. Бедная жизнь: Зоотехник Високовский против философа Хайдеггера // НЛО. 2011. № 106.
Тимофеева 2011b – Тимофеева О. Зверинец духа // НЛО. 2011. № 107.
Тимофеева 2013 – Тимофеева O. Негативное животное // Stasis. 2013. № 1.
Тимофеева 2015a – Тимофеева О. Модерн, время ада // Неприкосновенный запас, 1/99.
Тимофеева 2015b – Тимофеева О. Животные, которых не звали // Новое литературное обозрение. 2015. № 132.
Тимофеева, Гройс 2013 – Тимофеева О., Гройс Б.: Конец истории: О человеке, животном и бюрократах утопического государствa // Теории и практики. 2013: -konets-istorii-filosof-boris-groys-o-cheloveke-zhivotnom-i-byurokratakh-utopicheskogo-gosudarstva.
Фуко 1994 – Фуко М. Слова и вещи / Пер. с фр. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. СПб.: A-cad, 1994.
Фуко 1997 – Фуко М. История безумия в классическую эпоху / Пер. с фр. И.К. Стаф. СПб.: Университетская книга, 1997.
Хайдеггер 1993 – Хайдеггер М. Время и бытие / Пер. с нем. В.В. Бибихина. М.: Республика, 1993.
Хайдеггер 2006 – Хайдеггер М. Что зовется мышлением? / Пер. с нем. Э. Сагетдинова. М.: Территория будущего, 2006.
Хайдеггер 2013 – Хайдеггер М. Основные понятия метафизики: мир, конечность, одиночество / Пер. с нем. В.В. Бибихина, А.В. Ахутина, А.П. Шурбелева. СПб.: Владимир Даль, 2013.
Хардт, Негри 2004 – Хардт М., Негри А. Империя. М.: Праксис, 2004.
Хлебников 1986 – Хлебников В. Творения. М.: Сов. писатель, 1986.
Хоркхаймер, Адорно 1997 – Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения: Философские фрагменты / Пер. с нем. М. Кузнецова. М.; СПб.: Медиум; Ювента, 1997.
Честертон 1989 – Честертон Г.К. Франциск Ассизский // Вопросы философии. 1989. № 1.
Шеффер 2010 – Шеффер Ж. – М. Конец человеческой исключительности / Пер. с фр. С.Н. Зенкина. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
Сноски
1
Лучанова 2005: 37.
(обратно)2
Balmès 2011: 16.
(обратно)3
Дужина 2008: 95.
(обратно)4
Dolar 2008: 12.
(обратно)5
См. об этом также: Жижек 2016.
(обратно)6
Berger 2009: 21.
(обратно)7
Ibid.: 30.
(обратно)8
Berger 2009: 37.
(обратно)9
Lippit 2000: 1.
(обратно)10
Bataille 1986: 22–23.
(обратно)11
Шеффер 2010.
(обратно)12
Фуко 1997: 161. Ср.: «Облик безумия – это облик, позаимствованный у животного» (Там же: 160).
(обратно)13
Лакан 2009: 508–516.
(обратно)14
Derrida 2003.
(обратно)15
Агамбен 2012: 39.
(обратно)16
Там же: с. 50.
(обратно)17
Очень краткий предварительный набросок, послуживший основой для написания первых трех глав, был опубликован в журнале «Синий диван» (Тимофеева 2008), а затем, в более подробной версии, в качестве приложения к книге о Ж. Батае (Тимофеева 2009).
(обратно)18
«Материал подобран так, чтобы сосредоточить внимание на едином сюжете: на картине живого мира, сконцентрированной около человека и понимаемой через него как через нечто наиболее понятное. В понятности человека Аристотель уверен…» (Старостин Ю.А. Аристотелевская «История животных» как памятник естественно-научной и гуманитарной мысли // Аристотель 1996: 23).
(обратно)19
Аристотель 1996: 352.
(обратно)20
Симондон 2016: 78.
(обратно)21
Например, концепция Пифагора основана на принципе метемпсихоза: жизненное начало – бессмертная душа – переходит от одного тела, будь это растение, животное или человек, к другому; Платон же в «Тимее» излагает мифологическую теорию «обратной эволюции», когда животные являются результатом деградации человека (Симондон 2016: 59–68).
(обратно)22
Никомахова этика. 1141b (Аристотель 1984: 179).
(обратно)23
«(235) Самое кроткое и ручное из всех диких животных – слон, ибо он многому научается и многое понимает: научается даже приветствовать царя…» (Аристотель 1996: 390).
(обратно)24
Аристотель 1996: 391.
(обратно)25
Аристотель 1984: 179.
(обратно)26
Там же: 180.
(обратно)27
Софокл 2007: 326.
(обратно)28
Аристотель 1984: 383–384.
(обратно)29
Там же.
(обратно)30
Кафка 2001a: 236.
(обратно)31
Симондон 2016: 59. По мысли Симондона, «…если Пифагор и мог произнести такие слова, то лишь потому, что в народе существовала вера в метемпсихоз, и, может быть, он умышленно воспользовался народными поверьями, чтобы остановить истязания животного. Так или иначе, эта история свидетельствует о вере в переселение душ – вере отчасти первобытной, возникшей в период зарождения западной цивилизации, из чего можно сделать вывод, что душа не считалась в полной мере индивидуальной реальностью» (60).
(обратно)32
Bataille 1970: 160–161.
(обратно)33
Ibid.: 162.
(обратно)34
Ibid.
(обратно)35
Симондон 2016: 68, 85.
(обратно)36
Там же: 63.
(обратно)37
Simondon 1964: 153.
(обратно)38
Как утверждает Альберто Тоскано, система индивидуации Симондона дает начало реляционной онтологии, в рамках которой «реальные отношения – это отношения, возникающие вместе со своими членами» (Toscano 2006: 139).
(обратно)39
Simondon 1964: 152.
(обратно)40
Simondon 2009: 7.
(обратно)41
Simondon 1964: 153.
(обратно)42
Simondon 2009: 7.
(обратно)43
См.: Simondon G. L’Individu et sa genèse physico-biologique. PUF, 1964; L’Individuation psychique et collective. Aubier, 1969; Millon 1995.
(обратно)44
Делёз, Гваттари 2015: 45. Между прочим, Делёз, верный читатель Симондона, интерпретирует и обратное движение у Кафки – человеческое становление-животным, превращение – как «линию ускользания».
(обратно)45
Кафка 2001a: 42.
(обратно)46
Там же: 46.
(обратно)47
Кафка 2001a: 42.
(обратно)48
Там же.
(обратно)49
Там же: 44.
(обратно)50
Там же: 8.
(обратно)51
Berger 2009: 16.
(обратно)52
Bataille 2009: 137.
(обратно)53
Ibid.: 140.
(обратно)54
Chernoba 2012.
(обратно)55
Kilpatrick 2008: 59.
(обратно)56
Kilpatrick 2008: 59.
(обратно)57
См. об этом, например: Олье 2004 (особенно предисловие В.Ю. Быстрова «Обезглавленный миф», 5–15); вступительную статью С.Н. Зенкина «Сакральная социология Жоржа Батая» (Батай 2006: 7–48), а также мою рецензию на книгу «Коллеж социологии» (Тимофеева 2005).
(обратно)58
См.: Нанси 2009: 45–85.
(обратно)59
Zizek 2012: 409.
(обратно)60
Беньямин 2012: 100.
(обратно)61
Это наблюдение касается, конечно, не всех современных религий. Из мировых религий в исламе, например, до сих пор широко практикуются жертвоприношения животных, хотя с этим и ведется активная борьба.
(обратно)62
Bataille 2009: 141–142.
(обратно)63
Girgen 2003: 106–106.
(обратно)64
Платон 2014: 311.
(обратно)65
Hyde 1916: 698.
(обратно)66
Girgen 2003: 99.
(обратно)67
Ibid.
(обратно)68
Evans 1906: 140.
(обратно)69
Ibid.: 175.
(обратно)70
Girgen 2003: 119.
(обратно)71
Cohen 1986: 123.
(обратно)72
Girgen 2003: 101–102. О деятельности Шасене – в частности, подробные протоколы защиты древесных червей – см.: Барнс 2005: 69–91.
(обратно)73
Речь представителя животных, взятая из собрания материалов, собранных Гаспаром Балли (1568), цит. по: Артемов 2003.
(обратно)74
Честертон 1989: 87.
(обратно)75
Две эти вещи кажутся совершенно разными, но так ли это на самом деле? Рай, царство божие списан с природы и вместе с тем ей противоположен.
(обратно)76
Честертон 1989: 101.
(обратно)77
Agamben 2013: xiii.
(обратно)78
Noys 2011.
(обратно)79
Хардт, Негри 2004: 380.
(обратно)80
Фуко 1997: 74.
(обратно)81
«Если и есть в классическом безумии нечто запредельное, некий отзвук иного, то уже не потому, что безумец приходит из чужих краев, из мира помешательства и отмечен его печатью, но потому, что он по собственной воле преступает границы буржуазного порядка и, лишенный рассудка, оказывается вне его сакральной этики» (Там же: 88).
(обратно)82
Там же: 78.
(обратно)83
Фуко 1997: 161.
(обратно)84
Вспомним, какое изумление этот факт вызывал у Батая. Можно возразить, что некоторые животные работают на людей, – рассуждения об этом см. ниже, в главе «Безработная животность».
(обратно)85
Фуко 1997: 79.
(обратно)86
Фуко 1997: 64.
(обратно)87
Декарт 1989: 283–284.
(обратно)88
Waldau, Patton 2006: 123.
(обратно)89
Декарт 1989: 425.
(обратно)90
Декарт 1989: 432–433.
(обратно)91
Там же: 284.
(обратно)92
Декарт 1950: 336.
(обратно)93
Zizek 2012: 408.
(обратно)94
Деррида 2000: 78.
(обратно)95
Zizek 2012: 329.
(обратно)96
Zizek 2012: 329.
(обратно)97
Лакан 2004: 43.
(обратно)98
Dolar 1998: 14.
(обратно)99
Делёз и Гваттари, в свою очередь, не проблематизируют эту связь, а, наоборот, утверждают ее как чистую позитивную данность – особенно в их интерпретации случая Человека-волка, где они рассуждают о становлении-животном, множественности и животности бессознательного (Делёз, Гваттари 2010: 46–66).
(обратно)100
Rohman 2009: 23.
(обратно)101
«Let the cat out of the bag» – идиома, означающая «проболтаться», «выдать секрет».
(обратно)102
Dolar 2012.
(обратно)103
О животных у Гегеля см. также мою статью: Тимофеева 2011b.
(обратно)104
Benjamin 2007: 61–77.
(обратно)105
Нельзя не вспомнить в этой связи известное высказывание Адорно: «Животные играют для идеалистической системы виртуально ту же самую роль, что и евреи для фашизма» (Adorno 1998: 80).
(обратно)106
Fontenay 1998: 533.
(обратно)107
Гегель 1938: 136.
(обратно)108
Гегель 1975: 528.
(обратно)109
В философии мотив человеческого лица далее развивается, например, Левинасом (Левинас 1998: 164–176).
(обратно)110
Гегель 1940: 274–275.
(обратно)111
Там же: 275.
(обратно)112
Bataille 1970: 237.
(обратно)113
Bataille 1970: 238.
(обратно)114
Гегель 1940: 276.
(обратно)115
Гегель 1940: 276–277.
(обратно)116
Fontenay 1998: 539.
(обратно)117
Benjamin 2007: 76.
(обратно)118
Гегель 1940: 284.
(обратно)119
Похожим образом думал и Хайдеггер.
(обратно)120
Fontenay 1998: 542.
(обратно)121
Ibid.: 543.
(обратно)122
Лакан 2009: 103.
(обратно)123
Фуко 1997: 65.
(обратно)124
«Je est un autre». Лакан 2009: 13.
(обратно)125
Zizek 2012: 349.
(обратно)126
Гегель 1975: 25.
(обратно)127
Там же: 579.
(обратно)128
Фуко 1994: 28.
(обратно)129
Там же.
(обратно)130
Там же: 29.
(обратно)131
Гегель 1975: 544.
(обратно)132
Там же: 543.
(обратно)133
Там же.
(обратно)134
Там же: 543.
(обратно)135
Dolar 2012.
(обратно)136
Гегель 1975: 470.
(обратно)137
Гегель 1975: 549–551.
(обратно)138
Там же: 552.
(обратно)139
Там же: 553.
(обратно)140
Там же: 554.
(обратно)141
Гегель 1975: 34.
(обратно)142
Croce 1969: 164–165.
(обратно)143
Ibid.: 423.
(обратно)144
Ibid.: 553.
(обратно)145
Ibid.: 35.
(обратно)146
Croce 1969.
(обратно)147
Ibid.: 556.
(обратно)148
Croce 1969: 466.
(обратно)149
Гегель 2007: 69.
(обратно)150
Гегель 1975: 462.
(обратно)151
Там же: 464.
(обратно)152
Там же: 465.
(обратно)153
Там же: 464–465.
(обратно)154
Hyppolite 1969: 177.
(обратно)155
Hegel 1932: 212. Цит. по: Agamben 1991: 44.
(обратно)156
Agamben 1991: 44.
(обратно)157
Hegel 1931: 161.
(обратно)158
Agamben 1991: 45.
(обратно)159
Hegel 1931: 164.
(обратно)160
Вечная мессианская жизнь, по Агамбену, – это, по сути, жизнь языка, которая трансцендирует голую жизнь – ни человеческую, ни животную. См. критику агамбеновского понятия мессианской жизни и его философии языка («языковой витализм»): Chiesa, Ruda 2011: 163–180.
(обратно)161
Батай 1994: 260.
(обратно)162
Батай 1994: 256.
(обратно)163
В русском переводе здесь – «жертва», однако речь идет о жертвователе.
(обратно)164
Батай 1994: 258.
(обратно)165
Hyppolite 1969: 26.
(обратно)166
Hyppolite 1969: 182.
(обратно)167
Гегель 1975: 542.
(обратно)168
Benjamin 2007: 67.
(обратно)169
Гегель 1975: 401–402.
(обратно)170
Nancy 1991.
(обратно)171
Агамбен 2011: 148.
(обратно)172
Примечательно, что Нанси характеризует гегелевскую философию – философию становления – как «беспокойство негативного» (Nancy 2002).
(обратно)173
Гегель 2002: 110.
(обратно)174
Nancy 2002: 7.
(обратно)175
Кафка 2001а: 279–280.
(обратно)176
Dolar 2006: 187.
(обратно)177
Кафка 2001a: 318–319.
(обратно)178
Dolar 2006: 188.
(обратно)179
Ibid.
(обратно)180
Гегель 1990: 56.
(обратно)181
Wolfe 1999: 118.
(обратно)182
См. также мой анализ проблемы животного и негативности у Кожева, Гегеля и Батая: Тимофеева 2013.
(обратно)183
Кожев 2003: 462.
(обратно)184
Там же: 73–74.
(обратно)185
Там же: 462.
(обратно)186
Здесь я соглашусь, скорее, с Фредриком Джеймисоном, который пишет: «Но я полагаю, что Гегель в этом отношении более передовой, чем Кожев, и предлагает более продуктивные ходы для объяснения этого „признания“, которое Кожев свел к межличностной борьбе между Господином и Рабом» (Jameson 2010: 162).
(обратно)187
На самом деле этот конь – арабский скакун – был скорее серым (см.: Hamilton 2000).
(обратно)188
Кожев 2003: 539–540.
(обратно)189
Там же: 540.
(обратно)190
Там же: 540.
(обратно)191
Там же.
(обратно)192
Кожев 2003: 541.
(обратно)193
Там же.
(обратно)194
Agamben 1999: 56.
(обратно)195
Agamben 1999: 22.
(обратно)196
Ibid.
(обратно)197
Агамбен 2012: 10.
(обратно)198
Батай 1994: 313.
(обратно)199
Там же.
(обратно)200
Там же: 313–314.
(обратно)201
Отличия между человеком и животным у Батая подробно рассматриваются в моей первой книге, посвященной проблеме эротизма в его философии (см.: Тимофеева 2009).
(обратно)202
Более того, возможно не без влияния батаевской критики, направленной на раннюю версию конца истории, Кожев, поначалу сделавший вид, что не услышал его аргументов, в итоге отошел от идеи счастливого возвращения в животное состояние и обратился к искусству и чистой форме. Как подчеркивает Борис Гройс, ссылаясь на Агамбена, «японец» и «сноб» – это фигуры, предъявленные как ироническая ремарка в сторону безработной негативности Батая (см.: Тимофеева, Гройс 2013).
(обратно)203
Bataille 1955: 31.
(обратно)204
Батай 1994: 274–275.
(обратно)205
Buchanan 2011: 15.
(обратно)206
Bataille 1988: 167–171.
(обратно)207
Батай 2006: 97–98.
(обратно)208
Там же: 314.
(обратно)209
Маркс 2000: 193.
(обратно)210
Батай 2006: 55.
(обратно)211
Хайдеггер 2013: 306.
(обратно)212
Noys 2000: 136.
(обратно)213
Батай 2006: 58.
(обратно)214
Rohman 2009: 95.
(обратно)215
Лоуренс 2011.
(обратно)216
Rohman 2009: 96.
(обратно)217
Любопытную критику аффирмационизма Делёза предлагает Нойз. См.: Noys 2010: 51–79.
(обратно)218
Делёз, Гваттари 2010: 463.
(обратно)219
Лейбниц 1982: 423.
(обратно)220
Делёз, Гваттари 2010: 404.
(обратно)221
Делёз, Гваттари 2010: 405.
(обратно)222
Malabou 1996: 128.
(обратно)223
Делёз, Гваттари 2010: 404.
(обратно)224
Deleuze 2011.
(обратно)225
Платонов 2006: 5.
(обратно)226
Там же: 15–16.
(обратно)227
Катрин Малабу высказывает идею, что, возможно, для философии Делёза, крайне негативно относившегося к гегелевской негативности, сама фигура Гегеля как раз является аномалией и границей, наподобие мелвилловского Моби Дика, – то есть что, возможно, Гегель – это демон Делёза: «Мой вопрос заключается в следующем: не становится ли Гегель, в той мере, в какой он в пределе воплощает „нормальное“ единство, делёзовской „аномалией“, необходимым и неизбежным „феноменом окаймления“ стай, проходящим по всем направлениям его текста? ‹…› Делёз и Гваттари пишут: „Где бы ни существовала множественность, вы также найдете исключительную индивидуальность ‹…› Возможно, тут и нет никакого одинокого волка, но зато есть лидер стаи, повелитель стаи или же прежний свергнутый глава стаи, живущий ныне в одиночестве, здесь есть Одиночка, да к тому же еще и Демон“ (Делёз, Гваттари 2010: 400–401). Будучи обозначено таким навязчивым, настойчивым образом, как адекватное себе, правилу или закону (nomos), не оказывается ли имя Гегеля в стороне от имен всех прочих философов, превосходя их как вожак стаи или их „аномалия“»? (Malabou 1996: 120)
(обратно)228
Маркс, Энгельс 1985: 42–43.
(обратно)229
Там же: 43.
(обратно)230
См., например: Агамбен 2012; Derrida 2006; Lindberg 2004; Calarco 2004 и др.
(обратно)231
Хайдеггер 1993: 201.
(обратно)232
Там же: 198.
(обратно)233
Там же.
(обратно)234
Там же: 199.
(обратно)235
Там же.
(обратно)236
Хайдеггер 2013: 306.
(обратно)237
Там же: 364.
(обратно)238
Lindberg 2004: 67.
(обратно)239
Хайдеггер 2013: 298.
(обратно)240
Там же: 303.
(обратно)241
Derrida 1969: 45.
(обратно)242
Lindberg 2004: 76.
(обратно)243
Derrida 1969: 42.
(обратно)244
Хайдеггер 1993: 199.
(обратно)245
Lindberg 2004: 76–77.
(обратно)246
Хайдеггер 2013: 322. См. примечание переводчика к этому пассажу: «В немецком языке глагол „есть“ (пищу) применительно к животному – fressen, к человеку – essen. В первом случае это, скорее, „пожирать“, „жрать“» (там же). Подобно тому, как хайдеггеровское животное не ест, но пожирает, «оно не умирает, а только издыхает» (там же: 404).
(обратно)247
Хайдеггер 1993: 192.
(обратно)248
Хайдеггер 2006: 95.
(обратно)249
Там же: 286–287.
(обратно)250
Baker 2003: 151.
(обратно)251
Baker 2003. Бейкер цитирует: Tisdall: 28–30.
(обратно)252
Агамбен 2012: 83.
(обратно)253
Там же.
(обратно)254
Там же.
(обратно)255
Там же.
(обратно)256
Там же: 83–84.
(обратно)257
Агамбен 2012: 84.
(обратно)258
Хайдеггер 2003: 202.
(обратно)259
Лакан 1998: 253–254.
(обратно)260
Там же: 254.
(обратно)261
Лакан 1998: 254.
(обратно)262
Агамбен 2012: 86.
(обратно)263
Кафка 1920. Владислав Софронов цитирует эту фразу (Софронов 2009: 48) в своей книге о любви, поясняя смысл вводимого им понятия «животного мысли». Софроновское животное – это аффективное измерение мысли, «оно мыслит» телесного субъекта. Софронов поясняет: «„животное“, надо признаться, означает агрегатное состояние мысли – подобно „жидкому“, „твердому“ и пр. – а не „зверька“. Животное состояние мысли, а не зверек мысли» (Там же: 48).
(обратно)264
Набоков 1998: 170.
(обратно)265
Flatlay 2008: 160.
(обратно)266
См. об этом, например: Лане: 2011; Lane 2012.
(обратно)267
См. мою статью о животных у Платонова, на основе которой была написана эта глава: Тимофеева 2011a.
(обратно)268
Платонов 1989: 378.
(обратно)269
О платоновских животных см., например, статью Ханса Гюнтера: Гюнтер 2011.
(обратно)270
Платонов 1990: 89.
(обратно)271
Платонов 2003a: 32.
(обратно)272
Сравнительный анализ некоторых идей Платонова и Батая (правда, безотносительно к теме животного) уже был предпринят рядом авторов. См., например: Зейфрид 1998.
(обратно)273
Платонов 2003a: 32.
(обратно)274
Платонов 2004: 49.
(обратно)275
Платонов 1990: 69.
(обратно)276
Платонов 1989: 323.
(обратно)277
Платонов 2003b: 8.
(обратно)278
Там же: 7.
(обратно)279
Платонов 1990: 17–18.
(обратно)280
Платонов 1990: 68.
(обратно)281
Платонов 2004: 47.
(обратно)282
Адорно, Хоркхаймер 1997: 298–299.
(обратно)283
Платонов 1990: 48.
(обратно)284
Там же: 58.
(обратно)285
Платонов 2004: 16.
(обратно)286
Платонов 1990: 22.
(обратно)287
Платонов 1990: 28.
(обратно)288
Там же: 23.
(обратно)289
Платонов 2002b: 4.
(обратно)290
Платонов 1990: 391.
(обратно)291
Платонов 2002a: 5.
(обратно)292
Платонов 1990: 302.
(обратно)293
Там же: 294.
(обратно)294
Более подробно об этом см.: Гюнтер 2011.
(обратно)295
Подробнее об этом см.: Timofeeva, Chiesa 2012.
(обратно)296
О «гуманизме» Сталина (идея, предложенная Л. Альтюссером) см., например, статью Жижека, посвященную платоновскому «Антисексусу»: Жижек 2016.
(обратно)297
Maurizi 2012.
(обратно)298
Хлебников 1986: 289.
(обратно)299
Заболоцкий 2002.
(обратно)300
Платонов 2003c.
(обратно)301
Подорога 2011: 305.
(обратно)302
Платонов 1990: 140.
(обратно)303
Jameson 1994: 97. Интересный анализ желания коммунизма в контексте рассуждений о меланхолии предлагает Джонатан Флэтли (Flatley 2008: 180). См. также мою статью «Бессознательное желание коммунизма» (Timofeeva 2015).
(обратно)304
Платонов 1990: 20.
(обратно)305
Там же.
(обратно)306
Там же: 298.
(обратно)307
Маяковский 1978: 109.
(обратно)308
Платонов 1989: 415.
(обратно)309
Платонов 1990: 43.
(обратно)310
Платонов 2004: 48.
(обратно)311
Делёз 2002: 12.
(обратно)312
Беньямин 2000: 81.
(обратно)313
Платонов 1990: 70.
(обратно)314
Платонов 2012: 220.
(обратно)315
Делёз 2002: 15.
(обратно)316
Zizek 2010: 370.
(обратно)317
Делёз 2002: 15.
(обратно)318
Платонов 1990: 18–19.
(обратно)319
Там же: 79.
(обратно)320
Агамбен 2011.
(обратно)321
Платонов 1990: 78.
(обратно)322
Платонов 1990: 302.
(обратно)323
Гюнтер называет его регрессивной метаморфозой: «Регрессивные метаморфозы „Мусорного ветра“ говорят о том, что в фашистском „царстве мнимости“ все не то, чем кажется. В этом царстве зверей эволюция происходит в обратном направлении, человек деградирует и превращается в животное, и расистское общество вытесняет неполноценных „недочеловеков“ как ненужных зооморфных существ» (Гюнтер 2011).
(обратно)324
Платонов 2004: 12.
(обратно)325
Там же: 13.
(обратно)326
О фигуре «мусульманина», лагерного доходяги, Агамбен рассуждает, в частности, в тексте «Что остается после Аушвица» (Agamben 2002). См. реферат: Дубин 2008.
(обратно)327
Agamben 200: 16.
(обратно)328
См. об этом: Тимофеева 2015b.
(обратно)329
Кафка 2001b: 207.
(обратно)330
Беньямин: 34.
(обратно)331
Беньямин: 34.
(обратно)332
Там же: 36.
(обратно)333
Там же: 37.
(обратно)334
См., например, критику лингвистического витализма Агамбена у Лоренцо Кьезы и Франка Руды: Chiesa, Ruda 2011.
(обратно)335
Бадью так резюмирует свою критику Делёза. См.: Badiou 2002.
(обратно)336
Malabou 2005: 4.
(обратно)
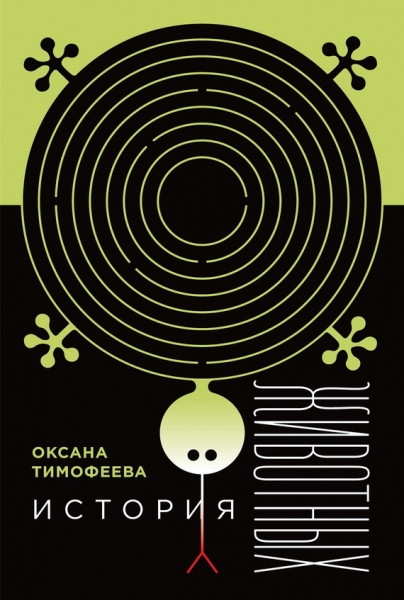
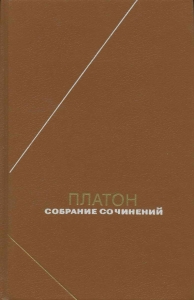


Комментарии к книге «История животных», Оксана Викторовна Тимофеева
Всего 0 комментариев