Игорь Малышев Самопознание эстетики
© И.В.Малышев, 2016 г.
* * *
Предисловие
Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы пытается ответить данная работа.
Однако предварительно необходимо выйти за пределы эстетики и обратиться к общефилософскому пониманию человека, а также особенностей философии и философских наук. Что послужит исходной позицией для осмысления современных проблем эстетики.
В заключительном же разделе книги помещены воспоминания автора о выдающихся российских эстетиках и о собственном пути в этой науке.
Философия
Экзистенция и бытие
Современное состояние философии характеризуется сосуществованием множества философских школ и направлений. Причина этого – в многогранности мира, многогранности предмета философии. Однако многие грани мира представляют собой различные проявления его единства, в философии же мир распался, раскололся. Каждое направление – свой особый взгляд на действительность, не связанный с другими. Поэтому одной из важнейших задач мышления представляется «укрупнение» миро-воззрения через синтез содержания различных философских направлений.
К таким задачам, в частности, относится синтез экзистенциализма и марксизма, чему и посвящена данная статья.
Проблему синтеза экзистенциализма и марксизма в конце 50-х годов ХХ века осознал и попытался решить классик экзистенциализма Ж.-П.Сартр (19). Чуть позже, с 70-х годов началось «встречное» движение от марксизма к экзистенциализму (4; 8; 10; 13; 17). Цель данной статьи – продолжить это познавательное движение, ее особенность – в максимальном использовании данных психологии (особенно работ А.Н.Леонтьева), позволяющих установить ряд посредствующих звеньев между проблематикой марксизма и экзистенциализма.
Ключевые понятия, фиксирующие данную проблематику, понятия «экзистенции» и «бытия». Однако прежде чем рассматривать их соотношение, следует уточнить их содержание. Дело в том, во-первых, что каждый из экзистенциалистов (например, С.Кьеркегор, Ж.-П.Сартр, М.Хайдеггер, К.Ясперс) интерпретирует понятие «экзистенция» в своем особом смысле. Во-вторых, термин «бытие» используют обе философские традиции, но с прямо противоположным содержанием. Да и в самом марксизме понятие «бытие» трактуется весьма неопределенно. Тут целое поле для герменевтического анализа. Избегая его, определим тот исходный смысл, в котором указанные термины будут использованы в данной статье. «Бытие» – реальный процесс жизни человека (так, как это понятие использовали классики марксизма в своей работе «Немецкая идеология» (15,с.25). «Экзистенция» – субъективно-эмоционально-личностное мироотношение индивидуума (как можно обобщить различные варианты этого понятия в работах экзистенциалистов).
Марксизм сосредоточил свое внимание на анализе объективной основы бытия человека. Ее составляет общественная материально-преобразовательная практика, то есть исторически определенный способ производства материальных благ. На данном – объективном социально-экономическом – уровне отдельный человек выступает как член той или иной социально-экономической группы. В классовом обществе он член определенного класса, классового слоя, профессиональной группы, которые в единстве с используемыми ими средствами производства представляют собой производительные силы общества. Именно они являются теми относительно самостоятельными элементами, система отношений которых (структура) образует фундамент общественного целого.
То есть отдельный человек на этом уровне бытия есть лишь «средний индивид», безличная часть производительной силы – социально-экономической группы, к которой он принадлежит объективно. Независимо от осознания своего положения, он занимает определенное место в системе общественного разделения труда, находится в определенных отношениях к другим людям по поводу собственности на средства производства, по способу и мере присвоения общественного богатства. Столь же объективно он оказывается носителем социально-экономических и политических потребностей той группы, частью которой он является.
Если бытие есть реальный процесс жизни человека, то экзистенция – субъективно-личностный уровень бытия. Что и является предметом осмысления соответствующего направления философии. Ж.-П. Сартр, говоря о его родоначальнике, подчеркивает, что С.Кьеркегору пришлось «отстаивать чистую субъективную единичность против объективной всеобщности сущности… эта субъективность, открытая по ту сторону языка как личная участь каждого перед другими и перед Богом, и есть то, что Кьеркегор называл экзистенцией» (19, с.12).
Характеризуя экзистенцию как субъективно мотивируемую деятельность личности, Сартр выделяет в качестве ее структуры потребность, проект и трансцендентность: «Для нас человек характеризуется прежде всего превосхождением ситуации, тем, что ему удается сделать из того, что из него сделали, даже если в своей объективации он так и не достигает самосознания. Такое превосхождение мы находим в самой основе человеческого и прежде всего в потребности» (19, с.112). «Итак, человек определяется через свой проект. Это материальное существо постоянно превосходит условия, в которые оно поставлено; оно раскрывает и определяет свою ситуацию, выходя за ее рамки, чтобы объективироваться через труд, действие или поступок»(19, с.185). «Это постоянное созидание самих себя трудом и практикой и есть наша подлинная структура; не совпадая с волей, она не есть также ни потребность, ни страсть, но наши потребности и страсти, как и самая абстрактная из наших мыслей, причастны этой структуре; они всегда вне себя самих в направлении к… Вот что мы называем экзистенцией, обозначая этим словом не устойчивую, покоящуюся в себе субстанцию, а постоянную потерю равновесия, отрывание от себя самих всеми силами. Так как этот порыв к объективации принимает у разных индивидуумов различные формы, так как он устремляет нас через поле возможностей, из которых мы реализуем одну и исключаем другие, мы называем его также выбором или свободой»(19, с.185). (В параллель к Сартру можно упомянуть, что М.Хайдеггер характеризует экзистенцию через такие экзистенциалы, как «забота», «набрасывание», «озабоченное делание», «понимание» и т. д. (22)).
С этой точки зрения социальные отношения, образования социальных групп и отношений между ними есть результат взаимодействия индивидуумов, их проектов и субъективно мотивируемых деятельностей:
«Эти связи являются молекулярными, потому что есть только индивидуумы и конкретные отношения между ними (противоборство, союз, зависимость и т. д.)» (19, с.185).
Приведенные выше высказывания взяты из поздней работы Сартра, в которой он движется в направлении к марксизму. Что проявилось, в частности, в признании того, что сам выбор индивидуума и его свобода ограничены объективными возможностями, определяемыми в конечном счете экономикой и закономерностями ее развития. В более же ранних работах («Бытие и Ничто», «Экзистенциализм – это гуманизм» и др.), там, где экзистенциалистские принципы были выражены, так сказать, «в чистом виде», Сартр утверждал абсолютность свободы выбора личности и вследствие этого абсолютность ее ответственности за себя и за мир: «Человек – это прежде всего проект, который переживается субъективно, а не мох, не плесень и не цветная капуста. Ничто не существует до этого проекта, нет ничего на умопостигаемом небе, и человек станет таким, каков его проект бытия… Но если существование действительно предшествует сущности, то человек ответствен за то, что он есть». «Нет детерминизма, человек свободен, человек – это свобода» (20, с.323, 327).
Не вдаваясь в подробности концепции Сартра, а также других авторов данного направления, отметим, что в их работах осуществлена детальная, обстоятельная проработка субъективно-личностного уровня бытия человека (22; 7; 26).
Изложив основы двух противоположных философских концепций, проследим взаимосвязь объективного и субъективно-экзистенциального уровней человеческого бытия, синтезируя, тем самым, содержание марксизма и экзистенциализма. Подчеркнем, что данный синтез будет осуществлен нами на основе марксистской методологии мышления.
С марксистских позиций наиболее фундаментальный уровень бытия человека определяется материальными потребностями его организма. Как это ни прозаично, но «люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т. д.…»(24, с.350). Эти потребности в значительной мере предопределены биологической природой организма, для физического существования которого необходимы определенные материальные условия. Однако биологические потребности, с которыми человек рождается, в ходе его жизни претерпевают значительную эволюцию под влиянием социальных условий его жизнедеятельности: прежде всего, общественного материального производства, которое производит предметы потребления, а также в зависимости от социальных условий потребления. «Потребности производятся точно так же, как продукты и различные трудовые навыки» (14, с.18). В результате, указанные потребности приобретают биосоциальный характер и находятся в постоянном процессе развития (а в особых условиях и деградации).
Удовлетворение материальных потребностей индивидуума осуществляется в процессе его общественной деятельности и опосредовано активностью его сознания. Согласно психологической теории А.Н.Леонтьева, в самом «потребностном» состоянии предмет, который способен удовлетворить потребность, жестко «не записан». Только в результате его отражения в сознании, потребность приобретает свою конкретную предметность, а воспринимаемый (представляемый, мыслимый) предмет – свою побудительную и направляющую деятельность функцию, то есть становится мотивом деятельности (10).
В концепции А.Н.Леонтьева под понятием «деятельность» понимается активность человека, направленная на достижение предмета потребности, зафиксированного в мотиве и побуждаемая им. Деятельность состоит из ряда действий, коррелятом которых выступают цели: «Основными «составляющими» отдельных человеческих деятельностей являются осуществляющие их действия. Действием мы называем процесс, подчиненный сознательной цели»(10, с.103). Следовательно, цель выступает в качестве промежуточного результата деятельности, направленной на достижение предмета потребности, зафиксированного в мотиве.
Мотивы деятельности, как показал А.Н.Леонтьев, формируются непосредственно в самом процессе деятельности личности. Это – процесс превращения «знания» того или иного объективно существующего явления в побуждающий и направляющий социальную активность человека мотив. В ходе индивидуальной деятельности, побуждаемой определенным мотивом, знание о предмете выступает первоначально как сознательная цель конкретного действия, входящего в состав этой деятельности. Но постепенно действия, все более обогащаясь, как бы перерастают круг деятельности, которую они реализуют, и вступают в противоречие с породившим их мотивом. В результате происходит «сдвиг мотива на цель». То есть цель конкретного действия становится мотивом деятельности, происходит изменение предметного содержания потребности, рождение нового мотива и соответствующей ему новой деятельности. Причем процесс этот зачастую происходит бессознательно (12, с.70).
Отношение того или иного явления действительности к определенному мотиву деятельности личности образует «личностный смысл» этого явления; положительный – если оно соответствует мотиву и отрицательный – если не соответствует. Он обнаруживается в эмоциональном переживании в результате особого акта оценки, в ходе которого данное явление сопоставляется с мотивом деятельности личности. Существенно, что эмоционально-смысловая оценка есть непосредственное соотнесение явления с самим мотивом деятельности, а не со знанием о нем. Субъект оценки совпадает с субъектом деятельности. Мотив деятельности, как правило, не осознаваем. Именно с таким – неосознаваемым – мотивом и происходит прямое сопоставление явления действительности, в результате которого выявляются смысловые отношения между ними. Обнаружением этих отношений и выступают эмоции. Как подчеркивает А.Н.Леонтьев, «при этом речь идет не о рефлексии этих отношений, а о непосредственно-чувственном их отражении, о переживании» (12, с.68).
В результате, субъективно мотивированная деятельность всегда окрашена интенсивным эмоциональным переживанием, обнаруживающим личностные смыслы явлений, втянутых в эту деятельность.
Так выглядит с марксистских позиций (конечно, в первом приближении) конкретизация экзистенциалистских понятий «проект», «набрасывание», «забота» и «озабоченное делание». Однако при более детальном анализе бытия отличие марксизма от экзистенциализма проявляется все в большей степени.
Дело в том, что субъективно мотивированная деятельность индивида, его экзистенция, направленная на удовлетворение материальных потребностей, объективно является включенной в общественный процесс материального производства. Производство средств индивидуального потребления имеет общественный характер. В силу этого, объективно индивид включен в ту или иную социально-экономическую группу, участвующую в процессе производства. Он член определенного класса, классового слоя, профессиональной группы, независимо от того, осознает он это или нет. Его действия, составляющие его субъективно мотивированную деятельность, объективно представляют собой выполнение той или иной социальной роли в качестве безличного, «среднего» элемента социально-экономической группы общества.
Цели действий индивида – отражение объективных свойств природных и социальных объектов, на которые направлена преобразовательная активность общества. Результаты такого отражения, закрепленные в языке, образуют систему объективных значений, выступающих в абстрактно-логических формах понятий, суждений, умозаключений. По словам А.Н.Леонтьева, в них «представлена преобразованная и свернутая в материи языка идеальная форма существования предметного мира, его свойств, связей, отношений, раскрытых совокупной общественной практикой» (11, с.134).
Значения формируются в общественном сознании на его обыденном и теоретическом уровнях. Индивидуум в процессе своей социализации присваивает уже готовые, исторически выработанные системы значений. Особую роль в этом играют различные формы коммуникации, основанные на общественной системе языка. Человек, вступая в общение сначала со своим непосредственным окружением, а затем включаясь в общественную систему обучения и практики, имеет возможность узнать о мире столько же, сколько знает о нем современное ему общество.
Особенность коммуникации значений состоит в том, что она протекает как процесс «осведомления», «сообщения» определенного знания об объектах действительности, включенных в процесс общественной практики. Психологи называют этот тип коммуникации «функционально-ролевым». Его непременное условие – точность и однозначность передачи информации об объекте, чему и подчинены специальные коммуникативные средства (2; 5). Таким образом индивидуум осваивает социальный опыт, зафиксированный в системе значений, и который, используя термин С.Х.Раппопорта, можно назвать «опытом фактов» (17 с.47).
Значения в результате этого «ведут двойную жизнь. Они производятся обществом и имеют свою историю в развитии языка, в развитии форм общественного сознания; в них выражается движение человеческой науки и ее познавательных средств, а также идеологических представлений общества – религиозных, философских, политических» (10, с.147). Их вторая жизнь – в сознании конкретных индивидуумов, где они предстают как цели их действий, реализующих их социальные роли.
Особая гносеологическая роль объективных значений состоит в том, что они (так же как и мотивы) могут выступать в качестве критериев оценки действительности и тем самым участвовать в отражении ее ценности для человека. Однако оценка по объективным значениям существенно отличается от оценки по субъективным мотивам. В данном случае это рационально осознанная операция, в ходе которой познанные явления действительности сопоставляются с результатами познания (осознания) содержания потребности. Критерием оценки здесь выступает выраженное в значениях знание о потребности. Для приобретения этого знания необходимо, чтобы познающий отличал себя от познаваемого, то есть чтобы субъект оценки отличал себя от субъекта – носителя потребности. Результат такой оценки также выражается в абстрактно-логических формах оценочного суждения, отражающего ценность оцениваемого явления.
Таким образом, уже при рассмотрении наиболее фундаментального уровня бытия человека – социальной активности, направленной на удовлетворение материальных потребностей индивида, – мы констатируем единство его экзистенции (субъективно мотивированной деятельности) и его (бытия) объективной основы (действий, реализующих ту или иную социальную роль в качестве элемента социально-экономической группы). Чему соответствует и единство различных форм сознания – субъективных мотивов деятельности и объективных значений, воплощающих цели конкретных действий.
Над рассмотренным уровнем бытия надстраивается (включая его) социальная практика более «высокого», «макро» уровня. Ее объективную о снову составляет общественный процесс материального производства, субъектом которого выступают социально-экономические группы общества. Как таковые, они обладают особыми – «непосредственно-общественными» потребностями.
Вопреки представлениям экзистенциалистов о «молекулярном» (по Сартру) характере общества, марксизм подчеркивает его системную организацию. Семья, малая социальная группа, класс, общество в целом как исторически конкретная общественно-экономическая формация – на всех уровнях общество предстает не как сумма множества составляющих его единиц, а именно как система элементов соответствующего уровня. Это значит, что не все свойства социальной общности возможно вывести из свойств отдельно взятых индивидуумов, которые в нее входят. Социальная общность обладает особыми, системными качествами, которыми она обладает лишь как целое.
К таким системным качествам и относятся непосредственно-общественные потребности. Их первичным субъектом-носителем является социально-экономическая общность как целое. Как единая система она требует для своего существования и развития определенных, прежде всего экономических и политических, условий. Индивидуумы, из которых состоят социально-экономические группы, объективно являются носителями непосредственно-общественных, групповых потребностей, но не как отдельные личности, а как безличные, «средние» элементы социального целого. Они участвуют в социальной практике своих групп генетически первично на уровне действий, составляющих деятельности, мотивированные их индивидуально-материальными потребностями. Другими словами, индивид субъективно добывает себе средства своего индивидуального существования, но в то же время объективно действует как представитель того или иного класса и профессиональной группы общества.
Процесс материального производства, составляющий объективную основу бытия общества (направленный на удовлетворение непосредственно-общественных и индивидуальных материальных потребностей), «обслуживается» прежде всего познавательной деятельностью сознания. Социальный опыт преобразования природы и общества закрепляется в системе значений языка. Институцианальной формой общественной познавательной деятельности выступает наука. Объективные значения научного языка – это (в идеале) безличные (или надличностные) результаты отражения объективных свойств реальности. Как таковые, они являются свойствами производительных сил, то есть социально-экономической общественной системы.
Результаты научно-теоретического познания действительности принимают участие и в оценочной деятельности, отражающей ценностные отношения природной и социальной действительности к непосредственно-общественным потребностям общества в целом и его социально-экономических групп, что составляет идеологический аспект общественного сознания, играющий особо значительную роль в философии, теологии, политологии, этике и эстетике.
В то же самое время бытие на уровне общественной практики имеет и личностно-экзистенциальный аспект. Он складывается из деятельностей личностей, движимых особыми «социальными» мотивами. Социальные мотивы деятельности (в отличие от рассмотренных ранее «биосоциальных) отражают «предметы» непосредственно-общественных потребностей. То есть в данном случае мотивом деятельности личности выступает стремление к удовлетворению не ее собственных материальных потребностей, а потребностей той или иной социальной группы.
Объективной предпосылкой этому служит тот факт, что, как уже отмечалось, непосредственно-общественные потребности вместе с тем являются и потребностями индивидуумов, составляющих социально-экономические общности. При благоприятных условиях эти объективно присущие индивидууму общественные потребности получают свое субъективное выражение в его сознании в виде соответствующих мотивов деятельности. Он получает внутренний, сугубо личный, субъективный стимул к деятельности, который в то же время соответствует его объективной потребности как члена определенной социальной группы. Таким образом формирование социальных мотивов деятельности знаменует собой один из существеннейших моментов взаимосвязи объективного и экзистенциального уровней бытия человека.
Рассмотренная экзистенция, как социально мотивированная деятельность личности, является генетическим источником формирования ее особых – духовных потребностей. Механизм их формирования – тот же «сдвиг мотива на цель». С развитием социально мотивированной деятельности личности она из средства удовлетворения общественных потребностей может превратиться для нее в «самоцель», то есть стать самостоятельным мотивом социальной активности. Мотивом деятельности становятся уже не явления, способные удовлетворить социально-групповые потребности, а сама по себе общественно полезная деятельность. «Деятельностный» мотив выполняет функцию потребности личности, причем потребности именно ее сознания.
Образ деятельности, побуждающий к ней, вполне определенен. Это образ конкретной деятельности, конкретной по своему предмету, характеру, средствам и требуемому результату. Это подлинный мотив деятельности. Однако в данном случае он же есть и потребность – потребность сознания личности. Именно сознание личности заинтересовано в определенной деятельности. В то время как социальная общность и индивидуум как ее элемент нуждаются в тех или иных явлениях, предметах, обстоятельствах, которые достигаются с помощью этой деятельности.
Например, научная деятельность в своей основе вызвана материальными общественными потребностями – нуждами материально-преобразовательной практики общества. Материальное общественное производство заинтересовано в отражении объективных закономерностей действительности, и познавательно-научная деятельность людей удовлетворяет эту потребность. Однако с развитием познавательной деятельности той или иной личности эта деятельность из обслуживающей общественные (общественно-личные) потребности превращается (объективно оставаясь по-прежнему обслуживающей) в деятельность для нее самоценную, как удовлетворяющую особую потребность ее сознания.
В то же время духовные потребности обладают относительной независимостью от своей генетической основы. Что проявляется и в характере их субъекта-носителя, и в самом их содержании. В отличие от непосредственно-общественных, самостоятельным субъектом-носителем духовных потребностей выступает личность. Это потребности ее сознания, и формируются они в процессе ее деятельности. Последнее принципиально важно. Индивидуум не является носителем духовных потребностей автоматически, выполняя ту или иную социальную роль в структуре общественных отношений. Их формирование опосредовано целым рядом условий. Во-первых, благоприятных для формирования социальных мотивов деятельности, во-вторых, – для преобразования социально мотивированной деятельности в потребность личности. Наконец, содержание уже сформировавшейся духовной потребности зависит от развитости самой духовно заинтересованной деятельности. Можно сказать, что духовная потребность есть личное достижение индивидуума. Что обусловливает относительную независимость духовных потребностей личности от ее объективной социальной роли.
Принадлежа к одному классу, к одной профессиональной группе, люди обладают различной степенью развитости духовных потребностей. Различной и по содержанию этих потребностей, и по их многообразию. Индивидуумы в неодинаковой мере реализуют возможности, создаваемые объективными социальными условиями (социально-экономическим положением, прежде всего). В этом проявляется активность личности, которая выступает не только продуктом социальных условий, объектом внешних воздействий, но и творцом как себя, так и самих социальных условий. Выражаясь в терминологии экзистенциализма: выбирая и проектируя свою деятельность, личность трансцендирует, превосходит свою ситуацию и самое себя.
Вследствие этого и содержание духовных потребностей приобретает относительную независимость от генетически первичных объективных общественных потребностей. Саморазвитие духовно заинтересованной деятельности и потребности в ней проявляется, в частности, в относительной самостоятельности развития науки в отношении к потребностям и возможностям общественного материального производства. Что в современных условиях привело к опережающему развитию науки, которая «ведет за собой» технологию производства.
Обладая некоторой совокупностью духовных потребностей, человек стремится удовлетворить их в своей общественной деятельности.
Относительная самостоятельность этих потребностей позволяет говорить об этой деятельности как особом виде экзистенции личности. Соответственно, и свойство человека как субъекта духовно заинтересованной деятельности надстраивается над его личностными свойствами как субъекта материально заинтересованной деятельности и представляет собой высший уровень в его развитии.
Рассмотренные биосоциальные, социальные и деятельностные мотивы личности в ее сознании объединены в единую и у каждого человека особым образом иерархизированную систему. Характер соподчиненности, различная степень значимости основных мотивов в этой системе играют важную роль в мироотношении личности, определяют ее экзистенцию. Сознание каждого человека включает индивидуальную, во многих чертах уникальную систему мотивов деятельности.
Столь же индивидуализированной оказывается система смысловых отношений действительности к данной личности. Личностный смысл отдельных природных и социальных явлений, смысл действительности в целом и смысл собственной жизни всегда индивидуально своеобразен и порождается прежде всего собственной деятельностью личности. Соответственно индивидуально и эмоциональное мироотношение индивидуума, переживание им своих собственных действий, явлений природы, событий общественной жизни, других людей, той или иной информации, которую он получает в непосредственном общении или через средства массовой коммуникации. Все имеет для индивидуума своеобразный личностный смысл, все окрашено им в своеобразный оттенок его мироотношения, на всем лежит печать его индивидуальности, его особой экзистенции.
В то же время во всем этом нет ни абсолютной уникальности, ни абсолютного своеобразия. То есть и мотивы деятельности, и их иерархия, и личностные смыслы, и эмоциональное переживание мира данной личностью имеют общие черты с другими людьми своей эпохи, класса, профессиональной группы. Ибо, как было показано, все три типа мотивов деятельности личности более или менее опосредовано, но оказываются обусловлены действиями индивида в качестве элемента социально-экономической структуры общества. Кроме этого, формирование мотивов деятельности опосредовано воспитательным воздействием со стороны общества, точнее, господствующего в нем класса, что также вносит свой вклад в социальную «стандартизацию» мотивации и эмоционально-смысловых отношений к действительности.
Следовательно, мы имеем дело именно с относительной самостоятельностью экзистенции личности от объективной основы ее бытия, с отличием личности от «среднего индивида» как «олицетворения экономической категории».
В результате, мы имеем дело с экзистенциально-личностным уровнем общественного бытия, коррелятивным с сознанием человека, состоящем из субъективно мотивированных деятельностей индивидуумов. И если в объективной основе общественного бытия ее первичным субъектом выступает социально-экономическая общность (класс, профессиональная группа, общество в целом) и она же является субъектом общественных (прежде всего, производственных) отношений, то на экзистенциальном уровне бытия первичный его субъект – индивидуум, отдельная человеческая личность. Причем в этом случае сознание личности, иерархизированная система мотивов ее деятельности является существенно важным, конституирующим моментом.
Тем не менее и на экзистенциальном уровне общественного бытия складываются коллективные субъекты практики. Они формируются на основе объективных социально-экономических общностей, но здесь также нет ни тождества, ни автоматизма в порождении. Эта коллективность производна от индивидуумов, их мотивов и их деятельностей и складывается как результат общности этих мотивов и деятельностей. Вследствие того, что мотивы личности могут не соответствовать ее объективным общественно-личным потребностям, индивидуальный состав коллективного субъекта экзистенциального уровня бытия, как правило, не совпадает с определенной социально-экономической группой. Если последняя дана объективно, то «коллективная личность» складывается в результате деятельностей индивидуумов.
Особую роль в формировании коллективных субъектов экзистенциального уровня бытия играет общение, которое существенно отличается от «функционально-ролевой» коммуникации значений. Это – межличностное общение, в ходе которого происходит обмен личностным опытом деятельности, зафиксированном в эмоциональном отношении к миру и личностных мотивах деятельности. Это не «осведомление», а «заражение» определенным эмоциональным состоянием, не «сообщение», а «приобщение, то есть привлечение «к соучастию в деятельности, достигаемое разнообразными средствами – подражанием, принуждением, прямым или воображаемым включением в ситуацию действия… Этим достигается эффект присутствия одного субъекта в деятельности другого и благодаря такому самоопределению через соучастие становится возможной обоюдная идентификация в опыте, воспроизведение структуры чужого опыта в собственной жизнедеятельности» (4, с.76; 6).
М.Хайдеггер дает весьма утонченный анализ межличностной коммуникации субъективизированных, экзистенциально пережитых значений (правда, необоснованно противопоставляя его передаче переживаний, мнений и желаний): «В речи «явным» образом делятся событием… Языковый показатель принадлежащего речи из-вещания из расположенного внутри-бытия заключен в интонации, модуляции, в темпе речи, «в манере говорить». Сообщение экзистенциальных возможностей расположенности, то есть раскрытие экзистенции, может становиться особой целью в «поэтически»-слагающей речи» (22, с.25). Соответствующий характер имеет и восприятие такой речи: «Слушание конститутивно для речи… Вслушивание во что есть экзистенциальная открытость здесьбытия как со-бытие для другого. Слушание даже конституирует первичную и настоящую, в собственном смысле, открытость здесьбытия для своего наиглубочайше-личного можествования, как слушание голоса друга, которого всегда носит с собой любое здесьбытие» (22, с.26).
При формировании коллективного субъекта, включающего значительное число личностей, наряду с межличностным общением большую роль приобретает использование технических средств массовой коммуникации, а также организаторская деятельность церквей, политических партий и профессиональных союзов (1).
В процессе деятельности коллективных субъектов экзистенциального уровня бытия в отношении к их мотивам складываются смысловые отношения, общие для множества индивидуумов, составляющих эти коллективы. Соответственно формируется и общность эмоционального мироотношения. Так постепенно складывается социально-исторический опыт, который, используя термин С.Х.Раппопорта, можно назвать «опытом отношений» (17, с.65). С учетом этого опыта коллективный субъект осуществляет свое воздействие и на отдельных людей и на целые социальные группы, влияя на формирование мотивов их деятельности, на характер их эмоционально-смыслового мироотношения. Специализированным орудием такого воспитания выступает искусство, которое обращается к освоению социально-исторического опыта отношений, к оценке в его свете и познанию явлений действительности, к проектированию новых отношений для того, чтобы оказать формирующее воздействие на человека (18; 3; 25).
Итак, бытие людей как «реальный процесс их жизни» (15, с.25) представляет собой единство экзистенциального и объективного уровней. Экзистенциальный уровень бытия есть лишь явленная сторона его объективной сущности. С другой стороны, объективный процесс материально-производственного и социального преобразования осуществляется только через свое проявление в экзистенциальном уровне. Поэтому и субъект этого преобразования – социально-экономические группы общества (классы, классовые слои, профессиональные группы) и «средние индивиды» как их элементы, реально существуют только в виде конкретных более или менее индивидуальных личностей, движимых определенными мотивами и объединяющихся в коллективные субъекты по мере родства этих мотивов. И наоборот: субъекты экзистенциального уровня бытия объективно являются членами определенных социально-экономических групп.
Соответствующее единство присуще и различным феноменам человеческого сознания, обслуживающим указанные уровни бытия. В индивидуальном сознании экзистенциальные мотивы деятельности личности – это субъективизированные цели, то есть отраженные в значениях объективные свойства реальности. В свою очередь объективные значения существуют в сознании личности лишь приобретая тот или иной субъективно-личностный смысл в отношении к индивидуальным мотивам деятельности. В общественном сознании искусство, специализирующееся на освоении, концентрации и выражении социально-исторического интерсубъективного опыта отношений, включает в себя значения, как отражение объектов этих отношений. В свою очередь научное познание мира, концентрирующее социально-исторический опыт фактов в его объективных значениях, неизбежно детерминируется мотивами научной деятельности ученых. Эти мотивы, будучи конкретно-социально обусловленными, неизбежно корректируют процесс и результаты познания. Поэтому за самой абстрактной естественнонаучной и тем более гуманитарной, в частности, философской, теорией скрываются интерсубъективные мотивы и эмоции, социально-исторический опыт отношений (15; 21).
Констатируя единство экзистенциального и объективного уровней бытия, в заключение подчеркнем их несводимость и противоречивость. Что вытекает уже из принципиального различия их субъектов. В одном случае – «средний индивид» – элемент социально-экономической общности, в другом – отдельная человеческая личность с ее своеобразным субъективно-эмоциональным мироотношением, порожденным своеобразием ее мотивов деятельности и их иерархией, а в следствие этого и особой системой личностных смыслов действительности. Объективно человек – часть производительной силы общества, участвующий в познании и преобразовании природы и социальных отношений, Экзистенцально – он же – любящий и ненавидящий, надеющийся и разочарованный, озабоченный и беззаботный, радостный и грустный, счастливый и несчастный в своем общественном бытии.
Как безличная часть общества человек «бессмертен». То есть он, конечно, умирает, но продолжает жить в том социальном целом, к которому принадлежит, в своей группе, в человечестве как роде: «листья опадают – дерево растет». Более того, смерть индивида даже нужна его виду. Но с точки зрения экзистенции личности смерть как уничтожение уникального духовного мира – «вселенной», «космоса» личности – ничем не компенсируемая трагедия. Это хорошо прочувствовал и выразил А.Камю: смерть – абсурд, делающая абсурдной всю предшествующую жизнь. И человек подобен Сизифу. Вкатывая на гору свой камень жизненной судьбы, он обречен на то, что перед самой вершиной этот камень скатится к подножию (7).
Как субъективно-личностное, экзистенциальное решение проблемы смерти возникает религиозная вера в загробный мир, в переселение душ. Складывается параллелизм этой веры и знания, отрицающего такую возможность, параллельное сосуществование в культуре религии и науки. Никакие аргументы последней не в силах опровергнуть религиозную веру, укорененную в особом (и отличном от научного) уровне бытия человека.
Столь же бессильна научная теория и в отношении других экзистенциалов человеческого существования, например, любви. Известно, что «любовь зла – полюбишь и козла». То есть любовь – это неразложимый комплекс положительных личностных смыслов, неопровержимых никакими теоретическими соображениями.
Как справедливо заметил Ж.-П.Сартр, «слова, которые пытаются раскрыть экзистенциальные структуры, ограничиваются тем, что регрессивно обозначают рефлексивный акт… Действительно, понятие направлено на объект (находится ли этот объект вне человека или же в нем самом), и именно потому оно является интеллектуальным знанием. Иначе говоря, в языке человек обозначает себя постольку, поскольку он есть объект человека» (19, с.212). Но это означает, что экзистенция вообще недоступна теоретическому познанию. Поэтому Сартр согласен с Кьеркегором в том, что «субъективная жизнь именно постольку, поскольку она переживается, никогда не бывает объектом знания; она по самой своей сути ускользает от познания, и отношение верующего к трансценденции не может мыслиться как снятие»(19, с.13).
Экзистенция, по определению, это субъективная интенция, понятие же превращает ее в объект. Но и в таком качестве, то есть в качестве объекта, ее процессуальность не ухватывается дискретностью понятийного мышления. Не говоря уже о том, что понятийно не переводимо содержание субъективно-эмоционального миропереживания. Возможно лишь внешнее (извне) пунктирное (схематическое) обозначение общей (неиндивидуализированной) структуры экзистенциальных актов. Чем и занимается экзистенциалистская философия. То есть по содержанию экзистенциализм (например, в трудах М.Хайдеггера, К.Ясперса) не есть экзистенция, а лишь теоретическое обозначение ее структуры.
Экзистенция доступна не познанию, а «пониманию». «Понимание» же, – как его интерпретируют Хайдеггер и Сартр, – «есть не что иное, как само существование»(19, с.213). Понимать – значит со-переживать, соучаствовать, со-существовать с понимаемым: «Во всяком понимании мира сопонимается экзистенция, и наоборот»(22, с.5). «Ясно выразить это понимание вовсе не означает найти абстрактные понятия, сочетание которых могло бы включить его в концептуальное знание, – это значит самому воспроизвести диалектическое движение, восходящее от претерпеваемых данных к значащей деятельности. Это понимание, которое не отличается от практики, есть одновременно непосредственное существование (поскольку оно проявляет себя как движение действия) и основа косвенного знания существования (поскольку оно постигает существование другого)» (19, с.209).
Наука, теоретическое мышление на это не способны. Ученый в своей профессиональной деятельности должен стремиться свести к минимуму свою индивидуальную субъективность, стать «чистым зеркалом мира». Другими словами, экзистенция ученого состоит в направленности к ее самоисключению в результатах его труда. Ибо он должен стать надличностным представителем социально-экономической общности, в идеале – человечества, обслуживая потребности объективной основы общественной практики.
Функцию постижения и выражения экзистенции в общественном сознании выполняет искусство, и художник, и его зрители (читатели, слушатели) – это действующее понимающее сознание. В краткой формуле Г.Флобера «Эмма – это я» – суть экзистенциального со-бытия двух субъектов: писателя и его героев. Но и процесс «художественного восприятия» романа – это виртуальное со-бытие читателя с Эммой Бовари и Гюставом Флобером, а в результате, при-общение к их экзистенции.
Показательно, что философы экзистенциалисты, испытывая невозможность теоретического познания и выражения экзистенции, реализуют эту свою потребность в художественной или полу-художественной форме. Таков Сартр в своих пьесах, Камю – в романах, таков Хайдеггер в своих поздних произведениях, а до них и Кьеркегор, и Ницше (22; 23; 9; 16).
Искусство, будучи выражением экзистенциального уровня бытия, ставит границы для своего научного познания. В этом – драматизм ситуации конкретного искусствоведения и эстетики. Последняя может познать закономерности искусства (его предмета, метода, строения произведений, социальной обусловленности и т. п.), но лишь в самом общем виде, схематически. Литературоведение, музыковедение и другие искусствоведческие науки могут вполне адекватно познать синтаксические нормы художественных языков своих видов искусства. Но семантика их оказывается не подвластна теоретической фиксации. Также и в познании отдельных произведений: их строение вполне поддается теоретическому описанию, но их содержание, то есть именно концентрат экзистенциального опыта бытия, понятийно возможно лишь пунктирно и весьма неконкретно обозначить.
Таким образом, рассмотрев единство и противоречие экзистенциального и объективного уровней бытия, мы, вслед за целым рядом авторов, попытались продолжить познавательное движение, направленное на осуществление синтеза марксизма и экзистенциализма, точнее, «экзистенциализма в лоне марксизма» (19, с.215). Так как «не подлежит сомнению, что марксизм является в наши дни единственно возможной антропологией» (19, с.214).
Литература
1. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. – М.,1978.
2. Джидарьян И.А. Психология общения и развитие личности // Психология формирования и развития личности. – М.,1981.
3. Еремеев А.Ф. Границы искусства. – М.,1987.
4. Иванов В.П. Человеческая деятельность. Познание. Искусство. – Киев, 1977.
5. Каган М.С. Человек как субъект общения // Методологические проблемы изучения человека в марксистской философии. – Л.,1979.
6. Каган М.С. Философия культуры. – СПб.,1996.
7. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Альбер Камю. Бунтующий человек. – М.,1999.
8. Какабадзе З.М. Человек как философская проблема. – Тбилиси, 1970.
9. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М.,1993.
10. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.,1975.
11. Леонтьев А.Н. Деятельность и сознание.// Вопросы философии, 1972,№ 12.
12. Леонтьев А.Н. Деятельность и личность // Вопросы философии, 1974,№ 5.
13. Малышев И.В. Эстетическое в системе ценностей. – Ростов-на-Дону, 1983.
14. Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.46, ч.2.
15. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. // Соч., т.3.
16. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч. в 2-х томах, т.2. – М.,1990.
17. Раппопорт С.Х. Искусство и эмоции. – М.,1972.
18. Раппопорт С.Х. Эстетика. – М.,2000.
19. Сартр Ж.-П. Проблемы метода. М.,1994.
20. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М.,1990.
21. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.,1995.
22. Хайдеггер М. Бытие и время // Мартин Хайдеггер. Работы и размышления разных лет. – М.,1993.
23. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М.,1991.
24. Энгельс Ф. Похороны Карла Маркса // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.19.
25. Яковлев Е.Г. Эстетика. Искусствознание. Религиоведение. – М.,2003.
26. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.,1994.
Философия между «матемой» и «поэмой»
Что есть философия? Еще не так давно в нашей философской литературе ответ чаще всего гласил: наука о наиболее общих законах природы, общества и мышления. Но вследствие крушения авторитета марксизма и возобладания постмодернистских тенденций данное утверждение было поставлено под сомнение и отвергнуто значительной частью современных российских философов. Взамен предлагаются самые различные определения: философия – это «мировоззрение» (10); «относительно автономная сфера теоретического знания, отличная от специальных наук» (6, с.22); «Особая форма рефлексии человека над бытием и самим собой, философская мудрость» (7, с.124); «философское знание есть комплексный, интегральный вид знания» (1, с.72) и др. Определение же философии как науки квалифицируется как «действительный анахронизм, подлежащий устранению из современного философского языка» (1, с.75).
Попробуем и мы разобраться в этом вопросе. Тем более, что это важно для определения характера такой философской дисциплины как эстетика. Прежде всего отметим, что понимание философии как науки отнюдь не исключительная особенность марксизма, а целая традиция, включающая в себя представителей самых различных философских направлений. Здесь и Б.Спиноза, и Р.Декарт, и Д.Дидро, и Г.Гегель, и Эд. Гуссерль (символично название его ранней работы «Философия как строгая наука»), и И.Ильин. Последний, к примеру, дает обстоятельное обоснование такого понимания философии: «Философия есть наука о жизни. Ибо, в самом деле, философия есть систематическое познавательное раскрытие того, что составляет самую глубинную основу жизни. Сама жизнь в ее истинном смысле и содержании составляет ее источник и является ее предметом, тогда как форма ее, задание, приемы, категории, итоги – все это делает ее наукой в самом строгом и подлинном значении» (5, с.46). Конечно, как наука, философия имеет свои особенности, свой особый предмет и особенность метода его познания. «Философия исследует сущность самой истины, самого добра и самой красоты; она исследует самую сущность бытия и жизни, вопрошая об их сверхчувственной первооснове. …Все эти предметы философия утверждает как сверхчувственные и в то же время как объективно обстоящие; причем недоступность их для телесного восприятия нисколько не умаляет их объективности» (там же, с.54). Исследуя свой предмет, философия «как бы переселяет содержание предмета в среду испытующей души, чтобы вслед за тем сосредоточить все внимание на усмотрении сущности этого адекватно испытанного содержания, на уловлении ее мыслью и на выражении ее словами»(там же, с.55).
Ильин признает, что как субъект, каждый философ своеобразно чувствует, желает, воображает, думает. Но, при всей пестроте субъективных состояний, предмет познания остается единым, объективным и для всех общим. «Люди различны; но предмет один и истина одна. Отсюда необходимость приспособления субъективного своеобразия к объективной природе предмета: необходимость адекватного «переселения» предметного содержания в личный опыт» (там же, с.57). И далее: «Такова основа философии, усмотренная еще пифагорейцами и Гераклитом, выношенная Сократом и Платоном и возрожденная Спинозой, Фихте и Гегелем. Только через признание и соблюдение ее возможны и философия, и история философии», – патетически заключает русский философ (там же, с.57).
В то же самое время – в 20-х годах ХХ века – другой русский философ, П.Юшкевич утверждал прямо противоположное, а именно радикальное отличие философии от науки и, фактически, родственность ее скорее с искусством. При этом он констатирует отличие философских понятий от научных: «Научные понятия если не все поддаются мере и числу, то все определенны и однозначны… Они чисто познавательного типа»(11, с.150). Совсем иной характер имеют философские понятия, полагает П.Юшкевич: «они полны намеков и обетований; «сущее», «бытие», «становление» – это не сухие отвлеченные термины логики, это сложные символы, под которыми, помимо их прямого смысла, скрывается еще особенное богатое содержание. Коренные философские понятия суть всегда понятия-образы, понятия-эмоции» (там же, с.150). Объяснение этому он видит в том, что философия «не есть вовсе чистое познание и подходит к миру совсем иначе чем наука. Ее корни заложены не в уме, а в нижних этажах душевной жизни, часто в глубине бессознательного» (там же).
«В философском созерцании, – конкретизирует свою мысль П.Юшкевич, – происходит приобщение внутренней личности… к мировому целому. Лицом к лицу здесь становятся «Я» и Вселенная». Более того, утверждает философ, «все» метафизики есть лишь своеобразная проекция наружу истинного «Я». «Философия есть исповедь интимного «я», принявшая форму повествования о мировом «Всем» (там же, с.155, 156, 158). Этим объясняется особенность истории философских учений, их разноголосица, обнаруживающаяся не только во времени – в смене различных взглядов и теорий, – но и в пространстве, в одновременном сосуществовании несходных и даже противоположных систем. При том, что ни одна из выдвинутых когда-либо философских концепций не исчезает бесповоротно и, по существу, «все прошлое философии стоит тут же, у порога настоящего, как живая современность» (там же, с.159).
Еще более категоричен, напрямую отождествляя философию и искусство, Н.Грот. «Философские системы, – пишет он, – как все творения художников и поэтов, всегда остаются достоянием личности и неразрывно связаны с именем своего творца. Это – одно из последствий их субъективности, и нельзя не сравнивать с этим противоположную черту научных созданий, всегда безличных» (…) «Откажемся же от тысячелетней иллюзии, что философия есть наука», – восклицает он в своей статье 1880 года, смысл которой сфокусирован в ее названии: «Философия как ветвь искусства» (3, с.76, 78).
Сторонники этой точки зрения находят ей подтверждения во всей истории философии, но наиболее очевидные – в творчестве экзистенциальных мыслителей С.Кьеркегора, Ф.Ницше, Н.Бердяева, Л.Шестова, позднего М.Хайдеггера.
Итак, философия – наука она или же искусство?
Есть и третий вариант определения статуса философии – как особой формы знания, отличной и от того, и от другого (1; 2; 4). Подводя итог анализу специфики философии, П.Алексеев и А.Панин пишут: «Мы обнаружили, что философское знание имеет существенные признаки, свойственные: 1) естественнонаучному знанию, 2) идеологическому знанию (общественным наукам), гуманитарному знанию, 3) художественному знанию, 5) трансцендирующему постижению (религии, мистике) и 6) обыденному, повседневному знанию людей». Отсюда авторы делают вывод: «Можно утверждать, что философское знание есть комплексный, интегральный вид знания» (1, с.72).
Современный французский исследователь А.Бадью пришел к аналогичному утверждению, что философия «это мыслительная конфигурация совозможности четырех ее родовых условий (поэмы, матемы, политики, любви) в событийной форме, которая предписывает истины своего времени» (2, с.33). Под этой формулой имеется ввиду, что искусство, наука, политика и любовь, не входя в содержание особой философской истины, в то же время составляют ее «родовые условия». Цель философии – скоординировать «истины» этих основных видов знания человечества: «Наш долг – произвести понятийную конфигурацию, способную собрать их вместе» (там же, с.55). Философия, как выражается А.Бадью, есть «прибежище истин» науки, искусства, политики и любви своего времени. Но по методу конфигурации этих истин она склоняется или к «матеме» или к «поэме». «Философия заимствует у двух своих изначальных соперников: у софистов и у поэтов. Можно, впрочем, также сказать, что она заимствует у двух истинных процедур: математики, парадигмы доказательства, и искусства, парадигмы субъективирующей мощи» (там же, с.155). То есть «она опирается на парадигмы сцепленности, оперирующий доводами стиль, определения, опровержения, доказательства, неоспоримость выводов… Или же философия пользуется метафорами, могуществом образа, убеждающей риторикой (там же, с.154, 155).
Вывод А.Бадью представляется удачным обобщением многочисленных точек зрения на природу философского мышления. Оно и «матема», и «поэма», но в разных соотношениях в различных философских традициях. Однако это положение, на наш взгляд, нуждается в дополнении и конкретизации.
Прежде всего, не всякое проявление «субъективирующей мощи» с использованием суггестивной риторики, метафор и образов порождает произведение искусства. Такими свойствами может обладать и религиозная проповедь, и политический памфлет. Объединяет их с искусством принадлежность к «экзистенциальному мышлению», мышлению, укорененному в экзистенциальном уровне бытия (см. статью «Экзистенция и бытие»). Кроме этого, философия, как справедливо отметили П.Алексеев и А.Панин, имеет общие черты не только с искусством, но и с религиозным сознанием. Поэтому, даже сохраняя удачный термин «поэма», следует расширить его смысл до «экзистенциального мышления» как оппозиции «матеме», то есть научной грани философии.
Но и в таком виде тезис Бадью (как, впрочем, и позиция Алексеева и Панина) представляется еще слишком абстрактным, а потому носящим эклектичный характер. Последнее заключается в утверждении равнозначности «матемы» и «поэмы» при определении природы философского знания.
Для более конкретного определения статуса философии следует подробней рассмотреть, что есть наука и что есть экзистенциальное мышление – те координаты, в которые мы вписываем философию. «Парадигма доказательства» и «парадигма субъективирующей мощи» – различия данных методов проявляют различие целей научного и экзистенциального мышления.
Цель науки (в чистом виде, то есть естественной) – в отображении объективной реальности природы для нужд ее материального преобразования. Всю свою субъективность ученый направляет на то, чтобы в результатах своего труда исключить субъективность, то есть познать мир таковым, каков он есть объективно. Он может и оценивать познанные свойства реальности, но это будут рациональные (по объективным значениям) суждения, отражающие степень полезности (или вредности) природных явлений. В своей социальной функции ученый выступает как безличный представитель объективной социально-экономической основы общества.
Цель экзистенциального мышления существенно иная. Оно субъективно-интерсубъективно «осмысливает» действительность. То есть тоже познает, но главное – выявляет субъективно-интерсубъективный «смысл» познанного, а именно, его отношение к личностным мотивам деятельности (8). Вследствие этого результаты экзистенциального мышления оказывают особое ценностно-ориентирующее воздействие на личность. Экзистенциальный мыслитель в процессе творчества действует как индивидуальный (и во многом уникальный) представитель экзистенциального уровня бытия общества, конкретнее, определенного социального коллектива, объединенного общностью мотивов деятельности. Способом же выявления личностного смысла выступают эмоциональные оценки, эмоциональное отношение к действительности. Это как раз то, что объединяет религиозную веру, субъективную очевидность религиозного откровения с художественным образом.
Именно развитость, богатство, индивидуальное своеобразие и, в то же время, социальная типичность эмоционально-оценочного содержания определяет собой степень художественности образа в искусстве. В то время как результат познания – предметно-событийное содержание художественного образа – хотя и бывает достаточно развитым (в эпических жанрах), но может присутствовать в минимальной степени или даже полностью отсутствовать (в лирической поэзии, абстрактной живописи или в произведениях инструментальной непрограммной музыки). При этом под воздействием субъективно-оценочного отношения познанная объективная реальность преобразуется: или идеализируется (как в классицизме), или негативистски деформируется (как в экспрессионизме), что отнюдь не ставит под сомнение художественность произведений. Так же, как рациональная недоказуемость догматов веры ни в коей мере не ставит их под сомнение: «верую, потому что абсурдно», – говорил Тертуллиан.
Если охарактеризовать статус философии в альтернативе: наука она или экзистециальное мышление, последнее следует исключить, поскольку мы признаем за ней особую форму познания, как бы различно ни понимался предмет такого познания. Но и отождествить философию с наукой «в чистом виде», то есть с естественнонаучным знанием, также не представляется возможным. Серьезные аргументы против такого отождествления приводились здесь от лица П.Юшкевича.
Однако, кроме естественных, существуют и гуманитарные науки: история, социология, политология, искусствоведение, этика, эстетика.
Специфика этих наук не только в их объекте – различных аспектах познания человека и его бытия, но и в субъекте. В его мотивации неустранимо присутствует субъективно-экзистенциальная составляющая. Гуманитарий познает человека и его общественную активность целостно: и на объективном социально-функциональном, и на экзистециальном уровнях. А это подключает его собственный экзистенциальный опыт. Да, он ученый. И как таковой стремится быть объективным, независимым от личных пристрастий. Но его эгоцентризм неистребим. В выборе аспекта исследования, в характере постановки и решения проблем бытия человека он одновременно решает и собственные проблемы своего социального существования. То есть детерминация гуманитарного познания имеет двойственный: и научно-познавательный, и экзистенциальный характер.
Например, эстетик, пытающийся определить сущность искусства, неизбежно исходит из своего собственного опыта восприятия художественных произведений. Этот опыт зависим и от его художественной эрудиции, и от его художественно-эстетических предпочтений. Последние же, в свою очередь, производны от принадлежности ученого к социальному коллективу, объединенному общностью художественной мотивации.
Эгоцентризм гуманитарного познания неизбежно ограничивает его результаты, что проявляется и в абсолютизации актуального для его субъекта ракурса исследования, и в субъективности интерпретации полученных данных. Короче говоря, гуманитарное познание представляет собой процесс, «который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным»(9, с.83). И в то же самое время научно-познавательная аргументация гуманитария обеспечивает объективную истинность, адекватность отражения познаваемых свойств, сторон общественного бытия человека. То есть двойственность мотивации порождает двойственность результатов познания, представляющих собой относительную истину, различным образом сочетающую истину и заблуждение, иллюзорность и реалистичность отображения действительности.
Весь вопрос в соотношении. И здесь очевидно: если в результатах гуманитарного познания превалирует заблуждение, иллюзия, ложь, то это уже не история, не политология, не социология, не этика с эстетикой. То есть определяющим качество гуманитарного знания является все-таки его научно-познавательная составляющая. Это наука. Субъективно-эмоционально-экзистенциальная же грань есть «свое-иное» гуманитарной науки, то, без чего она не возможна, но и в то же время – грань, противоположная ей.
Если теперь сопоставить все сказанное ранее о специфике философии с отмеченными особенностями гуманитарных наук, то становится очевидным их родство. Философия – наука, родственная гуманитарному знанию. Прежде всего она направлена на познание всеобщих законов бытия и мышления. Но она же решает и возникшие в определенном месте и времени экзистенциальные проблемы (как жить человеку в данной социальной ситуации) конкретного социального коллектива. Последнее определяет актуализацию той или иной грани в бесконечной многогранности предмета философии.
Сказанное можно метафорично представить следующим образом. Мир – многогранник, человек – многогранник. Каждое время характерно особой взаимосвязью между миром и человеком, между особой гранью мира и особой гранью человека. Что и определяет предмет философии конкретного социального коллектива.
Этим объясняется многообразие определений (и пониманий) предмета философии представителями различных философских школ. Но поскольку в истории человечества время от времени возникают аналогичные социальные коллизии, то складываются и определенные философские традиции. А история философии представляет собой полифонию этих традиций.
Конечно, в силу изложенного, каждая философия и каждая традиция ограниченна и, в то же время, относительно истинна. Истинна потому, что адекватно отражает какую-то сторону взаимосвязи мира и человека. Относительна же потому, что познает ее неполно, и особенно, если при этом претендует на абсолютность познания.
К примеру, философия Гегеля. Конечно, ее диалектический метод есть производное от рационализма Просвещения и опыта Великой французской революции, а замкнутость ее системы – от верноподданнической социальной позиции стареющего философа. Отсюда очевидная ограниченность и ложность некоторых положений его философии: и игнорирование субъективно-экзистенциального аспекта бытия человека, и апология Прусской монархии, и тезис о «смерти искусства». Но, одновременно, научная, а значит философская, ценность его учения состоит в истинности отражения объективных диалектических законов исторического развития и субъективной логики рационального мышления. И даже в ошибочном тезисе о смерти искусства Гегель интуитивно прочувствовал, что наступающая эра капитализма неблагоприятна для него.
Двойная мотивация философского познания порождает и особенности стиля философии, стиля и мышления, и изложения. Как познание объективной истины она рациональна, теоретична, логична, системна, надличностна. Как субъективное осмысление экзистенциальных проблем она эмоциональна, метафорична, асистемна, несет на себе отпечаток индивидуального своеобразия личности автора. Это неустранимое единство противоположностей. Но противоположностей не равнозначных. Первое есть адекватное проявление ее научности, определяющей собой качество философии. Второе – «свое-иное» философского стиля. Поэтому там, где экспрессивность, суггестивность изложения подавляет и заменяет собой логичность и аргументированность (например, у Ницше, Бердяева), это входит в противоречие с природой философского знания. (Хотя при этом может приобретать значительную мощь ценностно-ориентирующего воздействия на человека).
Но стиль философствования не является конечным критерием познавательной ценности. Ибо противоречащий научной сути стиль изложения может проявлять, пусть и не вполне адекватно, глубину интуитивного постижения объективной реальности (как у Ницше и Бердяева). В то время как теоретическая аргументация может оформлять вполне банальные результаты поверхностного познания.
Итак, отвечая на вопрос, «что есть философия», мы пришли к выводу, что в координатах культуры философия есть наука, особенность которой состоит в ее противоречивом единстве с экзистенциальным мышлением.
Литература
1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.,1996.
2. Бадью А. Манифест философии. СПб.,2003.
3. Грот Н.Я. Философия как ветвь искусства // «Начала», 1993, № 3.
4. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия. СПб.,1998.
5. Ильин И.А. Философия и жизнь // Философия и мировоззрение. М.,1990.
6. Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Философия: справочник для студента. М.,1999.
7. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.В., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия. М.,2003.
8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание, Личность. М.,1975.
9. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.39.
10. «Философские науки», 1990, № 1, 2.
11. Юшкевич П.С. О сущности философии // Философия и мировоззрение. М.,1990.
Метаэстетика
Наука ли эстетика?
Эстетика традиционно понимается прежде всего как «наука о прекрасном и искусстве». Но возможна ли такая наука? А если возможна, то как и в какой мере? Ответы на эти вопросы отнюдь не очевидны. Сомнения в научном статусе эстетики были высказаны сразу после того, как она была провозглашена А.Баумгартеном в качестве самостоятельной науки. Уже Им. Кант категорически утверждал, что «нет и не может быть никакой науки о прекрасном» (3, с.377). А по поводу различных трудов под названием «эстетика» Август Шлегель язвительно замечал: «за этим невразумительным словом скрывается множество лишенных смысла утверждений и порочных кругов в рассуждениях, которые давным-давно пора вывести на чистую воду» (цит. по: 8, с.57). А.Шлегеля цитирует современный французский философ Ж.Рансьер в своей работе «Неудовлетворенность эстетикой (8). Эта «неудовлетворенность» характерна для целого ряда публикаций современных авторов с показательными названиями: «Прощай, эстетика» Ж.-М.Шеффера «Малый учебник анэстетики» А.Бадью, «Анти-эстетика» Х.Фостер, «Основывается ли традиционная эстетика на ошибке?» В.Кенника, «Против эстетики» Т.Бинкли и т. п.
У каждого автора свои претензии к этой науке. Наиболее же глубинное, по нашему мнению, основание для сомнения в самой возможности ее состоит в том, что эстетика как наука и ее предмет – прекрасное и искусство – относятся к различным уровням социального бытия человека. Наука включена в объективный, социально-экономический, эстетическое – в экзистенциальный.
Отсюда первое следствие. Эстетика не может быть «наукой о прекрасном». Прекрасное не может быть познано научными методами. Прежде всего потому, что прекрасное (так же как безобразное, величественное, ужасное и комическое) есть ценностное качество явлений действительности, которое складывается в процессе субъективно мотивированной деятельности личностей. Как ценность, оно представляет собой отношение объективных свойств этих явлений к эстетической потребности.
Эстетическая потребность – потребность в прекрасном есть единство потребности в Благе и Красоте. Потребность в Благе представляет собой складывающуюся в процессе жизнедеятельности личности иерархизированную систему потребностей, направленную на тот или иной род явлений. На ее основе в процессе субъективно мотивированной деятельности личности формируется и особая духовная потребность в восприятии определенного типа форм, то есть потребность в Красоте (см. 6). Прекрасное и есть соответствие (а безобразное – несоответствие) явления этой, складывающейся на экзистенциальном уровне бытия, эстетической потребности.
Но «обнаружить», точнее, отразить это соответствие или несоответствие можно лишь в акте эстетической оценки, критерием которой выступает эстетический идеал. Ибо именно он, будучи особым мотивом деятельности, представляет и конкретизирует содержание эстетической потребности.
Эстетический идеал есть образ прекрасного и представляет собой единство мотива блага и эталона красоты формы (6). Как всякий мотив деятельности, эстетический идеал формируется в процессе субъективно мотивированной деятельности личности. В качестве критерия оценки он обнаруживает особый личностный смысл оцениваемого явления, что выражается в его эмоциональной оценке, которая, одновременно, отражает его эстетическую ценность. Причем акт оценки представляет собой непосредственное соотнесение воспринимаемого явления с эстетическим идеалом, а не со знанием о нем. В этом общие черты эстетической оценки с любой другой с позиций субъективных мотивов деятельности (4). Отличие же состоит в том, что вторичное теоретическое осознание критерия оценки, его рациональное познание в данном случае оказывается невозможно.
То есть, в случае эмоционально-личностной оценки с позиций нравственных или, допустим, политических мотивов деятельности возможно теоретически осознать содержание этих мотивов и затем использовать это знание в качестве самостоятельного критерия рациональной оценки явления. Эстетический же идеал такой рационализации не поддается. Ибо входящий в его структуру эталон красоты – обобщенное представление об определенном типе форм – рационально не переводим в силу его конкретно-чувственного характера.
Таким образом, и эстетическая потребность, в отношении которой определяется эстетическая ценность, и эстетический идеал в качестве критерия оценки, отражающей эту ценность, складываются как результаты экзистенции личности. А сама эстетическая оценка представляет собой субъективно-эмоционально-личностное отношение к объекту. Что делает невозможным познание конкретного содержания эстетической ценности и ее субъекта объективными, научно-теоретическими методами.
Ситуация усложняется еще и тем, что не только субъект, но и объект эстетического ценностного отношения зависим от экзистенциального опыта, причем, как личности, так и того экзистенциального коллектива, к которому личность принадлежит. Дело в том, что даже природный объект становится объектом эстетической ценности, как правило, не сам по себе, а в «ореоле» тех или иных, связанных с ним, ассоциаций. То есть субъект эстетического «достраивает» объект своего отношения.
Наиболее наглядна такая «достройка» в случае с величественным. Обычный пример величественного в природе – снеговые вершины гор. Но не сами по себе огромные массивы камня и льда составляют объект эстетического ценностного отношения, а они в единстве с возвышенным строем мыслей и чувств, которые возникают в сознании созерцающего эти материальные явления человека. И именно в этом – материально-духовном единстве объект величественного вызывает эстетическое чувство преклонения, отражающее его ценность.
Но сама возможность такой «достройки» и ее характер есть производное от экзистенциального опыта личности и той культуры, к которой она принадлежит. То есть, элементарно, душа человека должна быть предуготовлена к возвышенному образу мыслей и чувств, чтобы созерцание массы камней и льда породило объект величественного. Как душа художника Николая Рериха. Объективный же, научный подход может лишь констатировать материальную основу величественного.
Тем более недоступна для научного познания эстетическая ценность произведения искусства. В этом случае «достройка» объекта эстетической ценности опосредована нормами художественного языка, то есть предметными и эмоциональными ассоциациями, закрепленными в общественном сознании за используемыми материальными средствами художественной коммуникации. Складывается же этот ассоциативный фонд на экзистенциальном уровне бытия общества, на котором базируется и к которому принадлежит художественно-эстетическое сознание. Освоить ассоциативные «ореолы» выразительных средств искусства, а значит и «достроить» объект эстетической ценности, можно лишь «изнутри» процессов художественной коммуникации. «Извне» же – с позиций субъекта научного познания этого сделать невозможно. А значит самое главное – субъективно-эмоционально-личностное мироотношение, сконцентрированное в художественно-образном содержании произведения, для научного познания не доступно. Другими словами, произведение искусства «не рассчитано» на научное познание. Оно предполагает процесс художественного восприятия, принципиально отличающийся от научно-теоретического отражения объектов. Поэтому произведение искусства как объект эстетического ценностного отношения научно не познаваем.
Аналогично – и, можно сказать, тем более – «не дан» теоретическому сознанию критерий эстетической оценки произведения искусства – художественно-эстетический идеал прекрасного произведения. Будучи генетически связанным с эстетическим идеалом действительности, он опосредован личностным опытом художественного восприятия конкретных произведений искусства. С учетом этого опыта в художественном сознании личности конкретизируется представление о благе, ожидаемом от искусства, а на этой основе формируется и эстетический эталон художественной формы. Причем, для адекватной эстетической оценки художественно-эстетический идеал должен модифицироваться в соответствии с особенностями оцениваемого художественного явления.
По-видимому, мы привели достаточно аргументов в пользу утверждения, что научное познание эстетической ценности как явлений природы, так и произведений искусства невозможно. То есть, эстетика не есть «наука о прекрасном».
Поэтому закономерно, что все попытки объективно-научного познания прекрасного заканчивались провалом. Выразительный пример тому – теория «эстетической меры», сформулированная представителями так называемой «информационной эстетики». М.Бензе, А.Моль, Г.Биркгоф, опираясь на методологию позитивистской философии, попытались сформулировать объективную, математически выраженную, закономерность «эстетической меры» произведения искусства. При этом они исходили из того, что «когда создают произведение искусства, будь то стихотворение или музыкальная композиция, пытаются, собственно говоря, надлежащим образом упорядочить некоторые заранее данные элементы, например, слова или ноты» (1, с.201, см. также:7). «Эстетическая мера» таким образом понимаемого произведения есть отношение «меры упорядоченности» (О) этих элементов к «мере сложности» (С). По мнению М.Бензе и Г.Биркгофа, «с увеличением степени упорядоченности, то есть с возрастанием числа установленных отношений порядка внутри произведения искусства, его эстетическая мера также увеличивается». Соответственно, «она будет уменьшаться по мере увеличения сложности» (1, с.202).
Как справедливо заметили критики этой «формулы красоты», в частности, Г.Мак-Уинни, «если основываться на формуле Биркгофа, то предпочитаемыми зрительными характеристиками эстетических объектов, по-видимому, являются простота, симметричность, ясность деталей и т. п.» (5, с.256). В то время как результаты экспериментальных исследований свидетельствуют, что «художники и искушенные в искусстве индивиды предпочитают сложность и асимметричность» (5, с.258). Поэтому Г.Мак-Уинни приходит к выводу, что указанная выше «всеобщая формула красоты» лишь «соответствует эстетическому вкусу того периода, когда писалась работа Биркгофа (Чайльд, впрочем, указывает, что теория Биркгофа, возможно, отражает не эстетический вкус того времени, а полное отсутствие вкуса у самого Биркгофа» (5, с.258).
Соглашаясь с мнением критиков, добавим, что отнюдь не случайно объективно-научная теория «эстетической меры» произведения касается только его внешней материальной формы. Которая, действительно, только и доступна для научного анализа. В то время как содержательная суть произведения игнорируется. Это во-первых. Во-вторых же, как справедливо заметил Мак-Уинни, теория, претендующая на научную объективность, фактически пытается лишь узаконить субъективный эстетический вкус и его предпочтения. И это является еще одним аргументом в пользу утверждения, что объективно-научное познание прекрасного невозможно.
Из сказанного ясно, что и научное познание искусства также оказывается под сомнением. Но здесь есть и отличие. Прежде всего, в данном случае предмет отражения не ценностные, а собственные, объективно присущие искусству, свойства и закономерности. Поэтому познание материальной формы произведения имеет существенное значение, оно значимо само по себе. (В то время как эстетическая ценность этого же произведения зависит не только от его объективных свойств, но и от субъекта ценностного отношения). Доступны для объективно-научного познания и важны для понимания искусства также и синтаксические закономерности художественного языка. Показательны в этом плане теории музыки (гармонии, полифонии, «музыкальной формы») и поэзии, а также других видов искусства, на основе которых эстетика формулирует общие закономерности художественного синтаксиса.
Значительно сложнее познать семантику художественного языка и произведения, ибо, как уже отмечалось, она не может быть объектом непосредственного научного анализа. Однако опосредовано, в результате интроспективного анализа собственного художественно-экзистенциального опыта ученого, содержательность языка и произведения таковым объектом становится.
Здесь пришло время «вспомнить», что эстетика относится именно к гуманитарным наукам, которые включают в себя, как свою собственную противоположность, экзистенциальное мышление. От этой особенности эстетики мы до сих пор абстрагировались, так как для «познания прекрасного» она не существенна (о чем еще будет речь). В познании же искусства экзистенциальная составляющая эстетической науки играет важную роль.
Непосредственно в процессе собственного художественного восприятия произведений различных видов и жанров искусства, принадлежащих к различным эпохам и художественным направлениям, ученый «постигает» их содержание и постепенно «осваивает» семантику соответствующих художественных языков. Именно «постигает», а не «познает», так как результатом художественного восприятия является не объективное знание (будь то в форме конкретно-чувственного представления или понятий), а художественный образ. Который, как известно, хотя и может включать в себя представления и понятия, но никогда ими не исчерпывается, являя собой сгусток субъективно-эмоционально-личностного (экзистенциального) мироотношения. Соответственно, и «освоение» семантики художественных языков есть не теоретическое знание, а установление ассоциативных (эмоциональных, предметных, идейных) связей художественных выразительных средств.
То есть таким образом происходит лишь «конструирование» предмета познания, а отнюдь еще не само познание художественной семантики. Причем очевидно, что результат этого «конструирования» зависит от художественной эрудиции ученого и от его художественно-эстетических предпочтений. У одного – это искусство древней Греции (Гегель), у другого – романтизма (Шопенгауэр), у третьего – модернизма (Адорно), у четвертого – реализма (Чернышевский), у пятого – средневековая икона (Бердяев) и т. д.
Конечно, в распоряжении ученого-эстетика есть данные конкретных искусствоведческих наук и теоретические построения других эстетиков. Но во-первых, все эти данные поверяются его собственным опытом общения с искусством. А во-вторых, и результаты исследований коллег также обусловлены их художественно-экзистенциальным опытом и предпочтениями. Поэтому «поневоле» ученый учитывает лишь те данные других исследователей, которые не противоречат его собственному художественно-экзистенциальному опыту, встраиваясь в определенную традицию эстетической науки.
Субъективно-интерсубъективно «сконструировав» предмет исследования, эстетик начинает процесс его теоретического познания, Как уже отмечалось, синтактика произведения и художественного языка вполне объективируема и доступна познанию. Но не семантика. В процессе интроспективного осознания и анализа художественного образа непреодолимой преградой для научно-эстетического познания оказывается целостный характер его внутренней организации. Теоретическое мышление, оперирующее дискретными понятиями, может лишь расчленить содержание художественного образа на составляющие его грани и понятийно обозначить их взаимосвязи. То есть «разъять музыку как труп». Ибо, как заметил А.Бергсон, «наши понятия образуются по форме твердых тел, наша логика является, главным образом, логикой твердых тел, поэтому наш ум одержал свои лучшие победы в геометрии, где открывал родство логической мысли с неодушевленной материей» (2, с.1).
При этом все-таки достигается определенный уровень познания, когда эстетика говорит, что основными гранями содержания художественного образа являются предметно-событийное и оценочное; что оценочное, в свою очередь, включает в себя эмоциональное и идейно-рациональное содержание; что эти грани содержания находятся в единстве и взаимодействии и т. д. Все это так. Но не более, чем схематическое обозначение сущности художественного образа.
Аналогичный «зазор» между объектом и теоретическими результатами его познания возникает при анализе общего строения произведения и процессов его художественного восприятия. Так, пользуясь феноменологической методологией, в одной из наших работ мы выяснили, что в строении музыкального произведения можно выделить шесть взаимосвязанных уровней его звуковой формы и художественно-образного содержания, которые постигаются на соответствующих уровнях художественного восприятия произведения слушателями (6). Мы надеемся, что эта теория отражает объективные свойства предмета познания. Но. Но при этом вынуждены констатировать, что данная теория есть результат грубой теоретической абстракции, которая лишь «оговаривает» целостность организации музыкального произведения и процесса его восприятия, не в силах его адекватно отразить. Ибо реально «низшие» уровни музыкального произведения включены в «верхние», где только и получают свое окончательное определение, а процесс восприятия произведения одновременно охватывает всю его многоуровневую целостность.
Более адекватные объекту результаты эстетика достигает при познании взаимодействия искусства с внешней природной и социальной средой. К таковой проблематике относятся вопросы отношения искусства к действительности, определение его «предмета», а также социальных истоков, социальных функций и зависимости (независимости) от конкретных социальных условий. Данные предметы познания вполне объективированы, доступны познанию «извне». То есть эстетик использует не только и не столько метод интроспекции, сколько наблюдения «со стороны» за предметом познания.
При этом, однако, экзистенциальная составляющая эстетического познания отнюдь не элиминируется, что вносит свои коррективы в его результаты. Особую роль здесь играет широкий, связанный не только с искусством, жизненный экзистенциальный опыт эстетика, который определяет его философско-мировоззренческую позицию. Ибо результаты наблюдения за взаимодействием искусства с внешней для него средой подлежат интерпретации. А она прямо зависит от исходной философской позиции эстетика. Отсюда столь различные концепции «предмета» искусства: и конкретно-чувственное проявление Идеи (Гегель), и мировой Воли (Шопенгауэр), и субъективного внутреннего опыта творца (Лангер), и его подсознания (Фрейд), и объективных свойств реального материального мира (Чернышевский).
Тем не менее, обобщая, можно констатировать, что при всех отмеченных ограничениях и экзистенциально обусловленных «деформациях», в познании искусства эстетика имеет достаточные возможности для отражения его объективных свойств и закономерностей. И потому вполне может быть признана «наукой об искусстве».
Сложнее, как отмечалось, обстоит дело с познанием прекрасного и других модификаций эстетического. Но и здесь у эстетики остается свое поле познания. Кратко говоря, эстетика как наука не может познать прекрасное, но она может познать условия, при которых некое явление признается прекрасным (или безобразным, величественным, ужасным или комичным). Путем интроспективного самоанализа, наблюдениями за эстетическими оценками других людей и за историческими изменениями эстетических ценностей ученый имеет возможность обобщить типичные свойства объектов, признаваемых, например, прекрасными или безобразными. В результате, большинство эстетиков пришло к выводу, что таковыми являются совершенство, гармония, единство в многообразии частей целого или наоборот – несовершенство, дисгармония и отсутствие единства частей эстетического объекта.
Значительно сложнее объективировать в качестве предмета познания особенности субъекта эстетической ценности и оценки. В этом одна из причин столь разных его характеристик. В одной традиции исчерпывающей характеристикой субъекта считается способность конкретно-чувственного познания, в другой – определяющей чертой считается потребность в пользе (благе), в третьей – потребность в красоте формы, в четвертой – и то, и другое, и третье. В результате, сущность эстетического понимается или как мера чувственно воспринимаемого совершенства, или как мера блага, или как мера красоты формы. В синтезирующей же концепции сущность эстетического – диалектическое единство трех пар противоположностей: совершенства – несовершенства, блага – зла, красоты и уродства формы (6). Конкретные же проявления этой сущности, например, прекрасное, интерпретируются, соответственно, или как совершенство (Гегель), или как благо (Чернышевский), или как красота формы (Юм), или как единство совершенства, блага и красоты (Цицерон). А безобразное – как несовершенство или зло, или уродство, или совершенное зло в уродливой форме.
Но как бы то ни было, так или иначе, эстетика выясняет, какие особенности объекта и субъекта и их со-отношения могут породить ту или иную модификацию эстетического.
Хотя, подчеркнем это еще раз, конкретное содержание эстетического ценностного отношения между объектом и субъектом эстетического эстетике как науке познать невозможно. Субъект эстетики и субъект эстетической ценности не совпадают. Поэтому удел эстетической науки – ограничиваться выяснением принципиальных условий, при которых может возникнуть эффект прекрасного или безобразного, величественного, ужасного или комичного. А значит следует различать понятия «прекрасное», «величественное» и т. п. как определения эстетической ценности тех или иных явлений, и эти же термины в качестве категорий эстетической науки. Термины одни, а обозначаемое ими содержание принципиально различно.
Подводя итог, и отвечая на вопрос, поставленный в начале статьи, констатируем, что при всех ограничениях в возможности познания эстетического, эстетика – это наука о наиболее общих законах эстетического отношения человека к действительности и об особенностях их проявления в искусстве.
Особенность же самой эстетики в том, что она, как гуманитарная наука, включает в свою структуру «свое-иное» – экзистенциально-эстетическое мышление. Экзистенциальный опыт эстетического отношения к действительности и искусству конкретного ученого оказывает непосредственное воздействие на результаты его научных исследований. Опосредовано воздействует и более широкий экзистенциальный опыт реальной жизнедеятельности данной личности, ее включенности в тот или иной коллективный субъект экзистенциального уровня социального бытия. Что определяет, в частности, исходные философско-мировоззренческие позиции эстетика, в свете которых он интерпретирует данные эстетического опыта.
Поскольку же экзистенциальный уровень бытия есть проявление объективной социально-экономической его основы, то в конечном счете результаты научных исследований эстетика выражают социальные интересы той или иной социально-экономической группы, класса общества.
Литература
1. Бензе М. Введение в информационную эстетику // Семиотика и искусствометрия. М.,1972.
2. Бергсон А. Творческая эволюция // Бергсон А. Собр. Соч., т.1. СПб.,1914.
3. Кант Им. Критика способности суждения // Кант Им. Соч. в 6 томах, т.5. М.,1966.
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.,1975.
5. Мак-Уинни Г. Обзор исследований по эстетическим измерениям // Семиотика и искусствометрия. М.,1972.
6. Малышев И.В. Диалектика эстетического. М.,2006.
7. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М.,1966.
8. Рансьер Ж. Разделяя чувственное. СПб.,2007.
Система эстетики
Эстетика – «философская наука, изучающая два взаимосвязанных круга явлений: сферу эстетического как специфическое проявление ценностного отношения человека к миру и сферу художественной деятельности людей». Так определяет предмет эстетики «Философский энциклопедический словарь» (9, с. 805). Аналогичное понимание его можно найти в большинстве современных научных и учебно-методических работ. Соответственно, и содержание современной эстетики включает в себя два раздела. В первом – результаты познания наиболее общих закономерностей эстетического отношения человека к действительности, которые фиксируются в системе основных эстетических категорий («прекрасное», «безобразное», «трагическое», «комическое», «возвышенное», «низменное»).
Во втором разделе – исследование наиболее общих свойств искусства: художественного образа, содержания и формы произведения искусства, специфики художественного творчества, восприятия, метода, стиля и т. д.
Существенным недостатком современной эстетической теории является слабая связь между двумя указанными ее разделами. Наиболее наглядно это представлено в учебниках эстетики, которые пытаются систематически изложить основное содержание науки (1; 5). Говоря об искусстве, их авторы практически полностью «забывают» о категориях, фиксирующих основные модификации эстетической ценности. Дело, конечно, не в «забывчивости» авторов учебных пособий, а в отсутствии системного единства научной теории. Единства, которым эстетика обладала в период немецкой классики, в тех же лекциях по эстетике Г.В.Ф.Гегеля (2; 3; 4). Следуя этому высокому образцу, сформулируем принципы построения единой системы эстетики.
Прежде всего нуждается в уточнении определение ее предмета, а именно аспект, в котором эстетика призвана познавать искусство. Ее специфический ракурс – изучение особенных проявлений всеобщих законов эстетического (зафиксированных в системе основных эстетических категорий) в сфере искусства. Только в таком случае возможно достижение реального (а не декларативного) единства пред-мета эстетики, а следовательно и построение единой системы знаний. Предмет эстетики, таким образом, можно определить как всеобщее и особенное в эстетическом отношении человека к миру. Или: эстетика есть наука о наиболее общих законах эстетического отношения человека к действительности и об особенностях их проявления в искусстве и других сферах общественного сознания и практики.
Определив предмет науки, следует сказать о методологии его познания, об исходных принципах исследования. Эстетике такие принципы задает философия, в частности, общефилософская теория познания. Поэтому сколько направлений в философии столько и методологий эстетического исследования. В данной работе будут применены принципы диалектико-материалистической философии.
Согласно им первый этап познания представляет собой продвижение от эмпирически конкретного знания о внешних проявлениях исследуемого предмета к теоретически абстрактному знанию о его сущности. Для эстетики данный этап означает движение познания от эмпирически наблюдаемых фактов эстетического отношения человека к постижению сущности этого отношения, наиболее общего в нем, схватываемого в предельной теоретической абстракции. Из наблюдений над характером эстетических оценок и природы, и общества, и искусства, с привлечением данных психологии и искусствознания, исследователь делает обобщающие выводы о природе эстетического. Этап эмпирического познания явлений эстетического, результатом которого будет познание его сущности, составляет особый раздел эстетической науки, который назовем «феноменологией эстетического», то есть учением о его явлениях.
Феноменология эстетического представляет собой весьма важный раздел эстетики. Игнорирование его важности ведет к отрыву от исследуемого предмета, когда определение сущности эстетического произвольно декларируется или спекулятивно «выводится» из философских посылок. И тем не менее это только первый этап познания, лишь подводящий к собственно теории эстетического. Последняя предполагает «обратное» познавательное движение: от сформулированного в феноменологии абстрактного понятия о сущности эстетического к теоретически конкретному знанию о нем, а именно, к описанию в системе понятий различных проявлений эстетического в действительности и в искусстве. «На первом пути, – писал К.Маркс, – полное представление подверглось испарению путем превращения его в абстрактные определения, на втором пути абстрактные определения ведут к воспроизведению конкретного посредством мышления» (8, с.37).
Теоретическое движение от абстрактного к конкретному начинается с логики эстетического. В ней сформулированное в феноменологии понятие о сущности эстетического «разворачивается» в логике основных эстетических категорий (прекрасное, безобразное, комическое и т. д.). Система этих категорий фиксирует основные модификации эстетического и взаимосвязи между ними. По отношению к сущности эстетического прекрасное, безобразное, комическое и т. п. выступают как ее ближайшие проявления. Но по отношению к реальности, к многообразию эстетических явлений в действительности и в искусстве система категорий выступает как теория всеобщих законов сферы эстетического. Она характеризует данную сферу как со стороны бытия эстетических ценностей, так и со стороны эстетического сознания, отражающего эти ценности. То есть прекрасное, безобразное и другие модификации эстетического характе-ризуются, во-первых, как ценности, а во-вторых, определяются особенности их отражения в сознании человека.
Следующим, более конкретным разделом эстетической теории выступает социология эстетического. Ее предмет – закономерности формирования эстетических ценностей в общественном бытии людей. Если в логике основные модификации эстетического характеризовались предельно абстрактно, вне «времени и пространства» (что есть прекрасное вообще, что есть безобразное вообще и каковы всеобщие отношения между ними), то в социологии необходимо уяснить связь эстетических ценностей с историческими процессами, с течением социального времени. Подчеркнем, что в данном разделе доминирующим является онтологический аспект анализа эстетического. То есть в нем анализируется социально обусловленное бытие эстетических ценностей.
Третий же раздел теории – гносеология эстетического предполагает акцент на исследовании эстетического сознания. Здесь тоже необходимо выяснить социально обусловленные закономерности. Но это закономерности отражения эстетических ценностей в сознании, в том числе, в искусстве. Именно искусство есть та форма общественного сознания, которая специализируется на отражении эстетических ценностей действительности. Поэтому анализ как всеобщих закономерностей, так и конкретно-социальных особенностей такого отражения – главная задача гносеологии эстетического. Другими словами, если в предыдущем разделе исследуется проявление всеобщих законов логики в социально обусловленном бытии эстетических ценностей, то в гносеологии – проявление этих законов в социально обусловленном эстетическом сознании.
В состав гносеологии эстетического входит история эстетики. Она составляет метауровень гносеологии. Ибо представляет собой познание истории познания эстетического. История эстетики также выступает как исследование особенностей проявления всеобщих законов логики, но теперь уже в истории науки об эстетическом.
Таким образом, структура эстетики как науки включает в себя феноменологию, логику, социологию и гносеологию эстетического. Функциональные связи между данными элементами системы эстетики определяются исходной диалектико-материалистической методологией, что делает эту систему существенно отличной от идеалистических теоретических конструкций. Так, Г.Гегель отвергал эмпирическое исследование предмета в эстетике. Для него исходным в эстетике в целом и в логике эстетических категорий в частности является понятие прекрасного, выводимое из более абстрактно-всеобщих понятий философии. В диалектико-материалистической эстетике исходный пункт логики категорий имеет обоснование не только «сверху» – в методологических положениях философии, но и «снизу» – в рамках самой эстетики. Причем логика оказывается производной внутри эстетики, так сказать, дважды. Во-первых, ей предшествует эмпирическое исследование эстетического в феноменологии. Во-вторых, логика оказывается производной от других, более конкретных разделов эстетической теории – социологии и гносеологии эстетического.
Абстракции логики выступают как теоретическая гипотеза о всеобщих законах эстетического при исследовании реального процесса истории эстетических отношений в социологии и гносеологии. «Эти абстракции, – говоря словами К.Маркса и Ф.Энгельса, – отнюдь не дают рецепта или схемы, под которые можно подогнать исторические эпохи» (7, с. 26). Наоборот, конкретно-исторический анализ эстетических ценностей и эстетического сознания выступает как проверка и уточнение (дополнение и опровержение) положений логики. Вследствие этого теоретическая система эстетики оказывается «разомкнутой». Теоретическая мысль после социологии и гносеологии возвращается к логике, обогащенная опытом познания реальных эстетических отношений, то есть на новом уровне. Поэтому конечный пункт теории эстетического будет не полностью совпадать с ее исходным пунктом. Это не «круг» системы, а «спираль».
Таков предмет, метод и структура эстетики. Такова ее система (изложенные принципы были реализованы нами в работе «Эстетика: курс лекций»)(6).
Литература
1. Борев Ю. Эстетика. М.,2002.
2. Гегель Г. Эстетика. Т.1. М.,1968.
3. Гегель Г. Эстетика. Т.2. М.,1969.
4. Гегель Г. Эстетика. Т.3. М.,1971.
5. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб.,1997.
6. Малышев И.В. Эстетика: курс лекций. М.,1994.
7. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т.3.
8. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т.46, ч.1.
Логика познания прекрасного в истории эстетики
История эстетики – солидная научная дисциплина, имеющая значительные достижения. Если иметь ввиду отечественных авторов, то достаточно упомянуть труды А.Ф.Лосева, М.Ф.Овсянникова, М.Н.Афасижева, В.В.Бычкова, В.П.Шестакова. Накоплен и проанализирован огромный эмпирический материал. Однако при всем многообразии методов анализа, отсутствует осмысление логики истории эстетики. Вследствие этого история эстетических учений ограничивается изложением их хронологической последовательности. Что является следствием неразвитости эстетической теории. Восполняя этот недостаток, в данной статье предлагается анализ истории центральной эстетической проблемы, а именно проблемы прекрасного, с позиции теории прекрасного, сформулированной нами в книге «Эстетика: курс лекций» (см. также: «Диалектика эстетического») (6; 7).
Согласно данной теории (при ее предельно кратком изложении), наиболее простая и в то же время основополагающая категория, описывающая сущность прекрасного, есть «благо». Благо, то есть комплексная ценность явления, состоящая в его способности удовлетворить систему потребностей, направленных на данный род явлений. Как таковое, благо в прекрасном предполагает совершенство явления в своем роде. Однако совершенство – «свое-иное», своя собственная противоположность блага. Ибо если благо – ценность, то совершенство есть собственное объективное качество явления, которым оно обладает вне и независимо от отношения к человеку.
Совершенство – качество явления, состоящее в полном и неискаженном воплощении сущности рода, к которому оно принадлежит. Что выражается в его гармоничности, единстве и соразмерности его сторон. Не всякое совершенное прекрасно, а лишь то, что является благим.
Совершенное благо представляет собой диалектическое единство противоположностей ценности блага и совершенства объекта этого ценностного отношения. Совершенное благо определяет качество прекрасного как целого. Оно является господствующей стороной его противоречивой сущности. И в то же время, не всякое совершенно благое явление прекрасно, а лишь то, чья форма обладает особой ценностью красоты. Красота формы в прекрасном есть «свое-иное» совершенного блага. Она связана с благом и одновременно противоположна ему.
Красота как ценность есть соответствие формы явления духовной потребности в восприятии определенного типа форм. Духовная потребность в красоте конкретизируется в эстетическом эталоне формы, восприятие которой составляет содержание потребности. Красота есть средоточие специфики прекрасного, в наибольшей степени отличающей его от других видов ценностей. Но лишь в единстве с совершенным благом она образует прекрасное.
Прекрасное, таким образом, есть диалектическое единство совершенного блага и красоты.
В свете этой теории прекрасного мы и рассмотрим историю его познания. Что позволит, дополняя традиционное хронологическое изложение, увидеть логику этого процесса.
Исторически и логически первым пониманием прекрасного можно считать его отождествление с благом. Что характерно для поэтов греческой архаики Гомера и Сапфо. Конечно, «благо» в данном случае это лишь еще весьма расплывчатое понятие, содержание которого совпадает с понятием ценного для человека вообще. В одном из своих стихотворений Сапфо говорит: «Прекрасный, как видим, есть хороший, а хороший вместе с тем будет прекрасным». Об этом же свидетельствует и анализ текстов Гомера, осуществленный А.Лосевым и В.Шестаковым (5).
Наивный антропоцентризм в понимании прекрасного, свойственный поэтам архаики, был преодолен первыми философами. Космологический характер их философии породил такой же характер понимания прекрасного. Первично прекрасное рассматривается теперь как существующее независимо от человека совершенство космоса в целом и отдельных его явлений. Художник, создавая свое прекрасное произведение, лишь подражает космической гармонии. Так, согласно пифагорейцам, первично прекрасное – это числовая гармония космоса, порождающая, кроме прочего, небесную музыку, музыку небесных сфер. Которую, в отличие от обычных людей, слышит музыкант, подражая ей в своем творчестве.
Во второй половине У века до н. э. в ситуации обострения социальных противоречий и надвигающегося кризиса Афин, греческая философия от проблем мироздания обращается к человеку., приобретая антропоцентристский характер. Аналогично меняется и понимание прекрасного. Согласно Сократу не совершенство вообще, а совершенно сделанная вещь, служащая удовлетворению человеческих потребностей, – вот что есть прекрасное: «Даже золотой щит безобразен, а корзина для мусора прекрасна, если по отношению к цели, для которой они служат, щит плохо, а корзина хорошо обработаны» (цит. по: 8, с.96). То есть Сократ как бы возвращается к пониманию прекрасного как блага, но при этом удерживает в его характеристике совершенство. Он определяет прекрасное как совершенное благо. Познание прекрасного на этой фазе завершает звено диалектической спирали, где позиция поэтов есть тезис, позиция пифагорейцев – антитезис, позиция Сократа – синтез.
Однако современники Сократа софисты (Протагор, Фразимах и др.) придерживались взглядов, противоположных сократовским. Согласно им, «прекрасное есть то, что приятно для зрения и слуха». То есть качеством прекрасного обладает только форма предмета, поскольку ее восприятие доставляет наслаждение человеку. Это была гедонистически формалистическая концепция, сводящая прекрасное к красоте формы. Как таковая, она отрицала «утилитарный» подход к проблеме Сократа.
Можно констатировать, что от поэтов архаики до софистов познание прекрасного двигалось по его структуре. Диалектика познания отражала диалектику объекта. Однако дальше дело застопорилось. Напрашивающийся синтез сократовской и софистической позиций в понимании прекрасного осуществил лишь Цицерон уже в Римский период Античности. Ученик же Сократа Платон вернулся к пифагорейской традиции понимания прекрасного как совершенного.
Этот сбой логики познания весьма симптоматичен. Он говорит о том, что философия движима не только познавательными, но и экзистенциальными мотивами. Она отвечает на вопрос не только о том, каков мир, но и как жить человеку в конкретных социальных условиях. А социальные условия в начале IV века до н. э. – это кризис классического греческого полиса, предшествующий его завоеванию Александром, а позже и Римом. И если софисты реагировали на эту ситуацию субъективизмом и релятивизмом своей сенсуалистической философии, то Платон обратился к поискам объективных и абсолютных ориентиров жизни человека, которых он нашел в надмировых эйдосах.
Соответственно и первично прекрасное в понимании Платона – это эйдосы как праобразы совершенства явлений определенного рода. Реальные же вещи прекрасны лишь постольку, поскольку они есть порождения соответствующих идей, и как всякии копии они, конечно, уступают оригиналам. То есть Платон сформулировал классическую объективно-идеалистическую концепцию прекрасного как совершенного.
Его ученик Аристотель, оставаясь идеалистом в философии, в понимании прекрасного движется в сторону материализма. Поскольку, «ликвидировав» платоновское царство идей, считает, что прекрасное есть свойство только реальных материальных вещей, которое состоит в их «величине и порядке». «Порядке» – то есть в гармоничности, соразмерности, единстве в многообразии их частей. Это – близкая к материализму версия понимания прекрасного как совершенного. (Близкая, но не тождественная, так как сущность вещи, все-таки, ее нематериальная форма).
И лишь Цицерон довершил логику познания Античности, определив его через три качества. По нему прекрасное есть, во-первых, «порядок» или «соразмерность частей»; во-вторых, как то, что «действует своим видом», «возбуждает зрение», «радует глаз». В-третьих, «Цицерон сохранял также и сократовское понимание красоты как полезности, целесообразности»(8, с.196). То есть по Цицерону прекрасное есть единство качеств совершенства, блага и красоты формы. Конечно, синтез этот имел характер простого суммирования. Тем не менее, Цицерон обобщил достижения предшествующей античной эстетики и дал наиболее полное определение прекрасного.
Таким образом Античность исчерпала основные возможные варианты понимания природы прекрасного. Дальнейшая история – это выбор одного из этих вариантов в зависимости от конкретных социальных, мировоззренческих, художественных и экзистециальных особенностей эпохи. В результате история познания прекрасного приобретает «поли фонический» характер. То есть представляет собой параллельное развитие нескольких традиций, основание которых было заложено в Античности. При том, что каждая из последующих социокультурных эпох актуализирует одну из них. Пунктирно наметим основные вехи развития этих традиций.
Исторически и логически первая концепция прекрасного как блага не имела развитой традиции продолжения. Заявленная в творчестве поэтов античной архаики, вновь она возникает лишь в эстетике неокантианцев XIX века, приобретая субъективно-идеалистический характер. В интерпретации Германа Лотце прекрасное есть ценность, понимаемая как «предвестник предчувствуемого примирения между противостоящими членами отношения: нравственными устремлениями субъекта и его же представлениями о бытии (цит. по: 4, с.38). Поскольку представление о бытии обусловлено априорными формами познания, то должно рассматриваться как вполне самостоятельный член отношения. Поэтому единственная реальность прекрасного – его реальность в человеческом сознании. Еще дальше в субъективизации прекрасного идет Теодор Липпс в своей концепции «вчувствования». По нему эстетическое наслаждение есть самонаслаждение. Мы воплощаем себя в чувственных предметах и, наслаждаясь ими, наслаждаемся собой. Данная традиция в эстетике теоретически оформляла усиление субъективистского начала в искусстве с конца XIX века. Кульминацией этого процесса было «воцарение» абстрактного экспрессионизма в живописи В.Кандинского, Дж. Поллока и других художников ХХ века.
Наиболее развита традиция объективно-идеалистической интерпретации прекрасного как совершенного, идущая от Платона. Поскольку она в наибольшей степени соответствовала христианству, во многом определившему миропонимание последующих эпох, особенно Средневековья. Дионисий Ареопагит (V–VI век н. э.) христианизировал античный платонизм и неоплатонизм. Первоисток прекрасного – эйдос эйдосов, Единое осмысливается им как личностное божество христианской религии. Исходящая от него сила божественного света, просветляя материю, порождает прекрасное в этом реальном, бренном мире. Прекрасное реального есть символ божественно прекрасного. В эпоху Возрождения эту традицию подхватывают неоплатоники круга Марсилио Фичино (1433 – 1499), который в «Комментарии на Пир Платона» включил главу под выразительным названием «Красота есть сияние божественного лика». В начале XIX века концепцию прекрасного как совершенного обстоятельно обосновал Гегель в рамках своей системы абсолютного идеализма. Отличие от классического платонизма у Гегеля состояло в том, что сама по себе Абсолютная идея не прекрасна, ибо она есть истина. Прекрасное же есть ее адекватная материализация. А в конце XIX века эту традицию продолжил русский философ В.С.Соловьев в контексте своей философии всеединства.
В современной российской эстетике на волне возрождения религиозного сознания линию В.С.Соловьева, Н.А.Бердяева и других мыслителей Серебряного века продолжили В.В.Бычков, В.Д.Диденко и ряд других эстетиков. Так, согласно В.В.Бычкову эстетический опыт человека ориентирован на «метафизическую реальность», как объективно существующую духовную сверхреальность, лежащую в основе Универсума: «именно это «сродство» внутреннего мира реципиента с метафизической реальностью, непостижимое постижение органического единства своего Я со всем Универсумом и составляет существо эстетического опыта» (1, с.19).
Значительно менее развита материалистическая версия интерпретации прекрасного как совершенного. Родоначальником ее, причем весьма условно, можно считать Аристотеля. А продолжателями этой традиции – так называемых «природников». Такое название закрепилось за группой советских эстетиков (Г.Н.Поспелов, Д.Д.Средний, Е.Г.Яковлев и др.), которые подчеркивали объективность прекрасного, характеризуя его через такие понятия как «гармония», «соразмерность», «законосообразность», «единство в многообразии».
Материализм в понимании прекрасного чаще связан с антропологизмом и прагматизмом, объединяя совершенство с благом. Заявленная Сократом, эта традиция возрождается лишь в Новое время. Что соответствует прагматичности раннебуржуазного сознания. Ее продолжают Фр. Бекон, Г.Хоум Т.Рид. Особую роль в развитии этой традиции сыграл Н.Г.Чернышевский, который, критикуя Гегеля, показал, что хотя все прекрасное совершенно, но не все совершенное прекрасно. А лишь то, в чем мы видим жизнь такой, какова она должна быть согласно нашим понятиям, то есть идеалам. А поскольку идеалы жизни различны у представителей различных классов общества, то различны и представления о прекрасном. В советский период аргументы Чернышевского против Гегеля использовали так называемые «общественники» в споре с «природниками». Согласно Ю.Б.Бореву, А.Ф.Еремееву, Л.Н.Столовичу прекрасное есть объективная ценность, состоящая в соответствии явления потребностям общественного развития. Которые понимались в соответствии с принципами философии К.Маркса.
Отрицающая прагматизм Сократа, сенсуалистически-субъективистская, формалистическая и релятивистская концепция софистов нашла свое продолжение только в XVIII веке. Когда «здоровый прагматизм» раннебуржуазного сознания начинает уступать проявлениям эстетствующего формализма. Прекрасное, как писал Дэвид Юм, есть «связь, которую природа установила между формой и чувством». Но оно «не есть качество, существующее в самих вещах; оно существует исключительно в духе, созерцающем их, и дух каждого человека усматривает иную красоту» (9, с.309, 306). Продолжает и развивает Юма Иммануил Кант в своей теории «чистой красоты». Согласно которой «красота безотносительно к чувству субъекта сама по себе ничто» (3, с.220). Именно незаинтересованное удовольствие от процесса восприятия формы предмета, вызывающего гармоничную игру познавательных способностей, необходимых для ее восприятия, рождает красоту.
В ХХ веке теоретическое отождествление прекрасного с красотой формы становится весьма распространенным. Что связано с формалистическими тенденциями в Западном искусстве. На таких позициях стояли К.Белл, Р.Фрай, А.Фосийон. Представитель так называемой «информационной эстетики» Макс Бензе, пытаясь определить «эстетическую меру» произведения искусства, предложил даже математическую формулу: М (эстетическая мера) равна отношению меры упорядоченности элементов формы (О) к мере ее сложности (С).
В советской эстетике эту традицию продолжали М.Каган, К.Кантор, А.Пирадов. Согласно этим авторам, в эстетическом ценностном отношении явления действительности участвуют только со стороны своей формы, а человек – как личность – со стороны своей духовной потребности, которая конкретизируется в идеале. Совпадение реального и идеального и порождает прекрасное, ценность которого имеет объективно-субъективный характер. В рамках марксистской философии традиция отождествления прекрасного с красотой претерпела, конечно, изменения, особенно в понимании субъекта эстетической ценности. В отличие от немарксистской эстетики, человек (его идеалы, характер его чувственного восприятия) понимался конкретно-исторически, то есть обусловленный общественной практикой.
Традиция синтеза определений прекрасного была заложена Цицероном, который обобщил опыт его познания Античностью. На закате эпохи средних веков эту традицию продолжил Фома Аквинский (1225-1274). Так же как Цицерон, Фома определяет прекрасное как единство качеств совершенства, блага и красоты. Но если Цицерон просто суммирует эти свойства, то Фома пытается выявить диалектику их отношений. Он сначала отождествляет «прекрасное» и «благо», затем различает их, так как прекрасное – это особое благо, чья особенность состоит в соответствии формы предмета зрению и слуху. В результате, прекрасное и удовлетворяет желание (как всякое благо), и доставляет удовольствие самим процессом восприятия его формы (см.: 2, с.289).
В Новое время синтезирующая концепция прекрасного просматривается (поскольку прямо не формулируется) в высказываниях А.Джеферсона и получает развернутый анализ у Им. Канта в его теории «привходящей красоты». Правда, по Канту это не основной вид прекрасного, к которому он относит «чистую» красоту формы. «Привходящая» же – это, во-первых, качество явления в целом, в единстве его формы и содержания. Во-вторых, со стороны субъекта эстетическое суждение в этом случае предполагает понятийное знание о его предназначении, а значит и определение степени его совершенства. «Красота человека… красота лошади, строения (как, например, церкви, дворца, арсенала или беседки) предполагает понятие о цели, которое определяет, чем должна быть вещь, стало быть, предполагает понятие ее совершенства, и, следовательно, она есть чисто привходящая красота» (3, с.33). При этом Кант отмечает противоречивость единства совершенного блага и красоты формы в прекрасном: «Многое, что непосредственно нравится при созерцании, можно было бы приладить к зданию, если бы только оно не должно было бы быть церковью» (3, с.234). Благодаря же их единству, «прекрасное становится пригодным в качестве инструмента для цели в отношении доброго» (3, с.234).
Именно эту традицию и продолжает та концепция прекрасного, с изложения которой была начата наша статья. Данная концепция была сформулирована в результате синтезирующего обобщения опыта познания прекрасного в отечественной эстетике советского периода. Вообще говоря, теоретический синтез, как правило, заканчивает определенный этап познания. Начинается же новый период – с анализа, с расчленения целого на части и сосредоточения на их исследовании.
Поэтому закономерно, что после буржуазной контрреволюции в России начался новый – аналитический этап познания эстетического. Особенности которого требуют специального рассмотрения (см. статью «Кризис эстетики. Продолжение»).
Литература
1. Бычков В.В. К проблеме метафизики эстетического опыта // Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. М.,2008.
2. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т.1. М.,1962.
3. Кант И. Критика способности суждения // Соч. в 6-ти томах, т.5. М.,1966.
4. Лекции по истории эстетики. Кн.3, ч.1. Л., 1976.
5. Лосев А., Шестаков В. История эстетических категорий. М., 1965.
6. Малышев И.В. Эстетика: курс лекций. М., 1994.
7. Малышев И.В. Диалектика эстетического. М.,2006.
8. Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977.
9. Хатчесон Ф., Юм Д., Смит А. Эстетика. М.,1973.
Золотой век советской эстетики
Советская эстетика достойна ретроспективного осмысления прежде всего потому, что она была. Данный аргумент теряет свою очевидную тривиальность в контексте современной эстетической литературы. Дело в том, что если судить по этой литературе, то советской эстетики не было совсем. Или (более мягкий вариант) что-то там было, но явно не заслуживающее внимания «прогрессивной общественности». Так, в объемном труде «Эстетика и теория искусства ХХ века», изданном Государственным институтом искусствознания, из наследия советского периода анализируется творчество только А.Лосева.(6). Аналогичную позицию занимают и авторы современных учебных пособий (1; 3).
Объяснить это можно, по-видимому, антимарксизмом авторов. Но не оправдать. Даже в брежневские времена при идеологическом господстве официального марксизма существовала целая отрасль науки, посвященная анализу западной немарксистской эстетики. Анализу критическому, что естественно, но дающему и реальное представление о рассматриваемых теориях. И уж, во всяком случае, не игнорирующему их.
Предлагаемое в данной работе обращение к советской эстетике периода с середины 50-х до середины 80-х годов обусловлено также тем, что это было время весьма бурного развития отечественной науки. И потому анализ его итогов, учет как достижений, так и недостатков, может служить дальнейшему развитию российской эстетики.
Конечно, такая цель достойна специального исследования, которое и было нами осуществлено (4). Здесь же мы подведем лишь основные итоги.
Период с середины 50-х до конца 70-х годов ХХ века можно назвать «золотым веком» отечественной эстетики. Социальным импульсом для активизации ее развития послужила хрущевская «оттепель» и провозглашенная КПСС программа «строительства коммунизма». Относительная (к сталинизму) либерализация режима позволила значительно расширить проблематику науки, преодолеть свойственный ей в сталинский период искусствоцентризм. Именно с конца 50-х годов начинается интенсивное осмысление сущности эстетического отношения человека к действительности и основных эстетических категорий. Обновляется и методология науки, в ее арсенал включаются аксиологический, семиотический, системно-структурный подходы, реанимируется социология искусства. Появляется возможность знакомства с достижениями современной западной эстетики (хотя, по-преимуществу, в критических изложениях советских авторов). Социальная либерализация проявилась в формировании различных научных школ и развертывании дискуссий между ними. Такие качественные изменения сопровождались и резким возрастанием количества публикаций, диссертаций и вообще специалистов по эстетике.
Последнее было непосредственным следствием провозглашения в качестве социальных целей строительства коммунизма и формирования гармонично развитой личности, достойной этого общества. Отсюда внимание к массовому эстетическому и художественному воспитанию, включение курса эстетики в учебные программы школ, техникумов, вузов. И, соответственно, открытие кафедр эстетики в университетах страны для, подготовки специалистов.
Конечно, не все было так уж радужно. Тоталитарный режим сохранял свои основы. Марксизм-ленинизм был обязательной философской методологией, а «решения съездов КПСС» – «руководящей линией». Идеологический корсет официоза не только сдерживал развитие науки, но делал вообще невозможным объективное (то есть научное) исследование социально конкретной проблематики, например, советского искусства, художественного метода «социалистического реализма», партийности, народности искусства, эстетических ценностей советского общества и т. п.
В такой ситуации некоторые из эстетиков (в том числе, настроенных принципиально антимарксистски) находили себе «нишу» в истории эстетики. Другие (принимавшие марксизм, но не в его официозной версии) обращались к исследованию проблематики наиболее отдаленной от социальной конкретики, к познанию предельно всеобщих законов эстетического отношения и художественного творчества. Возможность честного и самостоятельного исследования такой проблематики была. Ибо государство уже не вмешивалось в эту сферу проблем, лишь сетуя на увлечение «абстрактным теоретизированием» советских философов. Возникавшие же время от времени рецидивы «борьбы с влиянием буржуазной идеологии» в эстетической науке были инициированы самими учеными и не были поддержаны административными репрессиями.
Так, в ходе дискуссии о природе прекрасного между «общественниками» и «природниками» последние в начале 60-х годов попытались применить испытанный ранее метод идеологического обвинения оппонентов в редакционной статье журнала «Вопросы философии» (2). Еще дальше пошли члены Академии художеств в середине 70-х при «обсуждении» монографии М.Кагана «Морфология искусства». Характер обвинений в адрес автора был столь политизированным, что М.Каган, видимо помня опыт подобных «обсуждений» недавнего прошлого, даже не пытаясь приводить теоретические аргументы, убеждал аудиторию, что он честный советский коммунист (5). Но 1974 год – это все-таки не 1948. На некоторое время сократились ссылки на работы Кагана, но потом, поскольку официальной реакции не было, все вошло в норму. В аналогичную ситуацию попал и автор этих строк. В 1973 году на предзащите его кандидатской диссертации «Произведение искусства и способ его существования» в ГИТИСе он был обвинен в субъективизме, махизме, ревизионизме и прочих грехах. Диссертация не была допущена к защите… Но прошло шесть лет и та же работа была успешно защищена в МГУ. Так что не без проблем, не без потерь, но тот, кто хотел, мог заниматься честными научными исследованиями. Конечно, в основном в рамках методологии марксизма.
Здесь, по-видимому, необходимо сделать пояснение. В рассматриваемый период в советской философской науке фактически существовало две разновидности марксизма: собственно марксизм и его официальная модификация «марксизм-ленинизм». Последний представлял собой марксизм, приспособленный под интересы господствующей в обществе партийно-государственной бюрократии КПСС. По отношению к своему первоистоку «марксизм-ленинизм» сочетал догматически некритическое утверждение тех положений, которые соответствовали интересам КПСС, и игнорирование других, им противоречащих.
Так, кроме прочего, была проигнорирована гипотеза К.Маркса о первых двух стадиях становления нового общества: ««казарменном и демократическом коммунизме». Содержащие эту гипотезу «Философско-экономические рукописи 1844 года» впервые были переведены на русский язык в 1956 (!) году. Да и затем третировались, как относящиеся к тому периоду, когда Маркс, мол, еще не стал марксистом. Тем самым перекрывалась возможность адекватного анализа советского общества и его художественной культуры. Классовый подход, в том числе и к исследованию искусства, являющийся системаобразующим в марксистской социологии, «марксизм-ленинизм» применял лишь к исследованию капитализма. Обществу же «развернутого строительства коммунизма» он был, якобы, уже не адекватен. Поэтому возродившаяся в 60-х годах социология искусства была не социологией творчества, а только теорией художественного восприятия. Да и последняя подтягивалась под идею «стирания социальных различий». И т. д… и т. п.
С другой стороны, унаследованные К.Марксом и Ф.Энгельсом от Г.Гегеля рационализм, объективизм и невнимание к субъективно-эмоционально-личностному аспекту бытия человека догматизировались «марксизмом-ленинизмом». Что было отнюдь не случайно, а проистекало из «казарменно-уравнительного» (по Марксу) характера советского общества.
Особую роль в догматике советской философии играла абсолютизация значения работы В.Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Направленная против субъективизма и агностицизма эмпириокритиков, книга Ленина сыграла в свое время положительную роль в отстаивании основ материализма. Однако в советской философии эти основы стали интерпретироваться как исчерпывающее содержание марксистской гносеологии. Отсюда замедленное, преодолевающее различные препоны, внедрение аксиологического подхода к проблемам эстетики, столь же трудное узаконение субъективного начала в гносеологии художественного мышления и онтологии его произведений. Догматизм официоза тормозил использование семиотического, системно-структурного анализа. Все это, конечно, мешало развитию марксистской эстетики, хотя и преодолевалось ею.
Вообще, развитие советской эстетики 50-х – 80-х годов можно интерпретировать как процесс преодоления творческим марксизмом догматов официального «марксизма-ленинизма».
Однако к началу 80-х годов этот процесс явно застопорился. Количество публикаций по проблемам эстетики резко сократилось. Многие эстетики переквалифицировались в культурологов. Советская эстетика явно вступила в полосу кризиса. Наверное, тому были общесоциальные причины: «застой» – он во всех сферах общества «застой». Но были и внутренние, гносеологические причины кризиса.
Дело в том, что за предыдущее двадцатилетие были исчерпаны возможности прежних методов исследования искусства. При всем многообразии таких методов (гносеологический, аксиологический, психологический, системно-структурный) требовался выход на качественно новый уровень исследования, связанный, как нам представляется, с применением диалектической методологии познания. Однако, подавляющее большинство теоретиков не осознало этой необходимости и не реализовало ее. В результате, как и все общество, советская эстетика к рубежу 80-х годов оказалась в состоянии кризиса.
Литература
1. Бычков В.В. Эстетика. М.,2002.
2. К обсуждению вопроса о сущности эстетического // «Вопросы философии». 1963
№ 5.
3. Кривцун О. Эстетика. М.,1998.
4. Малышев И.В. Золотой век советской эстетики. М.,2007.
5. «Художник». 1974 № 11,12.
6. Эстетика и теория искусства ХХ века. М.,2005.
Советская эстетика. Основные итоги
В качестве основного итога развития советской эстетики 50 – 80 годов можно констатировать массированное и весьма плодотворное исследование двух проблемных сфер: общих закономерностей эстетического отношения человека к действительности и наиболее общих законов искусства.
Одним из значительных достижений науки рассматриваемого периода была постановка и проработка проблемы сущности эстетического. Дискуссия по этой проблеме завязалась в середине 50-х годов и получила условное название дискуссии между «природниками» и «общественниками». Сразу скажем, что несмотря на ожесточенный, нередко сопровождаемый идеологическими обвинениями, ее характер, каждой из спорящих сторон удалось вскрыть и теоретически осмыслить одну из граней многогранной природы эстетического.
Проблема сущности эстетического дискутировалась по-преимуществу в связи с проблемой прекрасного и особо остро – прекрасного в природе. Так называемые «природники» (а это значительная группа эстетиков: А.Буров, О.Буткевич, Н.Дмитриева, Г.Недошивин, М.Овсянников, Г.Поспелов, Д.Средний, В.Лукьянин, В.Шестаков, Е.Яковлев и др. (8; 9;16; 49; 51; 55; 61; 67; 70), исходя из «ленинской теории отражения», отстаивали объективность эстетического, а в природе – и независимость его от человека вообще. Они описывали прекрасное через понятия совершенства, гармонии, соразмерности, единства в многообразии частей, законосообразности, симметрии, ритма, то есть через свойства, объективно присущие явлениям действительности. А отражение этих объективных свойств в эстетическом сознании интерпретировали как процесс чувственного незаинтересованного познания. В материалистическом варианте данная концепция продолжала мощную традицию отождествления прекрасного с совершенным, ведущую свои истоки от Пифагора, Платона и Аристотеля. Непосредственными же предшественниками ее выступали Г.Гегель (в идеалистическом) и К.Маркс (в материалистическом варианте). Заслугой природников следует признать развитие аргументации в доказательство зависимости прекрасного от объективных свойств явлений действительности и искусства. Что имело особое значение на фоне возобладания агностицистских и субъективистских тенденций в западной эстетике ХХ века. Действительно, все прекрасное совершенно, гармонично, соразмерно.
Но все ли совершенное прекрасно? «Нет» – категорично заявляли оппоненты «природников» – «общественники», приводя убедительные аргументы, во многом повторяющие доводы Н.Чернышевского против концепции Г.Гегеля. Они утверждали общественный характер эстетических свойств, а значит их социокультурную относительность (5; 11; 13; 25; 58).
К началу 60-х годов «общественники» взяли на свое теоретическое вооружение принципы аксиологии (до этого развивавшейся в рамках неокантианских школ западной философии), интерпретировав их в соответствии с основными положениями марксизма. Эстетическое теперь понималось ими как особое ценностное отношение, а значит зависимое как от объективных свойств явления, так и от социально обусловленных потребностей человека. Будучи едины в этом общем принципе, «аксиологисты» расходились в своих мнениях по более конкретным, но весьма существенным вопросам.
Согласно М.Кагану (в большей или меньшей степени его позицию разделяли М.Афасижев, А.Илиади, Н.Коротков. А.Пирадов, В.Тугаринов (2; 22; 31; 53;:65) в эстетическом ценностном отношении явления действительности участвуют только со стороны своей формы, а человек – как личность – со стороны своей духовной потребности в восприятии и творчестве эстетически значимой формы, которая конкретизируется в идеале. Эстетическое в их понимании есть отношение объективного (свойств оцениваемого предмета) и субъективного (идеала как критерия оценки). Совпадение реального и идеального порождает прекрасное, а различные модификации их несовпадения приводят к другим эстетическим явлениям. То есть акт оценки конституирует эстетическую ценность явления(23).
Прекрасное в концепции М.Кагана и его единомышленников отождествлялось с красотой формы. Тем самым они продолжали и развивали в материалистическом варианте традицию, идущую от софистов Античности через Д.Юма и Им. Канта с его теорией «чистой красоты». Значение этой традиции в том, что она акцентировала действительно наиболее специфическое свойство прекрасного и вообще эстетических ценностей. Вне особого отношения к чувственно воспринимаемой форме явлений нет собственно эстетического отношения к ним. Прекрасное не существует без особой ценности красоты его формы. Нужно согласиться и с тем, что ценность красоты складывается в отношении к особой духовной потребности, а именно, потребности сознания в восприятии и творчестве определенного типа форм, и потому имеет объективно-субъективный характер.
Однако, правомерно ли сведение объекта эстетической ценности исключительно к форме явления и отождествление прекрасного с красотой формы? Оппоненты этой точки зрения выдвинули аргументы, с которыми нельзя не согласиться. Так, В.Толстых, критикуя концепцию М.Кагана, писал: поскольку в эстетическом «мы имеем дело всегда с «формой» проявления сущности и «образом» какого-то действия или поступка, содержательные качества и характеристики последних (полезные, нравственные и т. д.) тоже становятся объектом эстетического отношения и входят в состав эстетической ценности»(63,351; см. также: 46; 48).
Поэтому логично, что параллельно с «кагановской» сформировалась концепция эстетической ценности, объектом которой выступает явление в целом, в единстве его содержания и формы. Соответственно, и субъект этой ценности был осмыслен уже по иному. Согласно Ю.Бореву, А.Еремееву, Л.Зеленову, А.Молчановой, Л.Столовичу и ряду других авторов (3; 18; 19; 46; 59) эстетическая ценность явления складывается первично в отношении к обществу, к объективным потребностям его развития. Следовательно, она вполне объективна, независима от оценки и представляет собой отношение между объективными свойствами предмета и объективными потребностями общества.
Данная теория эстетического исходила из общего понимания ценности как объективного отношения явления к потребностям общественного развития, которое лишь отражается в актах субъективных оценок. Прекрасное же интерпретировалось как объективное общественное благо. Тем самым указанные авторы продолжали еще одну традицию европейской эстетики, идущую от Сократа через Бекона и Чернышевского.
Можно согласиться с этой концепцией в том отношении, что ценность содержания прекрасного явления представляет собой интегральную ценность блага, то есть его способность удовлетворить некий комплекс потребностей, направленных на данный род явлений. Но, прежде всего, здесь не учитывается особая объективно-субъективная ценность красоты формы. Да и в осмыслении ценности содержания игнорируется то, что в комплекс потребности в благе могут входить не только непосредственно-общественные потребности, но и духовные потребности личности, которые не сводимы к «потребностям социального прогресса».
Таким образом, в рассматриваемый период в советской эстетике сформировались три концепции эстетического и, прежде всего, прекрасного, каждая из которых продолжала традиции европейской эстетики, заложенные в Античности. На основании исследования, осуществленного автором данной работы (39), был сделан вывод, что каждая из них представляет собой абсолютизацию одной из граней природы эстетического и прекрасного. В этом отношении мы солидаризировались с мнением А.Лосева, что «недиалектическое выдвижение на первый план той или другой противоположности является давно пройденным этапом в истории эстетики и свидетельствует о неумении понять эстетическое как некоторое целостное и живое единство» (35,576).
Преодолевая эту односторонность, мы пришли к выводу, что «Диалектика ценности блага и красоты (и их антиподов), модифицируемая в зависимости от меры совершенства объекта ценностного отношения, составляет сущность эстетической ценности»(39,117). Другими словами, сущность эстетического образует единство трех пар противоположностей: блага – зла, совершенства – несовершенства, красоты и уродства формы. Соответственно, «Единство совершенного блага и красоты образует ценность прекрасного»(39,117).
Такое понимание прекрасного также имело за собой традицию, хотя и не очень развитую. Ее основателем можно считать М.Цицерона, синтезировавшего опыт познания прекрасного в Античности. В Средние века ее продолжил Ф.Аквинский. В Новое время аналогичную, синтезирующую по своему характеру, концепцию можно увидеть в кантовской теории «сопутствующей» (или «привходящей») красоты.
Кроме проблемы сущности эстетического отношения человека к действительности и тесно связанной с ней проблемы прекрасного, советская эстетика уделяла внимание и другим модификациям эстетического. Однако сфера эстетических явлений определялась по-разному. Соответственно, по-разному трактовался круг основных эстетических категорий. Общая тенденция – постепенное расширение этого круга и включение в число основных все большего числа категорий.
«Отправной» позицией в данном процессе можно считать точку зрения Г.Поспелова, причислявшего к эстетическим явлениям только прекрасное(55). Следующей фазой – признание в качестве эстетических прекрасного, возвышенного, трагического и комического (20; 34; 45; 51; 61; 70). Наконец, (не без труда и сопротивления) в круг эстетических явлений были включены отрицательные модификации эстетического: безобразное и низменное (7; 18; 56; 68). В результате, система основных эстетических категорий предстала в виде трех диалектических пар: прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, комическое и трагическое (23; 28). На наш взгляд, следует признать положительной указанную тенденцию расширения сферы эстетического, включение в нее отрицательных модификаций и диалектический характер осмысления отношений внутри этой сферы.
Подводя итог анализу исследований сущности эстетического и его основных модификаций, можно с полным основанием констатировать, что советская эстетика 50-х – 80-х годов ХХ века, продолжая классические традиции, внесла значительный вклад в развитие мировой эстетической науки.
Весомость этого вклада тем большая, что западная эстетика того же периода имела явно искусствоцентрический характер. Проблематика сущности эстетического и его модификаций почти не исследовалась, что являлось следствием преобладания субъективистской и агностицистской философской методологии. Тем самым современная западная эстетика уклонилась от классических традиций исследования прекрасного и других модификаций эстетического, заложенных Античностью. И, как ни парадоксально это может звучать, именно диалектико-материалистическая методология сделала советскую эстетику продолжательницей этих традиций.
Но… Но поскольку методология марксизма применялась в условиях тоталитарного режима, то результаты ее применения неизбежно имели ограниченный характер. Вопреки принципиальной установке марксизма на исследование социальной реальности, к изучению эстетических ценностей явлений общественной жизни СССР эстетика даже не подступала.
Другой проблемной сферой, интенсивно исследуемой советской эстетикой, были наиболее общие законы искусства. Художественно-творческая деятельность человека активно исследовалась в гносеологическом, онтологическом и коммуникативном аспектах. При этом использовались гносеологический (8; 45; 51), аксиологический (17;23;31), психологический (14;15;50) и семиотический (28;56) методы познания. Теоретическим итогом этих познавательных усилий можно считать обобщающие концепции природы искусства, выдвинутые в ряде работ советских эстетиков.
В своих «Лекциях по марксистско-ленинской эстетике» А.Еремеев справедливо утверждал «необходимость обнаружения той единой базы, того основания, на котором строится все здание, формируются все разносторонние особенности искусства» (17, с.29). В качестве таковой А.Еремеев считал социально-коммуникативную природу художественного творчества: «Искусство является частью социально-художественной коммуникации, выполняющей важнейшую общественную потребность по сохранению и активному утверждению общественно (классово) необходимой жизнедеятельности» (17, с.353). При этом он уточнял: «Термин «жизнедеятельность» позволяет подчеркнуть универсальность объекта искусства, ибо в него входят не только идеи, чувства или события, но и все общественно интересные проявления человека как в материальной, так и духовной областях»(17, с.353). Гносеологический же, аксиологический, психологический и другие срезы искусства обеспечивают возможность реализации этого основного социального предназначения художественного творчества.
М.Каган также считал, что «искусство было создано человечеством как некое удвоение его реальной жизнедеятельности, призванное расширить опыт практической жизни человека и дополнить этот последний опытом «жизни в искусстве», организованном более эффективно, чем стихийно складывающийся реальный опыт»(23,с.274). Используя системно-структурный подход к анализу жизнедеятельности, М.Каган приходит к выводу, «что именно четыре звена составляют специфическую для человека как общественного существа структуру его жизнедеятельности – практически-преобразовательная деятельность (труд и революционная практика), познание, ценностная ориентация и общение» (23, с.277). Соответственно, искусство, «для того, чтобы быть действительной моделью человеческой жизни, …должно сочетать эти же четыре функциональные направленности, играя одновременно роль средства общения, способа ценностной ориентации, инструмента познания и орудия практически-духовного преобразования объективного мира»(23, с.278).
С.Раппопорт, справедливо критикуя концепцию Кагана за слишком абстрактный характер, но используя тот же системный подход, усложняет теоретическую модель жизнедеятельности человека. Он различает два вида человеческой практики: «предметную» и «личностную». «Каждой из них присущи особые закономерности развития, и каждой из них приходится решать своеобразные задачи. Поэтому они предъявляют и специфические требования к обслуживающим их коммуникативной и проектировочной, познавательной и ценностно-ориентационной деятельности»(56, с.21).
Искусство, по Раппопорту, обслуживает потребности «личностной плоскости» практики и само включено в нее. Этим объясняются особенности четырех основных видов деятельности, образующих его природу. «В личностной плоскости практика направлена на человека, на его отношения к действительности и самому себе. Поэтому ей нужно познание явлений действительности в связи с отношениями к ним человека и познание самих этих отношений. Ей нужны оценки, которые опираются на такие знания, на социально-исторический опыт человеческих отношений и на особые потребности общества в личностной плоскости его практики. Ей нужно специфическое проектирование – не новых предметов, а новых человеческих отношений» и специфические средства коммуникации.(56, с.25).
Концепции А.Еремеева, М.Кагана, С.Раппопорта, выдвинутые в течение 70-х годов, представляли собой этапы постижения специфики искусства, все более приближающиеся к познанию его сущности. Но, по нашему мнению, не достигшие этой цели. Это признавал и Л.Столович в своей книге «Жизнь. Творчество. Человек», изданной уже на исходе рассматриваемого периода – в 1985 году. Он обоснованно считал, что в указанных концепциях не учитывается эстетический характер художественного творчества и его результатов, без чего адекватно познать природу искусства нельзя (60, с.60). Но дело не только в этом. Следствием игнорирования эстетической природы искусства оказывается и отсутствие системного единства эстетической теории. Книги А.Еремеева и М.Кагана, претендовавшие на систематическое изложение проблематики этой науки, по сути, представляли собой два не связанных между собой раздела. В первом анализировалась сущность эстетического и ее основные проявления: прекрасное, возвышенное и т. д.; во втором, без какой-либо существенной связи с первым, – природа художественного творчества (то же самое касается и других учебных пособий по эстетике) (28, 45). Так что попытка Л.Столовича преодолеть данный порок эстетической теории была попыткой в верном направлении.
Но как она была осуществлена? Опять же, – исходя из системного подхода к человеческой деятельности, предложенной М.Каганом. По мнению Столовича, «творчество, целесообразность, свобода – критерии эстетического характера любой формы деятельности»(60,с.68). Достижение такого уровня в познании, ценностном ориентировании, преобразования материала и коммуникации порождает эстетическую ценность каждого из этих видов деятельности, а их синтез – эстетическую ценность произведения искусства: «Специфика искусства… состоит прежде всего в том, что в нем концентрируются эстетические начала, имеющиеся в каждом из этих видов деятельности»(60, с.82).
На наш взгляд, верное акцентирование эстетической характеристики художественного творчества не получило здесь убедительного обоснования, так же как и определение сущности искусства. Во-первых, как мы старались показать, само понимание эстетического как синтеза общественных ценностей, как синтетического общественного блага не схватывает его специфику. Во-вторых, синтез эстетических результатов познания, оценки, материального преобразования и коммуникации отнюдь не порождает феномен художественности.
Короче говоря, несмотря на значительные успехи советской эстетики в познании различных граней, сторон и свойств искусства и на плодотворные попытки обобщающего определения его природы, сущность искусства оказалась теоретически не уловлена.
Причин этому несколько. Во-первых, в отсутствии системного единства эстетической теории и анализе искусства вне его эстетической специфики. Во-вторых, в неудовлетворительном понимании сути эстетического в тех случаях, когда искусство пытались рассматривать в эстетическом ракурсе. В-третьих, в ограниченных познавательных возможностях системно-структурного подхода, применявшегося к анализу предмета эстетики и искусства, в частности.
Системно-структурный подход – лишь этап в познавательном движении от частного к общему. Следующий шаг – выход на диалектическую методологию анализа предмета науки. Если системно-структурный подход позволяет обобщить результаты частных исследований (что и было осуществлено советскими эстетиками), то диалектический – обобщает результаты системного до постижения противоречивой первосущности предмета и формулировки «первоклеточки» теории. Как «Я и НЕ-Я» у Фихте, как категория товара в экономической теории капиталистического производства у Маркса.
И это лишь первая фаза диалектического познания. Вторая же предполагает «обратное» продвижение от теоретически абстрактного к теоретически конкретному знании. И если «на первом пути полное представление подверглось испарению путем превращения его в абстрактные определения, на втором пути абстрактные определения ведут к воспроизведению конкретного посредством мышления» (44, с.37).
К сожалению, эвристические возможности диалектики не были реализованы советской эстетикой. Считающая себя марксистской, эстетика не овладела диалектикой как методом познания. И это является основной гносеологической причиной того кризиса, в который она вступила к началу 80-х годов. Системно-структурный подход уже исчерпал свои креативные возможности, а диалектический не был применен. На этом закончился «золотой век» советской эстетики.
Литература
1. Акопджанян Е.С. О природе эстетической потребности. Автореферат дис. М.,1969.
2. Афасижев М.Н. Психобиологические основы эстетической потребности человека // Искусство, 1973,№ 7.
3. Безмоздин Л.Н. Художественно-конструктивная деятельность человека. Ташкент, 1975.
4. Белик А. Эстетика и современность. М.,1967.
5. Борев Ю. Основные эстетические категории. М.,1960.
6. Борев Ю. Комическое. М., 1970.
7. Борев Ю. Эстетика. М.,1975.
8. Буров А.И. Эстетическая сущность искусства. М.,1956.
9. Буткевич О. Красота. Л.,1979.
10. Бычков В.В. Эстетика. М.,2002.
11. Ванслов В. Проблема прекрасного. М.,1957.
12. Гей Н., Пискунов В. Эстетический идеал советской литературы. М.,1962.
13. Гольдентрихт С. Об эстетическом освоении действительности. М.,1959.
14. Гольдентрихт С., Гальперин М. Специфика эстетического сознания. М.,1974.
15. Джидарьян И.А. Эстетическая потребность. М.,1976.
16. Дмитриева Н. О прекрасном. М.,1960.
17. Еремеев А.Ф. Лекции по марксистско-ленинской эстетике, ч.1. Свердловск, 1969.
18. Еремеев А.Ф. Лекции по марксистско-ленинской эстетике, ч.4.Свердловск, 1975.
19. Зеленов Л. Курс лекций по основам эстетики. Горький, 1974.
20. Зись А.Я. Искусство и эстетика. М.,1967.
21. Зись А.Я., Лазарев И.Л. Эстетическое и художественное сознание // Эстетическое сознание и процесс его формирования. М.,1981.
22. Илиади А.Н. Эстетические потребности общества // Проблема потребности в этике и эстетике. Л.,1976.
23. Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л.,1971.
24. Каган М.С. Человеческая деятельность. М.,1974.
25. Каган М. О красоте природы и о природе красоты // Вестник ЛГУ,1962, № 17.
26. Кантор К. Красота и польза. М.,1967.
27. Канарский А.С. Диалектика эстетического процесса, ч.1,2. Киев, 1979, 1982.
28. Книга по эстетике для музыкантов. М., – София, 1983.
29. К обсуждению вопроса о сущности эстетического // Вопросы философии, 1963,№ 5.
30 Коровин В.И. Эстетический идеал советского искусства. М.,1967.
31. Коротков Н.З. Эстетическое и художественное освоение действительности. Пермь, 1981.
32. Коротков Н.З. Эстетические потребности личности // Проблема потребности в этике и эстетике. Л.,1976.
33. Кривцун О. Эстетика. М.,1998.
34. Крюковский Н. Логика красоты. Минск, 1965.
35. Лосев А.Ф. Эстетика // Философская энциклопедия, т.5. М.,1970.
36. Лук А.Н. Юмор, остроумие, творчество. М.,1977.
37. Лукьянин В.П. Красота как законосообразность // Эстетику – в жизнь. Свердловск, 1974.
38. Лукьянов Б.Г. Эстетический идеал // Эстетическое сознание и процесс его формирования. М.,1981.
39. Малышев И.В. Эстетическое в системе ценностей. Ростов-на-Дону, 1983.
40. Малышев И.В. Диалектика эстетического. М.,2006.
41. Малышев И.В. Золотой век советской эстетики. М.,2007.
42. Мардер А. Функция и эстетика // Техническая эстетика, 1967,№ 2.
43. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Соч.т.42.
44. Маркс К.,Энгельс Ф., Соч., 2-е изд. Т.46, ч.1.
45. Марксистско-ленинская эстетика. Под ред. М.Овсянникова. М.,1983.
46. Молчанова А. На вкус, на цвет… М.,1966.
47.Муриан В. Эстетический идеал. М.,1966.
48. Новикова Л.И. Искусство и труд. М.,1974.
49. Овсянников М.Ф. Ленинская теория отражения и проблемы эстетики.// «Вопросы философии», 1970, № 4.
50. Органова О.И. Специфика эстетического восприятия. М.,1975.
51. Основы марксистско-ленинской эстетики. Под ред. В.Берестнева и Г.Недошивина. М.,1960.
52. Основы эстетического воспитания. М.,1975.
53. Пирадов А.В. Эстетическая культура личности. Л.,1978.
54. Плеханов Г.В. Письма без адреса // Эстетика и социология искусства, т.1.М.,1978.
55. Поспелов Г.Н. Эстетическое и художественное. М., 1965….
56. Раппопорт. С.Х. От художника к зрителю. М.,1978.
57. Скатерщиков В. Об эстетическом вкусе. М..1974.
58. Столович Л. Эстетическое в действительности и в искусстве. М.,1959.
59. Столович Л.Н. Природа эстетической ценности. М.,1972.
60. Столович Л.Н. Жизнь, творчество, человек. М.,1985.
61. Средний Д.Д. Основные эстетические категории. М.,1974.
62. Сысоева Л.С.,Приходько Д.Н. Эстетическая потребность и эстетическая деятельность. Томск, 1980.
63. Толстых В.И. Искусство и мораль. М.,1974.
64. Тофтул М.Г. Эстетическое отношение человека к действительности. Черновцы, 1963.
65. Тугаринов В. Теория ценностей в марксизме. Л.,1968.
66. «Художник»,1974,№ 11,12.
67. Шестаков В.П. Гармония как эстетическая категория М.,1973.
68. Шестаков В.П. Эстетические категории М.,1983.
69. Эстетика и теория искусства ХХ века. М.,2005.
70. Яковлев Е.Г. Проблема систематизации категорий в марксистско-ленинской эстетике. М.,1983.
71. Ястребова Н.А. Формирование эстетического идеала и искусство. М.,1976.
Конец ХХ века: кризис эстетики
Два с половиной тысячелетия, начиная с Пифагора, философия осмысливала эстетическую проблематику: что есть прекрасное (а также возвышенное, трагическое, комическое), и что есть искусство. Однако к концу XX века разразился кризис этой отрасли знания. Причем, кризис, можно сказать, глобального масштаба, поразивший и отечественную, и Западную эстетическую мысль.
Отечественная эстетика советского периода, пережив инициированный «оттепелью» двадцатилетний период развития, с конца семидесятых годов вступила в полосу явного недомогания. Резко сократилось количество публикаций, многие эстетики переквалифицировались в культурологов. С начала же 90-х, за десятилетие нового российского капитализма ситуация лишь еще более усугубилась. Публикаций единицы. При этом наиболее значительные из них, в основном, принадлежат авторам, выдвинувшимся в эстетике в ее «золотой век» – в 60-70-х годах [например, работы М. Кагана (3), С. Раппопорта (5), Е. Яковлева] (6). Конечно, и они содержат некоторые новые идеи и подходы, отражая новые веяния в культуре. Так, С. Раппопорт и Е. Яковлев переосмысливают свои прежние концепции на путях отказа от марксизма. М. Каган, оставаясь верным марксизму, развивает свою теорию в сторону обогащения эстетики культурологическим подходом. Культурологический акцент характерен и для упомянутой работы С. Раппопорта. Безусловно, это расширяет проблемное поле эстетики. Но, отнюдь, не углубляет познание ее предмета. Поскольку добавление еще одного ракурса описания эстетического само по себе не дает качественно нового уровня постижения его сущности.
Более радикальная новация характерна для «Эстетики» О. Кривцуна (4) – представителя нового поколения российских исследователей. Заклеймив советскую эстетику, в которой, по его мнению, «доминировали тексты схоластические», О. Кривцун полностью порывает с отечественной традицией в науке, перестраиваясь на западные стандарты. Прежде всего, это сказалось в том, что его книга под названием «Эстетика» эстетикой не является, а представляет собой то, что в США имеет более адекватное название «философия искусства». И если недостатком традиционной отечественной эстетики была слабая связь между двумя проблемными комплексами – системой основных эстетических категорий и природой искусства, то в американской «философии искусства» и у Кривцуна система таких категорий отсутствует полностью. В результате, и искусство рассматривается вне связи с природой эстетического отношения человека к миру, то есть вне собственно эстетического подхода. В реализованных же культурологических, социологических, психологических, аксиологических и других аспектах анализа автор в основном приводит положения различных школ западного искусствознания.
Идя таким путем, отказываясь от отечественных традиций, наша наука об искусстве неизбежно встает в хвост западному искусствоведению. Вряд ли это продуктивно. Тем более, что сама западная философия искусства уже давно находится в состоянии глубокого кризиса.
Фактическим признанием этого стала концепция аэссенциализма, которую в 60-х годах выдвинул ряд американских теоретиков, и которая сейчас является господствующей в среде западных искусствоведов. Подводя итоги развития западной философии искусства, они приходят к неутешительной констатации, что ни одна из сформулированных в ней концепций сущности искусства (в том числе, «Искусство – это экспрессия» (Кроче), «Искусство – это значимая форма» (Клайв Белл), «Искусство – это объективированное удовольствие» (Сантояна) и т. п.) не может быть признана удовлетворительной.
Однако вывод, который делают эти исследователи, состоит отнюдь не в признании ущербности методологии западной философии искусства, а в утверждении принципиальной непознаваемости сущности художественного творчества или даже в отсутствии таковой. В. Кенник в статье «Основывается ли традиционная эстетика на ошибке?» утвердительно отвечает на этот вопрос: «Предположение о том, что, несмотря на различия, все произведения искусства должны обладать некой общей природой… – это допущение одновременно естественное и беспомощное. Оно и составляет то, что я считаю первой ошибкой традиционной эстетики» (2, с.90).
Но если искусство не обладает единой сущностью, или она принципиально не познаваема, то как отличить искусство от неискусства? Ответ, предлагаемый В. Кенником: «Собственно искусство – это попросту, то, что именуется искусством». Вариант, предлагаемый Дж. Дики, гласит: «Произведение искусства есть объект, о котором некто сказал: «Я нарекаю этот объект произведением искусства» [там же, с. 251]. Иллюстрируя данный тезис, он пишет: «Вопрос, который часто возникает в связи со спорами о понятии искусства, – «Как относиться к картинам, сделанным такой особой, как шимпанзе Бетси из зоопарка в Балтиморе?» Это целиком зависит от того, что было сделано с картинами… Например, в Музее естественной истории в Чикаго недавно было выставлено несколько картин шимпанзе. В этом случае мы должны сказать, что эти картины не являются произведениями искусства. Однако, если бы они были выставлены на несколько миль дальше – в Чикагском институте искусств, они могли быть произведениями искусства… Все зависит от институального оформления [там же, с. 250].
Фактически, это теоретический суицид западной философии искусства. Если невозможно определить сущность искусства, то искусствоведам остается и, более того, предписывается только описание и сравнение артефактов, претендующих на искусство [там же, с. 95]. Так, например, как комментировал С. Грин установку «невидимой скульптуры» позади здания музея Метрополитен (инсталляция состояла в выкапывании дыры размером с могилу и ее последующем закапывании): «Это концептуальное произведение искусства, и оно настолько же действительно, насколько все прочее, что вы действительно можете видеть. Все является искусством, если оно избирается художником быть искусством. Вы можете говорить о том, хорошее ли это искусство или плохое, но нельзя сказать, что это не искусство. Просто если вы не можете видеть статуи, то это не значит, что ее там нет» (2, с.159).
В итоге, к началу XXI века мы имеем некий «пейзаж после битвы». Отечественная эстетика находится в кризисе, выход из которого наиболее «продвинутые» авторы видят в следовании стандартам западной философии искусства, которая уже покончила с собой в результате теоретического самоубийства.
В чем же причина столь печального конца науки, до того существовавшей два с половиной тысячелетия? Таких причин несколько.
Для западной философии искусства ближайшей причиной ее самоуничтожения является апологетическое отношение к современному состоянию художественной культуры. Если стоять на позиции некритического принятия его как аксиомы; конкретнее: если упомянутая выше «невидимая скульптура» К. Ольденбурга, «Фонтан» М. Дюшана (писсуар, снабженный таким названием), «Черный квадрат» К. Малевича или то, что «наложил» (то есть нагадил) А. Бренер в зале импрессионистов Пушкинского музея, и т. п. есть произведения искусства, а Р. Раушенберг, Э. Уорхол, П. Сулаж или И. Кабаков – «выдающиеся» или даже «великие» художники, то тогда следует принять аэссенциалистскую концепцию, и философия искусства есть лишь пережиток традиционной эстетики. Дело в том, что подобные артефакты (а именно они господствуют сейчас в постмодерне) не вписываются ни в какую из традиционных концепций художественного творчества. Ни Пифагор, ни Аристотель, ни Гегель, Сартр или Ингарден со своими теориями не нужны, если творения Бетси признаются произведениями искусства только в результате их помещения в залы музей изобразительного искусства.
Альтернативой может быть лишь критическая позиция в отношении к современной художественной культуре с позиций традиционной эстетики и философии искусства. Исходя из наработанных в эстетической теории представлений о природе искусства, артефакты, подобные вышеупомянутым, следует квалифицировать как «нехудожественную самодеятельность», выражающую неспецифическое, обыденное сознание ее авторов, в лучшем случае представляющую собой пограничную с искусством сферу культурного творчества.
Другими словами, если аэссенциализм, апологетически принимая современную художественную практику, ставит под сомнение возможность философии искусства, то данная позиция наоборот, в качестве критерия оценки художественной практики принимает философию, искусства, тем самым «спасая» ее существование.
Сразу отмечу уязвимость такой позиции. Во-первых, потому, что любое определение сущности искусства, даваемое его философией, неизбежно ретроспективно. То есть основывается на уже состоявшемся опыте художественной практики. В то время как новаторское художественное творчество, по определению, вносит нечто новое, небывалое ранее, и что, в силу этого, не могло учитываться философией искусства. Во-вторых, как уже отмечалось, современная (и отечественная, и западная) философия искусства находятся в кризисе. И можно согласиться с аэссенциалистами в том отношении, что существующие определения, природы искусства не выдерживают критики.
Однако, и эти аргументы так же уязвимы, как и опровергаемая ими позиция. Три тысячелетия предшествующей художественной практики, служащей эмпирической основой для определения природы искусства его философией, позволяют зафиксировать, по крайней мере, некоторые существенные черты художественного творчества (хотя, конечно, и не все возможные). Что не может быть опровергнуто экстремистской практикой некоторых (далеко не всех) деятелей культуры только одного – двадцатого столетия. Если исключить из сферы искусства плоды такой деятельности, то искусство и «экспрессия» (Б. Кроче), и «значимая форма» (К. Белл), и «объективированное удовольствие» (Сантояна), и «символизация, внутреннего опыта» (С.Лангер).
Конечно, данные определения не исчерпывают сущности искусства, а лишь фиксируют те или иные его стороны. Но все-таки, если это так, то вывод, который отсюда следует: необходимо не отрицание природы искусства, а изменение, совершенствование методологии исследования таким образом, чтобы добиться, по крайней мере, более убедительных результатов его познания.
Кроме апологии художественной практики, другая, более глубинная причина кризиса западной философии искусства в том, что она «философия искусства», а не эстетика. Агностицистская и субъективистская философская методология (в позитивизме, в феноменологии, экзистенциализме и пр.), господствовавшая в западной культуре XX века, исключала исследование проблем объективного бытия, ориентируя философские науки на познание изолированных от такого бытия различных феноменов сознания. В эстетике это сказалось в ее искусствоцентризме. Проблематика эстетических свойств действительности (прекрасного, возвышенного, комического, трагического) уходит на второй план, а то и вообще исчезает из эстетики, которая превращается в «философию искусства». Но изолировав исследование искусства от эстетических свойств бытия, постичь его сущность нельзя.
Наконец, основная причина кризиса – в узости исходной философской позиции. Западная философия XX века – это множество философских школ, каждая из которых строится на абсолютизации того или иного частного подхода в исследовании реальности. Соответственно, и в «философии искусства»: фрейдистская – концентрируется на изучении взаимодействия бессознательного и сознательного в процессе и результатах художественного творчества; феноменологическая – на проблеме способа существования произведения искусства; структуралистская – на его строении; позитивистская – на специфике художественной коммуникации и т. д. В результате, при значительном прогрессе в изучении тех или иных отдельных сторон искусства познание его сущности оказалось не достижимо.
Однако в кризисе оказалась не только западная, но и отечественная эстетика. Понятно, что новорусская философия искусства повторяет тупиковый ход западной. Но, как уже говорилось, кризис начался раньше, с конца семидесятых годов. Когда наша эстетика исходила из, казалось бы, принципиально отличной от западной – марксистской методологии.
Причина в данном случае, по-видимому, состояла в том, что за предыдущее двадцатилетие были исчерпаны возможности прежних методов исследования искусства. При всем разнообразии таких методов (гносеологический, аксиологический, психологический, семиотический, системно-структурный) все они ограничивались эмпирическим (в этом смысле – феноменологическим) анализом художественного творчества и его произведений. Что исторически было вполне обусловлено. Советская эстетика, освободившись от догматизма сталинского искусствоведения, двигалась от эмпирически конкретного к теоретически абстрактному пониманию своего предмета, реализуя закономерно первый этап. познания. Но только первый.
К концу 70-х годов возникает необходимость перехода на качественно новый этап исследования искусства: доведения эмпирического анализа до абстрактно-теоретического схватывания противоречивой сущности искусства, до формулирования диалектической «первоклеточки» теории. Чтобы затем начать развертывание этой «первоклеточки» в единой теоретической системе в результате познавательного движения от теоретически абстрактного к теоретически конкретному знанию о художественном творчестве.
Однако этот переход от эмпирического к теоретическому знанию не был осуществлен советскими эстетиками. Причина – в том, что, будучи марксистами, они, тем не менее, не овладели диалектикой как методом познания. Возможно, это не случайно. Дело в том, что диалектика, как говорил А. Герцен, есть «алгебра революции». И как таковая она весьма неудобна и даже опасна для любой господствующей социальной группы (в данном случае – партийно-государственной бюрократии СССР). И поэтому, хотя в советской философии и исследовались проблемы диалектики, но только на самом абстрактном уровне диалектической логики. Диалектическое же осмысление практики, в том числе художественной, и, особенно, советского искусства было весьма нежелательно и опасно с точки, зрения социальных интересов элиты КПСС. В результате, как и все общество, советская эстетика к рубежу 80-х оказалась в кризисе.
Итак, общая причина кризиса западной и отечественной эстетики – в неэффективности методологии познания, которая уже исчерпала свои креативные возможности. На мой взгляд, коренной способ обновления и совершенствования методологии – в освоении диалектического метода познания предмета эстетики и природы искусства, в частности. Ибо и отечественная, и современная западная философия искусства остановились на эмпирически-феноменологическом, по сути, позитивистском уровне методологии, позволяющем описывать различные проявления сущности искусства, но не способной понятийно схватывать ее как таковую.
Обнадеживающим подтверждением данного предположения может служить «Эстетическая теория» Т. Адорно (1) – редкий, если не исключительный, пример диалектического анализа искусства, исходящего из всеобщих свойств эстетического – прекрасного и безобразного (в том числе, и в природе). Можно ставить под сомнение те или иные дискуссионные положения его теории, связанные, как правило, с «негативностью» его диалектики. Но сам принцип – выявление взаимосвязанных противоположностей – выводит его теорию на качественно новый уровень познания природы искусства, приближая к постижению его сущности.
Так что рано хоронить эстетику. Пережив нелегкие времена, она возродится, продолжив великие традиции прошлого. И вообще: кризис есть момент развития.
Литература
1. Адорно Т. Эстетическая теория. М.,2001.
2. Американская философия искусства. Екатеринбург, 1997.
3. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997.
4. Кривцун О. Эстетика. М.,1998.
5. Раппопорт С.Х Эстетика. М.,2000.
6. Яковлев Е.Г. Эстетика. М.,1999.
Кризис эстетики. Продолжение
В самом начале двухтысячных годов мне уже приходилось анализировать общее состояние как отечественной, так и Западной эстетики (см. предыдущую статью, а также: 12). С тех пор проявились некоторые новые тенденции, появились новые имена и, наоборот, ряд старых теоретиков ушли в мир иной. Так, «вымерла» целая плеяда «мамонтов» советской эстетики: А.Ф.Еремеев, М.С.Каган, Е.Г.Яковлев, С.Х.Раппопорт. За каждым из них стояла определенная теоретическая концепция. Поэтому уход их со сцены меняет «мизансцену» современной российской эстетики.
Если в целом охарактеризовать расстановку научных сил в современной эстетике, то ее определяет, так же как во всей духовной культуре, оппозиция «западников» и «почвенников». Марксистская же эстетика за «нулевые» годы определенно маргинализировалась. Немногочисленные публикации зачастую не развивают марксистскую теорию, а остаются в русле устоявшихся представлений предыдущей эпохи (1; 2; 19).
Современная «почвенническая» субкультура представляет собой возврат к дореволюционной культуре России, точнее, к рубежу XIX и XX веков. Доминанта здесь – в возрождении православной религиозности, а на этой почве религиозного искусства (особенно живописи и поэзии) и религиозной философии. В изобразительном искусстве «нулевых» в этом отношении показательны станковые произведения и монументальные росписи церквей Василия Назаренко, художников круга Ильи Глазунова, чья живопись представляет собой очевидное возвращение к академизму эпохи Александра Третьего. В эстетике аналогичный поворот к традициям В.Соловьева и А.Бердяева осуществили В.Бычков, В.Диденко и ряд других эстетиков (4; 5; 7).
Многократно переиздававшаяся «Эстетика» и теоретические статьи В.Бычкова могут считаться показательным примером «почвеннической» эстетики. Эстетическое в этой парадигме есть «неутилитарное взаимоотношение объекта и субъекта», когда субъект «воспаряет в пространство чистой духовности, достигает (в акте мгновенного озарения, катарсиса) состояния сущностного слияния с Универсумом и его Первопричиной (а для верующего человека – с Богом, Духом…» (4, с.157). Соответственно, искусство мыслится как зримое воплощение незримого, духовно божественного, «метафизического» бытия.
«Метафизическая реальность», – как ее характеризует В.Бычков,-та реальность, которая открывается нам в художественном символе, – это «объективно существующая духовная реальность» (5, с.13), «универсальная плерома бытия» (4, с.270), «истинное бытие Универсума» (4,с.271). Хотя, как признает сам Бычков, «здесь мы приближаемся к метафизическим пространствам, о которых трудно сказать что-либо вразумительное на нашем языке» (5, с.17), так как «опыт выхода человеческого сознания в метафизические пространства не поддается вербализации и формально-логическому описанию» (5, с.11).
По сути, концепция В.Бычкова есть вариация религиозно-мистической эстетики Н.Бердяева. Как таковая, то есть как откровение, данное в религиозно-мистическом опыте, она «не требует и не допускает никакого научного, логического обоснования и оправдания» (3, с.277). И потому возвращает эстетику к принципам раннего средневековья: «верую, чтобы знать».
Прямо противоположна по социокультурной ориентации позиция наших «западников», которых, судя по публикациям, явное большинство среди современных эстетиков. В этом случае эмпирической основой выступает арт-практика постмодернизма, а теоретическим источником – труды американских и западноевропейских культурологов и искусствоведов. В связи с чем эти труды активно переводятся, пересказываются, анализируются (6; 15; 18).
Проблема, которую ставит перед эстетиками постмодернизм, заключается в том, являются ли искусством артефакты, подобные «Человек-собака» О.Кулика, «Я люблю Америку, Америка любит меня» Й.Бойса, «Банка супа Кемпбелл» Э.Уорхола, «Невидимая скульптура» Ольденбурга. «Х… на ФСБ» арт-группы «Война» и т. п.? Я уже обосновывал свое утверждение, что подавляющее большинство (но, конечно, не все) артефактов Contemporary art произведениями искусства не являются, а представляют собой выражение неспециализированного обыденного сознания, так называемый «популяр-арт» или «нехудожественную самодеятельность» (13; 14). Но моя позиция не была поддержана профессиональным сообществом и остается пока маргинальной. Мейнстрим же нашей эстетики устремлен на Запад, где находит две версии обоснования того, что подобные артефакты являются произведениями искусства.
Первая версия принадлежит направлению «аэссенциалистов». Его представители (в большинстве – англо-американской философии искусства) обоснованно считают, что артефакты постмодернизма не имеют ничего существенно общего с произведениями традиционного искусства. Отсюда делается вывод, что единой сущности искусства нет. А искусством является то, что таковым называется: «Собственно искусство – это попросту то, что именуется «искусством» (10, с.93). Или: «Произведение искусства есть объект, о котором некто сказал: «Я нарекаю этот объект произведением искусства» (8, с.251).
Принимая эту точку зрения, наши эстетики занимаются описанием артефактов постмодернизма, претендующих на искусство, не «заморочиваясь» вопросом, искусство ли это. Об этом свидетельствуют и многочисленные доклады на «Овсянниковских» научных конференциях, организуемых кафедрой эстетики МГУ им. Ломоносова, и капитальные монографии (16; 17). Поскольку Contemporary art как явление культуры существует, то его произведения безусловно необходимо описывать, типизировать, классифицировать. И наши эстетики выполняют эту необходимую работу. Например, были выявлены и понятийно зафиксированы такие свойства артефактов постмодерна как «лабиринт», «абсурд», «симулякр», «жестокость», «повседневность», «телесность», «ризома», «вещь», «объект». «эклектика», эйваромент», «акционизм», «автоматизм», «заумь», «интертекст», «гипертекст», «деконструкция» и другие. Но не теряет ли эстетика при этом свой предмет? Не ставит ли она тем самым под вопрос свое существование как особой науки, растворяясь в конкретном искусствознании и культурологии?
На мой взгляд так и происходит. Не рассматривая артефакты постмодернизма как проявления (или непроявления) сущности эстетического, эстетики перестают быть эстетиками. Игнорируя отличия искусства от неискусства, они перестают быть и теоретиками «философии искусства». Эстетика превращается в один из разделов эмпирической культурологии.
Вторая версия обоснования того, что артефакты Contemporary art являются произведениями искусства, базируется на расширенном понимании эстетического. Что более характерно для континентальной – германо-французской – эстетики и культурологи. Суть такого расширения – назад к. Баумгартену. Как обоснованно резюмирует свой анализ современной европейской эстетики И.Инишев, – «Таким образом, возвращение к изначальному пониманию «эстетического» (греческое aisthesis – «чувственное восприятие»), представленному в эстетике Ал. Баумгартена, составляет… базовую черту современной философской эстетики» (9).
То есть происходит откат и отказ даже от эстетики Им. Канта, который до сих пор был непререкаемым авторитетом всей Западной философии. После кантовского скрупулезно аргументированного отличия эстетического суждения вкуса от чувства приятного, Х.У.Гумбрехт сводит эстетический опыт к переживанию «вещности» мира, «реактивирующего ощущение материальности»; М.Зеель – к «моментальному опыту чувственно являющихся качеств вещей»; М.Диакону размышляет «об эстетике осязания, обоняния и вкуса»; к «чувственному» сводят эстетический опыт и Ж.Рансьер, и Г.Беме, и др.
В результате такого «расширенного» понимания эстетического любой артефакт может интерпретироваться как эстетический и в качестве такового относящийся к сфере искусства. Но расплачиваться за такую «гибкость» эстетике придется утратой специфического предмета и особого институцианального статуса. Вслед за В.Вельшем к такому выводу и приходит И.Инишев: Понимание эстетики как всеобщей теории чувственного восприятия «позволяет говорить не только о трансдисциплинарности, но и о внеинституцианальности эстетически инспирированного и фундированного гуманитарного знания, которое следует рассматривать скорее как экзистенциально ангажированную интеллектуальную практику индивида» (9).
Особая версия растворения эстетического и искусства в экзистенциальном опыте мироотношения индивида ведет свое начало от М.Хайдеггера и представлена в концепции «Эстетики Другого» С.Лишаева. В докладе «Феноменология эстетических расположений (к замыслу онтологической эстетики)» С.Лишаев подчеркивает, что согласно его пониманию, эстетический опыт не зависит ни от особых свойств объекта, ни от особых свойств субъекта, ни от особого взаимодействия объекта и субъекта. В отличие от этого «феноменология эстетических расположений отправляется от события», «в котором Другое открывает себя человеку (Dasein) эстетически». Под «Другим» понимается хайдеггеровское Sein – Бытие, которое, по Лишаеву, эстетически открывается в модусах Бытия, Небытия и Ничто. Бытие открывает себя как «прекрасное, ветхое, юное, мимолетное, беспричинно радостное», Небытие – как «безобразное, уродливое, страшное», Ничто – как «тоска, скука». Такое понимание эстетического по мнению С.Лишаева «позволяет значительно обогатить (расширить) сферу эстетического опыта и ввести в нее, в частности, такие расположения как ветхое, старое, юное, молодое, зрелое, беспричинно радостное, затерянное, маленькое, уют, простор, просторное, страшное, скучное, тоскливое, не изгоняя из эстетики и таких известных уже классических эстетических феноменов как прекрасное, красивое, возвышенное, уродливое, безобразное» (11).
На мой взгляд, этот перечень со всей очевидностью демонстрирует игнорирование специфики эстетического опыта, его отличия от иных форм субъективного восприятия действительности. Ближайшим образом это является следствием исходного отрицания особенностей как объекта, так и субъекта эстетического мироотношения. А методологически – следствием прямолинейного выведения эстетического из хайдеггеровской онтологии, не скорректированного интроспективным самоанализом эстетического опыта самого автора или неразвитостью такового.
Таким образом, и И.Инишев, и С.Лишаев вслед за своими предшественниками в западной философии и эстетике не учитывают специфику эстетического, отождествляя его с иными формами восприятия действительности. Тем самым эстетика лишается своего особого предмета и растворяется в культурологии. Показательно, что оба вышеназванных автора – специалисты по философии культуры. Но подобная экспансия культурологов в традиционную проблематику эстетики не случайна. По-видимому, сказывается и то, что культурология еще не нашла своего собственного подхода, ракурса в осмыслении эстетического мироотношения, и то, что ориентируется она (особенно Западная) на арт-практику постмодерна. Но главное в том, что эстетика сама сдала свои позиции, свой предмет, отказав в специфике эстетическому и в особой сущности – искусству, приняв концепцию аэссенциализма.
В итоге, к середине второго десятилетия XXI века эстетика оказалась под угрозой исчезновения в качестве самостоятельной философской науки. Лишь «ретро» христианизированного платонизма да маргинализированные остатки марксизма сохраняют в настоящее время традиции классической эстетики.
Литература
1. Аганесова И.Т. Эстетика: курс лекций. Тула, 2007.
2. Беляева Е.В. Эстетика: курс лекций. Мн.,2005.
3. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.,1989.
4. Бычков В.В. Эстетика. М.,2002.
5. Бычков В.В. К проблеме метафизики эстетического опыта // Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. М.,2008.
6. Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства. СПб.,2000.
7. Диденко В.Д. Духовная реальность и искусство: эстетика преображения. М.,2005.
8. Дики Дж. Определяя искусство // Американская философия искусства. Екатеринбург,1997.
9. Инишев И.Н. Философская эстетика сегодня // .
10. Кенник В. Основывается ли традиционная эстетика на ошибке? // Американская философия искусства. Екатеринбург, 1997.
11. Лишаев С.А. Феноменология эстетических расположений (к замыслу Онтологической эстетики) // hht://.
12. Малышев И.В. Кризис эстетики // Малышев И.В. Хэссе о ХХ веке. М.,2003.
13. Малышев И.В. «Искусственная реальность» постмодернизма.// Малышев И.В. Хэссе о ХХ веке. М.,2003.
14. Малышев И.В. Поп-арт и поп-философия // Малышев И.В. Искусство и философия: от модерна к постмодерну. М.,2013.
15. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.,2000.
16. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. СПб.,2009.
17. Мигунов А.С., Ерохин С.В. Алгоритмическая эстетика. СПб.,2010.
18. Рыков А.В.Постмодернизм как радикальный консерватизм. СПб.,2007.
19. Эстетика. Под ред. А.А.Радугина. М.,2000.
«Философия современного искусства» (1)
Так называется опубликованный сборник докладов на 6-й Овсянниковской международной конференции по эстетике, состоявшейся в ноябре 2014 года в Московском университете им. М.В.Ломоносова, организованной кафедрой эстетики этого университета. И количество представленных докладов (пятьдесят), и солидный состав участников конференции позволяют рассматривать материалы конференции как отражение современного состояния российской эстетики, по крайней мере, ее мейнстрима.
Большинство докладов на конференции было посвящено описанию состояния и тенденций различных видов и жанров современного искусства. И традиционных – кино, театра, музыки, и новых – дигитал-арта, био-арта, кибер-архитектуры. В целом это создает объемное представление о процессах, характерных для современной художественной практики. Что может быть эмпирической базой для теоретических обобщений философией искусства. Но ею не является. Ибо если под «философией» иметь ввиду осмысление общехудожественных закономерностей, то вряд ли сами по себе подобные материалы можно отнести к «философии искусства». Скорее, в данном случае мы имеем дело с искусствоведческими работами, посвященными анализу различных видов художественного творчества.
Но и в качестве таковых, они оставляют ряд вопросов. Так как, подробно и квалифицированно описывая «как сделаны» произведения различных жанров творчества, авторы даже не задаются вопросом «что сделано». Что является результатом описанных новаций формы? В чем особенности содержания созданных артефактов? Обладают ли они эстетической ценностью? И вообще – являются ли они произведениями искусства?
Наиболее явно эти «вопросы, оставшиеся без ответа», возникают при чтении материалов, посвященных новым видам творчества. Так, А.Мигунов и его соавтор С.Ерохин в своих докладах представили «био-арт» в качестве направления «научного искусства». Как явствует из докладов, био-арт есть модификация организмов в результате генной инженерии: «Живые организмы (они же – произведения искусства) могут быть изменены либо в пределах их видов, либо наряду с ними изобретаются абсолютно новые» (3, с.48). В результате, «сердцевина био-арта – измененный генетический материал… обогатил традиционное понимание красоты новыми гранями»(3, с.47). Авторы приводят ряд примеров, в том числе бабочку, окраска крыльев которой сочетает свойства различных видов. Подводя итог, они пишут: «Приведенные выше примеры и исследования свидетельствуют о том, что в настоящее время на стыке актуального искусства и синтетической биологии складывается трансдисциплинарная область биологического искусства (био-искусства, биоарта), и, очевидно, именно эта область определит основные тенденции дальнейшего развития научного искусства, а возможно, и актуального искусства в целом» (4, с.333).
Можно согласиться с тем, что созданные крылья бабочки и новые цветовые оттенки организмов обогащают «традиционное понимание красоты новыми гранями». Но являются ли подобные артефакты произведениями искусства? А, соответственно, био-арт – искусством? И вообще, как сформулировал А.Мигунов, «каковы перспективы искусства, целиком лишенного художественности?» (2, с.16).
Но «искусство, лишенное художественности» – это «жареный лед», взаимоисключающее определение. Поэтому артефакты био-арта, именно потому, что они «целиком лишены художественности», произведениями искусства не являются. А вышеприведенный материал свидетельствует лишь о том, что его авторы, также как и многие другие, отождествляют искусство с любым другим видом творческого созидания, или, по-другому, – с искусностью.
Более «философичны» доклады, содержащие обобщающие характеристики арт-практики. Среди них следует выделить несколько сообщений, авторы которых, следуя классической парадигме эстетики, обстоятельно анализируют общие свойства и закономерности традиционно понимаемого искусства. Такие как специфика художественного восприятия, художественной коммуникации, мимезиса, формальных «паттернов» искусства и т. п. Но, к сожалению, при этом не обсуждают применимость этих характеристик искусства к творческой практике и артефактам постмодернизма.
И наоборот, авторы (и таких преобладающее большинство), формулирующие общие свойства «актуального искусства» (интерактивность, интертекстуальность, использование «языка повседневности», отказ от базовых эстетических ценностей и т. п.), не обсуждают степень художественности этих артефактов. Ибо исходят из отсутствия общих критериев такового.
Эксплицитно данная позиция заявлена в докладах В.Скерсиса и А.Радеева. Как пишет В.Скерсис, «любой конкретный набор каким-то образом связанных между собой суждений об искусстве мы признаем теорией». Но, по его мнению, «общая теория искусства невозможна». Поэтому «специальные теории являются моделями отдельных аспектов того, что называется искусством» (6, с.30). Суть этой позиции – антиэссенциализм: искусство есть то, что таковым называется. А его теория – «каким-то образом связанные суждения» по поводу любых артефактов, претендующих на искусство.
По сути та же позиция, хотя и выраженная более замысловато, и у А.Радеева в докладе «О концепте множественности в его отношении к современной философии искусства». Как считает автор, «в «искусстве» подозрительна определенность, с которой якобы можно оперировать этим понятием» (5, с.345). В противовес определенности предлагается «концепт множественности», который «подразумевает противостояние любым формам единства» и «следы которого можно найти в современной философии искусства – в антиэссенциализме (Вейц, Кенник), в кластерном подходе к искусству (Гот), в эстетике взаимодействия «(Буррио)» (5, с.347). Согласно ему «понимание искусства строится на сочетании новых признаков того, что следует отнести к искусству, без образования единого, обобщенного его понятия» (5, с.348).
То есть, это сугубо эмпирический способ добавления признаков артефактов, претендующих на искусство. По сути, именно этим и занимались большинство авторов докладов конференции. Как тут не вспомнить Френсиса Бекона с его сравнением эмпириков с муравьями, которые тащат в кучу все, что ни попадя.
В целом же, если судить о состоянии российской эстетики по материалам конференции «Философия современного искусства», то следует констатировать следующее. Во-первых, еще сохраняется традиция эссенциализма в понимании и исследовании искусства. Правда, приверженцев этой классической парадигмы эстетики осталось не очень много. Во-вторых, большинство российских эстетиков имплицитно и эксплицитно переориентировались на постмодернистскую концепцию антиэссенециализма. В результате, материалы конференции дают богатый эмпирический материал описания артефактов, но не представляют собой собственно «философию современного искусства».
Литература
1. Философия современного искусства: Материалы VI Овсянниковской международной эстетической конференции. М.,2014.
2. Мигунов А. Вступительная статья.
3. Мигунов А. Дигитал-арт и био-арт в поисках новой формулы человека.
4. Мигунов А., Ерохин С. Эстетика биологического искусства.
5. Радеев А. О концепте множественности в его отношении к современной философии искусства.
6. Скерсис В. Аналитический концептуализм.
Эстетика и популистика
Сторонники антиэссенциализма в современной эстетике справедливо считают, что между артефактами постмодернизма и традиционным искусством в большинстве случаев нет существенно общего. Отсюда делается вывод, что единой сущности искусства нет, а «Собственно искусство – это попросту то, что именуется «искусством» (3, с.93). Или: «Чтобы быть произведением искусства, вещи нужно лишь быть названной (индексированной) художником художественным произведением» (2, с.308).
Принимая такую позицию, теоретик, называющий себя «эстетиком», перестает быть таковым, так как он не рассматривает артефакты в ракурсе проявления или, наоборот, не проявления так или иначе понимаемой эстетической сущности художественного творчества. Перестает он быть и специалистом по «философии искусства», так как, по определению, «философия» есть постижение сущности. Ему остается лишь описывать артефакты, претендующие на искусство, ничем, кроме этого, не отличаясь от культуролога.
Однако, Contemporary art включает в себя творчество и таких художников, которые, используя приемы и техники, характерные для постмодернизма, создают произведения, обладающие сущностной общностью с традиционно понимаемым искусством. А именно – художественно образным содержанием, выраженным в эстетически значимой форме. И к которым вполне применимы традиционные понятия эстетики, в частности, и «мимезис», и «катарсис». К примеру, видио-арт Билла Виолы «Встреча Марии и Елизаветы» или скульптура «Христос» В.Сидура, который использовал в ней прием «реди-мейд»; или стилистические вариации на темы живописи Возрождения М.Фьюме; или деконструктивный комментарий «Моц-арт» А.Шнитке.
То есть Contemporary art вовсе не исключает традиционную проблематику, понятийный аппарат и методы эстетики, а наоборот предполагает «возвращение» концепции эссенциализма для ее развития с учетом новаций постмодернизма.
Артефакты же, подобные творениям Й.Бойса (перформанс, заснятый на видио, «Я люблю Америку, Америка любит меня», инсталляция «Первомайская демонстрация в Берлине») или М.Дюшана («Фонтан»), или «Х… на ФСБ» арт-группы «Война», или «4,33 – tacet» Дж. Кейджа, или «Человек-собака» О.Кулика, которые действительно не имеют сущностной общности с искусством, следует отнести к особому роду культурного творчества, который я бы назвал «популяр-арт». «Арт» не в смысле «искусство», а «умение», «ремесло», направленное на выражение неспециализированного обыденного сознания. Как таковой, «популяр-арт» может включать себя произведения и традиционно понимаемого поп-арта, и концептуализма, и боди-арта, и лэнд-арта, и других направлений Contemporary art.
Рождается этот вид творчества в ответ на социокультурную потребность общества потребления. Если в начале ХХ века В.Маяковский писал, что «улица мучается безъязыкая», то во второй половине этого века «улица» получила свой «язык». Этому способствовал рост благосостояния, образования, социальной и творческой активности населения развитых капиталистических стран, с одной стороны. С другой же – встречное массовому сознанию движение профессионального творчества, связанное с крушением больших мировоззренческих «метанарративов» в культуре этих стран (подробнее см. 4). «Восставшие массы» (о которых писал еще Ортега-и-Гассет) потребовали и получили вид творчества, выражающего их уровень сознания, и сами приняли в нем активное участие.
Создание произведений «популяр-арта» не требует ни особой художественной одаренности, ни специфического мастерства – овладения выразительными средствами, особым художественным языком того или иного вида искусства. И в то же время позволяет выразить себя авторам, выразить их политическое, религиозное (или антирелигиозное), моральное (или аморальное), познавательное или утилитарно-практическое, бытовое отношение к действительности. Если иметь ввиду приведенные выше примеры, то О.Кулик своим «человеком-собакой» по мнению одного искусствоведа «символизировал тип русской ментальности», то есть выразил свою русофобию.». Бойс – отношение к Первомайской демонстрации (его инсталляция представляет собой кучу мусора, сметенного после окончания демонстрации). Группа «Война» вполне однозначно выразила свое отношение к ФСБ, нарисовав мужской половой член на полотне моста через Неву напротив здания этой организации.
Показательно, что многие деятели Contemporary art не имеют специального художественного образования. Как свидетельствует искусствовед В.Сальников, «именно с «улицы» в 90-е годы рекрутировались деятели искусства» (5, с.11). Другой теоретик «современного искусства» И.Бакштейн в качестве отличительных его черт отмечает: «Здесь отменяются традиционные критерии мастерства… Раз все, что угодно, может быть произведением, все дело в том, как оно демонстрируется и каковы интерпретационные возможности представляет для критика»(1, с.18). В результате, как считают апологеты «современного искусства», происходит демократизация художественного творчества: «Изобразительное искусство – цитадель элитарности, и этой элитарности, несомненно, приходит конец… Дюшан говорит, что все – искусство и все может стать искусством, Бойс говорит, что каждый может стать художником» (1, с.21).
Согласимся с тезисом «демократизации». Действительно, в данной форме творчества каждый человек может выразить себя. Но, во-первых, как уже говорилось, не художественно. А во-вторых, выражая именно обыденный уровень своего сознания – политического, познавательного, религиозного или атеистического. Ибо специализированный уровень мышления требует и специализированного языка выражения – научного труда, политического или теологического трактата и пр. Неспецифические средства служат выражению неспециализированного содержания.
Тем самым расширяется сфера культурного творчества. И расширяется круг людей, включенных в этот процесс. Можно сказать, что родилась «нехудожественная самодеятельность» как способ выражения обыденного общественного сознания.
Да и постижение смыслов произведений «популяр-арта» также не требует от зрителей художественной культуры, владения художественным языком. Достаточно ассоциативного багажа, складывающегося в обычной жизни, более всего – ассоциативного ореола предметов быта, используемых в инсталляциях. Чтобы прочувствовать работу Э.Уорхола «101 бутылка Кока-колы», достаточно быть любителем Кока-колы. Так же как и с его инсталляцией «Банка супа Кемпбелл». Со временем это должно привести к расширению круга почитателей «популяр-арта». Пока этому мешает его претензии на искусство, что дезориентирует потенциальных ценителей. Посещая выставку «современного искусства», многие люди, естественно, применяют критерии искусства, то есть в данном случае неадекватные. И не найдя искусства, вычеркивают из поля своих интересов данный вид творчества. Однако в перспективе, в связи с общим падением уровня художественной культуры, можно ожидать, что «полуляр-арт» станет действительно популярным.
Таким образом, «популяр-арт» – это закономерно возникший и развившийся особый вид творчества в культуре. Как таковой, он требует осмысления, описания, классификации его жанров, приемов, особого языка. Что вполне достойно особой теоретической дисциплины, назовем ее «популистика». Которая должна выделиться из современной эстетики.
Отделившись от эстетики, «популистика» займет достойное место среди научных дисциплин культурологи. Наблюдаемое сейчас и раздражающее многих, «агрессивное вторжение» культурологов в проблематику современной эстетики, свидетельствует как раз об этом. Культурологи просто почувствовали, что «популяр-арт» – это их проблемное поле, а эстетика занимается не своим делом.
«Так оставим ненужные споры» (как пел Высоцкий): искусство – эстетикам, «популяр-арт» – «популистике».
Однако практически различить произведения современного искусства и «популяр-арта» весьма непросто. Дело в том, что такие отличительные свойства произведения искусства как художественность содержания и эстетичность формы даны нам как переживания, то есть субъективно. И опосредованы владением тем художественным языком, на котором данное произведение создавалось автором. А также – художественно-эстетическим идеалом зрителя (читателя, слушателя), с которым он сравнивает воспринятое произведение при его эстетической оценке. Отсюда всегда существует возможность непонимания и неадекватной оценки. Что неоднократно случалось в истории искусства («мазня» – в адрес импрессионистов; «сумбур вместо музыки» – по адресу Шостаковича). Но отнюдь не отменяло свойства художественности и эстетичности, присущие искусству.
Ситуация с Contemporary art принципиально не отличается, а лишь усложняется. И современное искусство и «популяр-арт» нередко используют одни и те же жанры, например, видео-арт, одни и те же приемы, например, реди-мейд, причем жанры и приемы, отличные от традиционного искусства. Чтобы отличить одно от другого, то есть искусство от «нехудожественной самодеятельности», необходимо овладеть новым художественным языком и выработать новый эстетический эталон художественной формы. Только тогда переживание художественности образа, сплавленное с чувством эстетического удовольствия от его формы, позволит отличить произведение современного искусства. А отсутствие таковых послужит основанием для квалификации произведения как творения «популяр-арта».
Весьма тонкая, чреватая ошибками, операция. Но только так эстетика может освоить новое для нее проблемное поле: действительно «современное искусство», особенности его мышления и языка. А творения «популяр-арта» оставит для исследований «популистики».
Литература
1. Бакштейн И. О феномене воспроизводимости в изобразительном искусстве // Современное искусство: история, тенденции, перспективы развития. Нижний Тагил, 1999.
2. Бинкли Т. Против эстетики // Американская философия искусства. Екатеринбург, 1997.
3. Кенник В. Основывается ли традиционная эстетика на ошибке? // Американская философия искусства. Екатеринбург, 1997.
4. Малышев И.В. Искусство и философия: от модерна к постмодерну. М.,2013.
5. Сальников В. Произведение искусства и автор в 1990-е годы // Современное искусство: история, тенденции, перспективы развития. Нижний Тагил, 1999.
Заключение. Будущее эстетики
Рассмотрев итоги развития советской, Западной и современной российской эстетики, мы констатировали ее кризис. Как было выяснено, ближайшей причиной кризиса эстетики является ущербность ее философской методологии.
Советская марксистская эстетика к 80-м годам ХХ века вошла в полосу кризиса, так как исчерпала креативные возможности прежних методов познания своего предмета (гносеологического, аксиологического, семиотического, системно-структурного). Она остановилась на эмпирическом (в этом смысле – феноменологическом) этапе восхождения от конкретного к абстрактному знанию, не выйдя к познанию сущности эстетического и искусства. Причина – неприменение диалектики как метода познания.
Западная эстетика периода модернизма (первой половины ХХ века) также потерпела фиаско. Так как узость исходных философских позиций неизбежно ограничивала познание искусства лишь той или другой его гранью. Феноменологи успешно исследовали способ существования произведения, структуралисты – его строение, фрейдисты – мотивацию художественного творчества, хайдеггерианцы – его истоки, позитивисты – специфику художественного языка и т. д. Но сущность искусства при этом оказалась не уловлена. На что справедливо указывали и советские авторы, и представители постмодернистского антиэссенциализма (1).
Позиция же самих антиэссенциалистов (том числе сторонников «институцианальной», «кластерной» и пр. теорий): «искусство есть то, что таковым называется», вообще означала теоретический суицид эстетики и философии искусства. Ибо обрекала теорию лишь на описание артефактов, претендующих на искусство. То есть низводя философию искусства до уровня эмпирической культурологии.
Но ущербность методологий – это лишь ближайшие причины кризиса эстетики. Более глубинные детерминанты имеют социокультурный характер.
Если иметь ввиду советскую эстетику, то ее прогрессирующий кризис 80-х годов очевидно связан с демонтажом социалистического проекта общественного развития. А в связи с этим и с отказом от марксизма как философского метанарратива.
Постмодернистская же эстетика антиэссенциализма – лишь последняя стадия демонтажа идеологии Просвещения, проекта Модерна. Что в сфере философско-эстетической получило свое выражение в поэтапном «преодолении» логоцентризма, системности, объективности, отказа от истинности и научности. В связи с чем происходил и отказ от больших метанарративов, порождение микроповествований, все более субъективно осмысливающих все более частные фрагменты реальности, культуры и искусства. Это движение от рационального познания рационального у Г.Гегеля через рациональную систему познания иррационального у А.Шопенгауэра и иррациональное повествование об иррациональном Ф.Ницше и Н.Бердяева к эссеизму позднего М.Хайдеггера, М.Бланшо вплоть до эпистемологического анархизма П.Фейерабенда. То есть до эссеистического субъективного самовыражения авторов или каталогизирования артефактов постмодернизма в «популистике».
Параллельно и во взаимодействии с философско-эстетической мыслью аналогичный процесс происходил и в искусстве. От художественного метанарратива буржуазно-демократического классицизма через последовательное «преодоление» его логоцентризма и системности в романтизме, реализме, импрессионизме, экспрессионизме, дадаизме, абстракционизме к «нехудожественной самодеятельности «популяр-арта». То есть к отрицанию самого себя, к выражению неспециализированного обыденного сознания (подробнее см.: «Искусство и философия: от модерна к постмодерну» (2).
Таким образом, антиэссенциализм «популистики» и «популяр-арт» постмодернизма представляют собой закономерный этап демонтажа задуманного Просветителями проекта Модерна и соответствуют современному состоянию буржуазной культуры. Отсюда следует, что именно они сохранят положение ее мейнстрима на ближайшее обозримое будущее.
Судьба же эстетики, то есть теории, сохраняющей эссенциалистский подход к исследованию эстетического и художественного, – существовать в маргиналиях культурного пространства. Это касается и таких модернистских направлений как феноменологическая, позитивистская, экзистенциалистская, фрейдистская эстетика, так и христианизированного платонизма и марксизма.
Лишь тогда, когда общество выдвинет и, главное, массово поддержит принципиально антибуржуазный социальный проект и на этой основе сформулирует большой мировоззренческий нарратив, только тогда будут возможны изменения и в судьбе эстетической науки.
Если иметь ввиду Россию, то усилия современного государства на реставрацию идеологии «За Веру и Отечество» может на какое-то время навязать обществу доминирование искусства религиозного символизма и соответствующей эстетики христианизированного платонизма (типа живописи и скульптуры последователей Ильи Глазунова и «Эстетики» В.Бычкова). Но это будет лишь антибуржуазной рефеодализацией культуры. Перспективы же марксистской эстетики еще более неопределенные. Однако, поскольку ничего кроме социализма в посткапиталистической перспективе человеческая мысль не смогла предложить, то можно надеяться, что рано или поздно, но возрождение марксистской эстетики произойдет.
Конечно, перспективный социальный проект – это именно демократический социализм. В соответствии с которым диалектический материализм, как фундаментальная основа марксизма, ассимилирует в себе и на своей основе все частные, фрагментарные нарративы модерна и постмодерна. Продолжая тем самым традиции Франкфруртской школы (Т.Адорно, Г.Маркузе), позднего Ж.-П.Сартра и советских эстетиков. Можно предположить, что и в искусстве реализуется тенденция к большому художественному нарративу, художественному методу осмысления реальности, синтезирующему в себе частные открытия искусства модернизма и постмодернизма. Как это наметилось в творчестве Френсиса Бекона, Билла Виолы, Вадима Сидура, Сергея Пономарева, Алфреда Шнитке.
На этой мировоззренческой, философской, художественной основе и произойдет возрождение эстетики.
Литература
1 Кенник У. Основывается ли традиционная эстетика на ошибке? // Американская философия искусства. Екатеринбург, 1998.
2 Малышев И.В. Искусство и философия: от модерна к постмодерну. М.,2013.
Мемуары
Советские эстетики: несколько зарисовок
В своей работе «Золотой век советской эстетики» (М.,2007) я описал уже историю ИДЕЙ эстетики позднего советского периода. Здесь я хочу дополнить эту историю несколькими портретными зарисовками тех ЛЮДЕЙ, которые создавали этот золотой век отечественной науки. Хочу сразу оговорить, что предлагаемые заметки – сугубо субъективные впечатления от контактов с «портретируемыми», то есть написаны они в жанре личных мемуаров.
* * *
Марат Нурбиевич Афасижев. К счастью, живой и действующий представитель минувшей эпохи. Первое знакомство с ним было заочным. В начале семидесятых годов вышла серия его очень качественных работ о фрейдизме, неофрейдизме и в целом о проблемах художественного творчества в современной Западной эстетике. В условиях информационного голода о действительных процессах, протекающих в немарксистской эстетике, это был «прорыв блокады». (Правда, позже он как-то признался, что терпеть не может сюрреализм, который, как известно, является художественным коррелятом фрейдизма). Позже была блестящая монография об эстетике Им. Канта, теоретическая концепция эстетического чувства красоты и т. д., и т. д., вплоть до серии монографических исследований истории взаимосвязей изображения и слова, опубликованных в последнее время. Но здесь я хочу остановиться на впечатлениях о его личности.
А Марат Нурбиевич незаурядная. Даже если судить по фактам биографии. Родился в адыгейском ауле, закончил мореходное училище в Ростове на Дону, несколько лет плавал на кораблях сначала штурманом, затем капитаном. И одновременно заочно учился на филологическом факультете Ростовского университета. (Как он сам рассказывал, преподаватель латыни укорял нерадивых его сокурсников: «Вот Афасижев плавает по морям, а у доски не плавает»). С дипломной работой об эстетике Достоевского поступил в аспирантуру Института философии РАН. Там же написал и защитил диссертацию по фрейдистской эстетике, благо пригодилось знание нескольких иностранных языков. Затем (пропуская детали) старший научный сотрудник кафедры эстетики МГУ, докторская диссертация и – главный научный сотрудник сектора теоретического искусствознания в Государственном институте искусствознания, где и работает до сих пор.
Незаурядный жизненный путь, крупный ученый! И при всем при том, «теплый» человек, душевный и добрый. С высоты своего интеллектуального уровня снисходительный к писаниям начинающих молодых эстетиков, которых он поддерживал и поддерживает до сих пор. Кроме того, что он был оппонентом моей кандидатской диссертации, довольно спорной по тем временам, я был свидетелем ситуации, где проявилась его доброта, на мой взгляд, даже чрезмерная. Марат Нурбиевич был научным консультантом одного молодого докторанта из Перми. Защита должна была состояться в Институте искусствознания в Козицком переулке. Но по какой-то причине в день защиты долго не было ясно, состоится ли она. На всякий случай докторант заранее не озаботился подготовкой к «главному» – к банкету. Когда же стало ясно, что защита все-таки состоится, Марат Нурбиевич, чтобы диссертант не отвлекался, сам отправился в Елисеевский (благо, что рядом), закупать необходимое для банкета.
Обладающий фундаментальными знаниями истории европейской культуры, Марат Нурбиевич, может быть вследствие лиричности своей натуры, особо большой любитель и знаток музыки, преимущественно вокальной, романтического склада. Само собой, любит и знает литературу, причем, на языке оригинала (может при случае процитировать что-нибудь из Горация). И вообще – красивый человек. Высокий, стройный (сейчас, конечно, ссутулился), чья седина эффектно контрастировала с любимыми им одно время черными кожаными пиджаками; плюс эрудиция, плюс широта натуры.
Таков, в моем представлении, Марат Нурбиевич Афасижев – выдающийся специалист по истории эстетики и эстетического сознания.
* * *
Аркадий Федорович Еремеев. Это был крупный, с годами грузный, с правильными чертами лица и русой шевелюрой представительный мужчина – типичный русский… барин. Такое прозвище и было у него в его окружении. Глава Уральско-сибирской школы эстетиков, которую он создал и возглавил с середины 60-х годов. Выпускник филологического факультета Уральского университета в 1962 году он защищает кандидатскую диссертацию по эстетике, в 1966 году, в 33 года (!) возглавляет вновь организованную кафедру эстетики и этики философского факультета, в 1971 (в 38 лет!) защищает докторскую, а в 1973 становится профессором – блистательная карьера талантливейшего человека.
В сфере его научных интересов были, по сути, все теоретические проблемы эстетики, что отразилось в капитальном трехтомнике его «Лекций» по эстетике. Особый же ракурс рассмотрения этих проблем – в социологическом, историко-материалистическом их анализе. В решении проблемы прекрасного и шире – эстетического Аркадий Федорович входил в группу так называемых «общественников», эстетическое трактовалось им как объективная социальная ценность. В русле своей концепции социально-коммуникативной природы искусства А.Ф.Еремеев детально и обстоятельно рассмотрел все этапы художественно-коммуникативного процесса, создав тем самым фундаментальную теорию художественного творчества.
Насчет личностных качеств Аркадия Федоровича судить мне трудно, хотя и приходилось сталкиваться с ним неоднократно. Так как всегда чувствовалась дистанция: все-таки «Барин», к тому же, кроме прочего, еще и сопредседатель всесоюзного Проблемного совета по этике и эстетике. В этом качестве он курировал эстетическую науку и преподавание эстетики (включая и идеологическую составляющую) на всей территории СССР. И хотя об отрицательных последствиях его инспекций не было ничего известно, все-таки на всякий случай, принимали его везде максимально хлебосольно, развлекая «культурными программами».
Мне пришлось поучаствовать в «культурном сопровождении» его визита в Ростов на Дону, куда он был приглашен философским факультетом университета для чтения лекций. К высокому гостю была прикомандирована в качестве «культурного гида» моя жена Мая Яковлевна, с которой Аркадий Федорович был знаком, так как был оппонентом ее кандидатской диссертации. Она решила свозить подопечного в старинную столицу донского казачества, в Старочеркасск, куда нужно было плыть по Дону на теплоходе. То есть, по замыслу, приобщить и к местной природе, и к местной истории. Конечно, было и то, и другое. Но мне больше запомнилось, как уже на теплоходе мы, то есть я и Аркадий Федорович, начали с коньяка, а кончили в Старочеркасске, кажется, пивом, а затем на песочке, пригретые солнцем, заснули под шелест волн Тихого Дона. В этом же духе, дегустируя грузинскую кухню и грузинские вина, я общался с Аркадием Федоровичем в Тбилиси, куда он прилетел с Урала, что бы быть оппонентом на защите моей докторской диссертации. На основе такого, явно однобокого, опыта у меня и сложился образ Аркадия Федоровича как личности возрожденческого типа, органично сочетающей высоты духовно-интеллектуального с телесно-чувственными сторонами жизни.
К сожалению, более содержательные контакты с ним у меня не получились. Мы обменивались открытками, своими работами. Но когда в своем отзыве на его статью я допустил критическое замечание (высказанное очень деликатно), он обиделся и переписка прервалась. Последний раз я видел Аркадия Федоровича Еремеева в середине 90-х на Всероссийской конференции в Ленинграде. Он был грустен, уже не пил, даже пива. И вскоре умер, не очень старым, в 69 лет.
* * *
Моисей Самойлович Каган – высокий, сухощавый, с тонкими усиками над верхней губой, похожий скорее не на еврея, а на поляка, джентльмен. Неформальный лидер советской эстетики 60-х – 80-х годов. Хотя отнюдь не общепризнанный, особенно в Москве и тем более в Институте философии РАН. Номинально – профессор философского факультета Ленинградского университета. Но дважды изданные – в 60-х и в начале 70-х годов – его «Лекции по марксистско-ленинской эстетике» заслуженно пользовались огромной популярностью среди специалистов и оказали большое воздействие на все состояние советской эстетики. (Мы с женой купили даже два экземпляра его «Лекций» и шутили: «на случай развода»).
В его «объективно-субъективной» концепции эстетического и природы художественного образа молодое поколение эстетиков увидело перспективы более адекватного осмысления предмета науки, консервативно же настроенные представители старшего поколения – отход от основ марксизма. Что проявилось в «обсуждении» (скорее, осуждении) монографии М.С.Кагана «Морфология искусства» в 1974 году в Академии художеств, где он был всячески идеологически заклеймен (при активном участии представителя Института философии М.Лифшица).
Как теоретик, М.С.Каган был, что называется, «генератором идей». Правда, не всегда эти идеи он до конца продумывал до публикации. Поэтому часто позже вносил в них поправки. Но зато всегда был на острие развития науки. Так, он один из первых в советской эстетике применил (последовательно) аксиологический, семиотический, деятельностный и, наконец, культурологический подходы к анализу эстетической проблематики.
На конференциях М.С.Каган восседал в президиуме, в перерывах – окруженный поклонницами из среды ученых дам. Короче, был на Олимпе и, видимо, органично там себя чувствовал. Тем неожиданнее для меня было его терпимое отношение к инакомыслию и даже к критике в свой адрес. (Правда, это мой, ограниченный опыт. Каков этот «олимпиец» был в тесном общении с коллегами по кафедре, мне не известно). Когда рукопись моей монографии, в которой я излагал свою позицию по проблеме эстетического, существенно отличающуюся от кагановской, была послана ему на рецензию (явно с расчетом, что таковая будет отрицательной), он, тем не менее, дал положительный отзыв. Позже, уже в 90-х годах, в ответ на посланную ему мою книгу он прислал свою «Музыка в мире искусств» с просьбой высказать впечатление о ней. Чтение его книги оказалось столь плодотворным, что подтолкнуло меня к аналогичной тематике, но с несколько иными теоретическими результатами. По одному из пунктов разногласия я написал, что «концепция М.Кагана не выдерживает критики», и послал свою книжку («Музыкальное произведение: эстетический анализ») ему. Тут бы «олимпийцу» и возмутиться, но вместо отповеди я получил в целом положительный отзыв, правда, с замечанием, что с моим мнением он не согласен.
Но все-таки наибольшее впечатление на меня оказала мировоззренческая принципиальность М.С.Кагана. В 90-х годах, в условиях антисоциалистической, антимарксистской истерии, когда многие, ранее правоверные «марксисты», отказались от своих взглядов, он, которого в советское время довольно жестко критиковали за отступления от догм, сохранил верность своим марксистским убеждениям. О чем свидетельствуют и «Философия культуры», и «Эстетика как философская наука», и другие его последние публикации.
* * *
Семен Хаскевич Раппопорт: невысокий, полноватый, нос крючком, глаза с косиной, голос с каким-то металлическим оттенком…Студенты консерватории, где он преподавал, и мучил их на экзаменах, не без основания сводили с ним счеты: «Когда я вижу Раппопорта, встает вопрос такого сорта: «Зачем же мама Раппопорта себе не сделала аборта?». Но женщины его любили, подпадая под обаяние его ума, и он их любил тоже, причем, весьма.
Мощная «интеллектуальная машина», крупнейший теоретик эстетики советского периода. Его отличала тщательная, фундаментальная проработка тем, за которые он брался. Так, обратившись к теме «Искусство и эмоции», привлек данные психологии (труды А.Н.Леонтьева, П.В.Симонова) и физиологии высшей нервной деятельности. В результате, обосновал свою концепцию эмоций как особой формы отражения действительности, что являлось принципиально важным для понимания гносеологических особенностей художественного, особенно музыкального, мышления. Гносеологию эмоций и художественного мышления он связал с социологией, обосновав их детерминацию особым «личностным» уровнем общественной практики. Тем самым, фактически, С.Х.Раппопорт двигался к синтезу концепций марксизма и экзистенциализма. В этом ключе в монографии «От художника к зрителю» он, применяя методы семиотики, осуществил тонкий анализ специфики художественной коммуникации.
На мой взгляд, как теоретик, С.Х.Раппопорт явно недооценен. Сейчас – понятно, но и в советское время он не был особо известен «широкой научной общественности», в отличие, например, от М.С.Кагана. Причин тут несколько. И довольно тяжеловесный, вязкий стиль, и углубление в детали, но главное, он не принадлежал ни к одной из «школ», сложившихся в советской эстетике (ни к ленинградской, ни к московской, ни к уральской). Показательна для положения С.Х.Раппопорта в советской эстетике его попытка налаживания контакта между оппонирующими группировками, когда после Всесоюзной конференции (году в 1972) он пригласил их представителей к себе, так сказать, на нейтральную территорию. Чтобы выпить и поговорить. Что и произошло в мастерской знакомого скульптора, переделанной из какого-то хозяйственного строения; как любил вспоминать А.Ф.Еремеев, «в какой-то трансформаторной будке». Еще одна причина малой известности С.Х.Раппопорта заключалась в том, что ему не хватало последователей и пропагандистов его идей, которыми обычно становятся аспиранты. А их было немного, что объясняется его работой в консерватории (а не на философском факультете университета, где работали его более популярные коллеги).
Я как раз один из этих немногих, и если и сделал что-то в эстетике, то только благодаря фундаменту, заложенному за время обучения в гнесинской аспирантуре у С.Х.Раппопорта под его непосредственным воздействием. Воздействие это не было однозначно положительным. Уж очень сильно он давил, навязывал свою точку зрения аспирантам, подавляя их самостоятельность. Я лично чуть не «сломался». Меня спасло только то, что как-то, после того как я сказал, что если выполню его замечания, то будет вторая его работа, он в сердцах бросил: «черт с тобой, пиши, что хочешь».
Лекции студентам консерватории Семен Хаскевич читал блестяще, в академическом стиле логично выстраивал материал, сдабривая его отступлениями, яркими примерами. Но особой любовью, похоже, у студентов-музыкантов (к примеру, у духовиков) не пользовался, так как (по их мнению) терзал их на экзаменах. Не помогали иногда даже открытые коленки у студенток, которые специально на экзамен одевали мини-юбки, зная слабость профессора. В 90-х годах его бывшая аспирантка, став завкафедрой, отстранила его от преподавания студентам, оставив ему «нишу» в виде аспирантских курсов. Что, наверное, было для него болезненно. Но как теоретик С.Х.Раппопорт продолжал активно работать. И в 2000 году, за пять лет до смерти, будучи уже в весьма преклонном возрасте, опубликовал свою «Эстетику».
* * *
Евгений Георгиевич Яковлев – заведующий кафедрой эстетики МГУ. Эту должность Евгений Георгиевич наследовал у Михаила Федотовича Овсянникова, основателя первой специализированной кафедры эстетики в СССР и в силу этого заложившего основы «Золотого века» советской эстетики. И при Михаиле Федотовиче, и при Евгении Георгиевиче кафедра представляла собой некий центр эстетического движения, избегая крайностей модернизма и консерватизма. Но главное, она была кузнецой кадров эстетики, уделяя особое, покровительственное внимание представителям провинции.
Евгений Георгиевич, (высокий, симпатичный, с «чеховской бородкой» обладатель бархатного баритона (и жена у него под стать – красавица)), как теоретик эстетического придерживался классической традиции, о чем свидетельствует его книга «Эстетическое как совершенное». В этой традиции он разработал оригинальную разветвленную систему категорий эстетики. Естественно, что он критически отнесся к современным проявлениям постмодернизма в эстетике, к отрицанию объективности эстетического и системности эстетики как науки. Особый вклад Е.Г.Яковлева в эстетику состоял в том, что в условиях официального атеизма и рационализма он очень тактично и со знанием дела рассмотрел взаимоотношения искусства и религии и, более того, обратился к изучению религиозной эстетики Востока.
Лично я вполне испытал благожелательное отношение и поддержку со стороны членов возглавляемой им кафедры: и на предзащите, и на защите моей кандидатской диссертации. Елена Васильевна Волкова даже была «черным», но благожелательным, рецензентом моей докторской по линии ВАКа. Евгений же Георгиевич, будучи в редколлегии «Философских наук», опубликовал мою статью (что для провинциального преподавателя было большим везением); а позже, когда я перебрался в Подмосковье, пригласил быть членом Ученого совета по защитам, предложил читать спецкурс, короче, всячески покровительствовал. Чему я благодарен.
* * *
Естественно, что мемуарный жанр этих заметок ограничивает круг «персонажей» лично знакомыми представителями советской эстетики, причем, только теми, о ком сохранились хорошие воспоминания. Были и другие, отрицательные «персонажи» в моей биографии. Но о них писать не стоит.
Эстетика как авантюра
Авантюра (фр. aventure – приключение) – рискованное и сомнительное дело, предпринятое в надежде на случайный успех.
Словарь ОжеговаЭстетиком я решил стать в армии. До этого я был музыкантом. И в армию меня забрали с четвертого курса Уральской консерватории. Конечно, и в консерватории была эстетика в качестве учебной дисциплины. Но она игнорировалась, как и все другие общеобразовательные предметы. Ибо все было сосредоточено на специальности и на работе в симфоническом оркестре Свердловской филармонии. Это с одной стороны. С другой же – преподаваемая марксистская эстетика в то время – в середине шестидесятых годов – находилась еще в зачаточном состоянии. Ее только-только ввели в качестве учебной дисциплины. И бедный преподаватель, терзаемый ехидными вопросами студентов, особенно связанными со спецификой музыки, просто не имел возможности найти убедительные ответы. При том, что сам преподаватель вызывал у нас чувство симпатии. Это был молодой выпускник философского факультета МГУ Геннадий Иванович Солодовников – человеке демократичный и интеллигентный, который отнюдь не давил на наше сознание идеологическими штампами. Много позже я случайно встретил его во время летнего отдыха в Тарусе и искренне высказал свою симпатию за кружкой пива.
Но оказавшись в армии, я взглянул на себя «со стороны». Благо, для этого появилась возможность. До этого, с шести лет, когда мама отдала меня «на скрипку», все было предопределено: музыкальная школа, училище, консерватория; «технический» (экзамен), «академический» (концерт), семестровый и годовой экзамены. А тут, в уральских лесах, в дивизии ракет стратегического назначения, в дивизионном духовом оркестре, в котором я играл на большом барабане, появилась возможность осознать себя.
В результате я пришел к выводу, что, условно говоря, каждый пятый встречный способней меня музыкально, но не каждый пятый – умнее.
Да и опыт работы в симфоническом оркестре подтверждал такой вывод. Пока я осваивал репертуар, было интересно. Но когда освоил, стал играть механически. В то время как рядом сидели опытные музыканты, которые «в сотый раз» исполняли, допустим, Пятую симфонию Чайковского с полной эмоциональной отдачей. К тому же, моя жена (а женился я на Мае Кармазиной еще до армии) по окончании худграфа Нижнетагильского педагогического института была оставлена в институте в качестве преподавателя курса эстетики. Это придало моим размышлениям о будущем конкретную направленность: не попробовать ли себя в науке, занявшись эстетикой. Коль в музыке я, похоже, приблизился к потолку своих возможностей. Поэтому, демобилизовавшись в 1967 году из армии и начав работать преподавателем в Н-Тагильском музыкальном училище, я стал готовиться к поступлению в аспирантуру по эстетике.
Формой такой подготовки и одновременно способом профессиональной переориентации я выбрал экзамены кандидатского минимума. В пединституте поступил на курсы иностранного языка, в Свердловске в университете взял списки вопросов и литературы по философии и эстетике. И засел в библиотеках. А библиотеки в Тагиле были хорошие. Особенно так называемая «педагогическая». В ней царствовал сурового нрава и такого же вида черноволосый, с нестриженой большой бородой мужик (именно так, не скажешь же – «мужчина»), наверное, старообрядец. Книжные фонды он собрал великолепные, особенно по философии и психологии. Ту же литературу, которая отсутствовала в тагильских библиотеках, я выписывал из Ленинки по межбиблиотечному абонементу.
Но для «прикрепления» для сдачи кандидатских экзаменов и для экзамена по эстетике нужен был еще и реферат с заявкой на тему исследования. В качестве таковой, естественно, стала та, что была мне ближе. Что-то вроде «Диалектика объективного и субъективного в творчестве музыканта-исполнителя». Кое-что по теме начитал, кое-что сам надумал и отвез свой труд в Свердловск на рецензию доценту университетской кафедры эстетики В.Лукьянину. Через какое-то время, явившись за результатами, услышал: «теоретически никуда не годится, единственно, что стиль неплохой». Это был удар, точнее, даже двойной удар. Так как стиль моего труда правила жена, поскольку у самого меня получалось коряво и нечитабельно.
Пережив это поражение, я учел замечания, получил, наконец, положительную рецензию и был допущен к экзаменам. Которые сдал весьма посредственно. Что не удивительно. За год-полтора переквалифицироваться из альтиста в философа со знанием иностранного языка, естественно, невозможно. Но я относился к экзаменам как к чисто техническим препятствиям, которые следует преодолеть. И потому, когда на экзамене по марксистско-ленинской философии профессор Л.Архангельский с сожалением спросил меня: «ставить тройку?». Я, не моргнув, согласился. Еще более авантюрной была сдача экзамена по немецкому языку. По условиям экзамена нужно было продемонстрировать перевод без словаря текста по избранной специальности. Поскольку сдавали экзамен представители самых разных специальностей: от физиков до философов, то экзаменаторы вынуждены были разрешить принести эти тексты нам самим. У меня была толстенная монография на немецком Зофьи Лиссы «Эстетика киномузыки», что было вполне солидно и подходило к требованиям. Секрет же состоял в том, что я так ее перегнул, что она неизбежно открывалась на тех страницах, которые я предварительно, естественно, со словарем, перевел.
Короче, экзамены были сданы. Но с моей проблематикой в аспирантуру Уральского университета меня взять не могли. Ведущие специалисты кафедры эстетики и А.Еремеев, и В.Лукьянин были по основному образованию филологами и лишь недавно (кафедра образовалась в 1964 году) начали осваивать новую для них специальность. Они не захотели связываться со столь специфической темой как деятельность музыканта-исполнителя.
Естественно было обратиться к музыкальным вузам. В свердловской Уральской консерватории аспирантуры по эстетике не было. Не помню как, но я связался с профессором Ленинградской консерватории, известным специалистом по теории исполнительства Л.Раабеном и переслал ему свой реферат. Через какое-то время, после ряда моих звонков, он, дав в целом положительный отзыв, сказал, что передаст реферат профессору А.Сохору как специалисту по музыкальной эстетике. Затем начался довольно длительный период звонков Сохору: «нет, еще не прочитал», «извините, был очень занят». А дело подходило к сентябрю, к дате вступительных экзаменов в аспирантуру. И потому, когда Мая (моя жена) поехала в Москву, я попросил ее передать мой реферат профессору Московской консерватории Раппопорту. Семен Хаскевич Раппопорт не был специалистом по музыкальной эстетике. Его работы были посвящены фундаментальным проблемам специфики художественного мышления, которые он исследовал, опираясь на данные психологии и физиологии высшей нервной деятельности. На меня произвела впечатление его, изданная в то время, монография «Искусство и эмоции», открывавшая новые возможности познания природы музыки. Теперь начались звонки уже в Москву и, наконец, приглашение для встречи.
Встретились мы на Тверском бульваре. В одном из домов, выходящих на бульвар, Семен Хаскевич снимал комнату, как он говорил, в качестве кабинета для занятия наукой (хотя, как я предполагаю, зная его любвеобильность, не только для этого). Сели на одну из скамеек и я услышал резюме по поводу реферата: «Это никуда не годится… Но есть полет» (видимо, мысли). И потому он согласен взять меня в аспирантуру в Гнесинке (ГМПИ им. Гнесиных), где он подрабатывал на полставки. А через несколько дней я получил открытку от А.Сохора, в которой он сообщал, что мой реферат он, наконец, прочитал и готов взять меня к себе в аспиранты. Пришлось звонить и извиняться. Так закончилась авантюра моего превращения из альтиста в эстетика. Конечно, превращения только формального. Так как по существу я находился только в самом начале овладения этой замечательной наукой.
К тому времени под влиянием феноменологической эстетики, особенно работы Романа Ингардена «Музыкальное произведение и вопрос его идентичности», я увлекся проблемой способа существования произведения искусства, что и стало темой моей диссертации. Не все у феноменологов меня устраивало. Точнее, была блестящая постановка проблемы, был плодотворнейший метод «расслоения» при анализе строения произведения. Но конечный вывод Ингардена о бытии музыкального произведения как интеционального предмета, существующего независимо от его исполнения и восприятия, не убеждал… Я попытался дополнить феноменологическую методику семиотическим подходом к анализу строения и способа существования художественного произведения. Что было следствием и непосредственных контактов с Раппопортом как научным руководителем, так и общего увлечения наиболее «продвинутых» эстетиков того времени семиотикой.
В результате интенсивной работы (по восемь часов ежедневно в 3-ем научном зале Ленинки) через два с половиной года, к осени семьдесят второго диссертация была готова. И отдана в ГИТИС, где был Совет по защитам. Все, вроде, шло блестяще.
Но тут началось.
На предзащите на кафедре марксизма-ленинизма диссертация была обвинена в субъективизме, махизме и прочих грехах отступления от марксизма. И не была допущена к защите. Вне протокола зав. кафедрой Гусев сказал Раппопорту: «талантливо, но тем хуже». Раппопорт тихонько, не споря, чтобы не обострять, забрал диссертацию. Но Гусев на этом не успокоился. Он возглавлял какую-то комиссию при Министерстве культуры России, ведавшей преподаванием общественных дисциплин в профильных вузах. И на всероссийском совещании заведующих кафедр придал этому факту официально-идеологическое значение. Мы с женой узнали об этом, будучи в гостях у наших московских знакомых. Которые и рассказали нам, что останавливавшаяся у них зав. кафедрой Новосибирской консерватории после этого совещания с ужасом говорила, что «в Гнесинке, Малышев, субъективизм, махизм!».
Сейчас смешно. Но тогда министерство запретило распространение гнесинского сборника с моей статьей. А Раппопорт с зав. кафедрой Гнесинки вынуждены были идти в министерство, доказывать, что никаких отступлений от марксизма в моей диссертации нет, и требовать направить мою статью на более квалифицированную экспертизу в МГУ. И действительно, диссертация была вполне марксистской, просто не укладывалась в существующие стандарты, более всего применением методов семиотики, которая тогда была под большим идеологическим сомнением. Конечно, суть заключалась в выводах, вытекающих из семиотического подхода, а именно о зависимости существования произведения от его индивидуальных интерпретаций в соответствии с интерсубъективными нормами художественного языка. Что противоречило бытующим тогда положениям об объективности бытия произведения, которые базировались на следовании догматически интерпретируемой ленинской теории отражения. Кстати, в это же время и на том же основании в Академии художеств была подвергнута идеологическому осуждению монография М.Кагана «Морфология искусства». То есть я попал под кампанию борьбы за чистоту марксизма-ленинизма. А как тогда говорили, легче попасть под трактор, чем под кампанию.
Результатом было то, что я «беззащитным» уехал в Ростов на Дону, куда перебралась моя семья, и в этом качестве проработал там в музыкально-педагогическом институте целых семь лет. Дело в том, что вскоре, в году в 1974 началась реорганизация ВАКа. Три года диссертационные советы не работали. За это время выросли большие очереди на защиту. И лишь в 1979 году по сути тот же текст диссертации был благополучно мной защищен в Московском государственном университете.
Начав преподавательскую работу, читая курс эстетики, я оказался, как и все преподаватели общественных наук, под плотным контролем КГБ. У каждого вуза был свой «куратор» от этой организации. Поскольку электроника была еще не развита, то в каждом лекционном потоке был студент-стукач. Я даже «вычислял» таких и пару раз на экзаменах был объектом шантажа с их стороны. Типа: «У вас не все в порядке с идеологией», что подразумевало: ставьте тройку, а не двойку. Хотя, конечно, времена уже были «вегетарианские». Дозволялось слегка левачить, работать «на грани фола». Чем я и занимался. Наиболее подозрительные с точки зрения официоза положения лекции прикрывались цитатами из классиков марксизма-ленинизма. А они – классики – были поумней идеологов КПСС. К примеру, критический заход в адрес идеологической иллюстративности произведений соц. реализма подкреплялся цитатой из Энгельса о «дурной тенденциозности». Объективный анализ различных течений в современной Западной эстетике сопровождался цитатой из Ленина о том, что «идеализм есть ничто лишь с точки зрения материализма грубого, вульгарного». Особое внимание к эстетике Плеханова (который был под подозрением из-за его «меньшевизма») опиралось опять же на Ленина, который когда-то сказал, что каждый коммунист должен знать все, что Плеханов написал по проблемам философии. И т. д. Сейчас это может выглядеть как остроумная казуистика. Но тогда от этого было противно.
Тем более, что многое, что хотелось сказать, не говорилось. Дело в том, что я, как и значительная часть интеллигенции 70-х годов, сформировался под воздействием общественной атмосферы хрущевской оттепели. У нас, «шестидесятников» официальная критика сталинизма породила надежду, что социализм может быть демократичным, гуманным обществом. Отсюда критичное отношение к сохраняющему свои основы тоталитарному господству партийной бюрократии. Тем более – к частичной ресталинизации общественных отношений в послехрущевский период. К середине семидесятых я вообще прошел к выводу, что общество, в котором живу, социалистическим не является. Ибо, кратко говоря, без демократии социализм не возможен. И даже написал трактат в обоснование этого тезиса. Но пустить его в «самиздат», в нелегальное распространение не решился. Не решился сесть в тюрьму. Чем неизбежно кончилось бы это предприятие.
Поэтому осталось лишь следовать компромиссному принципу: «не можешь говорить, что думаешь, не говори, что не думаешь». В эстетике, так же как в философии, это значило уйти в предельно абстрактно-теоретическую проблематику. Не осознавая этих действительных мотивов, я заинтересовался проблемой сущности эстетического и решил ее сделать темой своей докторской (при том, что кандидатская еще лежала у меня в столе, не будучи защищенной). Когда об этом я сообщил С.Х.Раппопорту, он сказал, что тема безнадежная и бесперспективная. Так как уже лет пятнадцать она является предметом бурной научной дискуссии, которая так ни к чему и не привела. Тем не менее, я решил заняться этим «рискованным и сомнительным делом».
В ходе упомянутой дискуссии сложились три концепции сущности эстетического: так называемая «природническая», можно сказать онтологическая, и две аксиологические версии ее интерпретации. Я решил развить аксиологический подход к проблеме, в связи с чем углубился в проблематику генезиса системы человеческих потребностей и ценностей. Сформировав представление об общей системе ценностей, затем вписал в нее специфику ценности эстетической. При этом выяснилось, что онтологические свойства эстетического не «снимаются» ценностными, а представляют собой их диалектическую противоположность в единой сущности. Диалектически синтезирующая концепция сущности эстетического позволила затем сформулировать оригинальную диалектическую систему основных категорий эстетики. На эту работу ушло почти десять лет интенсивных занятий (в перерыв которых была защищена кандидатская). Наконец настал момент необходимости издания монографии, а значит выхода из уединения за рабочим столом в социум.
А философский социум в Ростове на Дону представлял собой довольно жестко иерархизированную систему. Для того, чтобы опубликоваться в местном университетском издательстве, нужно было быть человеком системы. Как на грех, по молодости (то есть, принципиальности) я дал отрицательную рецензию на статью аспирантки профессора, возглавлявшего местную философскую пирамиду. Вследствие этого уже включение в план издательства стало проблемой. А когда в результате моих контрманевров монография все-таки была включена в предварительный проект плана, то она была послана на дополнительную рецензию в Ленинград М.С.Кагану. Явный расчет состоял в том, что рецензия будет отрицательной, так как в своей работе я критиковал концепцию Кагана за ее односторонность. Отягчающим обстоятельством было еще и то, что до окончательного утверждения плана издательства оставалось две недели. То есть все было продумано.
Но не тут-то было. Я позвонил Раппопорту, Раппопорт позвонил Кагану. Я написал «рыбу» рецензии в полном соответствии со стилем и возможными замечаниями Кагана, но, естественно, с положительным итогом. Взял с собой пишущую машинку, сел в самолет, и, когда утром профессор Каган вышел из дома, чтобы идти на работу, встретил его у подъезда. Попытки его отговориться недостатком времени были пресечены. Против стиля и замечаний рецензии у него возражений не было. А если бы и были, то имея машинку, перепечатать ее можно было бы быстро. Короче, рецензия была заверена в Ленинградском университете, а на следующий день она была представлена (к изумлению принимающего) в редакционно-издательский отдел Ростовского университета. Так монография была включена в план.
Моя история проявила общую ситуацию, свойственную философским и гуманитарным наукам, в которых в наибольшей степени сказываются социальные и экзистенциальные детерминанты познания. И в наименьшей степени действует принцип верификации его результатов. А в эстетике усугубляется еще и личным эстетическим и художественным опытом исследователя. Все это влияет на отношения в научном сообществе. Которое представляет собой сосуществование нескольких групп ученых, объединенных не только общностью теоретических воззрений, но и неформальными (дружескими, земляческими, национальными) связями. Каждая группа поддерживает своих (цитирует, положительно рецензирует, оппонирует на защитах) и тормозит научную карьеру, критикует или полностью игнорирует чужих. Такие группы образуются и на региональном, и на общегосударственном уровне. По сути, я смог выйти из под контроля региональной группировки только потому, что задействовал общероссийскую. Противоположный пример: мой коллега-эстетик А.Синицкий, будучи деканом философского факультета Ростовского университета, дал отрицательный отзыв на докторскую диссертацию представителя общероссийского клана. В результате, когда он сам вышел на докторскую, то на уровне ВАКа был завален. (Я могу об этом судить, так как читал его диссертацию, которая была не хуже, а многих и лучше, из тех, что были утверждены ВАКом). Так что научная карьера в философских и гуманитарных науках (об естественных судить не могу) зависит, к сожалению, не только от научной значимости работы ученого.
Подтверждает этот вывод и дальнейшая судьба моей монографии. В советские времена монографии по общественно-политической тематике, планируемые к изданию в провинции, посылались в Москву к так называемым «черным», то есть анонимным рецензентам. Может быть не все, но мою послали. И я получил отрицательный отзыв. Замечания были идиотские, не по существу, вплоть до: «автор мало использует работы Леонида Ильича Брежнева». Это к теме «Эстетическое в системе ценностей»! Я был взбешен. А жена сказала: хорошо, что идиотские и не по делу. Успокоившись, я просто выбросил строчки, не понравившиеся цензору, вставил цитату из Брежнева и написал в ответе, что благодарен за мудрые замечания уважаемого оппонента, которые позволили улучшить содержание моей монографии. Благодаря такой беззастенчивой лжи и лицемерию книга была допущена к изданию. Но тут умер Брежнев… И редактор выбросил все цитаты из Брежнева из окончательного текста. Так закончился очередной этап моих приключений.
Теперь нужно было защищаться. Но где? В Ростове докторских защит по эстетике не было. В МГУ тогда отрицали аксиологическую интерпретацию эстетического. С Киевом не сложилось, почему-то отпал Ленинград. Пришлось ехать в Тбилиси. И недалеко от Ростова, и разработка проблем аксиологии имела в Тбилисском университете солидную традицию.
Встретили меня гостеприимно. В ответ я произнес тост, то есть выступил на обсуждении книги зав. кафедрой эстетики Н.З.Чавчавадзе (книги, впрочем, очень неплохой). Но дожидаться, когда кафедра назначит обсуждение диссертации, пришлось довольно долго. Вообще, как я заметил, жизнь в Грузии тогда была неторопливой и комфортной. В Тбилиси множество уютных кафе и ресторанчиков с прекрасной кухней и винами. Очень хорошо и нарядно одетая публика. По контрасту некоторые профессора университета «хипповали» подчеркнуто простой и немодной одеждой. На кафедре эстетики – человека четыре не то лаборанта, не то еще кого-то, короче, бездельники. Никто и никуда не спешил. Мне же это стоило нескольких месяцев телефонных звонков, которые теперь (в отличие от ранней молодости) уже действовали на меня унижающе: соискатель как заискиватель. Наконец, диссертацию прочитали, я приехал на обсуждение и получил рекомендацию к защите. Все хорошо.
Но в назначенный срок защита не состоялась. Из-за отсутствия кворума, причем, именно специалистов по эстетике, в том числе и Н.Чавчавадзе. И это при том, что я приехал из Ростова, а один из моих оппонентов Аркадий Федорович Еремеев – с Урала! Единственно, что спасло меня тогда от инфаркта, было то, что Анзор Ткемаладзе повел нас с Аркадием Федоровичем в один симпатичный ресторанчик, и к вечеру я был мертвецки пьян. Чем начисто снял стресс.
Защиту перенесли на неделю. Но если бы и во второй раз она не состоялась, то пришлось бы заново печатать и рассылать автореферат с указанием новой даты защиты. Чтобы обеспечить кворум эстетиков, я отправился в Боржоми, где на курорте отдыхал Чавчавадзе. У него уже заканчивался срок путевки, и я, описав ситуацию, просил его приехать на защиту. Он обещал, угостил меня кофе в местной кофейне… И не приехал. Но почему-то другой член Совета, на которого я совсем не рассчитывал, на защиту явился. И все обошлось, закончившись тем же рестораном. Хотя банкеты в то время, в период ожесточенной борьбы с пьянством, были запрещены.
В 1985 году, еще до защиты диссертации, я переехал в Подмосковье и устроился на работу в Гнесинку, на ту же кафедру, на которой был в аспирантуре. Из тактических соображений я скрыл, что у меня есть монография и готовая диссертация. И, как выяснилось, не зря. Месяца три я спокойно работал «по приказу». Когда же дело дошло до конкурсного избрания на должность, и я выложил свои «козыри», случился скандал. На кафедре тогда был только один доктор наук, профессор. И преподавал он как раз эстетику. Заглянув в мою монографию, он заявил, что-то вроде того, что студентам это не нужно, студенты это не поймут. И даже пошел с этим к ректору, чтобы меня не провели по конкурсу.
Хорошо, что тогда у меня была хорошая реакция. Я тоже пошел к ректору и пригласил его на свою лекцию. Ректором Гнесинки был Сергей Михайлович Колобков, крупный музыкант, мудрый и демократичный руководитель. Он пришел, быстро просчитал ситуацию и…задремал, слушая про дискуссию среди эстетиков о природе прекрасного. Короче, меня провели на должность доцента. Но профессор не успокоился. И после моей защиты направил в ВАК донос, что где-то, кажется, по проблеме трагического, я расхожусь с точкой зрения Маркса. Пришлось мне «перезащищаться» на заседании комиссии в ВАКе. Но поскольку 87-й – это не 72-й, когда была моя история с кандидатской, то все кончилось благополучно. Все-таки «перестройка», «демократизация»…
Которые, как известно, кончились буржуазной контрреволюцией и расстрелом парламента. В 91 или в 92 году (точно не помню) на волне антикоммунистической истерии, следуя своим старшим товарищам «демократам», один студент решил очистить Гнесинку от скверны прошлого, так сказать, «раздавить гадину». Олицетворением чего был с его точки зрения профессор Малышев, которого следовало изгнать из института. (Понятно, что Малышев, так как другие члены кафедры общественных наук уже успели поменять свое мировоззрение). Он собрал подписи студентов под письмом с этим требованием и послал его в Министерство культуры, в газету и в прокуратуру. По обычной практике письмо вернулось в ректорат с резолюцией «разобраться». Было созвано собрание студентов и администрации, на котором с пламенной речью выступил организатор письма. Его основной аргумент, цитирую: «Малышев, хоть и меньшевик, но марксист».
То у меня были неприятности, поскольку де отступал от марксизма, а теперь – требование уволить с работы за то, что марксист. В атмосфере тех лет угроза увольнения была реальной, ситуация была напряженной. Но выступил другой студент и сказал, что Малышев один из лучших преподавателей. А главное, что ректором был С.М.Колобков. Другой бы не решился проявить нелояльность к новой власти. А он все спустил «на тормозах». Старая Гнесинка вообще отличалась тем, что любые, что коммунистические, что антикоммунистические, кампании тонули в ней как в болоте. Люди занимались в ней музыкой, атмосфера была патриархальная, семейная, может быть, идущая от основательницы вуза – Елены Фабиановны. В общем, все обошлось и на этот раз. И я продолжил работать по-прежнему, не скрывая своих марксистских убеждений.
К началу двухтысячных контрреволюция закончилась. Общество стабилизировалось на новых, капиталистических основаниях, и «охота на ведьм» коммунизма поутихла. Став профессором, я исчерпал возможности академической карьеры. Административная же меня никогда не привлекала. Издание книжек стало возможным за свой счет. Интернет вообще снял какие-либо препоны для публикаций. К тому же – постмодерн, мировоззренческий и гносеологический плюрализм. То есть я освободился от всех форм зависимости от социума, которые раньше порождали авантюрные сюжеты по их преодолению. Пиши и публикуйся (что я и делаю). И никто не обратит на тебя внимание. У каждого своя истина, своя эстетика и своя компания.
Скучно, господа-товарищи!



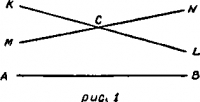

Комментарии к книге «Самопознание эстетики», Игорь Викторович Малышев
Всего 0 комментариев