Майя Евгеньевна Соболева Философская герменевтика: понятия и позиции
Общая характеристика понятия «герменевтика»
Определение герменевтики
Как многие философские понятия, понятие «герменевтика» не подлежит однозначному определению. Тем не менее, такие попытки время от времени предпринимаются, и я остановлюсь на наиболее распространенных из них.
В настоящее время под герменевтикой (что в переводе с греческого означает «объяснять», «объявлять», «истолковывать», «переводить») чаще всего имеют в виду универсальную теорию интерпретации знаков. Например, в стэнфордской дигитальной философской энциклопедии читаем: «The term hermeneutics covers both the first order art and the second order theory of understanding and interpretation of linguistic and non-linguistic expressions»[1].
Понимание герменевтики как науки об интерпретации языковых знаков восходит к практике толкования законодательных актов и религиозных догматов (например, Библии). Со времен своего зарождения герменевтика носила характер экзегезы и представляла собой вспомогательную, техническую дисциплину в рамках юриспруденции и теологии.
Широкое распространение термин «герменевтика» получает в Европе, начиная с семнадцатого века. Особая роль в этом процессе принадлежит Иоганну Конраду Даннхауэру, который охарактеризовал свой труд «Idea Boni Interpretis», опубликованный в 1630 г., как hermeneutica generalis[2]. Его «общая герменевтика» впервые была замыслена как междисциплинарная наука, в отличие от библейской герменевтики, hermeneutica sacra.
Начиная с эпохи Нового времени, не только расширяется область применения герменевтики, но и усложняются ее задачи. Наряду с пониманием герменевтики как размышления об условиях интерпретации знаков складывается представление о ней как размышлении об условиях возможности символической коммуникации вообще. Таким образом, герменевтика постепенно превращается в философию понимания[3]. В этой роли она становится «органоном» гуманитарных наук, сущность деятельности которых состоит в придании смысла изучаемым культурно-историческим феноменам и в понимании их смысла.
Важным этапом в развитии герменевтики можно считать так называемый ontological turn, осуществленный Хайдеггером. Одним из следствий этого «онтологического поворота» было обращение к проблеме понимания понимающего. На этом пути герменевтика превратилась в философскую рефлексию не только о возможности гуманитарных наук, но и о возможности и сущности самой философии. Тем самым она начала выступать как форма самоанализа философии, как философия философии. В качестве метафилософии она выполняет прежде всего критические функции, например, становится критикой идеологии (Юрген Хабермас), объясняет смену парадигм в науке (Ричард Рорти) или служит «окончательному обоснованию» („Letztbegründung“) философии (Карл — Отто Апель).
Претензии герменевтики на универсальность не ограничиваются, однако, тем, что она понимает себя как своего рода метафилософскую рефлексию об условиях и о значимости философских высказываний. Целый ряд авторов, отстаивающих универсальность феномена интерпретации, воспринимает ее как науку о возможности познания в целом, как метатеорию нацеленную на анализ механизмов познания. Например, Джанни Ваттимо видит в герменевтике «философскую теорию об интерпретативном характере любого опыта истины»[4].
Классики герменевтики
Герменевтика не анонимная наука; как и любая философская теория, она имеет своих авторов. Среди классиков герменевтики можно назвать следующих философов с их работами: Иоганн Конрад Даннхауэр «Idea Boni Interprets» (1630), Бенедикт Спиноза «Tractatus theologico-politicus» (1670), Джанбатисто Вико «Scienza nuova» (1725), Иоганн Мартин Хладениус «Einleitung zur richtigen Auslegung vernünftiger Reden und Schriften» (1742), Георг Фридрих Майер «Versuch einer Allgemeinen Auslegungskunst» (1757), Фридрих Act «Grundlinien der Grammatik, Hermeneutikund Kritik» (1808), Фридрих Шлейемахер «Hermeneutikund Kritik» (1838), Иоганн Густав Дройен «Grundriss der Historik» (1862), Вильгельм Дильтей «Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und Geschichte» (1883) и «Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens» (около 1900), Мартин Хайдеггер «Sein und Zeit» (1927), Густав Шпет «Явление и смысл» (1914), «Герменевтика и её проблемы» (1918) и «Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на темы Гумбольда» (1927), Ганс-Георг Гадамер «Wahrheit und, Methode» (1960), Эмилио Бетти «Teoria della interpretation» (1964), Карл-Отто Апель «Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante bis Vico» (1963) и «Transformation der Philosophie» (1973), Юрген Хабермас «Zur Logik der Sozialwissenschaften» (1979), Поль Рикёр «De l'interprétation. Essai sur Sigmund Freud» (1965), «Le conflit des interprétations. Essais d'herméneutique» (1969), «La métaphore vive» (1975) и «Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II» (1986), Жак Деррида «De la Grammatologie» (1976), Ричард Рорти «Philosophy and the Mirror of Nature» (1979), «Consequences of Pragmatism» (1982) и «Essays onHeidegger andOlbers» (1991), Дональд Дэвидсон «Inquiries into Truth and Interpretation» (2001) и «Subjective, Intersubjective, Objective» (2001), Роберт Брэндом «Tales of the Mighty Dead» (2002). Разумеется, этот список далеко не полон и может быть продолжен во времени и развернут в пространстве. Тем не менее, он дает некоторое приблизительное представление о тех, благодаря кому сложились основные парадигмы герменевтического мышления.
Историко-философские предпосылки герменевтики
Прежде чем затронуть тему историко-философских условий возникновения герменевтики, можно коротко напомнить миф о Гермесе, с которым иногда связывают идею герменевтики. Гермес — сын Зевса и плеяды Майи, бог торговли и атлетов, покровитель глашатаев, послов, пастухов и путников, изобретатель магии и астрологии, посланник богов и проводник душ умерших в подземное царство. Он олицетворяет такие качества, как разумность, ловкость, изобретательность, красноречие, а также плутовство, обман и воровство. По преданию, никто не мог превзойти Гермеса в ловкости, хитрости и лукавстве. Первое преступление он совершил еще будучи младенцем. Покинув свою колыбель, он отправился в Пиерию и угнал часть коров из стада Аполлона. Для того, чтобы их не нашли по их следам, он привязал к ногам коров ветки, пригнал их в Пилос и спрятал в пещере. В поисках животных Аполлон прибыл в Пилос и узнал от местных жителей, что коров угнал мальчик. Догадавшись, кто это сделал, Аполлон пришел к Майе и обвинил Гермеса в краже. Возмущенная мать показала ему ребенка, мирно лежащего в люльке, и попыталась убедить Аполлона в том, что младенец неспособен к приписываемому ему деянию. Тем не менее, Аполлон отнес Гермеса к Зевсу, и тот после беседы с отцом признался в краже и показал, где находятся коровы. Сам он тем временем начал играть на лире, которую он смастерил из панциря черепахи и из коровьих кишок. Аполлону игра на лире понравилась и он предложил Гермесу обменять коров на лиру, на что тот согласился. Позже Гермес придумал свирель. Аполлону захотелось иметь и этот инструмент, и он обменял на него свой жезл. Так у Гермеса появился его атрибут — крылатый жезл вестника богов.
Впоследствии Гермес изобрел единицы мер, числа, греческий алфавит, нотную систему, астрономию, бокс и борьбу, а также ввел в обиход оливковое масло.
Несмотря на то, что данный миф, скорее всего, не имеет никакого отношения к понятию «герменевтика», образ Гермеса можно использовать в качестве метафоры, выражающей сущность этого понятия. С его помощью можно также проиллюстрировать некоторые герменевтические идеи, например, идею о силе слова, о многозначности высказываний, о консенсусе как критерии истинности высказываний и т. д.
Переходя от мифа к реальности, следует отметить, что слово «герменевтика» встречается уже в философском лексиконе Платона. Согласно ему, существует два вида знания — Sofia и hermeneia. Первый вид основан на истинных высказываниях, второй — на предании и мистическом опыте. Признавая важность герменевтического знания, античная философия, однако, практически не уделила ему внимания. Лишь в христианском неоплатонизме герменевтическое знание начинает играть значительную роль.
Прежде чем продолжить рассуждения о герменевтике, необходимо предупредить, что я не ставлю своей задачей реконструкцию истории этой науки. Решение такой задачи — дело сложное и кропотливое, сопряженное с огромными затратами труда и времени. На изложение истории герменевтики не хватит одного тома. И все же мне представляется необходимым хотя бы в общих чертах указать на важнейшие этапы становления герменевтической мысли. Эти этапы я предлагаю связать с общим развитием философии и прежде всего с деятельностью Декарта, Канта и Гегеля. Несмотря на то, что ни одного из названных философов нельзя считать представителем герменевтики, все они оказали огромное влияние на ее формирование. Рассмотрим коротко, в чем состоит их вклад.
Благодаря Дильтею, происхождение философской герменевтики принято связывать с протестантской теологией[5]. Однако последняя тоже возникла не на пустом месте, а имеет свои источники. Проследить, какие это источники, можно на примере анализа творчества Спинозы, признанного основоположником протестантской теологической герменевтики. Сошлемся на мнение одного из авторитетных исследователей философии Спинозы, Райнера Пипмайера. Он считает, что «претензия герменевтики на значимость является результатом свойственного Новому времени разделения понятий «разум», «общество» и «религия». Такая ситуация возникает при доминировании разума, выдвигающего в качестве критериев познания ясность и отчетливость, и признающего в качестве реальности только то, что может быть постигнуто в ходе определенного таким образом познания»[6]. Пипмайер справедливо полагает, что ведущую роль в философском обосновании новой, научной картины мира и нового конструктивного подхода к познанию мира сыграл Декарт. Действительно декартова методология познания, фундамент которой составляет радикальное сомнение в имеющемся знании, открывает путь для критического мышления. На этот путь и встает Спиноза, осмелившийся подвергнуть сомнению авторитет церкви в отношении предлагаемого ей изложения священного писания. Его критика была вызвана неудовлетворенностью имеющимися интерпретациями этого текста. Однако возможность критиковать традицию предполагает не только убежденность в неправильности предлагаемого ей изложения Библии, но и убежденность в том, что простой смертный может спорить с традицией. Очевидно, что Спиноза был также убежден в том, что познание вообще должно основываться не на авторитете традиции, а должно опираться на непосредственный, личный опыт ученого. Пример Спинозы показывает, что выдвинутый Декартом методологический принцип радикального сомнения как основы научного познания и одновременно как требования все проверять самому на собственном опыте дал толчок к развитию теологической герменевтики.
Второй важнейший импульс герменевтика получила от Канта. В «Критике чистого разума» 1781 г. Кант изложил свою трансцендентальную теорию познания, важнейшее положение которой гласит, что познание мира возможно благодаря априорным формам чувственности и априорным структурам сознания. Основной вопрос состоял для него в том, возможна ли метафизика как наука. Предложенный им ответ гласил, что научная метафизика возможна только как знание a priori. Как известно, кантовская программа, подготавливающая критику «чистого» разума, включает в себя трансцендентальную эстетику, открывшую пространство и время как априорные формы чувственности, а также трансцендентальную аналитику, рассматривающую категории рассудка как «чистые» понятия. Благодаря категориям чувственные данные оформляются в виде предметов опыта, на изучение которых должно быть нацелено научное познание. Наличие априорных форм чувственности и априорной системы категорий, следовательно, есть условие как возможности предметного опыта, так и научного познания. Разум должен оставаться в пределах опыта, поскольку «чистый» разум, не опирающийся на данные опыта, склонен впадать в заблуждения.
Два момента этой концепции Канта важны с точки зрения истории герменевтики: во-первых, в ней утверждается автономия разума в конструктивном обращении с миром, предстающем теперь как «мир явлений». Во-вторых, познание претендует на универсальность, объективность, обосновываемое™ и непротиворечивость. Проиллюстрировать значение этих идей для герменевтики можно на примере творчества одного из классиков герменевтики, Фридриха Шлейермахера.
Работы Шлейермахера свидетельствуют о том, что совершенный Кантом «коперниковский поворот», утвердивший автономию познающего субъекта по отношению к объекту, сыграл важную роль для развития герменевтики. Так, исследователь творчества Шлейермахера, Норберт В. Больц подчеркивает, что послекантовской герменевтике свойственно признание положения о конституирующем характере восприятия продуктов человеческого духа. «Идеальные» предметы «таковы, каковы они есть, не в себе и для себя, а в силу отношения, вкладываемого в них субъектом, который в качестве читателя дополняет автора, а в качестве понимающего одновременно производит то, что он понимает […] Такт, способности к языку и герменевтический опыт суть элементы, необходимые как для понимания искусства, так и для самостоятельного творчества. Несомненно, что автономия герменевтики представляет собой прогресс в осознании свободы по отношению к текстам, которые больше не защищены от читателя каноном или соответствующими институтами, выдвигающими претензии на нормативность. Там, где понимание утверждается как универсальное и самостоятельное, оно порывает с абсолютизмом догматических претензий на толкование в силу того, что оно соучреждает дискуссию»[7].
Сходным образом характеризует строй мыслей в послекантовской науке Манфред Франк. Он пишет: «Интерес к познанию вещей и положений дел отступает на задний план в пользу совершенно нового (по крайней мере в такой радикальной форме) интереса к анализу условий, при которых знание вообще возникает. […] Было бы удивительно, если бы трансцендентальная ревизия не оставила бы следов также и в герменевтике эпохи идеализма […] Напротив, вследствие трансцендентального поворота в герменевтике, на суд рефлексии впервые был отдан целый универсум того, что в духе традиции Дильтея называли «смысл и смысловое образование». Не только высказывание науки или поэзии, но и любое проявление истории и жизни исследуется на предмет условий, при которых возможно их понимание. Такое безграничное расширение трансцендентального поворота на область означающего в целом было, по существу, заслугой Фридриха Шлейермахера»[8].
Итак, кантовская идея конститутивной свободы человека в его отношении к действительности дала импульс для развития герменевтики. Одной из важнейших предпосылок герменевтического мышления стало признание того, что любое знание имеет своего автора, а значит можно поставить вопрос об условиях и границах этого знания.
Вторая из отмеченных нами черт теории познания Канта, а именно претензии познания на универсальность и объективность, воспринималась в герменевтической философии скорее критически. В этом отношении также показателен пример Шлейермахера. Так, Больц указывает на то, что «он либерализует практику экзегезы, историзируя трансцендентальный вопрос герменевтики. […] Подходя к вопросу об условиях возможности понимания исторически, герменевтика порывает с догмами экзегетики, не отказываясь при этом от своих претензий на систематичность в пользу релативизма. Автономная герменевтика Шлейермахера нацелена на историческую систему текстовых индивидуумов.» (op. cit.: 111).
Обобщая сказанное Больцем о философии Шлейермахера, можно сказать, что герменевтика периода романтизма выступает как особый вид критики универсалистских идеалов Просвещения. В ней пробуждается интерес к индивидуальности, который можно объяснить как реакцию на функционалистскую трактовку Просвещением субъекта познания. Герменевтика предстает как выражение нового, исторического сознания. Помимо этого она, реагируя на механистически-рационалистический образ человека, утвержденный еще благодаря Декарту, открывает заново мир чувства. Художественный текст начинают воспринимать не только как средство понимания мира, но и как средство для интенсивного переживания жизни[9]. Таким образом, не только понятие, но и чувство становятся предметом герменевтического анализа.
Переходя к следующему сюжету, мне хочется привести одну известную цитату: «Истинное есть Целое. Ведь целое есть не что иное, как сущность, складывающаяся в процессе своего развития. По поводу Абсолюта необходимо сказать, что он, в сущности, есть результат, что только в конце он становится тем, чем он является в действительности; именно в этом состоит его природа быть реальностью, субъектом или самостановлением»[10]. Разумеется, эта цитата взята из «Феноменологии духа» Гегеля. Она интересна тем, что вся система его философии, основанная на единстве трех сфер — идеи, природы и духа — в свернутом виде присутствует в ней. Уже из приведенной цитаты видно, что система Гегеля не статична, а динамична, что она находится в постоянном диалектическом развитии. Гегелевская система имеет свою собственную историю, которая представлена в форме учения о логике становления и манифестации духа. Историчность присуща как гегелевской онто-логике в виде системы, охватывающей сферу чистой идеи, природу и культуру, так и его эпистемологии, стержнем которой является логика обретения духом самого себя, его самопознание. Механизмом исторического развития является диалектика.
Под влиянием Гегеля историческое сознание постепенно овладевает гуманитарными науками. Философский проект Вильгельма Дильтея, задуманный им как «критика исторического разума», ярко демонстрирует, что герменевтический подход с его растущим осознанием историчности человеческого бытия, включая мышление и понимание, постепенно утверждается в качестве методологии гуманитарных наук.
Заметим, что Дильтей лично способствовал институализации гуманитарных дисциплин в Германии. Его роль в этом процессе ярко демонстрирует один исторический эпизод. В 1893 г. он приложил немало сил для того, чтобы предотвратить получение Эббингхаусом, выдающимся представителем естественнонаучной психологии, професорского места в Берлинском университете. Причиной такого поведения по отношению к Эббингхаусу послужило убеждение Дильтея в том, что тот развивает психологию в неправильном направлении, а именно в направлении физиологии. Год спустя Дильтей вместе с четырнадцатью своими коллегами представил в Министерство Культуры Пруссии петицию с предложением об институциональном отделении гуманитарных наук от естественных. Ганс Ульрих Гумбрехт, который упоминает этот эпизод в своей книге, комментирует его следующим образом: «Это (в конечном счете, успешное) отделение было началом институциональной независимости гуманитарных наук как группы специальностей, в центре которых в соответствии с программным замыслом Дильтея должны были находиться интерпретация как основополагающая практика и герменевтика как пространство рефлексии»[11].
В качестве критерия для разграничения естественных и гуманитарных наук Дильтей предложил выбрать различие в методологии этих наук. Он считал, что в основе методологии естественных наук лежит понимание, а гуманитарных — объяснение. Одно из его самых известных высказываний гласит: «Мы объясняем природу, но жизнь души мы понимаем»[12]. При этом и объект гуманитарного познания, и само понимание должны быть поняты как исторические феномены. Дильтей возвел, таким образом, историчность познания в принцип герменевтического подхода к анализу культуры и в принцип гуманитарного познания.
Под его влиянием Вильгельм Виндельбанд и Генрих Риккерт также обратились к методологической проблеме разделения наук и предложили различать номотетические — объясняющие на основании законов — и идеографические — описывающие с учетом конкретного контекста — дисциплины[13]. При этом они указали на то, что идеографические дисциплины при описании единичных фактов и событий исходят из определенной, исторически сложившейся системы ценностей, что необходимо учитывать при работе. Без понимания того, в какой системе норм и ценностей совершилось то или иное событие, невозможно его правильное описание и истолкование.
Как показывают данные примеры, с утверждением автономии гуманитарных дисциплин встал вопрос о герменевтике как методологии гуманитарных наук. Герменевтику стали воспринимать в качестве альтернативы традиционной теории познания, ориентировавшейся на естественные науки. Ее характеризует прежде всего новая постановка вопроса о познании: если теория познания озабочена преимущественно проблемой объективной истинности или значимости высказываний, то герменевтика концентрируется на проблеме генезиса познания, на анализе способов и путей, ведущих к нему. Ее интересует многообразие путей познания, соотношение научного и ненаучного познания и общие принципы всего познания.
Место герменевтики в ансамбле философских наук
Последний вопрос, который необходимо обсудить в рамках введения, это вопрос о месте герменевтики среди других философских наук. Ганс Ульрих Гумбрехт в своей книге «По ту сторону герменевтики» связывает происхождение герменевтики с изменением отношений между человеком и миром, произошедшим в Новое время. Он описывает этот процесс схематично как пересечение двух прямых: горизонталь символизирует противостояние субъекта и объекта: субъект как эксцентрический, бестелесный наблюдатель противостоит природе как совокупности чисто материальных предметов. Вертикаль символизирует акт взаимодействия субъекта с объектом: посредством интерпретации субъект проникает в глубины мира, познавая его. Вертикаль задает, по выражению Гумбрехта, «герменевтическое поле» (op. cit.: 45).
Суть предлагаемой им схемы можно свести к противопоставлению средневековой космологии и субъект-объектной парадигмы Нового времени, в которой Гумбрехт видит историческое условие для возникновения герменевтического отношения к миру. При этом он идентифицирует герменевтику с метафизикой в целом, которая предстает у него как познание мира посредством понятий. Его герменевтика нацелена, в конечном счете, на прочтение «книги природы». Понятая таким образом, герменевтика приобретает характер универсальной дисциплины, а герменевтическим оказывается любой вид познания.
Такому широкому понятию герменевтики можно противопоставить более узкое ее понимание. Сошлемся для этого на лекции одного из учеников Шлейермахера, Августа Бёкля, прочитанные им в период между 1809 и 1865 годами и опубликованные под названием «Энциклопедия и методология филологических наук». Согласно Бёклю, герменевтика направлена на «познание познанного». Под «познанием познанного» он понимает «познание всего, произведенного человеческим духом»[14]. Оно заключается в «реконструкции (Nachconstruction) конструкций человеческого духа в их совокупности» (там же, С. 76). Как видно, у Бёкля познание природы не подпадает под понятие герменевтического. Сфера герменевтического познания у него более узкая, чем у Гумбрехта.
Герменевтику, определенную в узком смысле как наука, стремящаяся понять значение и смысл проявлений человеческого духа, таких, как искусство, религия, язык, мораль и т. д., можно рассматривать как «философию понимания» par excellence. В качестве понимания познанного (перефразируя слова Бёкля) герменевтика нацелена не на понимание природы, а на понимание нашего понимания в целом, воплощенного в любом создании человеческого духа. Тем самым герменевтика вносит существенный вклад в самопонимание человечества. Как форма «самоосмысления» человека она ставит вопрос о способах его бытия и познания. Ее претензии на универсальность обусловлены, следовательно, не универсальностью объекта, на который направлены размышления субъекта, а универсальностью самого субъекта, пытающегося понять себя как основание любого познания.
Структура книги. В ходе истории сформировались две основные точки зрения на герменевтику. Одних авторов интересует герменевтика как наука о понимании текста, а других — герменевтика как наука о понимании понимания. Каждый из этих видов герменевтики обладает своей методологией и своим инструментарием.
Данная книга стремится отразить оба подхода и соответственно состоит из двух частей, первая из которых посвящена основным понятиям «герменевтики текста», таким как «понимание», «значение», «интерпретация». Во второй части книги рассматриваются концепции отдельных авторов, исследующих процесс понимания. При этом основное внимание уделяется философам, которых можно считать представителями «герменевтики жизни». Исключение представляют собой теории Роберта Брэндома и Джона Мак-Доуэлла. Они включены в книгу для того, чтобы продемонстрировать новые тенденции в развитии герменевтики на базе аналитической философии.
В основу книги положен курс лекций, прочитанный в Марбургском университете (Германия) в зимнем семестре 2011/2012 г. Это объясняет то, что книга имеет в целом характер введения в герменевтическую проблематику.
Основные понятия герменевтики: понятие «текст»
Текст представляет собой, по мнению Ганса-Георга Гадамера, одного из классиков герменевтической мысли, «преимущественный предмет герменевтики»[15]. Под текстом (с лат. textum: «полотно, плетение“) он понимает то, что понимает каждый из нас, а именно письменное или устное законченное, внутренне организованное, осмысленное высказывание. Однако наряду с этим узким значением, понятие «текст» может использоваться и в широком смысле и охватывать как знаковые записи, так и неписанную «книгу природы», прочтение которой есть дело науки. Примеры текстов — это и буквенная запись, и ноты, и иероглифы, и ритуал и так далее вплоть до живописи или даже звездного неба. Уже эти примеры показывают, что текст, несмотря на то, что мы не испытываем затруднений при использовании данного слова и легко можем квалифицировать нечто как текст либо в прямом либо в переносном значении слова, представляет собой загадочное явление.
Таким образом, прежде чем говорить об интерпретации текста, важно попытаться понять, что такое есть текст. Этому вопросу посвящена данная глава. При этом текст будет рассматриваться не с точки зрения литературного жанра (проза, поэзия и т. д.) и не с точки зрения содержания (научный, литературный и т. д.), а в философском смысле как особое явление. Центральными будут гадамеровские, герменевтические вопросы о том, «как относится текст к языку? Что переходит из языка в текст? Что такое понимание между говорящими и что означает, что нам всем может быть дано нечто такое, как текст? Каким образом в процессе взаимопонимания возникает нечто, что так же, как и текст, представляет собой для нас одно и то же? Почему понятие «текст» может испытать бесконечное расширение?»[16]
Ориентируясь на герменевтическую постановку вопроса, я предлагаю выделить три вида текста — это текст как знак, текст как язык и текст как структура. В зависимости от понимания концепта «текст» отличаются стратегии понимания текста, а стало быть, способы интерпретации. Интерпретация приобретает соответственно форму логического анализа языка, диалога и структурного анализа.
Текст как знак или семиотическая, репрезентативная герменевтика
Основная проблема герменевтики текста заключается в том, чтобы извлечь значение из имеющихся знаков. Она стремится предложить методы, позволяющие экстрагировать из написанного подразумеваемое и при этом сохранить аутентичное содержание текста. Специфика герменевтики, которую я предлагаю назвать семиотической или репрезентативной, состоит в том, что она понимает текст как набор означающих (сигнификантов), с которыми коррелируют означаемые (сигнификаты). Репрезентативную или семиотическую герменевтику можно определить как науку о правилах экспликации значения на основании правил декодирования языковых знаков. Искусство интерпретации сводится в данном случае к логическому анализу знаков.
Одним из основоположников современной семиотической герменевтики можно считать Фердинанда де Соссюра. Однако представление о герменевтике как об универсальной теории знаков было распространено уже в средневековой схоластике, а, начиная с семнадцатого века, стремление к созданию общей герменевтики на базе логического анализа знака можно наблюдать среди различных философских школ: среди представителей аристотелизма, картезианства, среди томистов, вольфианцев и т. д. Особенно тесную связь между семиотикой и герменевтикой можно наблюдать у Готфрида Вильгельма Лейбница и, под его влиянием, у Александра Готлиба Баумгартена и Георга Фридриха Майера. Типичным для представителей такой герменевтики можно считать высказывание Кристиана Августа Крузиуса (1715–1775), который пишет: «Под толкованием или интерпретацией понимают в широком смысле весь состав аналитического размышления о словах и текстах»[17].
Семиотическая герменевтика основывается, как правило, на двух предпосылках: во-первых, она рассматривает текст как источник знания; во-вторых, она воспринимает себя как науку. Такое самопонимание герменевтики ведет к тому, что она оказывается полностью подчинена логике, а логика становится основным герменевтическим инструментом. Концентрация на логическом анализе знака объясняется тем, что семиотическая герменевтика исходит из допущения о том, что правильно организованная система знаков репрезентирует логическую форму текста. Поскольку же логическая форма текста в свою очередь отсылает непосредственно к фактам, то из этого следует, что грамматически и синтаксически правильно построенный текст должен представлять истинное знание. Так полагал, например, Лейбниц, который впервые в истории сформулировал идею «характеристики», т. е. идею искусственного логического языка. Манфред Франк называет лейбницевский вариант герменевтики «моделью, основанной на репрезентации»[18] Обобщая, можно все теории, идеал которых состоит в однозначном описании действительности посредством знаков, охарактеризовать как семиотическую, репрезентативную герменевтику. Подчеркнем, что в центре ее внимания находится не сообщение, а то, при помощи каких средств происходит означивание, т. е. логический анализ знаковых систем.
В качестве более близкого по времени примера понимания текста как знаковой модели мира можно назвать «Логико-философский трактат» Людвига Витгенштейна. Так, параграф 4.01 этого труда констатирует: «Предложение — картина действительности. Предложение модель действительности, как мы ее мыслим». Параграф 4.121 гласит: «Предложение не может представить логическую форму, она в нем отражается. То, что отражается в языке, он не может представить. Что выражается в языке, мы не можем выразить посредством языка. Предложение показывает логическую форму действительности. Он ее выявляет.»
Отношение к тексту как к отражению мира характерно также для логического позитивизма, развившего идеи Витгенштейна. Например, Рудольф Карнап строит свою картину мира, основываясь на предложениях наблюдения, на так называемых «элементарных предложениях», отражающих, по его мнению, реальные факты.
Суммируя сказанное, можно сказать, что, несмотря на порой значительные различия между отдельными концепциями, которые подпадают под понятие семиотической, репрезентативной герменевтики, общим для них является убеждение в логической конгруэнтности знаков элементам описываемой ими действительности.
Текст как язык
Прежде, чем приступить к обсуждению заявленной в заголовке темы, обратим внимание на методологическую трудность, состоящую в том, что дать однозначное определение текста, понимаемого как язык, невозможно. В герменевтике вообще наблюдается дефицит определений, она предпочитает описание и примеры. Поэтому попытаемся раскрыть понятие «текст как язык» при помощи примеров.
Обратимся для этого сначала к работе Михаила Михайловича Бахтина «Слово в романе» (1934/1935). Центральным в ней является вопрос о том, что представляет собой роман как литературный жанр. Ответ Бахтина сводится к возведению обнаруженного им у Достоевского диалогического принципа построения романа в ранг категории, позволяющей выявить сущность романа как особого литературного феномена. С точки зрения развиваемой Бахтиным философии (а не теории) литературы диалог предстает не как стилистическая фигура и не как элемент композиции, а как каркас романа, как организующий принцип, делающий роман единым целым, отличающимся от прочих видов литературных произведений.
Истоки бахтинской идеи диалогического романа можно связать с изменением нарративного характера современного романа, когда изобразительность и солипсический авторский рассказ с его претензией на объективность уступают место субъективному потоку речи литературного персонажа как бы включенного в течение реальной жизни. Ориентация романного слова на речь вызывает эффект присутствия, эффект включенности текста в жизнь, а жизни в текст. Это и подметил Бахтин, новаторство которого состоит в том, что он предлагает понимать роман не как событие литературы, а как событие языка и жизни. Роман, согласно ему, есть «живое слово», слово, включенное в контекст социальной жизни как ответ на ее насущные проблемы. Роман — «это художественно организованное социальное разноречие, иногда разноязычие, и индивидуальная разноголосица»[19].
Поскольку роман для Бахтина есть «своеобразный социальный диалог языков» (там же, С. 77), то понять его можно лишь со стороны языка, а значит, выйдя за границы литературы. Заметим, что язык для Бахтина полная противоположность тому, что под языком понимает лингвистика его времени. Язык для него — это не система и не лингвистический код, а, пользуясь современной терминологией, дискурс, включенный в социальную практику. Несущим элементом диалогического дискурса является не речевой акт, а выражаемая в слове мировоззренческая позиция. Язык диалогического романа, следовательно, можно понять, выйдя за пределы лингвистики. Если main streem ориентировался на Фердинанда де Соссюра, отличающего язык language) от речи (parole), на Луи Ельмслева, введшего понятия схемы и ее использования, и позже на Наума Хомского, различающего языковую компетентность и использование языка (competence and performance), то Бахтин вышел за рамки структурной семиотики. Его целью была разработка «металингвистики» как философской теории диалога, которая не только рассматривала бы функционирование живого слова в процессе социального взаимодействия людей, но и рассматривала бы литературоведческие и философские проблемы через призму анализа языка.
Если исходить из того, что язык в целом есть элемент жизни, то язык романа следует понимать не как систему предложений, а как систему высказываний. Различие между предложением как объектом лингвистики и высказыванием как объектом «металингвистики» Бахтин четко сформулировал в своих поздних работах. Он полагал, что предложение есть понятие семиотики, а «семиотика занята преимущественно передачей готового сообщения с помощью готового кода». В «живой же речи сообщение, строго говоря, впервые создается в процессе передачи и никакого кода, в сущности, нет»[20]. Роман, понимаемый как язык в действии, есть совокупность высказываний, приглашающих читателя вступить в диалог с повествованием. Слово в романе как часть высказывания — это слово в динамике, нацеленное на производство и понимание смысла. Это недосказанное слово, которое должен домыслить и досказать читатель. Причем осмысление слова не ограничивается пределами чтения романа, размышление над литературой есть процесс реальной жизни. Роман, следовательно, можно понять только в том случае, если рассматривать его как диалог литературы и жизни. Итак, роман, согласно Бахтину, есть язык, а язык есть диалог мировоззрений. «Текст как язык» означает в данном случае обращение к читателю, живую коммуникацию, выходящую за границы текста.
В качестве еще одного примера понимания текста как языка можно назвать работы Гадамера, его книгу «Истина и метод» (1960) и основывающиеся на ней более поздние статьи. Согласно Гадамеру, текст вообще и литературный текст в частности раскрывается как герменевтический феномен только в том случае, если его воспринимают как язык, т. е. если его слышат[21]. Слышать же текст означает, проникать в его смысл, понимать его. Понимают текст тогда, когда он начинает звучать, когда звучание выявляет его внутреннюю смысловую структуру и когда все смысловые взаимосвязи отчетливо проступают и становятся ясными для читателя.
Система знаков становится текстом только в том случае, если у нее появляется интерпретатор. Если к тексту не обращаются, то он остается всего лишь бессловесным артефактом. Гадамер пишет: «В любом случае, необходимо условиться, что только на основании понятия интерпретации понятие текста конституируется как центральное понятие в системе языка; понятие текста отличает то, что он только вместе с интерпретацией и исходя из нее представляется как собственно данное, как то, что можно понять» (там же, С. 34).
Поскольку текст для Гадамера по своему существу есть язык, то и понимание его основывается на том же механизме, что и понимание языка, т. е. на разговоре или на диалоге. При этом так же, как и Бахтин, он рассматривает язык не из перспективы грамматики и лингвистики как завершенную, готовую форму, и интересует его не механизм функционирования языка, а передаваемое языком содержание. Полагая, что текст есть язык, Гадамер предлагает рассматривать текст как субъект, который является носителем языка и, следовательно, носителем определенного смысла, для раскрытия которого надо вступить с ним в диалог. Текст как субъект языка двунаправлен: с одной стороны, он отсылает к первоначально сказанному, а с другой, он открыт вовне и ориентирован на другого. Таким образом, текст предстает как промежуточное звено между содержащимся в нем смыслом и интерпретатором, пытающимся на основании текста проникнуть в этот смысл. Хотя Гадамер характеризует письменность как «абстрактную идеальность языка»[22], это не означает еще, что смысл текста однозначно представлен в записи. Решающую роль в воссоздании смысла текста играет читатель, а текст сам по себе представляет собой лишь «промежуточный продукт», лишь «одну стадию в процессе понимания» (там же, С. 35). Как и смысл живой речи, смысл текста — это развивающийся, динамичный феномен.
В статье «Смысл и интерпретация» Гадамер различает текст и «образ текста». Взяв за основу отношение смысла и записи, он выделяет три вида «образа текста»: антитекст, псевдотекст и прототекст.
«Антитекст» — это вид речи, противящейся фиксации в силу того, что в ней важен данный, конкретный момент в процессе разговора. Примеры такой речи — это ирония, шутка. Их трудно схватить и передать, так как они вплетены в сиюмиутность речевой ситуации. «Псевдотекст» — это как письменная, так и устная речь, содержащая в себе элементы, не относящиеся к передаваемому смыслу, а представляющие собой что-то вроде риторического наполнения речи. Это так называемая «бессмысленная» часть языка. «Прототекст» — это высказывание, понимание которого основано на смысле, содержащемся не в нем самом, а как бы за его пределами. Истинный смысл текста замаскирован и лишь косвенно проступает в нем. «Прототекст» интерпретируют не на основании того, о чем он высказывается явно, а с точки зрения того, что за ним стоит. Примеры восприятия текста как «прототекста» по отношению к истинному, но скрытому тексту предоставляют психоанализ и критика идеологии. Первый сводит все к травме автора, отзвуки которой неосознанно присутствуют в актуальном тексте. Второй сводит смысл текста к реальным, но скрытым интересам его автора.
Особый статус Гадамер придает литературным текстам, содержание которых не исчерпывается первоначально сказанным, а предвосхищает новое, идеальное высказывание. Литературный текст не сводится к простой фиксации смысла, в отличие от научных, а требует активной интерпретаторской работы для выявления последнего.
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что гадамеровское понимание текста как языка означает, прежде всего, превращение текста в собеседника, обладающего собственным языком.
Текст как структура или структуралистская герменевтика
Понимание текста как завершенной знаковой системы, как аналог la langue, свойственно литературоведческому и философскому структурализму[23]. В центре структуралистского анализа текста находятся механизмы конституирования текста как внутренне структурированной системы и механизмы функционирования системы текстов как литературы. За модель анализа литературоведческий структурализм берет лингвистический структурный анализ. Опыт русских структуралистов (Николай Трубецкой, Роман Якобсон), а также представителей пражской, женевской и датской школ учит, что систему, будь то фонетическая, лексическая или синтаксическая система, можно отделить от процесса и рассматривать ее асинхронно как совокупность взаимосвязанных элементов. Причем элементы выделяются на основании противопоставления одних частей данной системы другим ее частям, а не на основании внешнего взгляда на нее. Взаимосвязь различных элементов в пределах ограниченного ряда лежит в основании понятия «структура» в лингвистке.
Как и структурная лингвистика, структурная герменевтика нацелена на восстановление лежащей в основе произведения структуры. Речь здесь идет не о структуре, которая наглядно представлена в тексте, а о структуре, которая должна быть реконструирована в виде закономерной взаимосвязи элементов. Цель структурного герменевтического анализа состоит, таким образом, в выделении совокупности элементов структуры текста и в определении отношений между этими элементами. Он направлен на то, чтобы за поверхностью текста выявить определенные глубинные структуры и установить их влияние на его содержание.
Родоначальником структурной герменевтики считают Клода Леви-Стросса. В работе «Структурная антропология» он формулирует рабочую гипотезу, которой он руководствуется при анализе мифических текстов, следующим образом: «Подобно любой другой лингвистической единице, миф составлен из различных конститутивных единиц. Эти единицы предполагают наличие элементов, встречающихся в каждой языковой структуре, а именно фонем, морфем и семантем. Каждая их этих форм отличается от предыдущих более высокой степенью сложности. По этой причине мы хотим назвать элементы, которые мы по праву именуем мифами (и которые представляют собой наиболее сложные из всех единиц), “большими конститутивными единицами”»[24]. Леви-Стросс говорит о «мифемах» так же, как лингвисты говорят о морфемах. Свою задачу он видит в открытии «структурного закона анализируемого мифа» (там же, С. 241), под которым он понимает социальные закономерности.
Заметим, что текст как знаковая система, построенная по особым имманентным ей законам, был предметом анализа и для русского формализма первой половины двадцатого века (Виктор Шкловский) и для советской структурной семиотики семидесятых-восьмидесятых годов (Юрий Лотман). Такое понимание текста присуще также современному постструктурализму.
Особенность отношения к тексту в постструктурализме состоит в том, что текст толкуется широко — не только как знаковая запись, но и как семиотическая практика людей в целом. Приведем в качестве примера высказывание Ролана Барта: «Итак, что такое текст? Я не буду в качестве ответа приводить определение текста, поскольку это сразу же отбросило бы нас назад к сигнификату. Текст, в том современном смысле этого слова, который мы пытаемся ему придать, кардинально отличается от литературного произведения. Он является не эстетическим продуктом, а сигнификативной практикой; он не структура, а структурирование; не объект, а работа и игра; не закрытая совокупность знаков, смысл которых надо разгадать, а набор различных следов. Инстанция текста не значение, а сигнификант в семиотическом и психоаналитическом значении этого понятия; текст переходит границу литературного произведения; существует, например, текст жизни, в который я пытаюсь войти благодаря тому, что я пишу о Японии»[25].
В постструктурализме текст превращается в социальное действие, а анализ текста переходит в анализ социальных явлений. Связь между текстом и социальным феноменом устанавливается с помощью понятия «семиологическая система». При этом говорят об интертекстуальности и о гипертексте. Семиологическая система гипертекста понимается как общественная практика. Общественная практика, в свою очередь, понимается как производство и конституирование знаков. Таким образом, оказывается, что функции символизации приобретают социальный характер, а социальная действительность — символический характер.
Постструктурализм не просто переступает границу между литературным текстом и литературной практикой, он отрицает само наличие такой границы. Об этом свидетельствует творчество таких философов, как Мишель Фуко, Жак Деррида, Жак Лакан и Жан Бодрийяр. Они пишут не о «чистой» литературе, напротив, их прочтение литературных текстов нацелено на выявление стоящих за литературной практикой социальных практик, на реконструкцию межтекстуальных отношений как между литературными, так и между литературными и «жизненными» текстами. Для этих авторов не существует пространства «вне текста». Свойственное постструктурализму восприятие текста как универсального феномена привело к тому, что из теории литературы постмодернизм превратился во всеохватывающую теорию культуры.
Основные понятия герменевтики: понятие «понимание»
С самого своего зарождения в качестве философской дисциплины герменевтика была ничем иным, как наукой о понимании. «Понимание» однако, процесс неоднородный и виды понимания различаются между собой как по способам и механизмам, так и по объектам, на которые понимание направлено. Так, можно понимать и математическую задачу, и другого человека. Первый случай имеет отношение к логике, а второй к психологии. В качестве примера психологического подхода к пониманию можно привести «теорию вчувствования», возникшую в восемнадцатом веке в рамках эстетики. «Теория вчувствования» получила широкое распространение в психологической герменевтике девятнадцатого века (Макс Шелер, Вильгельм Дильтей). В герменевтике двадцатого века одним из ее представителей был Эмиль Левинас, согласно которому симпатическое понимание между людьми есть залог вербального понимания. В настоящее время произошел ренессанс этой концепции в аналитической философии[26],что свидетельствует об определенном повороте в настроении ума, связанном с признанием того, что процесс понимания невозможно свести исключительно к рациональным процессам.
В герменевтике «понимание» обычно связывают с пониманием языкового знака. Однако и в данном случае следует отличать понимание языка как такового от понимания языка текста. Например, нельзя назвать герменевтическим прагматический подход к пониманию языка, предложенный Витгенштейном в его «Философских исследованиях». Согласно ему, языковой знак понимает тот, кто может применить его в новых речевых ситуациях. Знак он определяет как символ, приобретающий значение в ходе его использования и выполняющий при этом определенные познавательные, коммуникативные или практические функции. Значение знака зависит от того, в какой «языковой игре» он используется. Другими словами, знаки принадлежат к различным символическим системам, которые задают нормы для логически-семиотических операций с ними. Как известно, данная концепция, сводящая значение знака к правилам его применения, оказала огромное влияние на развитие лингвистической прагматики. Дальнейшее же развитие самой этой концепции состояло прежде всего в признании опыта социализации как одного из важнейших условий осмысленного применения знаков.
Уже данные примеры наглядно свидетельствуют о том, что анализ понимания грозит превратиться в неосуществимое предприятие в силу многогранности этого процесса. Выходом из ситуации может быть введение ограничений. Мое предложение состоит в следующем: соответственно трем моделям текста, о которых говорилось в предыдущей главе, а именно текст как репрезентант действительности, текст как язык и текст как семиотическая система, можно выделить три формы герменевтического понимания. Речь пойдет сначала о понимании, основанном на функциональной семантике истинности, которое свойственно представителям герменевтики, рассматривающим текст как знаковую репрезентацию действительности. Затем выделим вид понимания, основанный на диалоге, характерный для тех, кто понимает текст как язык. И, наконец, рассмотрим понимание как диалектический процесс, включающий в себя как момент понимания, так и объяснения, которое практикуют авторы, представляющие текст как структуру.
Понимание, основанное на функциональной семантике истинности
Типичной для данного случая можно считать позицию Фридриха Майера, рассматривавшего герменевтику как «науку о правилах», которая должна познать «обозначенные вещи на основании их знаков»[27]. Условием функционирования такой герменевтики является допущение о том, что знак отображает обозначаемое, а отношение между знаком и обозначаемым опосредовано схематизмом разума. Узуальное (индивидуальное) использование знака становится возможным на основании логической формы предложений. Причем, если предложение истинно, то тем самым однозначно определен его смысл, а поэтому интерпретация — в строгом смысле этого слова — не нужна.
Данное, элегантное с точки зрения логики, представление о механизме понимания, связывает понимание знака со знанием условий его истинности. Является ли эта корреляция необходимой? Для того, чтобы ответить на данный вопрос обратимся к «Логико-философскому трактату» Витгенштейна. В параграфе 4.024 он пишет следующее: «Понимать предложение означает знать, что происходит, если оно истинно. (Его можно, следовательно, понимать, не зная, истинно ли оно)». В основной части данного пассажа утверждается, что понимание предложения зависит от знания его истинности. В скобках утверждается противоположное высказывание о том, что понимать предложение можно и не зная, истинно ли оно. На первый взгляд, кажется, что Витгенштейн формулирует здесь один из парадоксов, имеющих место при понимании языка. Однако, на самом деле, он утверждает, что понимание предложений зависит как от понимания языка, так и от знания истины предложений.
С одной стороны, знанием того, что имеет место, если предложение истинно, мы обязаны пониманию языка, на котором это предложение высказано. Понимание же языка не включает в себя знание об истинности предложения этого языка. Напротив, именно понимание языка в целом — как показывает Витгенштейн позже в своих «Философских исследованиях» — обеспечивает понимание его составных частей. С другой стороны, мы можем понимать слова предложения и на их основе его смысл, но если мы не знаем, истинно ли предложение или нет, или оно — в случае вымысла — ни истинно и ни ложно, то мы в действительности не понимаем значение предложения. Например, предложение «корова дает молоко» может быть до некоторой степени понятно тому, кто никогда ничего не слышал про корову, на основании одного лишь владения языком. Но в то же время это предложение остается непонятным для него или не полностью понятным до тех пор, пока ему неизвестны условия его истинности, т. е. до тех пор, пока он не узнает, что такое корова.
Поэтому можно согласиться с Витгенштейном в том, что обе предпосылки — и владение языком и знание реалий — имеют одинаково важный статус для понимания. Ни знание истины не имеет приоритета по отношению к знанию языка, ни, наоборот, знание языка по отношению к знанию истины. «Что» высказывания понятно только тогда, когда мы знаем «почему», на каком основании, некто так говорит. При этом речь здесь идет не о разнице между тем, что человек говорит, и тем, что он имеет в виду, в духе интенционалистской семантики Пауля Грайса. Важным фактором понимания является возможность верификации сказанного, которая и определяет для слушателя значение предложения.
В противоположность утверждаемому Витгенштейном, основное правило истинностной семантики гласит, что понимать предложение, значит, знать условия, при которых оно истинно. Однако практически ни одна из концепций, исходящих из этого правила (включая авторитетную теорию Дональда Дэвидсона), не в состоянии обойтись без того, чтобы так или иначе не учитывать того обстоятельства, что понимание языка — процесс холический (круговой), т. е. того, что понимание языка и понимание того, о чем идет речь, взаимообусловлены.
Понимание на основе диалогической модели вопроса и ответа
Представление о том, что понимание возможно благодаря процедуре вопросов и ответов, имеет длинную историю, уходящую своими корнями в культуру так называемого «сократического» диалога. Новый импульс для своего развития эта идея получила в Германии эпохи романтизма. Важная роль здесь принадлежит Фридриху Шлейермахеру, герменевтика которого возникает как своего рода реакция на утвердившуюся благодаря Канту точку зрения о «беспредельности объективного разума». Если «чистый» разум теории познания Канта можно охарактеризовать как солипсический и универсальный, то «герменевтический» разум Шлейермахера предстает как множественный и исторический. Если у Канта трансцендентальный субъект посредством категорий рассудка конституирует объективную реальность, то у Шлейермахера реальный субъект выступает в качестве автора произведения, утверждающего собственную точку зрения. Используя выражение Манфреда Франка, можно сказать, что новаторство Шлейермахера по сравнению с Кантом заключается в том, что он «трансформировал критику разума в критику смысла»[28].
В отличие от теории познания для герменевтики характерны три момента: во-первых, признание того, что не существует познания вещей, свободного от толкования их конкретным индивидуумом. Другими словами, не существует прямого доступа к независимому коду абсолютного разума. Всегда существует лишь конкретный эмпирический субъект познания. Во-вторых, субъект познания мыслится не как трансцендентальный, а как исторический, а значит, разум рассматривается не как универсальный, а локализуется в пространстве и времени и опосредуется ими. В-третьих, герменевтика Шлейермахера предстает как ars interpretandi, как учение об интерпретации. Она нацелена на выработку формального метода, который должен стать учением об интерпретирующем понимании. Ее цель — составление ансамбля правил, применение которых превратило бы экзегезу в нечто подобное школьному упражнению, т. е. превратило бы искусство интерпретации в ремесло.
Усилия Шлейермахера нацелены на выработку строгого канона правил толкования текстов, включающего в себя три домена: грамматический, психологический и исторический. Его метод предусматривает, с одной стороны, трансцендентальный анализ всеобщих условий, которые конституируют понимание как таковое, а, с другой стороны, применение общих правил для различных специальных областей герменевтики, таких, как теология и юриспруденция.
Первым шагом в анализе текста должен быть, согласно Шлейермахеру, его грамматический анализ, нацеленный на выделение «главных» и «второстепенных» мыслей, т. е. на установление логической структуры текста. Как он пишет, «цель состоит в том, чтобы найти ведущие идеи, на основании которых можно судить о других, а с технической стороны дела — найти закономерность, благодаря которой было бы легче установить единичное»[29]. Он подчеркивает важность умения «отличать главные и второстепенные мысли от простых средств выражения» (там же, С. 138).
Заметим, что предлагаемый Шлейермахером метод грамматической интерпретации в основных чертах предвосхищает рабочую гипотезу структурализма о глубинной структуре текста[30]. Каждый отдельный элемент текста он рассматривает как элемент системы, внутри которой этот элемент приобретает значение, своего рода «языковую стоимость», в результате «выделения из целого и противопоставления ему». Шлейермахер полагает, что «и внутри одного единственного текста единичное может быть понято только из целого, поэтому беглое прочтение, дающее представление о целом, должно предшествовать точному его изложению» (там же, С. 97).
Вторым шагом в анализе текста должна стать его психологическая интерпретация, центральными моментами которой являются установление исторических обстоятельств жизни автора и создания текста, создающих возможный фон для понимания, а также установление индивидуальных психологических особенностей автора, его стиля. Шлейермахер определяет стиль как «обращение с языком» с точки зрения того, насколько писатель «вносит свойственную ему манеру понимания предмета в обращение с языком» (там же, С. 145). Здесь действует следующее правило: «Как речь имеет двойственное отношение к совокупности языка и к целостности мышления его носителя, так и понимание состоит из двух моментов: понимания речи на фоне языка, и понимания речи как факта мышления» (там же, С. 77).
В целом понимание достигается, согласно Шлейермахеру, только в результате обоих шагов — грамматической и психологической интерпретации, причем «грамматическая интерпретация низшая, а психологическая — высшая» стадия в этом процессе (там же, С. 79). Он подчеркивает, что удачное применение герменевтической техники основано на способности интерпретатора как к языку, так и к пониманию людей (там же, С. 81).
Кульминацией усилий Шлейермахера по разработке герменевтической стратегии можно считать его «всеобщее методологическое правило», включающее в себя следующие шаги: а) начинать с общего обзора текста; в) одновременно двигаться в обоих направлениях, в грамматическом и психологическом; с) продолжать интерпретацию только тогда, когда обе ее формы привели к одному и тому же результату; д) возвращаться назад, если грамматическая и психологическая интерпретации противоречат друг другу до тех пор, пока не будет найдена ошибка в понимании (там же, С. 97). Данное методологическое, «итеративное» правило интерпретации впоследствии получило название правила «герменевтического круга». Идея интерпретации или понимания в форме «герменевтического круга» будет играть значительную роль в герменевтических теориях, включая теории Хайдеггера и Гадамера. Отметим, что герменевтический канон Шлейермахера, запрещающий сведение индивидуального смысла к универсальным идеям всеобщего разума, понимает истолкование как «бесконечную задачу» (там же, С. 31), а это значит, что герменевтический круг в интерпретации, в принципе, остается разомкнутым.
Остается сказать, что идея герменевтического круга есть, по сути, формализованная идея вопрошания. Интерпретатор ведет фиктивный разговор с автором текста и, задавая ему и самому себе фиктивные вопросы, пытается выявить скрытый в тексте смысл.
Идея того, что понять текст возможно при условии, если рассматривать его как субъект, с которым можно вступить в разговор, разрабатывалась впоследствии многими авторами. Оригинальную теорию понимания можно обнаружить у Бахтина. В «Слове в романе» (1934–1935) он указывает на то, что высказывание имеет значение не само по себе, но обретает значение в процессе его понимания. При этом он выделяет два аспекта понимания: «пассивное», заключающееся в понимании нейтрального значения высказывания, т. е. понимания входящих в него слов, и «активное», заключающееся в понимании актуального смысла высказывания. Пассивное понимание можно определить как необходимое минимальное условие возможности понимания, что соответствует, например, требованию синтаксически-грамматической правильности речи в современной аналитической философии. Такое понимание значения языковых знаков остается, однако, по Бахтину, лишь абстрактным моментом конституирования смысла. Реальное понимание имеет место только тогда, когда присутствует активное, или, как его еще можно назвать, продуктивное понимание. Такая форма понимания состоит не в простой рецепции и в воспроизводстве сказанного, а подразумевает соучастие понимающего в продуцировании смысла высказывания. Понимание развивается как активное понимание, «неразрывно слитое с ответом» и формирующее смысл высказывания[31]. Бахтин считает, что «понимание и ответ диалектически слиты и взаимообусловливают друг друга, одно без другого невозможно» (там же). Таким образом, он развивает особую диалогическую феноменологию понимания как активного, продуктивного отношения между вопросом и ответом. Причем ответ обладает преимуществом по отношению к вопросу как активный принцип, ибо «он создает почву для понимания, активную и заинтересованную изготовку для него» (там же). Каждое артикулированное движение мысли настроено на возможный ответ, оно предвосхищает его и оформляется, ориентируясь на него. Высказывание возникает как «живая реплика» (там же, С. 93) в реальном или фиктивном диалоге, конституирующем понимание (например, при чтении или размышлении над какой-либо проблемой). Реплика при этом, как следует из рассуждений Бахтина, не исчерпывает всего смысла высказывания и потенциально приглашает к продолжению диалога. Понимание оказывается, следовательно, устремленным в бесконечность процессом.
В отличие от Шлейермахера, Бахтин не предлагает никакого формализованного метода понимания, а указывает на ключевые моменты последнего. При описании движения смысла в диалоге Бахтин использует метафору горизонта, которая позже, благодаря Гадамеру, стала общеизвестной и превратилась в одно из основных понятий герменевтики. При помощи этой метафоры он стремится выразить идею о том, что смысл конституируется в ходе взаимодействия различных точек зрения и различных субъективных горизонтов. Причем горизонт собеседника, его «апперцептивный фон» (там же, С. 95) предопределяет и ограничивает и возможности ведения диалога, и возможности понимания. Говорящий стремится сориентировать свою речь на специфический горизонт собеседника и вступает в диалогическое отношение с моментами этого горизонта.
Результат диалога, как следует из высказываний Бахтина, заключается в обогащении, а не в «слиянии» горизонтов, как полагал Гадамер. Таким образом, Бахтин представляет позицию, которая исходит из множественности точек зрения, представители которых вовсе необязательно должны прийти к консенсусу. Консенсус еще не означает подлинного взаимопонимания, это всего лишь способ урегулирования разногласий, но не способ достижения истины. Понимание формируется как двусторонний процесс, в котором понимаемое не прерогатива одного, а разгадка понимаемого — задача другого; понимаемое творится в процессе взаимопонимания и нацелено на познание истины. Оно «обрастает смыслами» для обеих сторон. Можно сказать, что Бахтин, выявляя творческую природу диалогического понимания, разрабатывает своего рода продуктивную герменевтику, в отличие, например, от рецептивной герменевтики Гадамера, согласно которой вопрос лишь дает возможность сказаться готовому, завершенному в себе сущему.
В работе «Истина и метод» (1960) Гадамер разрабатывает свой вариант герменевтики. Остановимся на основных положениях его теории понимания. Прежде всего, понимание предстает у него не просто как специфический прием обращения с текстами, а как сущностный элемент человеческой жизни. В этом отношении он продолжает идеи Хайдеггера, придавшего пониманию статус «экзистенциала», т. е. категории, конституирующей бытие человека в качестве Dasein. Гадамер пишет: «Понимание языка само по себе еще не является истинным пониманием и не включает в себя никакой интерпретации, а представляет собой жизненный процесс. Понимать язык значит жить в нем — тезис, который как известно относится не только к живым, но и к мертвым языкам»[32]. «Жить в языке» подразумевает больше, чем просто понимать слова языка. Понимать язык — это понимать то, о чем он высказывается. Руководствуясь такой логикой рассуждения, Гадамер делает вывод о том, что «герменевтическая проблема состоит, таким образом, не в проблеме правильного использования языка, а в правильном взаимопонимании по поводу предмета, которое осуществляется посредством языка» (там же). Из данной цитаты видно, что он переносит герменевтическую проблематику из области понимания языка в сферу понимания смысла, в сферу понимания того, о чем идет речь.
Хотя понимание и не исчерпывается пониманием языка, но оно носит языковой характер. Гадамер считает, что «язык — это центр, в котором происходит взаимопонимание партнеров и достигается консенсус по поводу предмета» (там же, С. 447). Язык — это также «универсальная среда, в которой осуществляется само понимание» (там же, С. 452). Язык представляет собой, следовательно, необходимое, ибо он охватывает собой все, что вообще может стать предметом, и достаточное, ибо он есть механизм понимания, условие возможности понимания.
Эти общие положения служат фундаментом для решения частной герменевтической проблемы понимания текста, на которой концентрируется Гадамер. В своей работе он формулирует несколько ключевых принципов понимания текста:
Во-первых, моделью для понимания текста служит разговор. Как он полагает, в письменности язык освобождается от процесса речи: «Письменность есть самоотчуждение языка» (там же, С. 454). Это самоотчуждение языка в тексте должно быть преодолено путем обратного превращения знаков в речь и смысл в процессе понимания. «Его преодоление, чтение текста есть, таким образом, высочайшая задача понимания. Даже простые знаки какой-нибудь надписи можно только тогда правильно увидеть и артикулировать, если текст можно снова превратить в язык. Напомним, что такое обратное превращение языка устанавливает одновременно отношение к тому, что имеется в виду, к самому предмету, о котором идет речь» (там же, С. 454). Можно утверждать, что такое вторичное превращение текста в язык и составляет сущность герменевтического разговора, нацеленного на возвращение знакам смысла, на «оживление» знаков в результате обретения ими языка.
Во-вторых, способом осуществления понимания является истолкование, интерпретация. Гадамер подчеркивает, что понимать текст «прежде всего означает не делать выводы о прошлом, а участвовать в сказанном в настоящий момент. Собственно, речь здесь идет не о понимании между личностями, например, между читателем и автором (который возможно вообще неизвестен), а об участии в том сообщении, которое делает нам текст» (там же, С. 455–456). Из этой цитаты следует, что процесс понимания должен быть сконцентрирован на том, о чем говорится в тексте, и определяться предметом, о котором говорится в тексте. Причем, понимая написанное, интерпретатор мыслит нечто уже помысленное автором и зафиксированное в тексте как отчужденное от автора. Он вступает в диалог с текстом, высказывающим свое собственное мнение.
В статье «О круге понимания» Гадамер предлагает принять в качестве герменевтического правила «предвосхищение полноты» текста[33]. Он выдвигает своего рода «принцип благоволения» аналогичный «принципу благоволения» (principle of charity) Дональда Дэвидсона, который выступает у него в качестве необходимого условия понимания языка. Гадамеровское правило заключается в том, что следует исходить их того, что мнение в тексте высказано полностью и адекватно. Тогда если встречаются трудности в понимании текста, то следует предполагать, что ошибку надо в первую очередь искать не в тексте, а в его интерпретации.
В-третьих, понимание есть процесс, включающий в себя набросок и его последующую коррекцию. Цель понимания в герменевтике Гадамер видит в достижении взаимопонимания по поводу предмета речи. Взаимопонимание он представляет как преодоление герменевтической дистанции в ходе «слияния горизонтов» текста и интерпретатора. Слияние горизонтов есть «способ осуществления разговора, в котором выражается некоторое дело, не являющееся просто моим делом или делом моего автора, но нашим общим делом» (там же, С. 452).
При «слиянии горизонтов» происходит следующее: текст должен обрести язык благодаря истолкованию. Но, как считает Гадамер, «никакой текст и никакая книга не говорят, если они не говорят на языке, который достигает другого» (там же, С. 462). Поэтому интерпретатор должен вникнуть в герменевтическую ситуацию текста, освоить его язык. Однако при истолковании интерпретатор неизбежно применяет собственные понятия, что им, как правило, вообще не тематизируется. Эти понятия — в идеальном случае — должны исчезнуть, растворившись в том, чему они позволили заговорить ходе интерпретации. «Парадоксальным образом истолкование правильно тогда, когда оно способно к такого рода исчезновению», — подчеркивает Гадамер (там же, С. 463).
В-четвертых, Гадамер разрабатывает условия понимания. В качестве такого условия у него выступает «действенно-историческое сознание». В тексте не дана дефиниция этого термина, но на основании анализа текста можно заключить, что термин «действенно-историческое сознание» означает, что понимание определяется историческим контекстом интерпретации и что истолковывающее понимание интерпретатора движется в рамках определяемого языком интерпретатора герменевтического горизонта, в пределах которого мнение текста обретает свою значимость.
Принять гадамеровское положение о «действенно-историческом сознании» в качестве герменевтической нормы значит: а) сделать допущение о наличии некоторых начальных условий понимания, к которым относится осознание интерпретатором того, что он находится во власти «предпонятий» и «предрассудков» своего времени. Гадамер считает, что для того, «чтобы мнение текста могло быть выражено в своем предметном содержании, мы должны перевести его на наш язык, а это значит, что мы относим его к целому возможных мнений, в пределах которого мы движемся, высказываясь и будучи готовыми высказаться» (там же, С. 460). б) Принять это положение означает осознать, что интерпретатор не может отказаться от использования собственных понятий, и что он не может думать в понятиях интерпретируемой эпохи. Как полагает Гадамер, «в действительности думать исторически — значит проделать те изменения, которые претерпевают понятия прошедших веков, когда мы пытаемся думать при их помощи. Историческое мышление с самого начала включает в себя опосредование этих понятий нашими собственными» (там же, С. 462).
В своей статье «Круг понимания» он снова подчеркивает, что временная дистанция между текстом и интерпретатором не является непреодолимым препятствием. Более того, он считает, что эту дистанцию и не стоит пытаться преодолеть. По его мнению, стремление к преодолению временного разрыва — это позиция наивного историзма. Напротив, интерпретатор должен осознавать свои «предрассудки», т. е. то «предпонимание», с позиций которого он подходит к тексту. Интерпретатор не должен игнорировать свою собственную историчность. Понимание — это всегда «встреча с преданием».
В-пятых, понимание всегда имеет «аппликативный характер». Это означает, что оно всегда связано с конкретной ситуацией, в рамках которой выявляется смысл текста. Аппликативный характер понимания состоит в том, что «понимать текст всегда означает применить его к нам самим, сознавать, что текст, даже если он всегда должен быть понят иначе, тем не менее, остается тем же самым текстом, раскрывающимся нам по-разному» (там же. С. 463). Из принятия принципа аппликативного понимания следует, что герменевтическое высказывание невозможно исчерпать или полностью высказать в одном единственном понятии, дать ему одно-единственное толкование. Процесс аппликации способствует развитию понятий, развитию заложенных в тексте возможностей из перспективы интерпретатора.
В заключение отметим, что Гадамер обогатил герменевтический вокабуляр такими понятиями, как «герменевтический разговор», «преодоление герменевтической дистанции», «герменевтическая открытость текста», «герменевтический опыт как истолкование», «понимание как интерпретация», «герменевтический круг» и т. д. Разумеется, не стоит думать, что он изобрел эти понятия, но он придал им новое содержание. Например, герменевтическое правило о том, что целое понимается на основании понимания его частей, а части из целого, использовалось уже в античной риторике. Это правило составило ядро учения об интерпретации Шлейермахера. Как уже говорилось, важным элементом герменевтического круга у него была психологическая составляющая. Хайдеггер и Гадамер отказались от ориентированной на психологию герменевтики. Согласно последнему, для понимания текста не столько важно проникновение в тайники душа его автора, сколько понимание его позиции по данному предмету и понимание самого предмета текста.
В статье «Текст и интерпретация» Гадамер сформулировал отличия герменевтического круга от логического, известного как circulus vitiosus. Последний состоит из отношений импликации, а, значит, ситуация, когда одно положение доказывается на основании другого, а последнее на основании первого, представляет собой ошибку в аргументации. В отличие от логического, герменевтический круг не предполагает наличия формально-логических связей между единичным и целым. Напротив, единичное и целое связаны между собой смысловыми отношениями. Поэтому «предпонимание», т. е. кругозор, убеждения и «предрассудки» интерпретатора, определяют структуру понимания. Понимание единичного включено в структуру исторического сознания и имеет характер свершения, процесса. Круг в данном случае представляет собой необходимую структуру понимания.
Заметим, что современная герменевтика внесла поправку и в гадамеровское определение герменевтического круга. Сегодня предлагают говорить не о круге, а о «герменевтической спирали», отражающей динамику процесса понимания. Например, согласно Юргену Болтену, предвосхищение смысла целого текста постоянно корректируется на основании более точного понимания его частей. Понимание имеет прогрессивный характер, оно предполагает постоянный прирост знания и поэтому не может быть описано при помощи модели круга. Болтен включает в понятие герменевтической спирали не только такие элементы, как структура текста, содержание текста, производство текста и история его рецепции, но и точку зрения интерпретатора. Он говорит о принципиальной бесконечности герменевтической спирали[34].
Понимание как взаимодействие «понимания» и «объяснения»
Мы уже говорили о том, что Дильтей предложил отличать науки о духе от естественных наук, взяв за критерий различия в их методологии. Методология гуманитарных наук основывается на «понимании», а наукам естественным свойственно «объяснение». Если механизм объяснения — это логическое заключение, то понимание является неформализованным методом проникновения в смысл предметов, являющихся созданием человеческого духа. Герменевтика предстает у Дильтея как основополагающая наука о понимании, которая имеет дело с сознанием субъекта, опосредованным в знаковой форме. Такое опредмеченное проявление духовной жизни Дильтей назвал объективацией. Он считал, что только на основе «понимающего» анализа объективаций человеческого духа возможен научный подход к жизни сознания и к пониманию культуры.
Введенный Дильтеем дихотомизм между объяснением и пониманием как дихотомизм между различными методологиями нашел как приверженцев, так и критиков. С критикой такого подхода выступает, например, Поль Рикёр. Он соглашается с Дильтеем в том, что текст как объект герменевтики представляет собой объективацию: в нем объективирован «дискурс». Однако, в отличие от Дильтея, он считает, что интерпретация текста происходит в форме диалектического взаимодействия процессов понимания и объяснения. Такая структура понимания следует из данной им характеристики текста.
Согласно Рикёру, текст включает в себя следующие моменты: фиксацию смыслового содержания, которую следует, в общем случае, отличать от авторских намерений, развертывание в тексте «неостенсивных» отношений, а также его направленность на бесконечное число адресатов[35]. В совокупности эти признаки составляют «объективность текста». Такая «объективность» создает возможность и даже настоятельно требует «объяснения» в качестве подхода к тексту. Однако объяснение в данном случае не носит причинно-следственного характера и не является внешним по отношению к тексту, т. е. не объясняет его в ряду других предметов. Объяснение текста должно соответствовать специфике присущей тексту объективности как знаковой объективации субъективности. Объяснение в данном случае основывается не на перенесении методов одной области на другую, например, методов, применяемых в «области фактов», на «область знаков». Напротив, оно разворачивается единственно в области знаков и включает в себя в качестве момента понимание. Принцип, на основании которого протекает объясняющая интерпретация, Рикёр заимствует из теории действия, одно из правил которой гласит, что цель действия становится понятной тогда, когда на вопрос «что» можно ответить, отвечая на вопрос «почему».
Рикёр пишет: «Диссоциация между смысловым содержанием текста и авторским намерением создает абсолютно новую ситуацию, которая вызывает к жизни диалектику объяснения и понимания. Поскольку объективное смысловое содержание представляет собой нечто иное по сравнению с субъективным намерением автора, то это содержание можно конструировать и реконструировать различными способами. Проблема правильного понимания не может быть решена путем простого возврата к подразумеваемому намерению автора. Эта конструкция необходимым образом принимает форму процесса.» (Там же, С. 102) Для Рикёра текст существует как объективная последовательность предложений в их целокупности. При этом «поскольку текст есть целое, то он представляет собой индивидуум так же, как живое существо или произведение искусства» (там же, С. 103). Кроме того, текст «репрезентирует кумулятивный, целостный процесс. Специфическая структура текста не может быть раскрыта из структуры предложений […] Такое позитивное многоголосие типично для рассматриваемого как целое текста, он открыт для различных прочтений и различных смысловых конструкций» (там же, С. 104).
Реконструкция текста приобретает у Рикёра круговой характер, ибо предвосхищение целостного смысла текста сказывается на понимании его частей. Причем понимание целого должно сопровождаться объяснением отдельных шагов, ведущих к пониманию. Интерпретация невозможна без объяснения, поскольку она протекает как «процесс аргументации, сравнимый с юридическим процессом интерпретации закона» (там же, С. 104). Выдвинутое на основании понимания предположение должно получить свое объяснение, получить оценку, даже с учетом того, что интерпретация в большей степени подчиняется «вероятностной логике», чем «логике эмпирической верификации».
Предложенный Рикёром механизм интерпретации текста как диалектическое взаимодействие понимания и объяснения можно рассматривать как новый вариант герменевтического круга. Процедура герменевтического круга включает в себя субъективный элемент — понимание, и объективный элемент — объяснение, оценку и выбраковку предположений. В целом процесс объяснения аналогичен процессу фальсификации в теории познания Карла Поппера. Цель его состоит в том, чтобы повысить вероятность правильности интерпретации, исключая наименее вероятные ее версии. Согласно Рикёру, понимание не имеет ничего общего ни с непосредственным схватыванием того, что творится в чужом сознании, ни с эмоциональной идентификацией интерпретатора с неким духовным содержанием автора. «Понимание насквозь опосредовано целым комплексом процессов объяснения, которые ему предшествуют и его сопровождают» (там же, С. 116). Переосмысляя таким образом основное правило герменевтики, он подвергает ревизии положение Дильтея о методологической специфике гуманитарных наук как наук понимающих.
Выше уже говорилось о том, что текст представляет собой для Рикёра автономную объективную реальность, которую он воспринимает не как закрытую, а как открытую систему, направленную на любого возможного читателя. Его теория интерпретации объединяет в себе, таким образом, дильтеевские мотивы о феноменах культуры как объективации духа и структуралистские мотивы о феномене культуры как системе. Рассматривая текст как объективную систему со свойственной ей структурой, он значительно модернизирует структурализм.
Для раннего структурализма было свойственно «вынесение за скобки», epoche, исключение всех остенсивных отношений при понимании текста. Текст в структурализме имел только внутреннюю, но не внешнюю сторону. Он рассматривал текст как некое явление вне мира, исключая его из возможных жизненных контекстов. Для Рикёра, напротив, текст всегда находится в определенной связи с действительностью. Он полагает, что учет этого обстоятельства открывает новые возможности для интерпретации текста. Он заимствует у структуралистов идею о том, что «глубинная семантика текста это не то, что автор хотел выразить, а то, о чем идет речь в тексте, т. е. неостенсивные отношения текста» (там же, С. 112). Однако эти неостенсивные отношения текста он воспринимает не просто как имманентное свойство текста, а как «мир, который может быть открыт на основании глубинной семантики текста» (там же). Понимание нацелено не на текст сам по себе, а на открываемый благодаря тексту мир смысла. Понимать текст значит «следовать его движению от смысла к отношению, от того, что он говорит, к тому, о чем в нем говорится. В этом процессе посредническая роль структурного анализа служит как оправданию объективного подхода, так и коррекции субъективного подхода.» (Там же, С. 113) Раскрытие смысла текста — это раскрытие тех неостенсивных отношений, которые формируют единый мир текста, и занятие позиции по отношению к содержанию текста.
Структурный анализ воспринимается Рикёром как технический прием, нацеленный на раскрытие глубинной семантики текста. Он повторяет: «То, что должно быть понято, это не исходная ситуация дискурса, а указание на возможный мир.» (Там же, С. 113) Для него важно, что «текст говорит о возможном мире и возможном способе ориентации в нем. Измерения этого мира будут открыты и осознаны благодаря тексту» (там же). В свою очередь, восприятие текста как особого смыслового горизонта предполагает, что текст втягивается в новую систему остенсивных отношений интерпретатора, т. е. что мир текста вступает во взаимодействие с реальным миром. Рикёр предлагает «брать текст в качестве исходного пункта для нового мировоззрения» (там же). Другими словами, смысл интерпретации заключается не просто в понимании текста, но и в том, чтобы использовать понятое для преобразования действительности. Текст у Рикёра перестает быть чисто литературным явлением, он превращается в явление социальное. Мы читаем не только для того, чтобы удовлетворить познавательные и эстетические потребности, но и для того, чтобы найти ориентиры для наших действий. Усвоение текста предполагает своего рода «аппликацию» текста, о которой говорил Гадамер. Причем в применении к Рикёру понятие «аппликация» приобретает критический смысл и подразумевает если не революцию, то, по крайней мере, острую критику идеологии.
Основные понятия герменевтики: понятие «интерпретация»
Термин «интерпретация» уже неоднократно использовался в данной книге и это неслучайно, ибо он является ключевым для герменевтики. Пора сказать, что интерпретация есть характерный для герменевтики способ понимания. Сущность герменевтического понимания заключается в передаче смысла устного или письменного текста, причем экспликация смысла — это всегда одновременно его интерпретация. Взаимопринадлежность экспликации и интерпретации объясняется тем, что к тексту обращаются всегда с какой-либо целью. Цели и интересы при интерпретации текстов настолько сильно отличаются друг от друга, что можно говорить о различных методах интерпретации. Данная глава посвящена анализу наиболее распространенных методов и принципов интерпретации.
Методы интерпретации текста
Реконструкция основного текста при работе с плохо сохранившимися источниками или с криптотекстами. Данный случай не является, строго говоря, герменевтическим процессом. Однако восстановление тела текста, как правило, сопровождается попытками понять значение текста. Основной вопрос здесь — это вопрос о значении знаков. Решение его основано на процедуре, которая в принципе не отличается от той, к которой прибегают при переводе текстов с одного языка на другой. Она включает в себя как лингвистическую, так и семантическую интерпретацию.
Как можно более точное восстановление содержания текста с учетом культурно-исторических условий его создания. В данном случае речь идет о воссоздании объективного, первоначального смысла текста, имманентного ему с момента его создания. Такая форма интерпретации очень широко распространена. Особый случай представляют собой священные тексты или, по выражению Гадамера, «эминентные» тексты. «Эминентные» тексты — это тексты, обладающие определенным авторитетом, т. е. тексты, смысловой потенциал которых так высок, что к ним постоянно обращаются. В результате постоянной задействованности текста возможно искажение его оригинального смысла, что, о чем свидетельствует история, нередко служит причиной раздора между интерпретаторами.
Такая интерпретация, как правило, носит консервативный характер. Гадамер, например, придавал ей большое значение, видя в ней средство для «проникновения в предание». Она отличается от интерпретации, которую он назвал «аппликативным пониманием» и которую он связывал с практикой реализации «действенно-исторического сознания». С другой стороны, интерпретация, нацеленная на восстановление аутентичного смысла высказывания, может играть и прогрессивную роль в духе требования Вальтера Беньямина, который призывал освободить предание от конформизма с современной эпохой, стремящейся подчинить его себе и поставить на службу идеологии своего времени.
Данная форма интерпретации представляет собой сложный процесс и требует обширных знаний в области лингвистики, риторики, стилистики (норм и правил речи), а также знаний традиций и кодов соответствующей эпохи.
Интерпретация, нацеленная на выявление авторских интенций, т. е. того, что автор в тексте и посредством него намеревался сказать. Примером такой формы экзегезы, критерием которой выступает intentio auctoris, может служить тип чтения, который сегодня называют «имманентным чтением» или close reading. Например, Деррида в «Грамматологии» разграничивает простое «чтение» и «двойной комментарий». Если «двойной комментарий» предполагает репродукцию интенционального отношения между автором и традицией, то чтение должно оставаться внутри текста и не покидать его пределов. Текст и только он является носителем содержания в случае «простого чтения». При этом интерпретатор должен усвоить язык текста, его установку, внутреннюю конструкцию и претензию на истину. Он должен следовать ходу мысли автора во всех ее деталях. «Опасность» такого имманентного чтения состоит в том, что интерпретатор начинает отождествлять себя с автором текста, оказывается в плену текста и не может судить о нем отстраненно.
Психологическая реконструкция может быть нацелена либо на восполнение того, о чем текст умалчивает, например, того, почему тот или иной персонаж в романе поступает так, а не иначе. Либо же задача состоит в том, чтобы показать, что конфликты и линии напряжения в произведении отражают конфликты и линии напряжения в жизни автора текста (его неврозы, неосознанную агрессивность, чувство вины или страха и т. д.). Данная форма интерпретации — нередко в форме психоанализа — требует множественных знаний психологического, социологического, исторического характера и т. д.
Аппликация нацелена на выявление актуальности текста, например, его пригодности для решения какой-либо насущной проблемы. Новая интерпретация текста в духе новой научной теории, новой политической идеологии или новой религиозной доктрины стремится наполнить его новым содержанием и придать ему новую жизнь. Существуют различные возможности использования текста для таких целей, отличающиеся в зависимости от того, идет ли речь о философских или литературных текстах. В случае философских текстов их критическая интерпретация или разработка затронутой в них проблематики, как правило, выводит за пределы первоначального текста, тогда как в случае литературных текстов интерпретация, наоборот, вводит в текст и открывает в нем новое[36]. В обоих случаях речь идет о том, чтобы раскрыть потенциальные возможности текста с целью его переоценки и использования.
Герменевтический аппликативный подход к текстам следует отличать от продуктивного, но не герменевтического подхода, примерами которого служат «remake» или перевод данного текста на другой язык.
Продуктивно-критическое отношение к тексту противостоит «имманентному чтению», о котором говорилось выше. Горизонт текста в данном случае насильственно изменяется. Тем не менее, «аппликативное понимание» — это тоже способ герменевтического понимания. Интерпретатор как бы «преодолевает» текст, реинтерпретируя содержащиеся в нем заявки на истину. Истина и ложность текста предстают в новом свете с позиций интерпретатора. Такое «революционное» обращение с текстом характерно для Теодора Адорно, Мартина Хайдеггера, Ричарда Рорти, Жака Деррида и многих других. В сущности, «аппликативное» обращение с текстом обеспечивает развитие философии в целом.
Роланд Барт рассуждает на эту тему в своем эссе «Удовольствие от текста». Он выделяет два типа чтения: первый нацелен на деконструкцию текста, на поиск в нем того, что интересно интерпретатору. При втором типе читатель послушно следует за автором, ничего не пропускает в тексте, замечает в нем каждый знак. Его чтение не нацелено на «расширение текста» или на разоблачение его истин. Соответственно Барт говорит о двух типах текста, которые он метафорически называет «текст для удовольствия» и «текст для похоти». «Текст для удовольствия» находится в согласии с традицией, а не нацелен на разрыв с ней. Он удовлетворяет, наполняет, вызывает успокоение, приглашает к уютному чтению. «Текст для похоти» вызывает у читателя состояние кризиса. Уют и покой исчезают, исторические, культурные и психологические основы читателя оказываются потрясены. Иерархия предпочтений читателя, его ценности и даже его форма его воспоминаний разрушены, даже его отношение к языку становится проблематичным. Такое различное отношение к тексту соответствует различным ожиданиям читателя: одни предпочитают «тексты без тени», тексты, не связанные с миром других, внетекстовых, означающих. Другие, включая самого Барта, полагают, что любой текст имеет «тень», т. е. определенный идеологический контекст, отражающий его отношение к действительности. Благодаря «тени» в тексте можно обнаружить места сопротивлений и неровностей. В таком критическом чтении, разоблачающем теневую сторону текста, Барт видит цель философской деконструкции, основанной на структурном анализе знаковых систем.
В качестве еще одного примера критического, деконструктивного отношения к тексту можно рассмотреть подход Жака Деррида, практикуемый им, в частности, в эссе «Структура, знак и игра в дискурсе наук о человеке»[37]. Тема этого эссе — критика картезианской эпистемологии, которую Деррида называет «метафизикой присутствия». Последняя исходит из того, что как любое единичное явление, так и мир в целом можно объяснить путем логической или генетической дедукции из одного единственного центра. Картезианская эпистемология существует в мире центрированных, завершенных систем со строгим порядком означающих. Такой четко структурированной системе Деррида противопоставляет дискурс, не привязанный к единому, общему центру и функционирующий благодаря свободной игре означающих в некотором замкнутом пространстве. Для такого дискурса характерно не наличие центра, а наличие «нулевой позиции», которая может быть задана произвольно взятым знаком и наполнена любым содержанием. «Центр» становится «номадом», он перемещается и изменяется. При этом не история решает вопрос о значении знака, а конкретная, наличная ситуация. История утрачивает свой приоритет при определении смысла и содержания знаков. С точки зрения логики, различия между элементами в такой системе оказываются не взаимоисключающими. Напротив, элементы образуют некоторое целое при сохранении своих различий (differan.ee). Деррида стремится разработать новую эпистемологию на основе понятий «различие» и «различение». Под «различением» он понимает внимание к различиям в данном комплексе. Поэтому «различение» можно охарактеризовать как механизм, благодаря которому происходит движение смысла.
В качестве примера такой деконструктивной эпистемологии Деррида приводит структурную антропологию Леви-Стросса. Как он считает, последний внес вклад в преодоление дуалистического восприятия понятий «природа» и «культура» благодаря анализу понятия «инцест». Как известно, под «природой» традиционно понимается сфера того, что неподвластно никакой культурной норме и функционирует единственно благодаря закону причинности, а культура мыслится как совокупность норм. В теории Леви-Стросса инцест предстает одновременно как культурный и природный феномен. Он нормирован в рамках отдельных культур, одновременно представляя собой универсальное явление. Проведенный Леви-Строссом анализ понятия «инцест» свидетельствует о том, что дуализм природы и культуры — видимый, концептуальный, а не реальный, субстанциальный дуализм.
Как полагает Деррида, условие возможности для разработки нового понятия о природно-культурном феномене было подготовлено традиционной метафизикой, разграничившей «природу» и «культуру». Для того, чтобы нейтрализовать дуализм старой системы и разрушить привычный, дихотомичный порядок идей, необходимо было изменить центр наблюдения, что и проделал, по его мнению, Леви-Стросс. Понятие «инцест» выступает у него в качестве нового «центра», благодаря которому видоизменяется вся картина мира, а именно, представление о дуализме между природой и культурой оказывается несостоятельным.
Принципы интерпретации текста
Несмотря на то, что, так же, как и методы, принципы интерпретации текстов сильно отличаются друг от друга, можно сформулировать наиболее важные из них.
Признание автономии текста. Принцип автономии текста заключается в признании присущего ему смысла. Данный принцип позволительно охарактеризовать как своего рода «принцип благоволения», требующий принять допущение о смысловой завершенности текста, о том, что текст полностью высказывает свое мнение и свою истину.
Подходы к такому пониманию текста можно найти у различных авторов. Как уже говорилось выше, Гадамер в работе «Истина и метод» представляет такую позицию. Он полагает, что преимущественным предметом герменевтики является все написанное. Он рассматривает письменность как «абстрактную идеальность языка» и считает, что только благодаря своему идеальному смыслу текст принципиально поддается идентификации и воспроизведению в ходе истории: «Лишь то, что остается идентичным при воспроизведении, и было в действительности записано» (Там же, С. 456).
«Методическое преимущество» письменного текста по сравнению с устным Гадамер видит в том, что по отношению к нему «герменевтическая проблема выступает в чистом виде, свободная от всего психологического» (там же, С. 457). Все письменное претендует, таким образом, на автономию смысла. Гадамер пишет: «То, что сказано в тексте, должно быть освобождено от всего случайного, и понято в своей чистой идеальности, в которой оно единственно обретает значимость. Таким образом, письменная фиксация, именно потому, что она полностью освобождает смысл высказывания от того, кто его высказывает, позволяет понимающему читателю выступать в качестве адвоката, защищающего его претензию на истинность. Именно поэтому читающий познал то, что к нему обращается, и то, что он понимает, в его значимости. То, что он понял, всегда есть нечто большее, чем просто чужое мнение; это есть всегда уже возможная истина. […] Смысловой горизонт понимания не может быть ограничен ни тем, что автор изначально имел в виду, ни горизонтом адресата, которому изначально предназначался текст.» (там же, С. 459) По мнению Гадамера, зафиксированное в тексте «свободно от случайности своего происхождения и от своего автора, и раскрыто навстречу новым позитивным связям» (там же, С. 460).
Сходной точки зрения на автономность текста по отношению к его автору придерживается Рикёр. В статье «Текст как модель» он пишет: «То, что мы записываем и регистрируем, это ноэма разговора. Это смысловое содержание языкового события, но не событие языка»[38]. По его мнению, «в письменном дискурсе намерение автора более не совпадает полностью со смыслом текста. Эта диссоциация значения слова и намерения — решающий пункт при фиксации дискурса. […] Судьба текста полностью уклоняется от ограниченного жизненного горизонта его автора. То, что текст высказывает, имеет большее значение, чем то, что автор намеревался сказать с его помощью, а любая экзегеза разворачивается в сфере значений, которые утратили свою связь с душой автора» (там же, С. 88–89).
Рикёр отрывает текст от речевого акта и видит в такой автономизации текста возможность приобретения им социального измерения, превращения текста в социальное явление. Письменный текст утрачивает характер одноразового события, он прорывается за границы сиюминутного face-to-face отношения. У текста нет больше конкретного, зримого, одного-единственного телесного адресата. Неизвестный и невидимый читатель становится переменным адресатом неограниченного ничем дискурса, в который вступает текст. Окружающая среда, сотканная из остенсивных связей, больше не влияет на понимание записанного текста, в отличие от текста, разворачивающегося в сфере устной речи. Единственным смысловым уровнем является набросок мира, созданный непрямыми, т. е. неостенсивными отсылками в пределах самого текста. Текст способен вступить в дискурс благодаря содержащемуся в нем миру. Он представляет собой независимый от своего автора субъект мнения.
Понимание предмета, о котором идет речь в тексте. Важной предпосылкой адекватной интерпретации текста является понимание предмета, о котором в нем идет речь. Это, например, многократно повторял Гадамер, указывая на то, что не понимание языка, а понимание вопроса, ответом на который является данный текст, является ключом к успешной интерпретации текста. Понимание языка — это необходимое, но недостаточное условие интерпретации. Правильному пониманию и правильной интерпретации способствует, прежде всего, заинтересованность предметом текста. Текст освобождает сказанное о предмете для проверки, для обсуждения, ставит его в рамки дискурсивного объяснения. Благодаря записи высказывание о предмете становится смысловой единицей в дискурсе. Оно подлежит коррекции и развитию в процессе конфронтации с другими мнениями на этот счет.
Понимание культурной традиции, в рамках которой был создан текст. Данный принцип интерпретации также заимствован у Гадамера. Как уже говорилось в предыдущей главе, последний придает большой вес реабилитации «предрассудков», развивая и модифицируя идею Хайдеггера о «предструктуре понимания» как условии возможности понимания. Под «предрассудком» Гадамер понимает не нечто негативное, например, предвзятое мнение или суеверие. «Предрассудок» означает на его языке принадлежность к некой культурной традиции. «Предрассудок» как мировоззрение, свойственное некому языковому сообществу, создает почву для понимания текста, он обусловливает предварительное понимание — так называемое «предпонимание» — предмета разговора, о котором повествует текст. Такое «предпонимание» является необходимым условием интерпретации. Оно есть те ворота, которые открывают доступ к тексту, и позволяют понять его, оспорить или подтвердить высказываемое в нем мнение, научиться у него новому или критически переосмыслить его. Понимание текста всегда включает в себя «предпонимание», на основе которого интерпретатор движется к адекватному пониманию текста. При этом нередко приходится отказываться от тех предпосылок, исходя из которых, была начата интерпретация текста. «Предпонимание», следовательно, само может быть подвергнуто ревизии.
Принцип «герменевтической открытости текста». Как отмечает один из исследователей герменевтической философии, Фритхов Роди, начиная с Шлейермахера, Бёкля и Дильтея, герменевтическую рефлексию отличает признание принципа продуктивной непостижимости текста[39]. В соответствии с этим принципом понимание предстает как бесконечный процесс. Данное положение он называет принципом «герменевтической открытости текста» (там же). Такое отношение к тексту действительно характерно для указанных авторов. Однако, например, Шлейермахер указывает на то, что текст обладает объективной значимостью, которая может стать доступной на основании строгого канона. Таким образом, с одной стороны, за текстом в герменевтике признается некое объективное содержание, а с другой стороны, признается, что понимание текста — это развивающийся процесс.
Объяснить данное противоречие можно, на мой взгляд, если принять гадамеровский тезис об аппликативном характере герменевтического понимания или интерпретации. В этом случае предполагается, что понимание происходит всегда в условиях новой герменевтической ситуации, а значит, из новой перспективы и руководствуясь новыми познавательными интересами. «Аппликативное понимание» не оставляет сам текст неизменным, а обнаруживает в нем все новые смыслы. Возникает ситуация, когда с изменением понимания изменяется сам понимаемый текст, происходит приращение его содержания. Одним из примеров такого понимания представляет собой деконструктивное чтение Деррида, при котором внимание фиксируется на внутренних противоречиях текста, а понимание нацелено на разрешение этих противоречий за счет открытия новых смысловых горизонтов текста.
В связи с проблемой герменевтической открытости текста, стоит упомянуть другую, связанную с ней проблему. В герменевтике одно время широко дискутировался вопрос о том, можно ли понять автора лучше, чем он сам себя понимал. Согласно Гадамеру, сводящему герменевтическую задачу к предметной постановке вопроса, такая ситуация действительно возможна в том случае, когда интерпретатор лучше разбирается в предмете, чем автор текста[40].
Также и Рикёр считает, что интерпретатор может понимать автора лучше, чем тот сам себя понимал. Он видит «ключевой пункт» герменевтики в «связи расшифровки и усвоения»[41]. «Расшифровка» должна быть нацелена на установление аутентичного смысла текста, в чем, например, видели свою задачу представители исторической герменевтики. Процесс «усвоения» Рикёр основывает на идеях Шлейермахера, выдвинувшего принцип активности читателя как со-создателя смысла текста. Такое балансирование между историзирующим и актуализирующим отношением к тексту неизбежно приводит к динамике в его понимании. При этом «понимать автора лучше, чем он сам себя понял, значит, вывести силу сознания, содержащуюся в его дискурсе, за горизонт его собственного экзистенциального опыта» (там же).
Причины непонимания текста
Последнее, на чем мне хотелось бы остановиться, это обозначить возможные причины непонимания текста. Говорить о том, что понимание логически возможно только на фоне непонимания, или о том, что непонимание является обратной стороной понимания, излишне, ибо это известно каждому. Непонимание может выполнять негативные функции, например, ограничивать понимание. Оно может выполнять также позитивные функции, например, стимулировать процесс понимания. Исследованиям того, как соотносятся между собой понимание и непонимание, посвящено огромное количество работ. Среди них следует прежде всего упомянуть работы Фритца Маутнера[42], в которых он развивал тезис о принципиальной невозможности понимания, а также работы «позднего» Витгенштейна.
Заслуживает внимания и недавно вышедшая книга Эмиля Ангерна[43], некоторые основные положения которой стоит рассмотреть. Можно согласиться его с точкой зрения на герменевтику, в соответствие с которой «ядро и исходный пункт герменевтической рефлексии» заключается в том, что «смысл всегда находится в динамическом отношении к не-смыслу» (там же, С. 261). Ангерн различает три формы «не-смысла», это — «чуждое смыслу, непонятное и противоречащее смыслу» (там же, С. 262).
Под «чуждым смыслу» он понимает то, что обосновывает смысл. Например, материальная природа сама по себе не имеет смысла, но ее наличие — условие возможности ее осмысления. «He-смысл здесь не просто другое и внешнее, — пишет Ангерн, — а предшествующее смыслу, одновременно его основание и исток» (там же, С. 272). Он выявляет постепенные переходы между смыслом и обосновывающим его «несмыслом». При этом переход означает не только то, что все осмысленное основывается и вытекает из не имеющего смысла, но и то, что «существуют плавные переходы между физическим, физиологически-со-матическим и животно-инстинктивным, между потребностями, желаниями и намерениями» (там же, С. 277). Подчеркивая взаимосвязь между смыслом и внесмысловыми структурами, Ангерн расширяет фундамент герменевтики, занимая позицию между представителями натурализма, выступающими за «натурализацию духа», и «герменевтического универсализма», для которых «дух» не укоренен в теле, а независим от него. Его герменевтика призвана анализировать как традиционные структуры рациональности, так и структуры, которые «связывают» дух с материей в той или иной форме.
Вторая форма «не-смысла», согласно Ангер ну, — это «непонятное». Непонятное не является иным по отношению к смыслу, но оно недоступно или лишь частично доступно либо конкретному реципиенту в конкретной ситуации, либо даже самому продуценту смысла. «Непонятное» состоит здесь в негативном отношении не к смыслу, а к процессу понимания. Непонятое и непонятное есть дефицит, который можно и нужно устранить в ходе понимания. Ангерн говорит в данной связи о «дифференцированном опыте понимания», который имеет место при наличии пространственно-временной дистанции, культурной инаковости, чуждости жизненного мира или индивидуальных различий между понимаемым и понимающим. «Непонятное» выступает индикатором того, что «другое смысла не может быть полностью абсорбировано смыслом» (там же, С. 289), т. е. того, что при понимании всегда остается не сглаживаемая разница между понимаемым и понимающим.
Следующая форма «не-смысла», согласно Ангер ну, — это то, что «сопротивляется смыслу», «явный вздор, бессмысленное, абсурдное» (там же, С. 296). Не подлежащее пониманию в данном случае — это «формы негативного», то, «в чем мы не усматриваем разумности», то, «что мы не хотим ни оправдать, ни принять» (там же, С. 297). Он выделяет три формы негативного: «Первая состоит в конечности conditio humana, в принципиальной неполноте нашей экзистенции, в слабости и смертности, которые препятствуют полной реализации смысла нашего бытия. […] Вторая — это негативность реального мира: насилие и беззаконие, которое испытывают люди, отчуждение, несогласие, а также разорванность мира, в котором они живут. Третья — это метафизически негативное — бессмысленное, злое, страдание, т. е. то, что радикальным образом ставит под вопрос наше бытие и наше понимание» (там же, С. 300).
Отметим, что то, что Ангерн относит ко второй форме бессмысленного, а именно негативное, вызванное собственными действиями людей, является предметом социально-критической герменевтики. Так, герменевтика Адорно, Апеля, Хабермаса нацелена на критику абсурдного и противоречащего смыслу, того, что нормальный здравый смысл не может принять, поскольку, если это произойдет, то это было бы равнозначно отрицанию человеческих ценностей вообще и ценностей демократии западноевропейского образца в частности. Критика идеологии спонтанно переходит границы герменевтики текста и превращается в социальную практику. Она видит свое призвание в минимизации бессмысленного и абсурдного в человеческой жизни.
Основные понятия герменевтики: понятие «значение»
Понятие «значение» маркирует место пересечения герменевтики и философии языка. Как известно, синтаксис, семантика и прагматика образуют области лингвистики, изучающие различные аспекты значения слов и языковых выражений. Сама лингвистика может рассматриваться как часть семиотики, понимающей значение в широком смысле как неотъемлемый структурный элемент человеческой действительности. В философии проблема значения становится одной из центральных, особенно после так называемого «лингвистического поворота» второй половины двадцатого века. Решение вопроса о значении понятий воспринимают как ключ к решению эпистемологических, онтологических, этических и др. проблем философии.
В настоящее время существует такое множество теорий значения, что они с трудом поддаются систематизации. В своем справочнике по теории метафоры Экхард Рольф сводит имеющиеся теории значения к нескольким типам, в основе которых лежат представление, референция, бихевиоризм и использование знака[44]. Эту классификацию можно дополнить эволюционно-когнитивной теорией значения, теорией, основанной на семантике истинности, а также коммуникативной теорией значения. Данная глава схематично представляет важнейшие из теорий значения, разработанные в рамках философии языка.
Теория значения, основанная на представлении
В самых общих чертах данную теорию можно описать следующим образом: значение языкового выражения базируется на представлении, которое говорящий и слушающий связывают с языковым выражением. Она, таким образом, предполагает, что значение есть некое субъективное образование в голове пользователя языка. Представление говорящего как бы «упаковывается» в языковой знак и передается слушающему, который этот знак «распаковывает». Знак репрезентирует определенный предмет, в данном случае, представление. Таким путем создается возможность для коммуникации.
На этой общей схеме основываются многочисленные вариации теорий, сводящих значение к представлению. Важное место среди них занимает психологическаятеория значения, представителями которой являются Джон Локк, Вильгельм Вундт, Бертран Рассел и др. Палитра мнений здесь очень разнообразна, но все они нацелены на решение одной задачи — на объяснение возможности взаимопонимания. Герман Пауль предлагает в этой связи различать узуальное и окказиональное значение: «Итак, под узуальным значением мы понимаем общее содержание представления, которое члены некоторого языкового сообщества связывают с тем или иным словом. Под окказиональным значением мы понимаем такое содержание представления, которое говорящий, высказывая слово, связывает с ним и ожидает от слушающего, что и он также связывает с данным словом такое же представление»[45]. Иоганн Стёкляйн считает, что определенное представление, которое сначала условно связывают со словом, укрепляется благодаря частому использованию слова вместе с этим представлением. В результате данное представление становится основным для данного слова и в качестве такового делает возможными образование новых смысловых связей для этого слова[46]. Теодор Циен полагает, что значение, с точки зрения психологии, «идентично с кругом представлений, которые обычно ассоциативно вызываются данным символическим образованием»[47].
Другим важным течением в рамках теории значения, основанной на представлении, можно считать феноменологию. Одним из ее представителей является Гуссерль. Проблема представления занимает Гуссерля в связи с проблемой суждения и, в более общем плане, в связи с проблемой познания. Согласно ему, представление обосновывает понятие. Со значением как актом понимания, в котором выражается познание, коррелирует акт чувственного восприятия и созерцания. Анализу этих «простых, низших интеллектуальных актов» Гуссерль придает фундаментальное значение для феноменологического прояснения возможности познания.
Можно выделить несколько аспектов в его понимании представления. Представление — это 1) акт наряду с другими актами, такими, как суждение, желание, вопрос; 2) материя акта, как имманентная составляющая каждого полного интенционального акта, 3) В конечном итоге, любой интенциональный акт есть представление, в котором нечто становится «предметом» в узком смысле слова. Гуссерль считает, что любой познавательный акт или сам является представлением или связан с представлением. Познавательный акт, согласно ему, возникает там, где пустая категориальная интенция — значение — получает созерцательное наполнение, в результате чего нечто может быть опознано как «нечто». С созерцательным наполнением интенции значения — в направлении возрастания представляемости высказывания до полного высказывания созерцательности — он связывает понятие очевидности. Очевидность же он понимает как событие истины.
Несмотря на важную роль, которую Гуссерль отводит представлению в познании, он считает, что представление не является необходимым для понимания значения слов и выражений. Так, например, такие понятия, как «культура», «религия», «наука», «искусство», «дифференциальное исчисление» невозможно понять на основании чувственного представления, даже если такое представление можно подобрать[48]. Понимание заключается в понимании «значащих» знаков. Даже в арифметике знак, согласно Гуссерлю, выступает не как не имеющий значения, а как «марка» в игре, значение которой задано правилами игры, в рамках которой данный знак применяется. Значение знака, так же, как при игре в шахматы, есть его «игровое значение» (там же, С. 74). «Наглядность» имеет применение там, где возникает необходимость отграничить одно понятие от другого с целью прояснения значения понятия (там же, С. 77).
Несмотря на то, что теории, основывающие значение на представлении, получили довольно широкое распространение, они обладают существенными недостатками, на важнейшие из которых необходимо указать. Так, Фреге, критикуя психологизм данной теории, выдвинул аргумент о том, что субъективное по своей природе представление не способно обосновать объективное по своему характеру значение[49].
Другое возражение против данной теории сводится к указанию на порочный круг в обосновании, схема которого выглядит следующим образом: для описания значения необходимо сначала описать связанное с этим значением представление, для чего снова требуются слова и т. д. Отсюда следует, что важна связь не между выражением и представлением, а между различными выражениями.
Следующее возражение состоит в утверждении того, что есть слова, такие, как частицы, союзы, причастия, а также предложения, которым не соответствует никакое представление. Так, невозможно привести представления, которое соответствовало бы союзам (и, но). Также трудно утверждать, что выражения «почти» и «вот-вот» имеют одно и то же значение, поскольку им соответствует одно и то же представление. Несмотря на то, что можно более ни менее убедительно представить себе, что со словом «дом» коррелирует определенное представление, существует множество абстрактных существительных, значение которых данная теория не объясняет. Более того, если последовательно следовать ей, то можно прийти к абсурдным выводам типа следующего: каждое абстрактное существительное, например слово «свобода», имеет столько значений, сколько представлений ему соответствует. Такой ситуации противоречит обычная практика, показывающая, что люди могут успешно использовать абстрактные понятия, несмотря на то, что они связывают с ними различные представления.
Скепсис по поводу объясняющих возможностей теорий, сводящих значение к представлению, иногда заходит так далеко, что они полностью отвергаются. Например, Руди Келлер в своей книге по знаковой теории познания приходит к выводу о том, что представления не играют той значительной роли в теории понимания, которую им придает теория представления[50]. Согласно ему, данная теория представляет собой разновидность теории репрезентации, где знак обозначает некий предмет. Его критика состоит в том, теория значения как представления не в состоянии ответить на вопрос о том, как такое отношение репрезентации возникает и сохраняется. Жак Деррида в своей теории письма, «Грамматологии», подчеркивает независимость высказывания от ситуации, возможность его повторения в новых ситуациях. Из этого он делает вывод о том, что значение высказывания невозможно обосновать на изменяющемся во времени представлении. Эрнст Тугенхат в своих лекциях по аналитической философии языка подчеркивает, что при смене ситуаций восприятия мы должны быть в состоянии обращаться к ним как к одной и той же ситуации[51]. Например, можно в любой точке мира сказать, что кельнский собор горит, не имея перед глазами соответствующего представления. Возможность этого дает не представление, а значение.
В целом, критика теории значения как представления сводится к тому, что как в повседневной практике, так и при объяснении значения языкового знака понятие «представление» играет несущественную роль. К ее основным недостаткам относят ее предположение об идентичности значения, т. е. понятия, и представления. Кроме того, указывают на то, что она игнорирует социальный аспект при образовании значений.
В пользу данной теории можно сказать то, что, хотя она не может объяснить, как значение функционирует, но она способна объяснить формирование значения при обучении языку. Как мне кажется, следует различать ситуацию введения значения знака при помощи представления и ситуацию использования значения, в которой представление, если и играет некую роль, то лишь для образования ассоциаций (с точки зрения психологии) или порождения значений на основе глубинной грамматики (в духе семантики Хомского). Заметим в этой связи, что данная теория хорошо сочетается с современными теориями значения, использующими понятия «прототип» и «стереотип».
Теории значения, основанные на понятии референции
Ключевое положение таких теорий заключается в том, что они рассматривают предмет, обозначаемый языковым знаком, как его значение. Поскольку такие теории, как правило, связывают значение и объект референции посредством цепи причинности, то их можно назвать экстерналистскими. К представителям данной теории относятся Готлоб Фреге, Хилари Патнэм, Саул Крипке, Фред Дретске, Тайлер Бург и др.
Фундамент для референциальной теории значения заложил Фреге в работе «Значение и смысл» (1891 г.), в которой он исследовал значения обозначений, описаний и собственных имен. В этой работе он предложил отличать значение знака от его смысла. Под значением знака он понимает чувственно воспринимаемый предмет или так называемое «обозначаемое». Смысл знака — это способ данности предмета или то, как мы устанавливаем отношение к предмету, как мы о нем думаем. Фреге считает, что знак (слово) и комбинация знаков (выражение) выражают смысл, но обозначают с его помощью значение. Его знаменитый пример — планета Венера, которую называют либо «утренней звездой», либо «вечерней звездой» — хорошо иллюстрирует его мысль.
Аналогично слову и выражению, предложение также имеет и смысл и значение. Значением предложения является его истинность или ложность, а смыслом — выражаемая в нем мысль. Согласно Фреге, есть предложения, имеющие смысл, но не имеющие значения. Например, он указывает на то, что в Гомеровом эпосе мысль остается той же, независимо от того, имеет ли имя «Одиссей» значение или нет, т. е. представляет ли имя некий реально существующий предмет или нет. Наличие или отсутствие значения Фреге предложил рассматривать в качестве критерия для разграничения литературных и научных текстов.
Введенное Фреге различие между смыслом знака, содержанием мысли и денотатом, предметом, оказало влияние на развитие аналитических теорий значения. В двадцатом веке референциальные теории значения стали бурно осваивать все, заданные Фреге, направления: новое определение получили все его ключевые понятия, а именно понятия «мысль», «денотат», «смысл». Так, словарь теории референции обогатили термины «интенсионал» и «экстенсионал». Например, Рудольф Карнап предложил называть интенсионалом свойство вещи, а экстенсионалом группу вещей, обладающих этим свойством[52]. В отличие от него Хилари Патнэм считает интенсионалом понятие знака, а экстенсионалом совокупность вещей, которые подпадают под это понятие[53].
Рассмотрим работу Патнэма «Значение значения» более подробно. В ней он доказывает, что экстенсионал понятия не является функцией психического состояния говорящего, а существует в действительности. Экстенсионал, согласно ему, всегда определяется интерсубъективно, на основе общественного разделения труда. Основание для значения сначала образует общественный стереотип, но затем эксперты уточняют значение слова или понятия. Патнэм предлагает общее правило для описания значения, включающее установление синтаксического маркера, семантического маркера, учет общественного стереотипа и установленного экспертами экстенсионала. При этом он отличает экстенсионал от описания. Например, «описание» воды — это перечисление ее признаков. Вода есть бесцветная, прозрачная жидкость без запаха (стереотип). Экстенсионал понятия «вода» — это совокупность всех жидкостей, имеющих химическую формулу Н20. Только те предметы, которые имеют идентичную структуру, имеют идентичное значение. Согласно Патнэму, вода на планете Земля и ее (воображаемый) аналог на другой планете, обладающий свойствами воды, но имеющий химическую формулу XYZ, имеют различные экстенсионалы и, следовательно, различные значения.
Патнэм исходит из того, что значению соответствует элемент объективного мира. Тогда можно допустить, что говорящие с одинаковой языковой компетенцией используют одинаковые слова, имеющие в действительности различные экстенсионалы. В качестве примера он приводит использование слова «вода» на Земле и на ее (мыслимом) аналоге до открытия химической формулы воды, позволившей развести экстенсионалы данного слова. Заметим, что значение в этом случае (до открытия химической структуры воды) функционирует лишь как стереотип. Настоящее значение слова определяет, как следует из рассуждений Патнэма, его реальная (а не номинальная) дефиниция.
Итак, следует различать между стереотипом и экстенсионалом. Стереотип — это не научное понятие, он функционирует, скорее, как индекс, как свойство или описание. Стереотипы используются нормальными носителями языка. Экстенсионалы — это понятия, которые определяются экспертами. Таким образом, на основании рассуждений Патнэма можно заключить, что существует два типа значений. Под значением можно понимать, с одной стороны, стереотип, т. е. то, сущность чего не задана строгим определением. С другой стороны, значение может фигурировать как экстенсионал, т. е. как научно установленное понятие. Его различение между стереотипом и значением вызывает ассоциацию с различением между номинальными и реальными определениями. Заметим, что все вышесказанное относится к описанию «естественных» объектов мира. Случаи, когда значение определяет экстенсионал понятия per constructionem, т. е. когда на основании значения определяют, что относится к данному классу предметов, а что нет, Патнэм считает нерелевантными.
В качестве еще одного примера референциальной теории значения можно привести теорию Руфь Миликян, рассматривающей язык как продукт биологической эволюции[54]. Рассуждая о значении, она исходит из допущения о причинном взаимодействии между реальностью и субъектом. Она считает, что содержание первичных понятий, отражающих чувственно воспринимаемые свойства объектов, определяются способностями человека реагировать на эти свойства, воздействующие на его органы чувств в виде «естественной информации». Так, для того, чтобы получить понятие четырехугольника, необходимо обладать способностью реагировать на естественную информацию о наличии четырехугольных вещей, воздействующих на человеческие органы чувств. Это же касается понятий для других чувственно воспринимаемых форм: для величины, цвета или материала, мягкости или твердости, тяжести или легкости, длины или расстояния[55]. При этом очевидно, что способность к образованию таких понятий нельзя представлять как чисто ментальный процесс. Напротив, как подчеркивает Миликян, эта способность возникает в результате причинных взаимодействий между живым существом и тем, что оно воспринимает, и зависит от строения его каналов для получения естественной информации. Совершенствование способности идентифицировать предметы, т. е. способности к эффективному и точному сбору информации, «остается эмпирическим предприятием» на всех ступенях развития живых существ. По ее мнению, «эта способность изначально определяется историей эволюции, затем обучением, и только потом суждениями, которые основываются на восприятии, языковом input и инференции. Все тесты, благодаря которым мы проверяем нашу способность узнавать объективно идентичное, это единственно эмпирические тесты» (там же, С. 495). Вывод, к которому она приходит, заключается в том, что наша «собственная рациональность всегда зависит от сложного причинно-информационного строения эмпирического мира. Разум прочно укоренен в мире вне нашего духа» (там же). При этом предметы могут быть идентифицированы различными путями, и ни один из этих путей не обладает преимуществом по отношению к другим.
Отметим в заключение к этому разделу, что, несмотря на то, что теория значения, основанного на референции, эффективно работает во многих случаях, она все же не решает окончательно проблему значения. Основной недостаток этой теории состоит в ее ограниченности, в том, что она не применима в тех случаях, когда слово не имеет чувственно воспринимаемого референта (например, для описания значений таких слов, как «поскольку», «слева», «ничто»).
Бихевиористские теории значения
Как известно, бихевиоризм возник как особое направление в психологии, изучающей поведение людей. Он основывается на модели «стимул/реакция», которая устанавливает связь между «входом» и «выходом» информации, считая, что внутренние процессы необъяснимы, и представляя сознание в виде «черного ящика». Понятие стимула означает здесь, в отличие от физиологии, не дискретное физическое явление, а все возможные внутренние и внешние раздражители, задействованные в конкретной ситуации. Семантический бихевиоризм берет за основание данную модель, значительно ее модифицируя. Можно выделить три варианта семантического бихевиоризма, а именно психологический, натуралистический и функциональный.
Психологический семантический бихевиоризм сводит значение знака к поведению субъекта. Представителями данной идеи являются Леонард Блумфильд, Бурхус Фредерик Скиннер, Чарльз Лесли Стивенсон, Пауль Грайс[56]. Так, американский структурализм в лице Блумфильда заимствовал модель «стимул/реакция» для понимания языкового значения[57].
В отличие от лингвиста Блумфильда, Чарльз Лесли Стивенсон известен прежде всего благодаря своей книге «Этика и язык». В ней он развивает метаэтическую идею о том, что ценностные суждения не имеют дескриптивного характера, а служат единственно цели вызывать эмоции для того, чтобы оказывать влияние на других. Третья глава этой книги посвящена причинно-следственной теории языкового значения. Стивенсон объясняет значение знака из психологической реакции на него слушателя: «Значение знака должно быть определено в терминах психологических реакций тех, кто использует этот знак»[58]. Корреляция знака и значения определяется им на основании понятия «диспозиция». Термин «диспозиция», который можно расшифровать как «сила», «потенциал», «латентная способность» или «причинная характеристика», удачен для применения в сложных ситуациях, когда событие представляет собой функцию нескольких переменных.
Пауль Грайс приобрел известность прежде всего благодаря своей статье «Logic and Conversation», в которой он сформулировал теорию импликации. Он отвергает казуальную теорию значения в духе Стивенсона и рассматривает значение знака не на основе причинно-следственных отношений между знаком и поведением, а объясняет его, исходя из интенций говорящего. Ставя акцент на понятии «интенция», Грайс отходит от господствующих в его время психологически-бихе-виористских и натуралистических теорий значения и сдвигает фокус дискуссии по проблемам значения на уровень ментальных репрезентаций говорящего. Его анализ концентрируется на коммуникативных намерениях индивидуума. Его основная задача состоит в том, чтобы показать, как можно вывести стандартное значение из частного значения пользователя. Последователями Грайса являются Стивен Шиффер и Джорж Мекль. В отличие от них Хилари Патнэм, Михаэль Даммит, Дональд Дэвидсон и Виллард Куайн настаивают на приоритете стандартного значения по отношению к значению, которое связывает со словом конкретный говорящий.
Натуралистический семантический бихевиоризм сводит значение к нейрологическим процессам. Преимущество натуралистической семантики связывают прежде всего с тем, что она позволяет предотвратить регресс в объяснении значения. Наличие связи между нашими высказывания и объектами мира она объясняет за счет причинно-следственных отношений на физиологическом уровне. Такая причинность лежит как в основе того, что мы автоматически понимаем языковые выражения, так и того, что мы автоматически знаем, что им соответствует в реальном мире. Этот автоматизм можно упрощенно объяснить с точки зрения психологии восприятия и нейрофизиологии следующим образом: раздражение вызывает в нервных рецепторах изменения, которые переводятся в нервные импульсы (с усилением или ослаблением) и передаются в центральную нервную систему. Мозг формирует на основании раздражений определенные образцы (например, контуры предметов). Эти нейрональные образцы стабилизируются за счет повторения и функционируют в дальнейшем в качестве носителя информации. Новые раздражения могут активировать уже существующий образец, который, в свою очередь, может служить для упорядочения последующих раздражений. Мозг синтезирует отдельные раздражения, задействуя различные органы чувств.
В качестве примера натуралистической семантики можно привести теорию Вилларда Куайна, который связывает значение с возбуждением нейронов нервных окончаний[59]. Его тезис заключается в том, что такой причинно-следственный процесс создает возможность для непосредственных знаний о предметах при их чувственном восприятии, а также для использования языка. Первичным уровнем языка он считает так называемые «предложения наблюдения». Куайн выбирает физиологическое раздражение, а не ментальный перцепт в качестве средства контакта с действительностью и основания для языка. Согласно ему, такой выбор позволяет предотвратить регресс в верификации высказываний, поскольку язык наблюдения здесь адаптирован к комплексам непосредственных раздражений. Кроме того, как он считает, принятие нейрональных раздражений в качестве основания для языка обеспечивает возможность сопоставления различных языков.
На вопрос о том, каким образом языковые выражения получают конкретное содержание, должна ответить, согласно Куайну, эмпирическая психология. Сам он считает, что образование языкового значения невозможно без врожденного «фактора сходства», который обеспечивает перенесение сходств с одного предмета на другой (экстраполяцию свойств) и содержит «примитивную индукцию», которую по мере развития индивидуума дополняет способность к гипотетически-дедуктивному мышлению. Истинностное значение одного из первичных высказываний (в простейшем случае, «предложения наблюдения») является функцией комплекса раздражений, а связь между высказыванием и внешним миром можно объяснить как результат «кондиционирования» поведения субъекта при восприятии идентичных феноменов. Тогда понимать выражение «красный» означает привычку выражать согласие, когда это выражение используется в присутствии красных предметов. Согласие есть проявление «аффирмативного» значения, в основе которого лежит прямое раздражение нейронов. «Аффирмативное» значение — это класс всех раздражений на протяжении определенного времени, которые дают говорящему повод для согласия. Итак, раздражение ведет к определенному поведению, которое благодаря тренировке превращается в «ситуативную схему», экстраполируемую на новые случаи. Тренировка состоит в том, что при наступлении определенной ситуации высказываемое соответствующее «предложение наблюдения» оценивается как «истинное». Дальнейшие языковые конструкции строятся посредством усложняющихся шагов кондиционирования на основе «предложений наблюдения».
Коротко суммируем сказанное выше: Замещение Куайном традиционного для эмпиризма представления о чувственных данных на представление о раздражении нейронов создает фундамент для по-новому осмысленного понятийного реализма в теории познания. Раздражение соответствующих нейронов при чувственном восприятии выступает как необходимое связующее звено между событиями мира и образованием многочисленных убеждений о мире. Мир оказывается особым образом — без традиционного посредничества представления — репрезентирован для сознания, ведь значение представляющих мир «предложений наблюдения» — это значение соответствующего нейрофизиологического раздражения. Тогда «предложение наблюдения» S говорящего имеет такое же значение, как и предложение Т его собеседника, если вызывающие их нейрональные образцы примерно одинаковы. Это условие необходимо для концепции «радикального перевода», при помощи которой Куайн объясняет загадку взаимного понимания. «Кондиционирование» предложений в зависимости от раздражений органов чувств является решающим фактором при изучении языка. Под «кондиционированием» следует понимать социальную практику.
Натуралистическая семантика Куайна нашла как приверженцев, так и критиков. Остановимся коротко на возражениях против его теории:
Так называемый «онтологический» аргумент оспаривает положение натуралистической семантики о том, что возможно делать заключения о положении дел в мире на основании нейрональных раздражений. Так, Дональд Дэвидсон назвал теорию Куайна, утверждающую разрыв между схемой значения и его содержанием, «третьей догмой эмпиризма»[60]. Согласно ему, не раздражения в нейронах являются причиной значений, а вызывающие эти раздражения предметы. Если же принять тезис о значении как раздражении нейронов, то такое допущение с необходимостью ведет к онтологическому релятивизму. Более того, о мире, предстающем единственно как комплекс раздражений, вообще ничего невозможно сказать. Концепция Куайна предстает как своеобразный реализм без репрезентации: мир рядом, но он не предметен. Оптимистические последователи Куайна, однако, не только поддерживают гипотезу о нейрональном генезисе значения, но и предлагают вообще заменить понятие о «семантическом» объекте на понятие о «синтаксическом» объекте.
«Эпистемологический» аргумент критикует натуралистическую семантику с позиций понятия об истине значений. В соответствии с ним, в рамках данной теории невозможно говорить об истине высказывания, поскольку его истинностное значение зависит только от соответствующих раздражений субъекта и, значит, имеет субъективный характер. Тогда у каждого имеются свои собственные физиологические основания для того, чтобы считать то или иное суждение истинным или ложным.
Аргумент о частном характере нейрональных раздражений утверждает, что раздражения не могут служить источниками значения, так как их нельзя идентифицировать. Если же они неосознаваемы и недоступны для наблюдения, то их невозможно принять в качестве содержания значения, которое должно быть общезначимым, т. е. подлежать интерсубъективной интерпретации. В том, что нейрональные состояния недоступны и для первого лица и не представляют никакого содержания, которое можно было бы интерпретировать, состоит их отличие от ментальных состояний, которые, с точки зрения эпистемологии, имеют частный характер в том смысле, что индивидуум имеет привилегированный доступ к ним.
1 Donald Davidson, Bedeutung, Wahrheit und Belege/'/ Donald Davidson, Der Mythos des Subjektiven. Leipzig. 2000: 49–64.
Аргумент о невозможности сведения логических процессов к физическим. Этот аргумент был выдвинут еще Лейбницем. Он сравнивал мозг с мельницей, в которой мы видим движение различных механизмов, но это движение не показывает нам, откуда берется мысль. Современные нейрологические исследования подтверждают точку зрения Лейбница. Например, одни исследователи, опираясь на результаты позитронно-эмиссионной томографии, отмечают, что у различных пробантов при воздействии на них одних и тех же объектов возникают различные раздражения (Дэвид Джон Чалмерс). Другие исследователи полагают, что не существует строгой корреляции между состояниями мозга и состояниями сознания, т. е. между физическим и ментальным состоянием, даже для того же самого субъекта. Некоторые авторы, считают, что определенному единичному состоянию (token), например, боли, может соответствовать определенное физическое состояние, но для определенного типа ментальных процессов, например, для всех видов процессов, которые подпадают под понятие «боль», такого коррелята не существует (Дональд Дэвидсон).
Прагматические теории значения
В прагматических теориях значения значение сводится к употреблению знака. Данная идея была выдвинута Людвигом Витгенштейном, который в параграфе 43 своих «Философских исследований» дает следующее определение значения: «Значение слова — это его использование в языке». В этом определении под словом «использование» подразумевается не единичное, спорадическое употребление знака, а определенное правило употребления. Это следует из тех параграфов книги, в которых слова сравниваются с инструментами (§ 11), а их значение с функциями фигур в игре (§ 536). Сравнение слов с инструментами объясняет, почему витгеншейновскую теорию значения часто называют инструментальной.
Согласно Витгенштейну, «значение выражения — это то, что объясняет объяснение его значения». В этом случае понимание выражения сводится к пониманию правил его использования, вводимым тем или иным способом. Как видно, здесь понимание одного предполагает понимание другого. Не предлагается ли тем самым бесконечный регресс в обосновании? Ответ на этот вопрос зависит от того, как интерпретировать сам термин «понимание». Является ли понимание, о котором идет речь, ментальным актом, переживанием? Витгенштейн отвечает на этот вопрос отрицательно. «Понимание» для него — это глагол, выражающий диспозицию к определенным действиям. Выражение «понимать что-то» аналогично для него выражению «уметь считать». Особенностью таких выражений, в отличие, например, от выражения «испытывать грусть», является то, что высказывая их, человек может ошибаться. Определить, понимает ли человек нечто, можно лишь на основании его действий, а не на основании его ментального состояния, например, его убежденности в том, что он умеет играть на скрипке. Критерием «понимания» значения является единственно следование определенному правилу. Причем это действие могут сопровождать различные ментальные состояния.
Таким образом, «следование правилу» представляет собой конечную инстанцию при объяснении значения. Попытки ответить на вопрос о том, что значит «следовать правилу», ссылаясь на ментальные состояния, Витгенштейн считает нелегитимными, поскольку одна интерпретация влечет за собой другую и так до бесконечности. Более того, сказать, например, что «нечто заставляет меня делать то или иное для того, чтобы», еще не значит объяснить, что значит «следовать правилу». Витгенштейн полагает, что понимание языковых выражений происходит так же автоматически, как понимание зрительно воспринимаемых предметов. Кроме того, в обоих случаях — как при понимании значений, так и при зрительном восприятии — «следование правилу» утрачивает процессуальность. Понимание в этих случаях происходит мгновенно. И, наконец, правила, которым мы следуем, не выбираются сознательно, поэтому нет оснований спрашивать о дальнейших основаниях для них (см. § 201, 219 «Философских исследований»).
Согласно Витгенштейну, любое обоснование конечно, и завершается оно не тем, что мы высказываем некое самоочевидное предложение, а его завершает наше действие. Смысл «следования правилам» исчерпывается в отношении понимания знаков нашим языковым поведением. В «следовании правилам» проявляется способность, за которой не стоит больше никакой «внутренний процесс». Умение следовать правилу следует понимать как элемент формы жизни, как особый вид правил приспособления человека к окружающей его среде.
На вопрос о том, как возникают правила, лежащие в основании значений языковых выражений, Витгенштейн не дает ответа. Нерешенную им задачу пытаются решить многие авторы. Например, Руди Келлер объясняет возникновение правил при помощи следующего мысленного эксперимента: ношение желтого галстука может быть знаком того, что человек простужен. Он вводит четыре аспекта, конституирующих данное правило: 1) регулярность поведения; 2) коллективное знание об этом правиле; 3) поведенческие ожидания в данном сообществе; 4) поведенческие обязанности, принятые в данном обществе[61]. Можно продолжить ряд Келлера. Так, мы понимаем выражение «пока», когда мы знаем при каких обстоятельствах и с какими целями оно используется. При этом нам не нужна ни референция, отсылающая к какому-либо предмету, ни представление, которое разделяли бы все участники разговора.
Заключая, отметим, что к преимуществам инструментальной теории значения относится то, что она довольно успешно объясняет обучение языку. Так, согласно ей, значение слова можно выучить аналогично тому, как овладевают правилами игры, например, в шахматы. Кроме того, она позволяет проверить, понимает ли некто значение слова, не заглядывая ему в мозг или в душу. Она также предполагает, что значения слов можно исследовать при помощи чисто лингвистических методов. Прагматическая теория значения работает даже в тех случаях, когда слова и выражения не имеют никаких денотатов или им не соответствуют никакие зрительные представления. Она, таким образом, может дополнять другие способы понимания значения.
Теории значения, основанные на семантике истинности
Данные теории уходят своими корнями к семантическому определению понятия истины Альфреда Тарского. Как известно, последний попытался в своей работе «Понятие истины в формализованных языках» (1934 г.) определить понятие истины и понятие семантического (а не синтаксического) логического следствия в применении к искусственным языкам. Его знаменитый пример гласит, что «предложение «Снег бел» истинно тогда и только тогда, когда снег бел»[62]. Обратим внимание на то, что фраза «Снег бел» в левой части этой эквивалентности стоит в кавычках, а в правой части — без кавычек. Это значит, что в левой части эквивалентности стоит имя предложения, а в правой — само предложение. Причем имя предложения — чистая условность. Так, вместо имени «снег бел» может стоять имя «трава зеленая». Обобщением данного правила является следующая эквивалентность: (T) X истинно тогда и только тогда, когда р. Данное высказывание выражает сущность так называемой семантической концепции понятия истины.
Дональд Дэвидсон использует данное понятие истины для обоснования своей теории значения[63]. Первичной для понимания значения он считает концепцию «радикального перевода». Согласно ей, на основании того, что в одном языке предложение «снег белый» является истинным, тогда и только тогда, когда оно соответствует действительности, можно предположить, что данная эквивалентность будет соблюдаться и в другом языке, даже если в этом языке данное положение дел выражается предложением «снег синий». Несмотря на то, что в данном случае мы не можем ничего сказать о том, каким образом мир отражается другим языком, мы можем установить параллели между нашим собственным и непонятным нам языком, т. е. можем переводить с языка на язык.
Другими словами, принимается, что если теория истины как причинного соответствия между языком и миром действует в нашем языке, то она будет действовать и в другом языке. Условием возможности истины высказываний является то, что мы приписываем говорящему на чуждом нам языке определенные ментальные состояния, которые соответствуют изменению объектов внешнего мира. То есть мы допускаем наличие казуальной связи между языком субъекта и наблюдаемым явлением. Помимо этого принимается, что высказывания говорящего на другом языке в целом истинны. Данное условие Дэвидсон назвал «принципом благожелательности». С учетом этих допущений, можно интерпретировать язык говорящего, не обращаясь к решению проблемы о том, как его язык соотносится с миром. Мир в данной теории значения «выносится за скобки». Критерием правильности понимания значения является взаимопонимание на фоне когерентной интерпретации.
Теория значения Дэвидсона дедуцирует значение на основании теории истины и по образцу теории радикального перевода, которая проверяет правильность перевода при помощи «единственной базы данных, которой мы располагаем», а именно, диспозиции говорящего при использовании предложений. Она предполагает, что, если мы имеем условия истинности для каждого предложения, на основании которых мы можем вывести его значение, то затем из значения предложения можно выводить значения отдельных слов.
Одна из проблем предлагаемой Дэвидсоном теории значения заключается в том, что она не объясняет «перевода» в пределах одного языка. Не превращается ли в этом случае предложение о том, что «,снег бел» истинно тогда и только тогда, когда снег бел» в аналитическое предложение, в тавтологию? Кроме того, такая теория допускает множество интерпретаций одного и того же высказывания в силу того, что она не предлагает дополнительных критериев для их проверки. И, наконец, в рамках данной теории на основании значений слов и выражений ничего нельзя сказать о самом мире, так как значения определяются в ней на основании причинности, но само понятие «причинность» остается неопределенным.
Заключение
В заключение отметим, что ни одна из рассмотренных теорий не дает окончательного ответа на вопрос о том, что такое значение и как оно формируется. Эту идею очень хорошо удалось передать Томасу Нагелю в коротком эссе «Значение слов»[64]. Он показывает, что ни значение как определение слова посредством других слов, ни значение как предмет, на который указывает слово, ни значение как представление или мысль, ни значение как раздражение нервной системы, ни значение как производное от истинностного значения высказывания и, наконец, ни значение как использование слова в языковой игре не могут исчерпать понятия «значение».
Этот неутешительный с точки зрения анализа языка результат дает повод задуматься о двух вещах. С одной стороны, встает вопрос о методологии познания. Можно предположить, что альтернативу аналитической философии языка смогла бы составить герменевтика, обладающая своим собственным подходом к анализу значения и рассматривающая язык не изолированно, а встраивающая его в совокупность всех возможных отношений, сосредоточенных вокруг понятия «человек». Если аналитическая философия языка движется от знака к его значению, то герменевтика предлагает, наоборот, двигаться от значения к знаку. Например, Георг Миш вводит понятие «значимость» предмета или явления в реальной жизни человека, для того, чтобы на основании его перейти к понятию «значение». Мартин Хайдеггер предлагает прагматическую схему значения, которая задана системой взаимных отсылок применяемых человеком в практической жизни вещей. От этого практического значения он переходит к языковому. Возможности герменевтики в плане прояснения проблемы значения будут предметом последующих глав.
С другой стороны, возможно, понятие «значение» принципиально не поддается окончательному определению. Возможно, вопрос о значении относится к неразрешимым вопросам человечества. Попытки ответить на него обеспечивают человечеству «метафизическую вечность». Ответ на этот вопрос означал бы момент абсолютного самопознания человека, что было бы равнозначно его «метафизической смерти». С учетом сказанного, можно перефразировать знаменитое высказывание Декарта следующим образом: «До тех пор, пока я задаю вопросы, я существую».
Герменевтика Вильгельма Дильтея
Несмотря на то, что Дильтей (1833–1911) считается одним из классиков герменевтики, понятие «герменевтика» редко встречается в его текстах и не является названием его концепции. Герменевтику он определяет традиционно как «искусство понимания», ядро которого составляет «толкование или интерпретация содержащихся в тексте остатков человеческого бытия»[65]. Систематические рассуждения Дильтея сконцентрированы на обосновании гуманитарных наук. Согласно ему, гуманитарные науки стремятся «приобрести предметное и объективное познание о связи человеческих переживаний в культурно-историческом мире. […] Исследование возможности такого объективного и предметного познания образует основание для гуманитарных наук»[66].
В 1883 г. Дильтей публикует свое «Введение в гуманитарные науки», позже он намеревается завершить этот проект изданием второго тома. К этой идее он возвращается в 1895 г., а затем в 1907 г., однако так и не реализует ее. Тем не менее, я остановлюсь на анализе тех работ, которые были написаны в период с 1907 по 1910 гг. и которые представляют собой набросок второго, неопубликованного тома. Моя цель заключается в том, чтобы показать, что намеченное Дильтеем обоснование гуманитарных наук протекает по линии герменевтики. Данная интерпретация не нова. Например, Матиас Юнг в своем введении в герменевтику отмечает, что проект Дильтея со временем все больше приобретает «герменевтический профиль». Это проявляется, по его мнению, в том, что Дильтей использует понятия «смысл», «значение», «понимание» и «истолкование» не в техническом смысле как элементы метода, а для выражения специфического для человека отношения к действительности, структурирующего культурное пространство, отличающееся от природы[67]. Разделяя точку зрения Юнга на то, проект Дильтея носит герменевтический характер, ее следует дополнить, подчеркнув, что герменевтика Дильтея оформлена как герменевтика жизни. «Жизнь» выступает у него центральным объясняющим понятием, которое позволяет проникнуть в смысл человеческого бытия.
Исходный пункт мышления Дильтея образует определение своеобразия объекта гуманитарных наук. Как и представители неокантианства, он исходит из факта наличия гуманитарных наук и ставит вопрос о том, что объединяет все эти дисциплины. Искомое общее видится ему прежде всего в том, что «все эти дисциплины имеют отношение к людям, к их взаимоотношениям и к их отношению к внешней природе» (Дильтей 1927: 70). Что означает это довольно общее высказывание?
Дильтей выражается более определенно в другом месте: «В качестве предмета гуманитарных наук оно (человечество — М. С.) возникает только постольку, поскольку человеческие состояния переживаются, находят свое выражение в жизненных проявлениях, а эти выражения становятся понятны» (там же, С. 86). Он объясняет, что гуманитарные науки «фундированы в переживании, в выражениях для переживаний и в понимании этих выражений. Пережитое и понимание любого способа выражения переживаний лежат в основании суждений, понятий и знаний, свойственных гуманитарным наукам» (там же, С. 71). Позже он формулирует свою знаменитую формулу о том, что «гуманитарные науки основываются на отношении между переживанием, выражением и пониманием» (там же, С. 131).
Из приведенных цитат следует, во-первых, что объектом гуманитарных наук является человеческая жизнь в ее символическом проявлении; во-вторых, что гуманитарные науки отличает от естественных особая логика. Она основывается на триаде «переживание, выражение и понимание». Эту логику можно определить как логику понимания культурно-исторических явлений. Поэтому ее можно назвать герменевтической логикой. Приведенные цитаты раскрывают основные моменты исследовательской программы Дильтея. Ее сущность заключается в том, чтобы предложить механизм понимания жизни человека на основании анализа ее символического выражения. Соответственно такой установке, ведущую роль в обосновании гуманитарных наук должны играть психология и герменевтика.
Итак, «обоснование» гуманитарных наук включает себя рефлексию о специфическом характере их объекта, а также об особой логике познания этого объекта. Как отмечают издатели седьмого тома собрания сочинений Дильтея, в котором собраны работы для второго, не изданного тома «Введения» в науки о духе, «обоснование» не означает подведение под них фундамента. Речь идет о подходе, «который с самого начала ориентирован на совокупность гуманитарных наук и направлен на то, чтобы возвысить до методического самоосмысления только те процессы, которые конституируют именно эту совокупность» (там же, С. VII). «Обоснование» означает здесь проникновение в сущность гуманитарных наук и выявление того, что свойственно им всем в равной степени. Под «методическим самоосмыслением» подразумевается, что жизнь, проявлением которой являются в том числе и гуманитарные науки, должна осмыслить себя саму как культурообразующую силу.
Понятие «жизнь»
Проект Дильтея имеет две стороны: в нем предлагается рассматривать гуманитарные науки как «свободное выражение жизни», а «главный импульс» философской мысли видеть в том, чтобы «понять жизнь из нее самой». «Жизнь» выступает как систематическое понятие, способное связать науку с практической жизнедеятельностью людей, а философию с наукой. Анализу важнейших структурных элементов теории гуманитарных наук Дильтея посвящена данная глава.
Жизнь как связь. Дильтей пишет: «Совокупность того, что нам раскрывается в переживании и понимании, есть жизнь как связь, охватывающая человеческий род» (там же, С. 131). Жизнь, следовательно, имеет характер связи. Под связью здесь следует понимать не реальные, например, причинно-следственные связи, а идеальные связи, которые сам человек устанавливает в процессе размышления над жизнью. Как целое связей жизнь представляет собой центр пересечения различных смысловых отношений.
Одну из форм смысловой связи, которую можно выделить на основании рассуждений Дильтея, представляет собой отношение человека к жизни (там же). «Жизнь» в данном случае — это почва, из которой произрастает все осмысленное, и осмысленный процесс, а «отношение к жизни» — это особые, когнитивные формы поведения людей, такие, как предметное понимание, определение ценностей и целеполагание. В том, как человек понимает мир, т. е. в его мировоззрении, в том, что обладает для него ценностью, и то, к чему он стремится, выражается его отношение к жизни. Одновременно, из этих отношений и складывается человеческая жизнь. Жизнь, с точки зрения герменевтики, производит себя в форме неких первичных отношений. Она не некая темная сила в духе Шопенгауэра, не некое «подлежащее» для смысла, а осмысленный ход вещей. Жизнь в дильтеевской герменевтике предстает как «духовная жизнь».
С другой стороны, жизненные связи — это жизненный опыт. Причем под опытом Дильтей понимает не только индивидуальный, но и коллективный опыт, т. е. опыт других людей. Согласно ему, выражением коллективного опыта является совокупность предложений, «которые формируются некоторым взаимосвязанным кругом лиц и являются для них общими» (там же, С. 133). Коллективный опыт есть продукт совместной жизни, он включает в себя ценностные суждения, представления о целях, правила поведения, моральные и религиозные заповеди и т. д. Таким образом, в нем отражается жизнь целого сообщества. Именно со стороны содержания опыта жизнь предстает как источник знания для гуманитарных наук. То, что человек стихийно производит в процессе жизни — и поведенческие нормы и нормы мышления — выражается, опредмечивается, в высказываниях и превращается в эмпирическую данность, которая становится объектом исследования гуманитарных дисциплин.
И, наконец, жизнь есть «пересечение связей, которые проходят через индивидуум, существуют благодаря ему, но выходят за пределы его жизни» (там же, С. 135). Жизнь, таким образом, это связь индивидуума с другими людьми, место объединения личного опыта и истории. Жизнь — это культурно-историческая связь, которая формирует личность. Дильтей подчеркивает: «Отдельный человек в своем в себе самом покоящемся индивидуальном бытии является историческим существом. Он определен своим местом на временной оси, своим местом в пространстве, своим положением во взаимодействии систем культуры и сообществ» (там же). Тогда любое проявление человеческой жизни имеет исторический характер и представляет собой исторический феномен. Не случайно свой проект Дильтей называет «критикой исторического разума». Заметим, что аспект определенности человека историей, «заброшенности» в нее, будет играть значительную роль в философии Хайдеггера.
Уже благодаря совокупности перечисленных функций понятие жизни может выступать в качестве исходного для гуманитарных наук. Однако Дильтей не останавливается лишь на функциональном анализе понятия «жизнь», а вскрывает его внутреннюю структуру для того, чтобы убедить в том, что оно играет ключевую роль для понимания гуманитарных наук. На основании его текстов можно выделить три принципиальные структурные составляющие понятия «жизнь». К ним относятся понятия «переживание», «процесс жизни» и «общественность».
Жизнь как «переживание» (Erlebnis). Переживание выступает в концепции Дильтея в качестве минимальной единицы жизни. Его особенность с точки зрения теории познания заключается в том, что оно «не противостоит понимающему как объект, напротив бытие переживания не отличается для меня от того, что в нем для меня присутствует. Не существует места в пространстве, из которого я мог бы наблюдать то, что в нем дано. И различные точки зрения, с которых оно воспринимается, могут возникнуть лишь впоследствии благодаря рефлексии, но не затрагивают его как переживания […] От переживания идет прямая линия к репрезентации вплоть до системы понятий, в которых оно схватывается мышлением» (там же, С. 139). Из данного текста видно, что переживание есть элемент процесса жизни, динамически развивающееся состояние, в котором находится человек. Переживание — это и жизнь, и одновременно способ данности жизни для нас. Переживание предстает как непосредственное осознавание проживаемой жизни. Оно в своем первичном значении не является ни объектом научной рефлексии, ни самой рефлексией. Благодаря переживанию мы входим в жизнь, а жизнь входит в нас. Переживание есть место контакта человека с окружающим миром.
Даже этот первичный процесс не однороден, а обладает своей внутренней структурой: «В переживании существует структурная связь сознания: предметное восприятие образует его фундамент, на нем основывается мнение в виде заботы о, в виде страдания по поводу предметно воспринятой вещи, а также в виде стремления выйти за пределы переживания.» (Там же, С. 139) Переживание является теперь в виде различающего сознания: благодаря ему нам становятся доступны предметы внешнего мира. Причем доступ к предметам происходит не путем их созерцательного «восприятия», построенного по модели теоретического представления субъектом объекта. В переживании сознание предмета имманентно включено в состав действия. Сознание предмета — это то, что направляет действие. Переживание есть, следовательно, непосредственное отношение к предмету в ходе процесса жизнедеятельности, обращение к предмету из конкретной жизненной ситуации, вызванное конкретными жизненными целями. В переживании вещь не просто дается, а дается в определенном смысловом контексте действий. Переживание — это такой способ данности вещи, где вещь невозможно отделить от смысловых взаимосвязей, в контексте которых ее осознают.
Жизнь как процесс. Жизнь как процесс состоит из связанных друг с другом отдельных переживаний. Процесс жизни образует «связь психического во времени», благодаря которой «каждое отдельное переживание соотносится с целым жизни» (там же, С. 140). Как видим, для Дильтея жизнь есть не биологический и не социальный, а герменевтический процесс. Его содержание заключается в смыслообразовании. Жизнь как единое целое конституируется посредством различных смысловых отношений: «В самой жизни как целом (Lebenszusammenhang) содержится боль по поводу конечности, тенденция ее преодоления, стремление к реализации и объективации, отрицание имеющегося барьера и снятие его, разделение и связь. Предикации на базе жизни суть греховность, бедность, красота жизни, свобода, способ жизни, связь, развитие, внутренняя логика, внутренняя диалектика, противоречия положения по ту и эту сторону, трансценденция и имманенция, примерение.» (Там же, С. 238)
С точки зрения герменевтики, жизнь подчинена категориям «значение» и «значимость». Дильтеевский термин «значение» указывает на отношение частей жизни к ее целому, «при этом значение становится формой осознания жизни. […] Во всех этих и других случаях отдельный момент имеет значение благодаря своей связи с целым, благодаря отношению прошлого и будущего, единичного бытия и человечества» (там же, С. 233). В отличие от значения, «значимость» у Дильтея есть «возникающая в силу взаимовлияния определенность значения части для целого» (238–239). Если «значение» служит для осознания целого жизни, то «значимость» служит для оценки отдельных этапов жизни, исходя из целого. Причем Дильтей подчеркивает, что, как и значение, значимость, «которая воспринимает факт как определенность части значения из целого, — это жизненное отношение, а вовсе не интеллектуальное, это никакое не вкладывание разума, мысли в часть происходящего. Значимость вытекает из самой жизни.» (Там же, С. 240) Значение можно также интерпретировать как ценностную диспозицию, которая неосознанно направляет поведение человека в ходе жизни. Значимость — это оценка, или рефлексия post factum, когда человек оглядывает свою жизнь.
Жизнь как «общественность». Высший уровень жизни представляет, согласно Дильтею, общественность. Причем «общность единиц жизни есть теперь начало всех отношений особенного к всеобщему в гуманитарных науках» (там же, С. 141).
Выделенные структурные уровни понятия «жизнь» — переживание, целое индивидуальной жизни и жизнь как единица в жизни сообщества — невозможно в действительности отделить друг от друга, они тесно взаимосвязаны друг с другом и перетекают один в другой. Эти три уровня суть категории рефлексии над целостным понятием жизни, позволяющие выделить различные аспекты смыслопроизводства. Жизнь, взятая в совокупности своих определений, предстает как объект гуманитарных наук. Структурный анализ вместе с функциональным анализом составляет ядро дильтеевского герменевтического подхода к понятию «жизнь», но не исчерпывают его. Для того, чтобы понять замысел Дильтея необходимо сосредоточиться не только на объекте, но и на логике гуманитарных наук. Поскольку схему понимания жизни составляет триада «переживание — выражение — понимание», то важно выяснить характер этих элементов и связь между ними. Эта задача будет решена ниже.
Понятие «переживание»
Так же, как и в период написания «Введения в гуманитарные науки», в поиске позитивных оснований для гуманитарных наук Дильтей обращается к психологии. При этом возможность познания жизни как герменевтического феномена он связывает не с объясняющей, а с описывающей, структурной психологией. «Учение о структуре, — пишет он, — представляется мне главной частью описывающей психологии. […] Прежде всего в ней лежит основание гуманитарных наук» (Там же, С. 17) Цель структурной психологии состоит в исследовании «поведения предметного восприятия» (там же). Однако, если в своем «Введении в гуманитарные науки» 1883 г. Дильтей исходил при объяснении возникновения предмета из двуместного отношения «опыт и осмысление (Innewerden) опыта», то в поздний период своего творчества он сосредоточивает свое внимание на переживании.
Обобщая все сказанное им о переживании, можно утверждать, что переживание представляет собой минимальную единицу психической жизни, элементами внутренней структуры которой являются действие (акт) и содержание. Например, Дильтей пишет: «Я представляю, сужу, боюсь, ненавижу, желаю: это суть формы поведения, и при этом всегда есть некое «что», к которому они относятся, также, как и каждое «что», каждая содержательная определенность в этих переживаниях существует только для некоторого поведения.» (Там же, С. 20–21). Содержание и способ поведения образуют «структурное единство» в переживании, а само переживание предстает как структурный элемент целостной духовной жизни. Переживания соотносятся друг с другом и складываются в некоторое целое, за счет чего «возникает понятие о структурной духовной связи» (там же, С. 21). Своеобразие трактовки Дильтеем переживания состоит в том, что он рассматривает его не как «ментальное состояние», в отличие, например, от многих представителей современной аналитической философии, а как интенциональное действие. Например, он считает, что «переживаемая боль по поводу чего-то существует для меня как определенное поведение» (Там же, С. 26). Переживание предстает у него как особая, деятельная форма первичного отношения к миру. Без этого «общего условия» для человека не существовала бы никакая действительность. Переживание имеет прежде всего характер действия, процесса и события, благодаря которому мир входит в сознание человека.
Переживание соотносится не только с предметами внешнего мира, но и с субъектом переживания. Дильтей, правда, указывает на то, что наличие представления о «Я» не является необходимым условием переживания. Он иллюстрирует эту мысль на следующем примере: в театре, захваченный действием спектакля, человек совершенно забывает о своем «Я» и всецело отдается сопереживанию. Переживание, следовательно, имеет у Дильтея более глубокую структуру, чем структура рационального ego. Структура «Я» становится необходимым условием познания на более высоком уровне процессов абстрактного теоретического мышления. Такой взгляд на переживание в системе когнитивных процессов подводит к вопросу о природе рациональности и требует по-новому обсудить его.
С точки зрения содержания разнообразие переживаний бесконечно. Из содержаний переживаний составляется весь предметный мир, в отношение с которым мы вступаем посредством нашего поведения. Виды психического поведения, т. е. виды внутренних структурных связей между отдельными переживаниями, также весьма разнообразны. Каждый из них конституирует «определенный вид сознания о содержательном, называемый нами предметность» (там же, С. 25). «Предметность» переживания отличается, следовательно, от «предмета» теоретического мышления. «Предметность» — это то, на что направлено переживание. В переживании «что» предмета дается в форме «как». Мы узнаем данного человека как хорошего или плохого человека, и лишь на базе этого опыта, этой конкретной данности, мы можем перейти к абстрагированию особого предмета, выражаемого в понятии «человек».
Какое значение все вышесказанное о переживании имеет для теории гуманитарных наук? Ответ на этот вопрос состоит в том, что посредством переживания и в переживании возникает предмет гуманитарных наук.
Дильтей пишет: «Предметом отныне может быть не только чувственно данное, но также и наши переживания или их частичные содержания, а также сходства и отношения. Мир есть ни что иное, как совокупность или порядок предметно воспринятого. На этот предмет направлены как наши чувства, так и наша воля.» (Там же, С. 25). Из этой цитаты видно, во-первых, что под категорию «предмет» попадают не только материальные вещи, но и идеальные предметы и отношения. Предметом может быть все, что так или иначе вступает в сознание. Более того, именно эти специфические, «духовные» предметы и становятся объектом изучения гуманитарных наук. Во-вторых, из приведенного следует, что объект гуманитарных наук формируется не «чистым» мышлением, а переживанием, т. е. мышлением, неразрывно связанным с эмоциями и желаниями. В результате «предмет», с которым имеют дело гуманитарные науки, отличает его субъективный характер. В-третьих, утверждая, что мир есть порядок предметно воспринятого, Дильтей расширяет понятие познания. Уже донаучное, обыденное знание о происходящем в мире, об окружающих предметах, о собственных ментальных состояниях и собственных действиях — это определенная форма познания. Таким образом, познание невозможно редуцировать к теоретическому, предикативно-дискурсивному познанию, как это делает традиционная теория познания. Жизненный опыт, зафиксированный в высказывании или в виде различных норм и социальных институтов, есть первичная форма познания, на изучение которой должны быть нацелены гуманитарные науки. Развитие теории познания в направлении герменевтики предполагает изменение начальных условий: если теория познания концентрируется на анализе науки и научного мышления, то для герменевтики первичным оказывается жизненный опыт и исторические формы выражения и фиксации этого опыта — религия, искусство, право и т. д.
Итак, гуманитарные науки имеют дело с особым типом познания и особым типом предметов. Согласно Дильтею, существует фундаментальное различие между восприятием идеального и материального предмета. «Чувства и устремления суть способы поведения, которые могут быть репрезентированы как содержания. Чувственно созерцаемое предстает, напротив, только как содержание» (Там же, С. 33). Материальный предмет «трансцендентен восприятию, каждое конкретное восприятие неадекватно по отношению к предмету, и репрезентации направлены на то, чтобы приблизиться к предметам» (там же, С. 35). О чем говорится в этих цитатах? Прежде всего, о том, что познание природы основывается на фундаменте, который независим от способа данности предмета и от обоснований. В гуманитарных науках, напротив, предмет возникает благодаря переживанию, пониманию, желанию, устремленности и т. д., и, значит, он конституирован человеком. Причем конституирование предмета и есть уже первичное знание о нем.
Источником как самих объектов познания, так и знания о них выступает переживание. Переживание представляет собой элементарное, непосредственное знание. Это знание не должно быть обязательно выражено в форме пропозиций. Напротив, оно может иметь форму «знания о» или «радости по поводу» или «требования чего-то» или «стремления к чему-то». Оно не обязательно связано с процессом обдумывания (Besinnen), а имманентно переживанию и действию. Поскольку переживание выступает как неразделимое единство происходящего, в которое включен индивидуум, и непосредственного знания об этом происходящем, то действительность дается в переживании как нечто несомненное, очевидное, непосредственно известное. Введение понятия «переживание» позволяет избежать субъект-объектного дуализма, свойственного теории познания, которая берет «представление» об объекте за исходный пункт рассуждений. Предмет переживания еще не есть объект теоретической рефлексии, он всего лишь тот интенциональный центр, на который направлено психическое поведение человека.
Рассмотрим еще одно высказывание Дильтея о переживании: «Все знание о психических предметах основано в переживании. Переживание изначально представляет собой структурное единство способов поведения и содержаний. Мое воспринимающее поведение вместе с отношением к предмету есть такое же переживание, как и мое чувство по отношению к чему-либо или мое желание чего-то. Переживание всегда осознает самое себя» (Там же, С. 26–27). Здесь снова подчеркивается, что переживание есть не «чистое» мышление, не просто ментальное состояние, а осознаваемое действие. Более того, мышление, определенное как «воспринимающее поведение», само есть форма действия. На этом основании можно заключить, что действие, а не мышление есть начало познания. Кроме того, мышление в переживании — это не размышление, а осознание некоторого факта или состояния. В результате такого «осознания» нечто возникает для человека как предмет. Этот процесс осознания нельзя отождествлять с процессом предикации, речь здесь идет, по-видимому, также и о допредикативном мышлении.
Последующее опредмечивание переживания, превращение предмета переживания в объект, происходит следующим образом: «Предмет восприятия, основанного на переживаниях, душевная жизнь или субъект, теперь получает свое выражение благодаря различным направлениям образования понятий. Каждое из этих направлений определено как природой самого предмета, так и способом его данности.» (Там же, С. 31)
Утверждение Дильтея о том, что источником предметного восприятия является переживание, противоречит традиционной теории познания от Канта до Гуссерля, признающей в качестве единственного средства опредмечивания мира предикативное высказывание или суждение. Таким образом, Дильтей находит новый фундамент для размышлений о познании. Тем самым он расширяет теорию научного познания в направлении общей теории познания.
В данной связи важным оказывается понимание Дильтеем переживания как «структурного единства способов поведения и содержаний». Оно свидетельствует об отказе от чисто теоретического отношения к миру с позиций внешнего наблюдения. Дильтей основывает свою методологию понимания на позиции участника. Мир не противостоит субъекту как объект, а окружает его. Жизнь человека протекает не в изолированной среде под названием «сознание», по отношению к которой мир всегда остается внешним и трансцендентным. Напротив, жизнь человека протекает в мире и в отношении к миру. Человек всегда уже пребывает в мире и строит свое отношение к нему не снаружи, а изнутри него. «Переживание» — это способ бытия человека в мире, канал, который выводит его за пределы сознания в реальный мир. Дильтей выступает, таким образом, против сведения познания к теории. Не теория, а практика, понятая в смысле герменевтики как осмысляющее поведение, есть начало познания.
Познание есть многомерный процесс, в котором задействовано не только мышление, но и эмоции и воля. Согласно Дильтею, «действительность образует слой, на котором основываются ценностные суждения, а слой ценностей предоставляет в свою очередь основание для целеполагания» (там же, С. 134). Конституирование предмета, установление ценностей, выработка норм и определение целей суть не что иное, как различные типы знания и различные формы донаучного познания действительности, которое впоследствии само становится объектом познания гуманитарных наук.
Понятие «понимание»
Понимание — второй термин, закладывающий основы герменевтического подхода к обоснованию гуманитарных наук. Так же, как анализ понятия «переживания», дильтеевский анализ понятия «понимание» носит многосторонний и субтильный характер. Прежде всего, можно выделить три типа понимания в зависимости от их содержания:
Самопонимание как объективация переживания. Изначальный тип понимания имманентен переживанию, направлен на него и служит, в конечном счете, для его объективации. Первичное понимание проясняет содержание переживания, т. е. переживание осознается индивидуумом. Как считает Дильтей: «Понимание впервые снимает ограниченность индивидуального переживания, и оно же, с другой стороны, придает личным переживаниям характер жизненного опыта.» (Там же, С. 141) Понимание как процесс объективации психической жизни противостоит субъективности переживания. Роль первичного понимания состоит в том, чтобы овладеть собственными переживаниями, уметь их выразить. Схваченные в понимании и выраженные в знаке, переживания превращаются в жизненный опыт, в знание о собственной жизни. Субъективный опыт представляет собой знание единичного и уникального. Дильтей подчеркивает существенную роль переживания для формирования опытного знания: «Образование понятий на основе переживания одновременно теперь, в их историческом развитии, основано на понимании, которое само опять же уходит своими корнями в переживание.» (Там же, С. 27) Таким образом, выражаемое в понятиях знание возникает благодаря пониманию, которое направлено на переживание. Объективация переживаний в понимании и есть первичное знание в форме жизненного опыта человека.
Отметим, что самопонимание и знание взаимосвязаны: «Переживание является предпосылкой понимания, а переживание впервые превращается в жизненный опыт благодаря тому, что понимание выводит из тесноты и субъективности переживания в регион целого и всеобщего. Дальнейшее понимание отдельной личности для своего завершения требует систематического знания, как и наоборот, систематическое знание зависимо от живого осмысления отдельной единицы жизни.» (Там же, С. 143). Намеченная Дильтеем диалектика понимания и знания подразумевает, что эти процессы взаимно обогащают друг друга и способствуют взаимному развитию. Знание общего помогает знанию единичного и наоборот.
Понимание чужого «Я» как форма связи между людьми. Говорить о понимании чужого «Я» как особой форме понимания у Дильтея, можно, например, на основании следующего отрывка: «Взаимопонимание гарантирует нам общность, которая существует между индивидуумами.» (Там же, С. 141) Понимание другого — процесс, который ведет к возникновению «общественности». Причем термин «общественность» имеет не только социальное и политическое содержание, но его можно интерпретировать с точки зрения герменевтики как особую культурную общность, связанную общим мировоззрением и культурной традицией.
В целом, понимание другого или понимание «психического факта» охватывает такие моменты, как внимание к психическому факту, наблюдение за ним, понимание его в связи с другими фактами, вынесение суждения о нем и, наконец, выработка знания о систематической связи психической жизни.
Научное понимание. В одной из неопубликованных рукописей, которые должны были войти во второй том обоснования гуманитарных наук, содержится набросок классификации гуманитарных наук в зависимости от присущего им способа понимания. В ней Дильтей выделяет универсальную историю и эмпирические гуманитарные дисциплины, нацеленные на понимание права, религии и искусства (там же, С. 146).
Обратим внимание на то, что под пониманием Дильтей имеет в виду, в первую очередь, не понимание языковых выражений и текстов, а самопонимание человека, понимание другого и понимание жизни, т. е. происходящего в мире людей. Он распространяет понимание на все возможные формы выражения жизни. В качестве объектов понимания он выделяет, наряду с понятиями, суждениями и другими мыслительными конструкциями, практические действия, поэзию, музыку, живопись. Можно говорить как о понимании поведения людей, так и о понимании их жизненной позиции. Понимание превращается у него в универсальную категорию, выражающее отношение человека к миру.
Дильтей анализирует понимание не только со стороны его содержания, но обращает внимание и на формы понимания. Он говорит об «элементарных» и «высших» формах понимания.
Элементарные формы понимания вырастают «из интересов практической жизни» (там же, С. 207). Под элементарным пониманием он понимает толкование единичного проявления жизни. Основное отношение, на котором основывается процесс элементарного понимания, он характеризует как «отношение выражения к тому, что в нем выражается» и подчеркивает, что «элементарное понимание не является заключением от причины к следствию» (там же, С. 207–208). Тем самым он утверждает, что понимание как «схватывание смысла» имманентно присуще жизни человека, причем его не следует сразу представлять как причинно-следственный процесс умозаключения. Понимание функционирует уже на уровне значения, когда то, с чем сталкивается человек в жизни, квалифицируется им как «нечто». Согласно Дильтею, «воззрение, воспоминание, целостное представление, именование, суждение, подчинение единичного всеобщему, связывание частей в единое целое — все это способы понимания» (там же, С. 127). Предпосылкой всего «рефлектирующего» понимания является встроенное в структуру жизнедеятельности, имманентное ей сознание о собственной жизни, т. е. собственных поступках, желаниях, целях.
К высшим формам понимания Дильтей причисляет вчувствование, подражание, сопереживание, а также истолкование или интерпретацию. При этом под интерпретацией в первую очередь имеется в виду не научный метод толкования текстов в духе Шлейермахера, а элемент практического поведения людей. Он определяет интерпретацию как «искусное понимание фиксированных на протяжении продолжительного времени проявлений жизни» (там же, С. 217). Как он полагает, только вследствие того, что духовная жизнь человека находит свое исчерпывающее выражение в языке, интерпретация текста превратилась в преобладающую форму интерпретирующего понимания в герменевтике. На самом деле, интерпретация как форма понимания продуктов человеческого духа есть универсальный феномен.
Функции понимания. Понятие «понимание» играет ключевую роль в теории гуманитарных наук Дильтея. Обобщая, можно сказать, что значение его состоит прежде всего в объективации жизни, в результате чего она становится объектом исследования гуманитарных наук. Объективность жизни не следует путать с объективностью в науке: объективация жизни состоит в «опредмечивании» пережитого, в его осознании, а не в превращении его в объект научного размышления. «Опредмечивание» переживания в той или иной символической форме протекает как на уровне индивидуума, так и на уровне сообщества: «Индивидуум, сообщества и произведения искусства, в которых жизнь и дух взаимопроникают друг в друга, образуют внешнее царство духа.» (Там же, С. 146). Выражение «царство духа» — синоним гегелевского выражения «объективный дух». Дильтей использует этот гегелевский термин, но наделяет его иным содержанием. Под системой объективного духа он имеет в виду «многочисленные формы, в которых существующая между индивидуумами общность объективировалась в чувственно воспринимаемом мире» (там же, С. 208). Соответственно культура человека является результатом объективации жизни. В подготовке фундамента для анализа культуры состоит значение дильтеевских герменевтических понятий «жизнь» и «объективация жизни».
Обратим внимание на то, что, придавая пониманию функцию объективации переживаний, Дильтей выявляет продуктивный характер понимания. Важность такого подхода к пониманию с точки зрения герменевтики заключается в акцентировании творческой автономии человеческого духа при создании мира. Понимание не отражает жизнь, а творит ее. До понимания нет никакой осмысленной духовной жизни, лишь понимание создает определенный символический порядок жизни. Такой подход закладывает фундамент для герменевтической теории культуры.
«Объективации» или «манифестации жизни» представляют собой результат понимания и одновременно открыты для нового понимания. Понятое и объективированное само становится объектом нового понимания: «Смена выражений жизни, влияющих на нас, вынуждает нас постоянно к новому пониманию; но одновременно уже самому пониманию присуще то, что каждое проявление жизни и каждое его понимание связаны с другими, становятся продолжением (Fortgezogen werden), продвигаются на основе родственных связей от данного единичного к целому.» (Там же, С. 147) Дильтей подчеркивает непрерывность процесса понимания, его развитие, связанное с увеличением возможностей для обобщения. Интерпретируемое таким образом понимание становится духовным фундаментом общественной жизни. Понятие «понимание» приобретает смысл механизма, благодаря которому культуры функционирует во времени.
Отметим два момента, касающиеся процесса понимания. Во-первых, всякое понимание осуществляется на основе уже понятого. Дильтей пишет: «Каждый отдельный индивидуум переживает, думает и действует постоянно в сфере общности и только благодаря принадлежности к такой сфере он понимает. Все понятое сразу же получает отпечаток чего-то знакомого в силу этой общности. Мы живем в этой атмосфере, которая нас постоянно окружает.» (Там же, С. 147) Из данного отрывка видно, что Дильтей представляет себе понимание как холический, круговой процесс. Понимание осуществляется по законам герменевтического круга, поскольку оно покоится на определенных предпосылках. Причем предпосылки имеют в данном случае характер традиции, поэтому понимание оказывается нормированным определенной традицией. Заметим, что этот мотив будет впоследствии подхвачен и развит Хайдеггером и Гадамером.
Во-вторых, возможная благодаря пониманию объективация жизни предстает у Дильтея как культурно-исторический процесс: «Все здесь возникает благодаря духовной деятельности и поэтому носит характер историчности. В чувственный мир все вплетено как продукт истории» (147). В указании на историчность человеческого существования содержится указание на историческую сущность самого понимания. Понимание не является неизменной, формальной процедурой, а есть элемент осуществления жизни, изменяющейся в ходе истории. Поэтому не существует никакого окончательного понимания, все понимание относительно в соответствии с условиями жизни. Оно имеет открытый характер.
Роль понятий «переживание» и «понимание» при обосновании гуманитарных наук
Для того, чтобы раскрыть роль понятий «переживание» и «понимание» для обоснования гуманитарных наук, приведем один, довольно длинный отрывок из текста Дильтея: «Объективация жизни есть данность, охватывающая и сами гуманитарные науки. Но поскольку объективация жизни превращается для нас в нечто понятое, то она как таковая повсюду содержит отношение внешнего к внутреннему. Соответственно, объективация посредством понимания соотносится с переживанием, в котором единица жизни открывает для себя ее собственное содержание и позволяет толковать его всем другим. […] Все данное здесь произведено, поэтому оно исторично; оно понято, а значит, содержит в себе общее; оно известно, так как оно понято, и оно всегда содержит в себе связь многообразного, поскольку на нем основывается толкование выражения жизни на более высокой стадии понимания. Тем самым классификация выражений жизни уже заключена в том, что является данностью для гуманитарных наук. И теперь понятие о гуманитарных науках получает свое завершение. Их объем простирается настолько, насколько простирается понимание, а объективация жизни составляет собственно предмет понимания. Таким образом, понятие гуманитарных наук по объему подпадающих под него явлений определено объективацией жизни во внешнем мире. Дух понимает только то, что он сам создал. […] Теперь мы можем сказать, что все, в чем дух объективирует себя, попадает в область гуманитарных наук.» (Там же, С. 148) На основании данного отрывка можно сделать вывод о том, что предметом гуманитарных наук является все созданное человеческим духом в процессе жизни человека, а значит все уже так или иначе понятое. Тогда задача гуманитарных наук состоит в понимании уже понятого, в понимании продуктов человеческого духа. Понимание возможно только между субъектами, а не между субъектом и объектом. В том, что объектом гуманитарных наук оказывается опредмеченная деятельность субъекта, познать которую можно благодаря пониманию, проявляется герменевтический характер гуманитарного знания.
Методологическая особенность гуманитарных наук и состоит в том, что их объект является по своему характеру субъектом. Дильтей пишет: «Так, с одной стороны, этот духовный мир есть творение понимающего субъекта, но, с другой стороны, движение духа направлено на достижение объективного знания об этом мире. Таким образом, мы встаем перед следующей проблемой: каким образом построение духовного мира субъектом делает возможным познание этой духовной действительности. Ранее я обозначил эту задачу как задачу критики исторического разума. […] Субъект знания выступает как единое целое со своим предметом, и этот предмет остается одним и тем же на всех ступенях его объективации.» (Там же, С. 191) Обоснование гуманитарных наук сводится к необходимости осознания ими того факта, что их познание заключается в познании познанного. Причем, познанное есть продукт деятельности субъекта, оно есть выражение овеществленного переживания субъекта, а, значит, само предстает как субъект. Отсюда следует, что цель гуманитарных наук можно определить как самопознание человека. Теорию познания гуманитарных наук Дильтей формулирует в «критики исторического разума», в которой человеческий дух, с одной стороны, создает предмет, а с другой, сам же его и познает. Он выступает как субъективно-объективный феномен: как субъект культуры и одновременно как инстанция, обеспечивающая возможность объективного познания культуры. Исходя из сказанного, гуманитарные науки сами предстают как формы объективации свойственного им понимания. Их «объективность» включает в себя их субъективность.
Особая роль в гуманитарном познании отводится Дильтеем философии, поскольку «философия есть высшая энергия по осознанию как в форме сознания о сознании, так и в форме знания о знании» (там же, С. 7). Задача философии состоит, по его мнению, в осмыслении духовного мира как совокупности взаимовлияний, в каждом элементе которой проступает целое. Философия должна осмыслить объект гуманитарных наук, исходя из «тотальности духовной жизни» (там же, С. 12), создающей символическую действительность. Философия должна также осмыслить характер гуманитарных наук как наук, исследующих человеческую субъективность.
Руководящим принципом рассуждений Дильтея можно называть идею всеобщей взаимосвязи („Wirkungszusammenhang“). Она подразумевает, что все формы объективации жизни — от элементарного психического переживания до произведений искусства, науки и культуры в целом — связаны друг с другом и обусловливают друг друга. Эта связь носит, однако, не только формально-логический характер, т. е. она основана не только на причинности, на родо-видовых взаимосвязах, на законе основания и т. д. Эту всеобщую связь можно охарактеризовать, прежде всего, как смысловую репрезентацию, когда целое смысла воздействует на часть, а часть отражает смысловые нюансы целого. Дильтей пишет: «Каждая часть объективного мира, которая интерпретируется как жизнь, распространяющаяся на целое объективации ее выражений, является целым, имеющим части, и сама есть часть целого, так как она принадлежит к совокупности действительности, которая повсюду делится на части и сама снова входит в более крупную совокупность» (Там же, С. 238). К духовным связям относятся исторические, эстетические, религиозные связи. Дильтей отмечает своеобразие духовного взаимодействия, которое отличается от причинной связи природы тем, что оно «производит ценности и реализует цели в соответствии со структурой жизни духа. […] Я называю это имманентно-телеологическим характером духовных взаимовлияний. Под ним я понимаю связь достижений, основанную в структуре некоторой совокупности взаимовлияний. Историческая жизнь творит. Она постоянно активна в производстве продуктов и ценностей, и все понятия о них только отражения этой ее деятельности. Носители этого постоянного сотворения ценностей и продуктов в духовном мире — это индивидуумы, сообщества, системы культуры, в которых отдельные люди действуют сообща.» (Там же, С. 153) Исторический мир должен быть осмыслен как совокупность структур, конституированных когнитивными, оценивающими и целеполагающими взаимовлияниями. Все историческое творчество центрировано вокруг таких совокупностей, каждая из которых составляет определенный период или эпоху в универсальной истории. Фундамент гуманитарных наук образует, следовательно, не сфера теоретических понятий, а психическая жизнь, выражающаяся в понимании переживаемого и взятая со стороны ее объективаций. Посредством гуманитарных наук «жизнь познает жизнь» (там же, С. 136), т. е. жизнь познает саму себя.
Дильтей разрабатывает свою теорию познания гуманитарных наук, опираясь на понятие жизни. На этом основании его, наряду с Ницше, Бергсоном, Зиммелем и Клаге, причисляют к представителям так называемой «философии жизни». Философии жизни часто приписывают представление о жизни как стихии, не тождественной ни духу, ни материи. Жизнь полна тайн, возникает из неизвестных источников и стремится к неизвестным целям в соответствии со своими непостижимыми законами. Поэтому жизнь оказывается доступна нашему сознанию лишь частично. Познать жизнь способна не наука, на помощь здесь приходят интуиция и сопереживание. Исходя из такого представления о философии жизни, задают вопрос о том, можно ли считать Дильтея рационалистом. Как полагает Матиас Юнг, работа которого уже упоминалась выше, Дильтей не является рационалистом хотя бы потому, что он оспаривает самостоятельность мышления в отношении человека к миру, что следует из его эпистемологического холизма (op. cit.: 77–78). Относится он тогда к иррационалистам? Очевидно, что эту опцию следует исключить уже на основании того, что понятие жизни не выступает у него антиподом к понятию разума, что свойственно иррациональной философии жизни. Дильтея можно считать представителем рационализма, если учесть, что его понимание разума расширяет традиционный объем этого понятия. Разум не только умозаключает на основании законов формальной логики, но и способен к пониманию. Сферой разума, наряду с традиционной сферой науки, становится сфера культурно-исторической жизни людей.
Дильтей разрабатывает концепцию «исторического» разума как альтернативу «чистому» разуму. Предлагаемое им понятие «разум» обладает следующей особенностью: разум един, один и тот же разум действует и в жизни и в науке. Единство разума проявляется, в частности, в том, что гуманитарные науки используют для анализа своих объектов те же самые категории, которые организуют повседневную жизнь людей. «Значение, ценность, цель, развитие, идеал — суть такие категории.» (Там же, С. 232) Эти категории «не применяются к жизни a priori как нечто ей чуждое, а выражают сущность самой жизни» (там же). Категории жизни, т. е. реальные отношения, структурирующие жизнь, превращаются в гуманитарных науках в категории научной рефлексии и научного анализа. Именно это отличает гуманитарные науки от естественных, методология которых принципиально исчерпывается принципами идентичности предмета и причинно-следственной организации природы.
В плане генезиса особенность гуманитарных наук состоит в том, что они, так же, как и их объект, представляют собой результат объективации жизни. Тот факт, что «жизнь, жизненный опыт и гуманитарные науки состоят во внутренней связи и взаимодействии» (там же, С. 136) имеет следствием то, что в гуманитарных науках возникает противоречие между свойственными им тенденциями как проявления жизни и их научной целью (там же, С. 137). Поэтому Дильтей требует, чтобы «развитие гуманитарных наук сопровождалось их логически-эпис-темологическим самоосмыслением» (там же, С. 4). Развивая данную мысль, можно сказать, что гуманитарные науки должны уметь дистанцироваться от жизни, а не быть настолько вовлеченными в нее, что они начинают служить практическим и политическим интересам жизни, пренебрегая специфическими интересами науки. Тенденция к политизации и инструментализации гуманитарных наук и гуманитарного знания особенно заметна сегодня. Поэтому особенно важно соблюдать научный этос, идеал которого сформулировал Дильтей, пытаясь заботиться об объективности суждений гуманитарных дисциплин.
«Онтологический поворот» в герменевтике: Мартин Хайдеггер
Экзистенциальная герменевтика или, так называемая «герменевтика тут-бытия» (Dasein), Мартина Хайдеггера представляет собой еще один герменевтический проект, в котором понятие «герменевтика» практически не встречается и в котором герменевтику ни в коем случае нельзя отождествлять с искусством интерпретации текстов. То обстоятельство, что хайдеггеровская теория не имеет ничего общего с традиционным понятием о герменевтике как методологии понимания текстов, дало Гюнтеру Фигалю повод для того, чтобы диагностировать «антигерменевтический поворот» в философии[68]. Данный диагноз противоречит, однако, намерениям самого Хайдеггера разработать феноменологию Dasein именно в форме герменевтики. Можно также утверждать, что его философия продолжает дильтеевскую линию герменевтики жизни. Анализ существенных черт хайдеггеровской концепции и, прежде всего, понятие «понимание» находятся в центре внимания данной главы. Он не претендует на исчерпывающий характер и концентрируется на анализе процесса понимания мира в главной работе Хайдеггера «Бытие и время», опубликованной в 1927 г.
Постановка проблемы
Во введении к своей книге Хайдеггер определяет герменевтику как «феноменологию Dasein», где «Dasein» характеризуется им как «бытие, которое в своем бытии имеет дело с самим этим бытием»[69]. Традиционно понятие «бытие» означает существующее, имеющееся в наличии, вещь, субстанцию, нечто такое, что обладает устойчивой идентичностью. Понятие «Dasein» означает сущее, которое отличается от остальных сущих осмысленным отношением к себе и к миру, тотальностью понимания и временностью существования. Учение о бытии, основанием которого является Dasein, представляет собой особый вид онтологии, которую Хайдеггер называет «фундаментальной». Сущностью «фундаментальной» онтологии должна стать феноменология. Разработка онтологии как феноменологии, раскрывающей сущность феномена Dasein посредством его интерпретации — таков замысел Хайдеггера. Он объясняет его следующим образом: с одной стороны, феномен следует понимать как «проявляющее себя в себе самом» (там же, С. 28, 31), т. е. как то, что является сущим. Поэтому с точки зрения содержания феноменология есть «наука о бытии сущего — онтология» (там же, С. 37). С другой стороны, так как предметом онтологии по преимуществу является бытие, вопрошающее о смысле своего бытия, то онтологический анализ нацелен реконструкцию смысловой структуры Dasein, а феноменологическое описание принимает форму интерпретации. Хайдеггер пишет: «Феноменология Dasein есть герменевтика в исконном значении этого слова, означающем занятие толкования» (там же). Таким образом, «фундаментальная» онтология Dasein, которую Хайдеггер называет феноменологией, есть герменевтика Dasein, нацеленная на определение его бытийной структуры.
Основным вопросом так понятой герменевтики оказывается вопрос о «виде бытия» сущего (там же, С. 50). «Вид бытия» определяется не онтически, т. е. не на основании суммы свойств, в которых Dasein проявляет себя. Напротив, вид бытия Dasein исследуется онтологически с целью выявления идеальной, глубинной, первичной — Хайдеггер называет ее «экзистенциальной» — структуры Dasein, определяющей все его онтические свойства. Хайдеггеровский дискурс о герменевтике приобретает специфический акцент: герменевтика как «толкование бытия Dasein» фокусируется на «экзистенциальной аналитике экзистенции». Цель заключается в том, чтобы подвергнуть анализу структуру человеческой субъективности и, исходя из нее, перейти к анализу остальных видов сущего.
Необходимость такой постановки вопроса Хайдеггер связывает с необходимостью переопределить основания познания. При этом он следует кантовской стратегии критики познания, исследующей условия возможности познания, но значительно модифицирует ее. Новаторство его программы состоит в том, чтобы устранить примат теоретического знания в философии. Такой подход противоречит всей традиционной теории познания, включая феноменологию Гуссерля и те философские течения, которые хотя и признают опыт как сферу конституирования предметности, но при этом ограничивают его сферой опыта абстрактного субъекта познания. Следуя по пути, проложенному Дильтеем, Хайдеггер противопоставляет трансцендентальному субъекту познания Dasein. Dasein выражает сущность такого сущего, которое, действуя и понимая, всегда уже находит себя в мире и, следовательно, обладает социально-исторической структурой. Другими словами, Dasein выражает сущность человека. Анализ условий познания Хайдеггер предлагает начинать с анализа структуры познающего, которым становится конкретный эмпирический человек. Такой подход неизбежно выводит исследование за рамки теоретического познания. «Бытие и время» направлено на выявление условий возможности дотеоретического знания.
Понятие «познание»
Одним из центральных вопросов становится вопрос о дотеоретическом конституировании мира. Такая постановка вопроса сама по себе не является новой. Уже у Дильтея можно обнаружить мысль о том, что характерной видовой чертой человека является то, что он, действуя, устанавливает отношение к миру и таким образом обладает им. Идея о взаимопринадлежности мира и человека, которая у Хайдеггера предстает как идея о взаимопринадлежности мира и Dasein, играет центральную роль в его концепции. Предлагаемая им формулировка этого принципа звучит «бытие-вмире».
«Бытие-вмире» не является эмпирическим высказыванием о Dasein. Это понятие следует понимать как «экзистенциал», то есть как категорию, которая конституирует структуру Dasein. Dasein — это единственное сущее, имеющее мир. В отличие от него все остальные виды сущего «безмирные», т. е. не обладающие миром. «Бытие-в-мире» означает «жить при…, быть знакомым с…» (там же, С. 54). Эта структура обеспечивает возможность осмысленного контакта с миром: «Сущее может только потому касаться наличного внутри мира сущего, поскольку оно изначально имеет род бытия как бытия-в, поскольку вместе с его тут-бытием ему открыто нечто такое как мир, из которого сущее может раскрыться при касании, чтобы таким образом стать доступным в своем наличном бытии» (там же, С. 55).
Проблема, которую Хайдеггер пытается решить, вводя экзистенциал «бытие-в-мире», относится к теории познания. Она заключается в том, чтобы объяснить, каким образом познающий субъект выходит из своей внутренней, психической, сферы во внешнюю. Хайдеггер хочет понять, «как познание вообще может иметь предмет, как должен мыслиться сам предмет для того, чтобы, в конце концов, субъект его познал, не нуждаясь при этом в отважном скачке в иную сферу» (там же, С. 60). Вопрос, таким образом, касается возможности трансцендирования Dasein в процессе познания. Ответ на него звучит таким образом: «Познание есть модус бытия Dasein как бытия-в-мире, оно онтически фундировано в этой структуре бытия» (там же, С. 61). Изначальная открытость Dasein миру обусловливает возможность познания, выходящего за пределы ментальной сферы субъекта.
Познание принимает у Хайдеггера вид заботы, вид праксиса и способа жизни. Утверждая, что познание не есть «пристальное разглядывание чистого наличного» (там же, С. 61), он следует за Ницше и Дильтеем, и отходит от своего учителя Гуссерля, трактующего все познание по образцу теоретического познания, основанного на процессе представления объекта перед собой и вынесения суждений о нем.
Бытие «бытия-в-мире» или, другими словами, способ его бытия выражает термин «озабоченность» (Besorgen). Это означает, что Dasein как «бытие-в-мире» имеет структуру озабоченности. Как особое отношение к миру «озабоченность» включает в себя два способа обращения с миром: «допрашивание» (Vernehmen) наличного и его использование. «Допрашивание» протекает в формах обращения к нечто и выработки представлений о нечто «как нечто». «На почве такого изложения в самом широком смысле допрашивание становится определением. Допрошенное и определенное можно высказать в предложениях, и удержать и сохранить его в высказывании.» (Там же, С. 62) Dasein в модусе «направленности на» и «постижения нечто как нечто» всегда находится вне самого себя, оно находится при встреченном им сущем «всегда уже открытого мира». В этом выходе Dasein за свои границы при обращении к сущему проявляется его характер как «бытия-в-мире». Подчеркивая это обстоятельство, Хайдеггер устраняет субъект-объектный дуализм из мышления о мире. В дальнейшем он, однако, он не развивает идеи о «допрашивающем» способе познания. На нем сосредоточиваются другие философы, в частности, Георг Миш и Йозеф Кёниг.
Второй вид познания, наряду с допрашивающим, на котором концентрируется исследование Хайдеггера, это «манипулирующая, использующая озабоченность, со свойственным ей познанием» (там же, С. 67). Этот вид познания конституирует сущее как вещь (Zeug): «Мы называем встречающееся в озабоченности сущее вещью» (там же, С. 68). Под категорию «вещь» подпадают предметы потребления, орудия труда, все то, что находится в обращении человека. С точки зрения фундаментальной онтологии, категорию «вещь» конституируют отношения цели, выражаемые схемами «для того, чтобы» или «пригодность для» (там же, С. 78).
Хайдеггер различает между «подручным» (Zuhandene) как познанным практически сущим и «наличным» (Vorhandene) как сущим теоретического познания. Различие между теоретическим и практическим познанием состоит в том, что первое рассматривает, а последнее действует. Связаны эти формы познания друг с другом, поскольку действие нуждается в теоретическом знании для того, чтобы «не оставаться слепым», а теоретическое познание, рассмотрение, «так же исходно есть озабоченность, как у действия есть свой взгляд» (там же, С. 69). При этом теоретическое знание производно по отношению к практическому: вещь не «созерцается и рассматривается как нечто просто наличное, манифестирующая себя наличность еще связана с подручностью вещи» (там же, С. 74). «Подручное» здесь «способ бытия вещи, посредством которого она себя раскрывает» (там же, С. 69). Можно реконструировать следующий механизм познания у Хайдеггера: «бытие-в-мире» открывает наличное через подручное, на которое нацелена озабоченность. С точки зрения эпистемологии практическое познание обладает, следовательно, приоритетом по отношению к теоретическому.
Характерным признаком вещи является то, что она всегда указывает на некоторую другую вещь и тем самым на некую совокупность вещей. Причем «структура бытия подручного как вещи определена этими отсылками» (там же, С. 74). Вследствие того, что Хайдеггер «для чего» вещи понимает как «имение дела с» (Bewandtnis), мир, образующий игровое пространство для наших действий и нашего поведения, предстает как «целостность-имения-дела-с». Он пишет: «Мир со всем подручным всегда уже тут. Мир со всем в нем встречающимся всегда уже, хотя и не будучи тематизированным, предварительно открыт.» (Там же, С. 83).
Совокупность отсылок или взаимных указаний вещей друг на друга конституирует мир как значимость, а «характер этих отношений отсылания мы понимаем как о-значивание» (там же, С. 87). Раскрыть все возможные значимые отношения между вещами — это дело понимания.
Понятие «понимание»
Благодаря «пониманию» (Verstehen} и «настрою» (Befindlichkeit} происходит о-значивание и тем самым открытие мира. «Настрой» следует интерпретировать в данном случае не как субъективное «ментальное» состояние индивидуума, а как экзистенциал, т. е. как структурирующую Dasein категорию: «В настрое как экзистенциале заключается раскрывающая замкнутость (Angewiesenheit) на мир, изнутри которой может встретиться обозначаемое» (там же, С. 137–138). «Настрой» это особое, антропологически обусловленное свойство Dasein быть способным к понимающему восприятию мира.
«Понимание» с точки зрения фундаментальной онтологии не есть определенный вид познания, наряду, например, с объяснением. Напротив, как и настрой, оно относится к фундаментальным экзистенциалам: «В понимании как экзистенциале заключается способ бытия Dasein как способного к бытию (Sein-Können).» (Там же, С. 143) Так же, как и «настрой», хайдеггеровское понимание коренится в особой, присущей только Dasein способности. Следует, однако, подчеркнуть, что понимание есть изначально возможность, представляющая собой «первую и последнюю позитивную онтологическую определенность Dasein» (там же, С. 143–144). Хайдеггер допускает вероятность того, что эта возможность в конкретном случае может быть не реализована.
Как и «настрой» «понимание» характеризует «изначальную открытость бытия-в-мире» (там же, С. 148). Как справедливо полагает один из исследователей Хайдеггера, Ксаба Олай, «понимание в этом смысле находится на более элементарном уровне, чем использование языка или интеллектуальная деятельность: согласно Хайдеггеру, невозможно не понимать, так же, как невозможно не быть в мире»[70].
Необходимо дополнить это высказывание указанием на то, что Хайдеггер углубляет понятие понимания до категориального определения человеческого бытия. Понимание — это способ бытия Dasein, ведь с точки зрения фундаментальной онтологии «бытие-в-мире» означает «мочь быть в качестве раскрывающего» (Хайдеггер 2006:144).
Что означает «понимание» как экзистенциал Dasein? Хайдеггер пишет: «Понимание как раскрытие всегда затрагивает все основное устройство бытия-в-мире […] Подручное как таковое открыто в его полезности, применимости, вредности. Целостность имения дела проявляется как категориальное целое возможной взаимосвязи подручного.» (Там же, С. 144) На основании этой цитаты можно сказать, что понимание представляет собой прежде всего предвосхищение, антиципацию целого возможностей. Хайдеггер подчеркивает эту особенность понимания, приписывая ему структуру проекта (Entwurf): «Проект есть экзистенциальная бытийная структура игрового пространства для фактической способности быть.» (Там же, С. 145) Проективный характер понимания Dasein означает, что для него все предстает как возможное. Это касается, с одной стороны, характера предмета понимания: единство мира предполагается сначала как возможность. С другой стороны, это касается самого Dasein: «Понимание как проектирование есть способ бытия Dasein, при котором оно есть его возможности как возможности» (там же, С. 145). Dasein как возможность понимания постоянно движется в пространстве смысловых возможностей, в пространстве альтернатив.
Понимание конституировано общим и фундаментальным отношением, которое можно сравнить с дильтеевским «взаимодействием» (Zusammenwirkung) как взаимосвязанностью всех жизненных отношений. Членами этого отношения выступают со стороны понимающего существа Dasein; со стороны понимаемого это могут быть а) предметы и вещи мира (поскольку понимание основано на осмотрительности (Umsicht)), в) другие люди (поскольку понимание основано на внимании (Rücksicht)), а также с) само Dasein (поскольку понимание основано на прозрачности (Durchsichtigkeit)). В каждом акте понимания выражается целостность понимания, конституированная благодаря этим совокупным отношениям на фоне уже понятого. В частности, понимание характеризуется взаимопринадлежностью самопонимания и понимания мира: «В понимании мира всегда уже понято и бытие-в, понимание экзистенции как таковой — это всегда понимание мира» (там же, С. 146).
В дальнейшем сосредоточимся на проблематике понимания мира, проблематика понимания других людей и проблематика самопонимания выходят за пределы данной главы.
На примере понимания мира Хайдеггер демонстрирует холический характер понимания в целом. Холичность понимания предполагает, что Dasein не просто встречает голое наличное, которому он впоследствии придает некое значение и связывает его с миром. Напротив, «подручное всегда уже понято из целостности-имения-дела-с» (там же, С. 150). Хайдеггер набрасывает структуру понимания, которая включает в себя пред-имение (Vorhabe), предусмотрение (Vorsicht) и пред-решение (Vorsicht). «Пред-имение» указывает на то, что все понимание движется внутри области взаимосвязанных отношений «целостности-имения-дела-с». «Предусмотрение» определяет направление истолкования. «Пред-решение» определяет понятийную базу истолкования, которая соразмерна или несоразмерна истолковываемому. Таким образом, понимание никогда не протекает как беспредпосылочное схватывание налично имеющегося данного, а всегда имеет пред-структуру и предвосхищает определяемое этой пред-структурой целое возможностей: «В проективном понимании сущее раскрыто в его возможности.» (Там же, С. 151) Существование такой пред-структуры обусловливает то, что сущее всегда уже так или иначе понято в том или ином смысле. «Формальный остов» понимания Хайдеггер характеризует как смысл. Отсюда можно заключить, что смысл и есть контекст возможных значений, структурированный пред-имением, предусмотрением и пред-решением, внутри которого и в соотношении с которым нечто понимается как нечто.
Таким образом, Хайдеггер исходит из того, что существует круг в понимании. Для анализа понимания он использует распространенный в логике термин, который он наполняет новым содержанием. Круг понимается больше не как порочный круг в доказательстве, не как circulus vitiosus, а как герменевтический круг. Предложенная им модель герменевтического круга отражает новый подход к пониманию, сущность которого четко сформулировал Гадамер, а именно, что «в области понимания вообще не претендуют на выведение одного из другого, так что логическая ошибка круга в доказательстве не является ошибкой в процессе понимания, а представляет собой соразмерное описание его структуры. Таким образом, речь о герменевтическом круге нацелена на отмежевание от идеала логической выводимости и продолжает традицию Дильтея и Шлейермахера»[71].
«Решающее, — пишет Хайдеггер, — это не выйти из круга, а правильно войти в него. Этот круг понимания не круг, в котором движется любой вид познания, но выражение экзистенциальной пред-структу-ры самого Dasein. Круг нельзя принижать до vitiosum или же только терпеть его. В нем скрывается позитивная возможность исходного познания» (Хайдеггер 2006:153). Именно герменевтический круг делает возможным конституирование предмета как «нечто» в процессе истолкования на основе всегда уже имеющегося целого возможных значений. Хайдеггеровский герменевтический круг часто интерпретируют в качестве нормативной инстанции, т. е. содержательно. Однако такая интерпретация кажется неверной. Герменевтический круг у него — это механизм, выявляющий логику, формальную схему понимания. Речь здесь идет не о содержательной предопределенности понимания, а об условиях возможности понимания. Хайдеггеру важно объяснить, как протекает процесс понимания из перспективы первого лица единственного числа в рамках разрабатываемой экзистенциальной прагматики.
Рассмотрим теперь, как осуществляется процесс понимания. Согласно Хайдеггеру, понимание имеет характер истолкования. Причем истолкование не есть нечто отличное от понимания, напротив, оно представляет собой один из аспектов этого процесса: «Формирование понимания мы называем истолкованием» (там же, С. 148). Отношение между пониманием и истолкованием можно представить таким образом, что открытое для понимания на основе пред-структуры артикулируется в истолковании, испытывающем истолковываемое на адекватность его понимания.
То, как происходит истолковывающее понимание, Хайдеггер показывает на примере понимания мира: «Подручное входит ясно в сферу понимающего усмотрения» (там же). Истолкование уточняет понятие о вещи на основании того, каким образом с ней сталкивается человек. Результат истолкования выражает формула «представление о нечто как нечто». Поскольку обычно вещь встречают в процессе жизнедеятельности, то ее истолковывают как нечто определенное в соответствии со схемой «это для…». Причем «указание для-чего не простое именование нечто, но названное понято как то, за что его можно принять» (там же, С. 149). Указывая на то, что «нечто как нечто», конституирующее истолкование, основано на целеориентированном «для-чего», Хайдеггер выявляет практически-прагматический характер понимания.
Истолкование проходит в понятийно структурированном пространстве, оно определено пред-структурой понимания, которая конституирована пред-имением, предусмотрением и пред-решением. Эта исходная формальная (а не содержательная) понятийность есть результат того, что «сущее, для которого как бытия-в-мире речь идет о самом его бытии, имеет онтологическую структуру круга» (там же, С. 153). О генезисе понятийного мышления Хайдеггер не говорит. Можно предположить, что эти структуры отчасти врожденные, отчасти сформированные на основе опыта.
Исходное понимание представляет собой, таким образом, не теоретическую рефлексию, а является своего рода практикой, действием. Хайдеггер описывает понимание как «осмотрительно-истолковыва-ющее обращение с подручным внутри мира», как «допредикативное простое видение подручного» (там же, С. 149). Он опирается на представление о том, что понимание так же спонтанно и исходно как взгляд, а взгляд в свою очередь всегда связан с пониманием. Нечто видеть — это одновременно чувственный и интеллектуальный процесс.
Хайдеггер приводит пример обращения с молотком для того, чтобы продемонстрировать характер истолкования: «Исходное истолкование осуществляется не в теоретическом изъяснительном предложении, а в осмотрительно-озабоченном откладывании в сторону или в замене неподходящего инструмента, «не произнося ни слова'«(там же, С. 155). Уже из этой цитаты видно, что истолкование может быть не связано с языком. В другом месте книги эта мысль повторяется: «Из отсутствия слов нельзя сделать вывод об отсутствии истолкования.» (там же, С. 157) Вербальная артикуляция не является необходимым условием понимания, напротив термин «истолкование» включает в себя различные формы понимания, в том числе действие. Как комментирует это пример Кристоф Деммерлинг: «Кто берет молоток в руку, для того чтобы забить гвоздь, уже понял, для чего нужен молоток»[72]. Он предлагает интерпретировать понятие «истолкование» как «эксплицитное понимание», «тогда как понимание в целом не обязательно должно быть эксплицитным, но может оставаться имплицитным и невыраженным» (там же, С. 64; сравни Юнг, op. cit.: 106). Заметим по этому поводу, что истолкование, которое проявляется в том, что человек заменил тяжелый молоток на более удобный, не менее эксплицитно, чем выражение «молоток тяжелый».
Сложности в интерпретации понятия «понимание» у Хайдеггера можно объяснить тем, что оно часто интерпретируется по модели научного понимания. Однако у Хайдеггера понимание предстает не просто как одна из форм познания, а как способ реализации экзистенции. Такое истолковывающее понимание связано со взглядом, взгляд с обращением с подручным, а обращение с подручным с озабоченностью. Понимание — это, скорее, особая компетенция, «способность бытия, существования, самопроектирования как возможности бытия-в-мире» (Юнг, op. cit.: 105). Традиционно выделяемые формы познания «созерцание» и «мышление» суть «отдаленные дериваты понимания» (Хайдеггер 2006: 147), а термин «понимание» традиционной теории познания есть производная от исходного истолковывающего понимания, которое присуще любому восприятию, включенному в состав действия.
Хайдеггеровское понятие о «практическом предложении»
Согласно Хайдеггеру, язык не является предпосылкой понимания, напротив, высказывание укорено в понимании и представляет собой «производную форму истолкования» (там же, С. 154). Тем не менее, понятийная структура истолкования может быть эксплицирована в языке. Это происходит, например, благодаря таким высказываниям, как «молоток тяжелый», «слишком тяжелый» или «другой молоток» (там же, С. 157). Поэтому следующая тема, которая заслуживает внимания, это связь понимания и высказывания.
Исследуя характер высказывания, Хайдеггер развивает своего рода диалектику формализации высказывания и превращения его из вплетенного в процесс жизнедеятельности практического в теоретическое. Схему формализации высказывания он представляет следующим образом: Содержащееся в пред-имении сущее, например, молоток, сначала выступает как подручное, как бещъ, и лишь впоследствии становится предметом высказывания. «Подручное с-чем имения дела» трансформируется в «о-чем» демонстративного высказывания. При этом происходит следующее: «благодаря взгляду и для него подручное скрывает свою сущность как подручное» (там же, С. 158). Для представляющего взгляда, который заменяет оперативно действующее усмотрение, подручное становится наличным, т. е. простым объектом со своими свойствами. Эти свойства предстают теперь как результат суждения или предикации. «Выявляющее» практическое высказывание, в котором артикулируется понимание, превращается в «представляющее» теоретическое в силу утраты своей связи с породившим его понимающим истолкованием. Понимание редуцируется к представлению, «лишь-позволяющему-увидеть» объект (там же, С. 158). С теоретическим представлением оперирует традиционная теория познания, а с точки зрения Хайдеггера, теоретическое представление всего лишь «производный модус» истолкования (там же, С. 157), «экстремальный дериват истолкования» (там же, С. 160).
Диалектику формализации выявляющего практического высказывания и превращения его в представляющее теоретическое Хайдеггер формулирует в терминах «герменевтического» и «апофантического» «как». Он пишет: «Исходное «как» осмотрительно-понимающего истолкования мы называем экзистенциально-герменевтическим «как» в отличие от апофантического «как» высказывания» (там же, С. 158). Тем самым он хочет показать, что высказывание, представляющее нечто как нечто, своим апофантическим или выявляющим характером обязано интегрированному в контекст деятельности истолкованию.
Родоначальником традиции, рассматривающей апофантические высказывания как теоретические, Хайдеггер считает Аристотеля. Последний оторвал объективно демонстрирующее «как» высказывания от герменевтического, целерационального «как» истолкования и тем самым сориентировал всю последующую онтологию на сферу того, что Хайдеггер называет наличным бытием. Стали считать, что слова высказывания представляют предметы, а высказывания описывают независимые от человека положения дел. Местом пребывания сущего и местом истины стало само апофантическое высказывание, а не подготавливающее его истолкование, укорененное в практической деятельности. В результате феноменологический подход к проблемам познания был редуцирован к простому анализу суждений, а под «суждением» стали понимать формальный процесс связывания и разделения представлений и понятий: «В логистике суждение разлагается до системы «соподчинений», оно становится предметом исчисления, а не темой феноменологической интерпретации» (Там же, С. 158). Под мышлением стали понимать формальные операции с готовыми понятиями, а совокупную проблематику познания свели к проблеме истинности суждений. Таким образом, согласно Хайдеггеру, начиная с античности, онтология развивалась на неверной методологической основе, которую он называет «неисконной» (там же, С. 160).
Если традиционная онтология продолжает следовать по проложенному Аристотелем пути сциентизма и занята в первую очередь проблемой достоверности познания, то фундаментальная онтология Хайдеггера концентрируется на анализе способов возникновения познания. Поэтому Хайдеггер противопоставляет аристотелевскому пониманию апофантического предложения как теоретического свое понимание его как практического предложения. Несмотря на то, что сам Хайдеггер не использовал термин «практическое предложение», его взгляды на природу выявляющего, апофантического, высказывания можно охарактеризовать как теорию практического апофантического предложения. Сущность этой теории можно сформулировать в четырех пунктах.
Во-первых, высказывание у Хайдеггера исходно означает «показывание» (там же, С. 154). Оно показывает «само сущее, а не нечто вроде голого представления о нем, ни «просто представленное», ни тем более психическое состояние говорящего, его представление этого сущего» (там же, С. 154). Другими словами, высказывание показывает практически познанную вещь. Вещь предстает из перспективы познающего, которую тот сам формирует.
Во-вторых, предикация в выявляющем высказывании является не началом познания, а, напротив, служит для выражения уже понятого в истолковании. При этом понятым является само сущее (а не идея сущего), взятое в некотором определенном аспекте. Хайдеггер подчеркивает: «Артикуляция понятого в истолковывающем приближении к сущему по путеводной нити «нечто как нечто» предшествует тематическому высказыванию о нем. В нем «как» не всплывает впервые, а только впервые высказывается, что возможно только благодаря тому, что оно имеется как то, что можно высказать.» (Там же, С. 149) Предикация не открывает сущее; ее сущность состоит в том, что она ограничивает угол зрения на сущее. Таким образом, предикация служит для артикуляции смысла, в котором берется сущее. Смысл возникает не в высказывании и не с его помощью, а благодаря предшествующему истолкованию понятого. В нем выражается отношение говорящего к предмету, взгляд говорящего на него. Высказывание открывает предмет не как «наличное», а как «подручное», взятое в практически-прагматичес-ком модусе «для-чего», т. е. из перспективы участника.
Тот факт, что вещь у Хайдеггера дана под углом зрения ее значимости из перспективы действия, требует пересмотра понятия данного. Язык репрезентирует не независимое от говорящего положение дел. Напротив, данное возможно лишь как предмет интерпретации. Причем в выявляющем высказывании не только передается понимание вещи, но в нем опосредованно проявляется отношение говорящего и к миру и к самому себе. Выявляющее, апофантическое, высказывание представляет собой, таким образом, экспликацию, выражение, в котором смысловые взаимосвязи артикулируются с учетом контекста деятельности говорящего, а не как объективные свойства вещи самой по себе.
В-третьих, высказывание исходно выполняет функцию «сообщения», «рассказа». Оно «позволяет другим увидеть показываемое в соответствии со способом его определения» (там же, С. 155). Высказывание делает нечто видимым для других, оно выявляет нечто для других. Оно само есть, следовательно, действие.
В-четвертых, значимость выявляющего высказывания заключается не в его объективности, а в том, что оно представляет собой набросок некого смысла и тем самым создает возможности для дальнейшего познания.
Все вышесказанное в совокупности с Хайдеггеровсим определением апофантического высказывания как «сообщающе-определяющего показывания» (там же, С. 156) отчетливо указывает на практический характер последнего. Положение о практическом характере высказывания подразумевает, что высказывание не возникает в вакууме, не парит свободно над жизнью, а вплетено в ее контекст. Высказывание не является источником познания, а, наоборот, «показывание в высказывании осуществляется на основе уже открытого в понимании или осмотрении» (там же, С. 156). Это означает, например, что предложение «молоток тяжелый» представляет собой не результат теоретического суждения, не связь двух понятий. Это — практическое высказывание, т. к. оно интегрировано в связь практического обхождения с миром, его истолкования и производно от такой связи. Его логика — не предикация свойств, а экспликация отношений. Поскольку смысл высказывания возникает не в результате оперирования понятиями, то его нельзя редуцировать только к буквальному содержанию предложения. Кроме того, смысл можно передать не только при помощи утвердительного предложения (пропозиции). Как уже говорилось выше, Хайдеггер считает, что смысл предложения «молоток тяжелый», можно выразить различными способами. На этом основании можно предположить, что предикативная форма высказывания не имеет в его концепции приоритета по отношению к другим формам.
Хайдеггер приводит огромное число апофантических высказываний, которые невозможно редуцировать к теоретическим. Он относит к ним «высказывания о событиях в окружающем мире, описания подручного, «доклады об обстановке», восприятие и фиксацию «фактов», описание положений дел, рассказ о случившемся» (там же, С. 158). Все эти формы предложений можно интерпретировать как практические апо фактические предложения. Заметим, что теория практического апофантического предложения была развита позже Йозефом Кёнигом.
Последняя тема, относящаяся к тематическому блоку «понимание-истолкование-высказывание», касается отношения речи и языка. Хайдеггер определяет речь как «членение на значения настроенной понятности бытия-в-мире» (там же, С. 162). Речь изначальна и образует экзистенциально-онтологический фундамент языка. Хайдеггеровское понятие «речь» можно сравнить с мышлением. Вероятно, Хайдеггер избегает употребления понятия «мышление» в силу его теоретической нагруженности, в силу того, что с мышлением традиционно связывают исключительно акты суждения. Используемое им понятие «речь» следует понимать как «логос», как мышление в широком смысле этого слова, включая как предикативные, так и допредикативные его формы, как «голос разума».
Речь использует язык как подручное средство для членения целого значений. Слова суть «слова-вещи», инструменты. Значение вербализируется в слове, в системе языка: «К значениям прирастают слова.» (Там же, С. 161) Стратегия Хайдеггера предполагает, что анализ языка следует начинать не с анализа слова, как это делает, например, аналитическая философия. Начинать следует с анализа значения, ибо не слово приобретает значение, а значение выражает себя в слове в процессе истолкования понятого. В этом состоит герменевтический подход к анализу языка.
Тема языка, не связанного с речью, т. е. с нацеленным на понимание мира мышлением, подготавливает тему собственного и несобственного использования языка и вместе с ней тему критики познания. Так, анализ языка (а не речи) играет огромную роль в анализе понятия «das Man» («усредненный человек»). Проблемы языка перекидывают мост к социальным аспектам концепции Хайдеггера. Используя игру немецких слов «Hören» (слышать), «Zugehörigkeit» (принадлежность) и «Horchen» (слушаться), он переходит от проблем фундаментальной онтологии к проблемам фактического бытия Dasein в системе реальных связей. Тем самым он вводит в рассмотрение проблематику нормативности и властных отношений.
В заключение отметим, что целью хайдеггеровского анализа экзистенциальной структуры Dasein была подготовка онтологического базиса для теории познания. Как мы видели, Хайдеггер критически дистанцируется от сциентизма, ориентированного на идею значимости познания. Разработанная им герменевтика стремится предоставить альтернативу традиционной теории познания за счет смещения центра тяжести с анализа теоретического, объективно значимого познания на анализ смыслообразующих структур. В центре его внимания находится не проблема «объективной» значимости высказываний, а проблема конституирования предметности. Решающая роль в этом процессе принадлежит процессу понимания и практическому апофантическому предложению.
«Герменевтическая логика» Георга Миша
Интерес Миша к герменевтике, основанной на понятии «жизнь», связан с его интересом к разработке такой логики, которая могла бы стать инструментом для гуманитарных наук. Такая постановка задачи вызвана сомнением в универсальности идеалов естественных наук и желанием обосновать гуманитарное знание на новой методологической основе. В своей программной статье «Идея философии жизни в теории гуманитарных наук» Миш критикует традиционную теорию познания за то, что она «ограничивается познанием отношений между голыми явлениями» и поэтому работает с «интеллектуалистски жидким понятием науки»[73]. Следуя своему учителю, Дильтею, считавшему, что «основной импульс» для развития философии должен состоять в том, «чтобы понять жизнь из нее самой»[74], он призывает «углубиться в действительность» (Миш 1926: 539). В качестве руководящего принципа для модернизации философской логики, которая стала бы органоном для гуманитарных наук, он выбирает понятие «жизнь».
Подход Миша отличает то, что он старается избежать двух крайностей, с одной стороны, сведения понятия жизни к его натуралистическому пониманию, а с другой, к его иррациональной интерпретации в духе Шопенгауэра или Бергсона. Он превращает понятие «жизнь» в основу своей герменевтики, которая перерастает в общую теорию познания. Понятие «жизнь» выступает в его концепции как логическая, герменевтическая и дискурсивная категория, что позволяет ему перекинуть мост от формальной логики отношений к анализу различных способов конституирования смысла. Цель Миша соответствует идеалу Дильтея, требовавшему обосновать логику на «реальном отношении, в котором мы состоим как познающие существа, […] вместо голых форм мышления, для которых содержание лишь впоследствии постепенно добывается из материала действительности»[75].
Понятие «жизнь» как логическая категория
Основная задача Миша состояла в том, чтобы исходя из понятия «жизнь», сформулировать теорию познания для гуманитарных наук.
Первым шагом на этом пути стало рассмотрение понятия жизни как логической категории. Такой подход стал возможен благодаря отождествлению Мишем феномена жизни с феноменом выражения. Под «выражением» он понимает все проявления жизни, имеющие значение. Жизнь, таким образом, возникает для него там, где наблюдается означивающая активность.
Миш начинает с анализа способов выражения жизни, т. е. с анализа феномена «значение» для того, чтобы понять сущность логического. Сфера выражения значения приобретает у него универсальное распространение и охватывает как мир человека, так и мир животных. При этом семантика слова «выражение» изменяется в зависимости от сферы его применения. Цель Миша состоит в том, чтобы показать специфичность понятия «выражения» в применении его к человеку в отличие от животных. При этом он хочет показать, что понятие «выражение» нельзя сразу же отождествлять с выражением законченной мысли, что делают представители формально-логического анализа языка, ибо в таком случае выражение предстает в узком значении этого слова лишь как отражение суждения.
Миш полагает, что уже у животных наблюдается способность к самовыражению и выражению некоего значения. При этом выражение не есть продукт ментальной активности, единственным органом для производства значений он считает тело животного. Выражение в мире животных есть элемент комплекса «тело — окружающая среда», оно всецело включено в жизненный процесс живого существа и служит для манифестации некоего значения. Выражение представляет собой момент поведения, непосредственно понятного для других определенных видов животных. Оно служит для манифестации эмоций, желаний, аффектов или даже некоторых положений дел (как, например, наличие опасности или пищи) и подчинено задаче репродукции и выживания вида.
Если выражение у животных Миш считает до-логическим феноменом, то выражение в форме высказывания законченной мысли, т. е. пропозицию, он считает кульминацией в развитии логического мышления человека. Между этими двумя крайними формами выражения он располагает языковое выражение, функционирующее в пределах жизненного мира человека. Для того, чтобы указать на отличия языкового выражения от до-логического выражения и от пропозиции, Миш идентифицирует сферу языкового выражения со сферой действия логоса. Опираясь на античное учение о логосе Гераклита, он интерпретирует логос не просто как ratio или разум, а как единство мышления и языка, слова и мысли. Выражение и есть, согласно Мишу, такой логос, поскольку в речи артикулируется некое мнение. Иметь «мнение» или «полагать нечто» отличаются в концепции Миша от семантики этих понятий у Фреге и Гуссерля. Если последние идентифицировали мнение с содержанием ассерторического предложения, с высказыванием некой законченной «мысли», то для первого «полагание» есть «духовный акт» языковой артикуляции встреченного или пережитого: «Я выражаю самого себя или выражаю себя так или иначе в отношении чего-то» (Миш 1994: 76).
Выражение как выражение мнения имеет интерсубъективную логическую структуру, т. е. предполагает наличие другого в качестве условия возможности. Кроме того, содержание мнения не сводится здесь лишь к содержанию артикулирующего его выражения, оно выходит за пределы языка и включает в себя все «внутреннее измерение души» (там же, С. 101). Для Миша выражение обыденного языка есть, с одной стороны, «изначальная форма осознавания» (Bewusstwerdens) жизни (там же, С. 60), а с другой, продуктивная «объективация духовной жизни» (там же, С. 83). Осознание пережитого в процессе его выражения, благодаря чему переживание объективируется и приобретает значение, служит для него исходным пунктом для логических исследований. Область действия языкового логоса образует, согласно ему, первичную сферу логического.
Герменевтический метод Миша, в отличие от формально-логического анализа языка, основывается на исследовании логики жизни путем анализа ее значащих проявлений. Исследование начинается с анализа понятия «выражение» и переходит к анализу коррелирующих с ним понятий «смысл» и «значение». Причем данные термины не имеют ничего общего с широко известным отождествлением их Фреге с интенсивностью и экстенсивностью понятий. Они выступают в концепции Миша как синонимы. Как и «выражение», феномены «смысл» и «значение» относятся к универсальным «исходным феноменам жизни» (там же, С. 89). Они выражают фундаментальное отношение, а именно отношение индивидуума к миру, который Миш предпочитает называть «окружающей средой», подчеркивая тем самым его специфичность для определенного рода живых существ. Мир или окружающая среда — это характерный для данного рода живых существ горизонт (там же, С. 260).
Понятия «смысл» и «значение» предстают в концепции Миша как имманентные жизни категории. Так, смысл как универсальная категория подразумевает «направленность благодаря чему-то» и «направленность на нечто» (там же, С. 97). Поэтому уже в мире животных выражение можно интерпретировать как выражение некоего значения или смысла. Значение здесь интегрировано в процесс жизнедеятельности животного и образует его часть. Миш называет такое значение «жизненным значением». Противоположность «жизненному значению» представляет значение слова или термина, понимаемое как некая идеальная сущность, как концепт. Последнее свойственно аналитической философии языка. В отличие от нее Миш интерпретирует языковое значение как духовный акт объективации переживания. Этот акт нацелен прежде всего на понимание событий мира, а не слов языка. Так как значение есть для Миша выражение активности, то он предпочитает обычному существительному «значение» «динамично-глагольное» «означивание» (там же, С. 87). «Означивать» есть особый вид деятельности: «Я означиваю тебя, я означиваю нечто для тебя в смысле: я открываю тебе то, что я имею в виду, или то, что имеет место» (там же, С. 87–88). Источник значения следует, таким образом, искать не в языке, как это делает формально-логический анализ, напротив, он находится во внеязыковом переживании, которое речь пытается ухватить и артикулировать.
Противопоставление Мишем формально-логического анализа языка анализу языка на основе философии жизни позволяет вскрыть значение понятия «жизнь» для логики. В сфере «жизни» намечается следующая линия становления логического: от «естественной логики» поведения у животных через связанную с языком логику-логос к логике предикативного мышления. Рассмотренное как совокупность форм выражения понятие жизни позволяет перейти от простейших форм «осознания» („Bewusstheit“) в процессе «осознавания» („Bewusstwerden“) к «сознанию» и самосознанию («Bewusstsein», «Selbstbewusstsein»). Таким образом, жизнь предстает у Миша не как иррациональная «чистая жизненность» наподобие бергсоновской, а как «жизненность, которой присущи динамичный разум и смысл, превращающийся в сфере человеческой жизни в осмысление (Besinnung)» (там же, С. 52). Как и в теориях других представителей философии жизни, в концепции Миша жизни также свойственна спонтанность. Однако понятие «жизнь» не ассоциируется больше лишь с хаосом, энергией и чистым становлением, а может быть включено в сферу логического. Жизнь становится доступной для понимания при помощи категорий «смысл», «значение», «цель» и «выражение», которые выступают как логические категории в контексте отношения человеческого индивидуума со средой и с другими индивидуумами.
Жизнь вида homo sapiens предстает из намеченной Мишем перспективы логического анализа как сфера «осознавания» жизнью самой себя. Непосредственное осознавание переживаний в процессе жизнедеятельности или непосредственное осознавание смысла собственных действий Миш противопоставляет как элементарным протознаниям о значимости встреченного, имманентно присущим животным, так и целенаправленному «осознаванию» („Bewusstmachen“). Этот спонтанный процесс он обозначает как «самоосознание» жизни. Предпосылкой его он считает радикальное изменение характера человеческого мышления по сравнению с мышлением животных.
Для того, чтобы зафиксировать момент, когда жизнь обращается на саму себя, Миш использует выработанное Фихте понятие «результата-действия» („Tathandlung“). Метафора «результат-действие» означает у него такое действие, результат которого состоит в качественном изменении характера жизни. Причем результат действия — это не событие, которое эмпирическая теория эволюции могла бы зафиксировать во времени. Он имеет смысл с точки зрения логики и проявляется в изменении категориального характера мыслительной деятельности живых существ: если мышление животных непредметно, то основное отличие человеческого мышления в его предметном характере. Миш рассматривает — со ссылкой на работы Уекскюлля — мир животных как мир, в котором мышление отличается от вида к виду, носит аффективный, недифференцированный, неструктурированный, диффузный и ситуативный характер. Все встречающееся приобретает для животного значение только как элемент общей ситуации, которая входит в поле его активности. В отличие от животных человек может воспринимать и идентифицировать «вещь» как одну и ту же в различных ситуациях. Таким образом, «реальным отношениям» животного к окружающей его среде Миш противопоставляет «идеальное отношение» человека к своей среде (там же, С. 260, 262). Возможность такого нового отношения к окружающему миру он связывает со скачкообразным возникновением языка. Ссылаясь на Плеснера, он подчеркивает важность возникшей благодаря языку «позициональности». «Позициональность» означает присущую человеку дистанцированность как от самого себя, так и от среды. «Дистанцированность» следует понимать в данном случае не в смысле субъект-объектного дуализма традиционной теории познания, а как форму сознания в виде интегрированного в процесс жизнедеятельности знания о жизни. Благодаря «позициональности» возникают как понятие о «Я», так и понятие о «вещи». Эти понятия оказываются взаимосвязанными и коррелирующими с понятиями «сознание» и «самосознание».
Следствия «результата-действия», о котором говорит Миш, можно схематически представить следующим образом: благодаря ему мышление освобождается от непосредственной включенности в жизнь и окружающую среду. Мышление теперь противопоставляет себя жизни, а жизнь обращается на саму себя в форме рефлективного, обусловленного языком мышления человека. Если животное не выделяет себя из среды, то человек обходится с миром сознательно и обдуманно. Отношение человека к миру и к себе самому опосредовано мышлением, мнением, или духовно-психическим, т. е. ментальным состоянием (говоря современным языком).
Метафора «результат-действие» указывает тем самым на трансцендентальный феномен, на условие возможности возникновения специфически человеческой формы жизни. Эту форму жизни Миш называет «миром слова» (там же, С. 92). Возникновение «мира слова» как особой формы жизни, которая с точки зрения логики кардинально отличается от формы жизни, свойственной животным, создает фундамент для логических исследований. «Мир слова» с точки зрения логики предстает как сфера осознавания жизни посредством продуктивной артикуляции восприятий и переживаний при помощи слова, объективирующего вызвавшие эти восприятия переживания.
Понятие «жизнь» как герменевтическая категория
Логико-герменевтические исследования Миша перерастают постепенно в теорию значения. В своих лекциях он выделяет три формы выражения, которые логически (а не генетически) следуют друг за другом. Это — доязыковая форма выражения, свойственная животным, в которой выражение выступает как символ, и языковые формы выражения: выражение как слово и выражение как понятие (концепт, термин, пропозиция и т. д.). Этим трем формам выражения можно поставить в соответствие три формы значения: значение как «жизненное значение», затем значение языковых выражений в пределах жизненного мира и лингвистически понятое значение. Особенностью предлагаемого Мишем подхода является то, что значение выступает первоначально как «категория самой жизни» (там же, С. 145), а не как лингвистическая категория. В отличие от логико-семантического подхода языкознания и аналитической философии языка Миш пытается исследовать понятие «значение» на базе анализа логики жизни. Взятое в совокупности всех своих аспектов, значение предстает как ключ к герменевтически понятому понятию жизни, которое раскрывается теперь как ансамбль различных форм выражения.
«Жизненное значение» как символ. Значение в форме «жизненного значения» (там же, С. 89) представляет собой элементарный, имманентный жизни, до-логический слой значения, который можно обнаружить уже у животных. В этом случае значение и понимание связаны единственно с телесными формами выражения. Понятие «тело» приобретает в концепции Миша функции, релевантные для теории значения. То, что выражается с целью понимания и означивания, проявляется в поведении живого существа, в его аффективном и активном поведении, в мимическом выражении и целенаправленном действии. Миш использует тезис Шелера о психо-физической индифферентности для того, чтобы указать на логически-герменевтические особенности поведения животных. Согласно ему, животные не обладают никакими ментальными состояниями, ни аффективными, ни когнитивными. Тело животного представляет собой психо-физическое единство, оно есть единственный орган и форма поведения. Животные живут из этого психо-физического единства вовне, т. е. их поведение определяется единственно телом, а не ratio (там же, С. 141). Миш утверждает одномерность бытия животных: субъективно-внутреннее или душевно-духовное на этом уровне еще не существует. Тело представляет собой единственное средство качественного переживания. При этом структура телесности приобретает в концепции Миша интегративный характер и включает в себя перцептивные, когнитивные и медиативные функции.
Осмысленность неосознанных и произвольных телесных проявлений, их значение возникает в силу особенного отношения организма и среды, которое Миш называет «основной жизненной структурой» (там же, С. 152). В поведении животных содержится «полное смысла отношение к окружающей среде, настроенность на нее, открытость к совместному бытию» (там же, С. 180). Значение проявлений жизни животного можно понять только на основе реальных отношений, в которые он включен и которые это проявление полностью детерминируют.
Ставя значение или смысл в зависимость от отношений животного к окружающей среде, Миш отказывается от методологического индивидуализма в теории познания и основывает последнюю на принципе интерсубъективности. Он следует в этом отношении Плеснеру, но использует его выводы не для разработки философской антропологии, а для построения трансцендентальной логики, центральным понятием которой является понятие «жизнь»[76].С учетом примата окружающей среды, имманентной составной частью которой является наличие других живых существ (заметим, что в применении к животным Миш не различает между понятиями «окружающая» среда и «общественная» среда), смысл и значение жизненных проявлений животного можно понять только как его реакцию на окружающий мир и как интеракцию с другими представителями животного мира. Выражение значения посредством телесного поведения возможно потому, что тело животного не столько ограничивает его от окружающей среды, сколько связывает его с ней. Миш подчеркивает, что тело имеет открытую структуру, что оно есть граница, открытая как вовнутрь, так и наружу (там же, С. 147)[77]. Таким образом, тело выполняет посредническую функцию в силу единства выражения, значения и понимания.
Понимание значения основывается на том, что поведение животного оформляется в различные, специфические для данного вида образы, для объяснения которых Миш использует понятие символа. Термин «символ» указывает на еще одну важную неразличимость, а именно на отсутствие разрыва между чувственной, зрительно осязаемой формой и смысловым содержанием. Миш подчеркивает, что символ не «репрезентирует» значение или смысл посредством видимого выражения, а «презентирует» их (там же, С. 183). Символ есть выражение единства спонтанного действия и спонтанного восприятия, которое непроизвольно выражается в телесном поведении. Символ прозрачен с точки зрения семантики, а его прозрачность обусловлена совпадением зримого и смыслового компонентов. Другими словами, символ содержит не более того, что в нем в данный момент представлено. Именно прозрачность символа делает возможным то, что при его чувственном восприятии он сразу же становится понятен. Понимание на этом уровне предстает, однако, как еще «неосознанный» (там же, С. 157), непосредственный, спонтанный процесс, интегрированный в структуру жизнедеятельности животного.
Возможность понимания значения телесного выражения Миш связывает с идентичностью понимания и действия. Причем, согласно ему, значение становится понятным только из связи поведенческих актов, а не на основе изолированных телесных образов. Таким образом, возможность понимания коренится для него не в созерцании, что утверждает традиционная теория познания, а в действии. Элементарное понимание значения телесных символов возможно только в силу участия в типичных для данной формы жизни ситуациях. Миш формулирует условие понимания как необходимость «идти вместе». Это условие означает вступить в типичную для определенного вида связь как с его представителями, так и со свойственной ему окружающей средой. «Идти вместе» есть условие возможности элементарного знания о релевантных с точки зрения жизнедеятельности вида способах поведения и формах выражения. Обобщая, можно сказать, что знание вообще возникает, согласно Мишу, как связанное с деятельностью („werktätiges“) знание.
Введенная Мишем категория «жизненного значения» показывает, что уже мир животных невозможно рассматривать как индифферентную по отношению к его представителям, готовую данность. Напротив, уже окружающая среда «сформирована» данным видом животных за счет свойственного ему выражения и целенаправленной деятельности (там же, С. 186). Ориентация в этом мире происходит благодаря специфическому, элементарному пониманию, а значимые для данного вида положения дел функционируют как структурные элементы соответствующего ему мира. Каждый вид животных структурирует свою собственную окружающую среду за счет категории значения. Значение для животного сводится к значимости тех или иных состояний для его жизнедеятельности. Он представляет собой «центр активности», а все, что попадает в поле его активности, становится для него значащим. Однако не разум, а тело играет центральную роль в процессе жизнедеятельности как воспринимающий, выражающий (манифестирующий), познающий и действующий орган. Прозрачность и спонтанность конститутивны для значения, выраженного в форме символа. Значение символа есть функция отношения животного к окружающей среде, а предпосылкой понимания символа является участие в общей жизненной ситуации.
То, что Миш начинает исследование значения с «жизненного значения», характерного для животных, в котором выражение и значение, созерцание и понимание, понимание и действие образуют нерасчленимое целое, можно объяснить, с одной стороны, его желанием наметить горизонт, который выступал бы контрастом для языкового значения, свойственного форме жизни человека. С другой стороны, он хочет указать на непрерывность логического развития значения. «Жизненному значению» в форме непродуктивного, «центрированного» в жизни, говоря языком Плеснера, телесного движения выражения Миш противопоставляет новый тип значения, свойственный человеку — продуктивную объективацию жизни в форме языкового логоса.
Значение как проявление языкового логоса. На фоне телесного выражения животных языковое выражение приобретает следующие качественные отличия: во-первых, на вместо единства выражения и значения связанных с телом и ситуацией жизненных проявлений животного встает «подвижное структурная связь между выражением и значением в словах» (там же, С. 220). Если в телесном символе значение «презентировано», т. е. оно сразу же прочитывается в мимическом выражении, поскольку носитель символа и содержание символа покрывают друг друга, то в языковом выражении смысл и значение лишь «репрезентированы» вследствие различия между мыслимым и вербализованным (там же, С. 283). Как известно, это проявляется и в том, что одно и то же положение дел может быть выражено различными способами, и в изменении значений слов. Систематически слово располагается у Миша между телесным символом и знаком знаковой теории языка.
Во-вторых, если телесное выражение служит лишь манифестации, то языковое выражение приобретает герменевтические функции как особая форма миропонимания. В этом отношении понимание как означивание и придание смысла конститутивны для языковых значений. При этом понимание и выраженность в слове не обязательно коррелируют друг с другом; пространство понимания выходит за пределы пространства языка. Миш доказывает это положение, обращаясь к анализу элементарных форм понимания у животных. Высказывая его, он дистанцируется от рационализма типа Брентано, отождествляющего душевную жизнь с осознанными психическими процессами. Согласно ему, происходящее в душе не обязательно должно быть осознанно пережито и вербализованно. Например, желание и осознание этого желания, суть две различные вещи (там же, С. 414).
В-третьих, языковое выражение в отличие от телесного характеризуется предметным характером: «Предметность производится, продуцируется в языковом сознании» (там же, С. 260). Это обстоятельство кардинально изменяет характер значения: элементарному, спорадическому знанию животных о значимости встреченного в поле его активности Миш противопоставляет свойственное человеку «понимание предметов за счет значений» (там же, С. 271 и далее), лежащее в основе «продуктивно-объективирующего членения мира».
Решая проблему конституирования предмета, Миш вступает на подготовленную Кантом почву трансцендентальной философии, которая ставит возможность познания в зависимость от возможности конституирования предмета познания. Однако при этом он предлагает стратегию, основывающуюся на герменевтике жизни. Гипотеза Миша состоит в том, что предметность производится не рассудком, а «выражающим мышлением» (там же, С. 76). Поскольку речь есть продуцент предметности, то предметность возникает не благодаря солипсически истолкованному трансцендентальному субъекту, а в рамках сообщества и на базе общественной жизненной практики. Ключ к пониманию логической схемы опредмечивания дает понятие «артикуляция» как раскрытие осознаваемого в языке.
Миш движется при объяснении логики формирования значения от всеобщего к единичному. Он вводит сначала категорию «нечто» как «наиболее общую, содержательно пустую, чисто формальную логическую категорию» для предмета как такового и называет ее «объективно данной возможностью говорить о предмете» и думать о нем (там же, С. 371). Тем самым предмет определяется как то, о чем вообще возможно думать или говорить. Неопределенное значение «нечто» раскрывается посредством означивания в форме «это такого вида, как». Спецификация «нечто» в форме «это здесь как нечто такое» становится возможной благодаря взаимодействию двух логических процессов: качественного и демонстративного образования понятий. Демонстратив «это здесь» направлен на определенный единичный предмет и указывает на него, а именование или обозначение схватывают его качественную определенность на основе смысла и значения. Опредмечивание протекает в концепции Миша в направлении от «определенного нечто», с которым соотносится мысль, к артикулированному в языке «нечто определенному».
При определении предмета важную роль играет практически и эстетически обусловленное аспектуальное мышление подобно тому, как это происходит в философии символических форм Кассирера. Предмет определяется не в соответствии со своей идеальной, неизменной сущностью, что характерно для традиции семантического фундаментализма от Платона до Гуссерля. Напротив, это происходит в зависимости от многочисленных форм явления предмета в процессе жизнедеятельности человека. Миш подчеркивает, что вещь обозначается «в соответствии с ее природой, если она ее имеет, как все, что не произведено человеком; или в соответствии с ее видом и родом; или в зависимости от материала» или «так же просто как вещные феномены, как радуга или молния и т. д. и относящиеся к ним безличные предложения типа «идет снег'«(там же, С. 367). Встреченное может быть обозначено и истолковано как состояние, процесс, действие, вещь с ее свойствами, как индивидуум и материал. Не существует никакого привилегированного пути для обозначения и идентификации предмета.
Согласно Мишу, местом встречи мира и сознания является переживание. Вслед за своим учителем, Дильтеем, он понимает переживание не с точки зрения психологии как субъективное психическое состояние, а как процесс жизни, осознаваемый человеком. При этом переживание не следует интерпретировать по модели теоретического мышления субъектом объекта. Переживание — это то, что «некто переживает, нечто, что он встречает в мире, то, что с ним случается» (там же, С. 304, cp. С. 333). Переживание это то, «при чем и внутри чего некто находится» (там же, С. 412). Миш показывает плавные переходы между жизнью как осуществлением, процессом и переживанием как знанием о происходящей жизни. К формам переживания он причисляет не только осознание, но и чувство, желание, намерение и т. д.
Пытаясь реконструировать то, каким образом жизнь познает саму себя, он прибегает к теории интенциональности, разработанной Брентано и Гуссерлем. При этом он отказывается от модели интенциональности, согласно которой сознание о чем-либо возникает в ходе дискурсивного суждения или представления. Он считает такой подход приравниванием человеческой жизни и жизненного знания к специфически «теоретическому поведению» (там же, С. 309–310). Согласно Мишу, интенциональность — это свойство всех духовных актов, включая переживание, выходить за свои пределы, в направлении того, что самому акту чуждо. То есть он понимает под интенциональностью трансцендентность, способность сознания выходить за свои собственные границы. Он предлагает субтильную схему «трансцендентности, исходящей из имманентности» (там же, С. 325). Эта схема описывает интенциональность как круговое движение сначала снаружи внутрь сознания как вбирание в себя встреченного и пережитого, а затем изнутри сознания наружу как выражение, благодаря которому переживание осознается. Миш подчеркивает: «мы движемся в мире выражения, а не в мире переживания» (там же, С. 78).
Истолкованная как трансцендентность интенциональность предстает как основная характеристика переживания и позволяет объяснить, как происходит конституирование предмета. Осознание происходит благодаря речи, до речи сознание не имеет никакого отчетливого содержания. Речь объективирует переживание, не интеллектуализируя его. Само переживание предстает как единство протекания жизни и ее осознания.
Рассматривая переживание в качестве механизма возникновения предметности, Миш отходит от традиции рационализма, которая связывает возникновение предметности с мышлением в форме суждения.
Он отличает мышление в узком смысле этого слова как схватывание предмета посредством значений и мышление в широком смысле этого слова как мнение и полагание. Полагание означает «установить отношение к чему-либо» и включает в себя все возможные виды мыслительных отношений, включая когнитивные, эмоциональные, эстетические и практические. Речь способна передать все эти разнообразные формы мыслительного отношения к предмету: императивы, пожелания, восклицания, пропозиции и т. д. представляют собой различные направления образования значений при опредмечивании. Предмет может быть, следовательно, выражен не только посредством пропозиций.
Человеческий мир как «мир слова», как семантически структурированная действительность возникает, как следует из размышлений Миша, вследствие выделения таких функций языкового выражения как экспликация, сообщение и представление. Изначальное оформление духовного социального мира происходит как посредством дискурсивно-понятийного, так и недискурсивного мышления. Несмотря на то, что понятия языка являются «подвижными» и «конкретными», тем не менее, они имею общий характер и понятны любому члену данного сообщества.
Понятие о понятии. Последний шаг Миша в обосновании герменевтической логики связан объяснением природы понятия. Он разрабатывает теорию о логической форме понятия, опираясь на теорию Канта и одновременно критикуя ее. Как и Кант, он считает, что понятие не исходный объект логики, а само является продуктом мышления. В отличие от Канта, а также от доминирующего до настоящего времени подхода, для которых понятие есть элемент суждения, Миш рассматривает в качестве исходной формы всеобщего не общее понятие, а конкретное слово. Свою задачу он видит в разработке альтернативы объяснению общего характера понятия как абстракции, возникающей в процессе сравнения и обобщения эмпирических данных. Путеводную нить для переосмысления логики понятия он находит опять же у Канта, в его учении об интеллектуальности чувственного восприятия, а именно, в учении о схематизме. Это учение дополняет представление об обобщающем понятии представлением о схематическом понятии, общий характер которого обеспечивается неким правилом. Если обобщающее понятие представляет собой единичное, которое можно использовать для описания многих предметов, то схематическое понятие (например, слово «треугольник»), наоборот, позволяет представлять единичное. Миш опирается на кантовскую идею о том, что единичное не является простым коррелятом чувственности, и развивает ее дальше. Однако поскольку понятие о правиле представляется ему «слишком рациональным» (там же, С. 388), то он отказывается от учения о схематизме и обращается к теории языка для того, чтобы прояснить вопрос об общем характере понятия.
Результат предпринятого Мишем анализа языка с целью определить характер понятия состоит в том, что искомую исходную всеобщность понятия он интерпретирует как «всеохватывающее предметное» (там же, С. 395, 396). Это «всеохватывающее предметное», взятое под определенным углом зрения, выражается в слове. Слово специфицирует и одновременно опредмечивает это «всеохватывающее предметное», сохраняя его, как общее подлежащее для единичных актов опредмечивания. При этом опредмечивание в слове может произойти лишь в том случае, когда встреченное уже антиципировано как возможное «нечто». Миш называет этот изначальный процесс «полаганием»: «Полагание предвосхищает воззрение самой вещи» (там же, С. 415).
Термин «полагание» можно проинтерпретировать как понимающее отношение к миру. Одновременно термин «полагание» указывает на понятийную структуру сознания, которая изначально предстает как предметная структура. «Понятийный» оказывается у Миша синонимом «предметный», причем под это понятие подпадают как воззрение, так и мышление. В отличие от «предметности», «предмет» — это то, что схвачено в слове посредством значений. Процесс понятийного, т. е. предметного мышления свойственен человеку.
Миш предлагает своего рода диалектику конституирования предмета, включающую моменты «дать» и «взять». «Взять» — метафора для антиципации возможного смысла, для «интенции значения», а «дать» для артикулированного смысла, для «наполнения» значения. «Взять» предполагает отношение к «предметности», а «дать» — к «предмету». Для конституирования понятия в языке равно необходимыми оказываются как «предвосхищение восприятия предмета на основании целого», так и «разделение единства многообразия посредством мышления» (там же, С. 419). Под выражением «посредством мышления» здесь следует иметь в виду не суждение, коррелирующее с высказыванием, поскольку язык создает предметность благодаря своей связи не с «судящим», а с «выражающим» мышлением. Для последнего характерно то, что отношение к тому общему, аспекты чего артикулированы в языке, не утрачивается: к нему всегда можно обратиться в новом высказывании.
Подход Миша основывается на предположении, что не суждение, а экспликация, продуктивное раскрытие вещи в значении как игра познавательных, эмоциональных и волевых моментов в «полагании нечто как нечто» составляет сущность слова. Он продолжает антисциентистскую традицию Дильтея, согласно которому не существует «чистого» познания, свободного от чувства и воли. Для этой традиции понятие, образованное на основе рефлексии и суждения, логически более позднее явление. Восприятию понятий как терминов соответствует теоретическое понимание языка, отрывающее языковой знак от естественности вещей и объективной основы и вовлекающее его в конвенциальную систему взаимных указаний.
Заключение. «Герменевтическая логика» Миша представляет логическую генеалогию форм выражения и основывает слово на символе, а понятие на слове. Связь между этими формами выражения обеспечивает понимание, которому Миш придает универсальный характер как имманентному жизни в целом признаку. Понимание у животных сводится к «толкованию» телесных символов. Свойственное человеку понимание приобретает понятийный характер. Первичная форма понятийности заключается в предметности восприятия и мышления, возникающей только в языковом сознании. Релационные понятия и схемы представляют собой более поздние продукты рефлектирующего мышления. Согласно такому взгляду, когнитивный контакт человека с миром состоит не в том, что человек сначала имеет «чистые» чувственные данные, которые он затем понятийно классифицирует. Любой опыт, даже если он не артикулирован в языке, с самого начала имеет понятийный, т. е. предметный, характер.
Первичная логическая форма опредмечивания — это именование, которое состоит в полагании «нечто как нечто». Именование не является определением встреченного посредством предиката, напротив, номинация — это допредикативный процесс «обращения» („Ansprache“) к вещи (там же, С. 229). «Обращение» следует эксплицирующей логике вещей, а не детерминирующей логике отношений, на которой основывается предикация. Это обусловливает то обстоятельство, что вплетенное в жизненные взаимосвязи герменевтическое «как» не ограничивается апофантическими предложениями, а охватывает также и неапофантические выражения.
В пределах жизненного мира идентичность предмета устанавливается с учетом разнообразия контекстов его определения. Как известно, понятие в формальной логике служит для установления идентичности. Парадигмой здесь является представление о том, что понятия однозначно представляют вещи и их свойства. Логика языка противится, однако, такому субстанциализму формальной логики. Абсолютной идентичности она противопоставляет еще понятийно неопределенную, неокончательную идентичность предмета, которая должна быть установлена в ходе многочисленных и различных его определений.
Понятие «жизнь» как категория дискурса
Выявить потенциал понятия «жизнь» для общей теории познания Мишу помогает отождествление его с понятием «выражение». Он развивает свою «герменевтическую логику» в виде учения о выражении жизни, принимающем следующие формы: на дологическом и доязыковом уровне это выражение как поведенческий символ у животных; на логическом и языковом уровне — выражение как слово и как понятие.
Поскольку «выражение» всегда есть выражение некоего значения, то «герменевтическая логика» переходит у Миша в теорию значения. При этом ему важно продемонстрировать разнообразие форм означивания и значения, чего он достигает, отделяя значение от понятия, а понятие от суждения. Так, он считает, что, несмотря на то, что животные не обладают понятийным мышлением, они способны производить и понимать значения. Значение в данном случае есть не идеальное семантическое образование, а структурный элемент самого жизненного процесса и подчиняется порядку жизнедеятельности данного вида животных. Тело, производящее визуально воспринимаемые символы, есть здесь единственный способ производства значения.
Следующий важнейший тезис Миша состоит в том, что мыслить понятийно не означает то же самое, что мыслить при помощи понятий. Понятийное мышление можно свести, согласно ему, к предметному мышлению, свойственному существам, обладающим языком, сознанием и самосознанием. «Мыслить предметно», по сути, адекватно способности удерживать отношение к тому же самому предмету в различных ситуациях и в различное время. Примером предметного понятийного мышления является язык, который «эвоцирует» значения, а не образует их на основе суждений. Эвоцирование подчиняется различным логикам — «логике вещей, логике творчества, логике сердца, в целом, логике жизни» [там же, С. 29]. Дискурсивное мышление как логическое оперирование понятиями представляет собой, следовательно, только один из многих способов образования значений.
Различение между дискурсивным мышлением и дискурсивным по своему характеру языком и связанное с этим различение эвоцирующих и дискурсивных высказываний составляет ядро герменевтического анализа Миша. Дискурсивная норма языка не означает, что любое высказывание основано на дискурсивном мышлении, на предикации. Миш полагает, что многие языковые образования, такие как имена, включая имена собственные, дейктические выражения и даже безличные предложения типа «светает», имеют допредикативную природу. Они суть артикуляция некоего мнения или полагания (Artikulation des Gemeinten), осуществляемого в рамках определенной жизненной ситуации. Значение есть результат означивания, как особого, осмысленного отношения к жизни, при котором реально значимое артикулируется в идеальной форме.
Человеческая жизнь артикулирует или репрезентирует себя в форме «чисто дискурсивной» и эвоцирующей речи. На основании текстов Миша можно реконструировать следующие различия между ними: первая служит для доказательства и аргументации, вторая творит символическую действительность, которую Миш называет «миром слова». Первая движется в пределах «пространства оснований» (выражаясь языком Роберта Брэндома), состоит из отдельных законченных высказываний и построена на логическом следовании одного утверждения из другого. Вторая состоит из «открытых», незавершенных высказываний, которые важны не сами по себе, а подчинены раскрытию целого путем развертывания его отдельных аспектов, связанных между собой не отношениями логического следования, а посредством смысла. В «чисто дискурсивной» речи логическую структуру каждого отдельного высказывания представляет суждение, а его элементами являются общие понятия, основывающиеся на абстракции. В эвоцирующей речи используются «конкретные понятия», схватывающие сущность вещи посредством значения в определенном жизненном контексте. Если первая есть речь о вещах, то вторая дается сказаться самой вещи как «живому целому» (там же, С. 515). Вещь определяется, следовательно, не только на основании ее строения и свойств, а в герменевтическом плане как актуально значимый смысл. Смысл не предицируется, а предшествует предикации. Предикация служит экспликации смысла, который выходит за границы языка. Когнитивное поведение субъекта по отношению к вещи в первом случае можно определить как объективирующее ее представ-ление; во втором — как опредмечивание переживания посредством языка, т. е. как понимание вещи в переживании, которое не отделяет вещь от субъекта, а, напротив, устанавливает живое отношение к ней. Если содержание «чисто дискурсивной» речи можно извлечь полностью готовым из высказывания, то содержание эвоцирующей речи, напротив, не исчерпывается словами и ее понимание требует понимания целостной ситуации, с которой имеют дело. Миш подчеркивает, что эвоцирующие высказывания лишь «побуждают» к дальнейшему разговору или размышлению, а не формулируют готовые мысли. Тогда как высказывания «чисто дискурсивной» речи можно верифицировать, то истина эвоцирующих высказываний заключается лишь в том, что их содержание понимают и разделяют другие участники разговора. Истина, следовательно, имеет в данном случае характер соглашения, а не устанавливается как объективная (наподобие научной истины).
Смысл проведенного Мишем герменевтического анализа высказываний состоит в преодолении узкого, сциентистского представления о познании как системе понятий. Он достигает этого путем замены ключевых структур: на место традиционного «суждения» (Urteil) он ставит понятие «выражение» (Ausdruck). Последнее позволяет представить жизнь как совокупность форм выражения, которые одновременно являются формами познания. Само понятие жизни приобретает герменевтический смысл, поскольку дает возможность вскрыть логически разнородные модели познания, в основе которых лежат различные способы формирования понятий, а именно дискурсивные и недискурсивные. Жизнь, с точки зрения герменевтики, предстает при этом как сфера осознания самой себя. Задача герменевтики состоит в таком случае в раскрытии механизмов самоосознания жизни.
Герменевтическая онтология Ганса-Георга Гадамера
«Никто не оказал такого влияния на герменевтическое мышление в уходящем двадцатом веке как Ганс-Георг Гадамер», — справедливо пишет в своем введении в герменевтику Матиас Юнг[78]. Объяснить этот феномен можно, прежде всего, благодаря тому, что с Гадамером связывают так называемый «онтологический поворот» в герменевтике, осуществленный им «на путеводной нити языка». Росту внимания к его философии способствовала общая тенденция в развитии философии того времени, которую Ричард Рорти охарактеризовал как linguistic turn.
Гадамеровский герменевтический проект можно в целом рассматривать как герменевтику языка, а не как герменевтику жизни, на которой были сконцентрированы усилия Дильтея, Миша и, в значительной степени, Хайдеггера. Сравнивая концепции Хайдеггера и Гадамера, Джанни Ваттимо отмечает в частности, что «у Хайдеггера интерпретация, несмотря на ударение, которое он ставит на язык, прежде всего рассматривается с точки зрения смысла бытия; у Гадамера интерпретация, несмотря на все подчеркивание онтологии, мыслится с точки зрения языка»[79]. Возвышение языка до онтологической категории и тем самым до категории, формирующей жизнь человека, кульминирует в третьей части основного труда Гадамера «Истина и метод» (1960), анализу которой посвящена данная глава.
Идея герменевтической онтологии
Гадамер видит в языке «горизонт герменевтической онтологии»[80]. «Иметь горизонт» означает, что понимание протекает на фоне исторически сформировавшегося смысла, который объективно предшествует всем субъективным действиям и интерпретациям и влияет на них. Как полагает Матиас Юнг, «в понятии горизонта мыслится нечто вроде универсального принципа контекстуализации» (op. cit.: 114). Понятие «горизонт» можно отождествить с понятием «герменевтический опыт», где опыт — это сумма знаний, аккумулированных в языке и транслируемых им. Причем под герменевтическим опытом следует понимать не индивидуальный, а коллективный опыт. В этом отношении Гадамер опирается на сформированное Вильгельмом фон Гумбольдтом представление о языке как мировоззрении. Язык как мировоззрение и тем самым как совокупный герменевтический опыт представляет собой единство лингвистической формы и передаваемого традицией содержания. С точки зрения герменевтики содержание, традиция имеет больший вес по сравнению с формой. Герменевтический опыт не приобретается просто с изучением языка: «Очевидно, что предание невозможно понять, если при этом тематизируется язык как таковой» (там же, С. 511). Герменевтический опыт приобретается в силу принадлежности к определенному жизненному миру, в который человек интегрирован путем социализации. «Живой процесс речи» является одной из форм участия человека в жизни сообщества, а использование языка в контексте практической жизни непременно наделяет говорящего определенным миропониманием.
Человеческий опыт мира носит, согласно Гадамеру, языковой характер. Не существует внеязыкового опыта, на языке основывается и «в нем выражается то, что люди вообще имеют мир» (там же, С. 512). Гадамер возвращается к традиционной для герменевтики теме обладания миром. Его подход к этой проблематике отличается, однако, как от подхода Дильтея, так и от подхода Хайдеггера. Согласно Дильтею, человек имеет мир благодаря переживанию как единству когнитивных, волевых и аффективных действий. По Хайдеггеру, иметь мир возможно благодаря «бытию-в-мире», особой форме существования Dasein, условием которой является понимание. Причем понимание с точки зрения фундаментальной онтологии изначально сводится к умению ориентироваться в пространстве возможностей действия. Для Гадамера обладание миром имеет место там, где имеется «языковое выражение». Он пишет: «Иметь мир — значит вступать в отношение с миром. Но вступать в отношение с миром требует такой свободы от встречающегося в мире, чтобы быть в состоянии противопоставить себе его таким, каково оно есть. Это умение есть одновременно обладание миром и обладание языком.» (Там же, С. 513) Предпосылкой возможности иметь мир является, таким образом, способность к языку, благодаря которому мир «объективируется», т. е. становится внешним по отношению к человеку. Тем самым наличие языка выступает в качестве необходимой антропологической предпосылки обладания миром.
Гадамер разъясняет свою позицию, противопоставляя друг другу понятия «мир» и «окружающая среда». С одной стороны, человек всегда уже включен в некую окружающую среду, оказывающую влияние на его образ жизни. Термин «мир» в значении «окружающая среда» есть социальное понятие. С другой стороны, отношение человека к миру отличается от отношения к миру всех других живых существ свободой от окружающей среды. Как полагает Гадамер, «вместе со свободой человека от окружающей среды дана вообще его свободная способность к языку и тем самым основание для исторического многообразия, в котором выражается отношение человеческой речи к единому миру» (там же, С. 514). Свобода человека по отношению к миру достигается благодаря языку и проявляется в существовании различных языковых образов мира. Обладание языком делает возможным способ бытия, совершенно отличный от имманентной связанности животных с обусловливающей их окружающей средой. «Возвышение над миром» не означает, однако, что человек способен покинуть свою окружающую среду. Люди лишь «занимают иную позицию к ней, ведут себя по отношению к ней свободно, дистанцированно» (там же, С. 514–515). «Возвышение над окружающей средой» есть с точки зрения герменевтики «возвышение к миру» благодаря языку. В итоге «тот, кто имеет язык, «имеет» мир» (там же, С. 457). Это значит, что человек может превратить мир в объект и рассуждать об этом объекте.
Что означает герменевтическое понятие «мир человека»? Гадамер определяет «мир» как совокупность создаваемых языком положений дел (там же, С. 449). Тем самым он разрабатывает онтологию, базирующуюся на языке. Язык вступает в отношение с миром и это отношение к миру лежит в основе «специфической предметности» языка: «Положения дел — вот что обретает язык» (там же, С. 515).
Гадамер различает два способа, посредством которых положение дел находит свое выражение в языке. Первый способ — это мыслить о мире, как о наличном бытии. Тогда любое сущее должно обрести в высказывании свой голос. Сущее предстает здесь не как «собственный предмет высказываний», оно только показывает себя в высказывании, предстает посредством него. Этот путь характерен для античной онтологии, которая определяет высказывание как производное по отношению к сущему. Критикуя данную точку зрения, Гадамер подчеркивает, что «язык лишь в разговоре, то есть при осуществлении взаимопонимания обретает свое подлинное бытие» (там же, С. 516). Следовательно, нет никакого непосредственного контакта между языком и вещью, а каждый контакт языка и мира опосредован участием еще одного — реального или идеального — участника разговора. При помощи понятия «разговор» Гадамер вводит в свою концепцию социальное измерение языка, где «социальное» выступает посредником между человеком и миром, в результате чего слово не представляет саму вещь напрямую, а отражает коллективные представления о ней.
Гадамеровское понятие о нацеленном на взаимопонимание разговоре не следует представлять в виде понятия о целенаправленном, ограниченном, единичном действии. Слово «разговор» — это метафора для обозначения механизма, обеспечивающего функционирование некоторого языкового сообщества. «Разговор» — это форма существования языковой группы. В процессе языкового взаимопонимания происходит как обнаружение, так и конституирование мира.
Язык при этом предстает не просто как средство взаимопонимания, а также и как цель. Цель языка состоит в выработке определенного мировоззрения. Разговор как практика взаимопонимания означает, что «все формы человеческого жизненного сообщества суть формы сообщества языкового, больше того, они образуют язык» (там же, С. 516).
Из вышесказанного следует, что мир человека — это мир языка. Гадамер дает следующие определения понятия «мир человека»: мир — это «общая почва, на которую никто не вступает и которую все признают, которая связывает всех разговаривающих друг с другом» (там же). «Мир — это то, что является нам в совместной жизни, то, что охватывает все, по поводу чего достигнуто взаимопонимание» (там же, С. 517). Мир — это «конституированный языком мир» (там же, С. 451). Из этих определений видно, что «мир» — это не совокупность вещей, а совокупность идей.
Такое понимание мира вызывает вопрос о характере мира — не является ли он субъективным и плюралистичным? Не оказывается ли представление о мире всегда лишь относительным и никогда абсолютным? Не является ли гадамеровская герменевтика выражением языкового идеализма? Существует ли независимый от человека «объективный мир»? Гадамер, предвосхищая эти вопросы, указывает на то, что «в любом взгляде на мир подразумевается в-себе-бытие мира» (там же, С. 518). Независимый от человека внешний мир есть «то целое, с которым соотнесен схематизированный языком опыт» (там же). Тем самым он ни в коем случае не отрицает существования внешнего мира. Ему важно подчеркнуть, что человеческий мир — это не просто совокупность предметов, а совокупность взглядов человека на мир. Мир человека — это продукт понимающей деятельности человека. В миросозидании человек реализует свою творческую свободу.
Гадамер заходит так далеко, что он утверждает даже, что мир того или иного сообщества представляет собой с точки зрения теории познания лишь «реальную видимость» (там же, С. 519). В этом отношении он следует Ницше, защищавшему необходимость эпистемологической «видимости» для человека. Так, согласно Ницше и Гадамеру, солнце всходит и заходит для нас каждый день, несмотря на то, что мы знаем, что это всего лишь «видимость», иллюзия, и знаем также о вращении земли вокруг солнца и вокруг своей оси. Говорить так о солнце так вовсе не бессмысленно не только потому, «что видимость является для нас подлинной реальностью, но также потому, что истина, которую нам сообщает наука, сама соотнесена с определенным поведением по отношению к миру и не может претендовать на то, чтобы быть всей истиной целиком» (там же). Языковая структура нашего опыта мира в состоянии охватить разнообразные жизненные отношения, а знания, нацеленные на господство над природой, которые типичны для габитуса науки, представляют собой все лишь один из возможных способов установления отношений с миром.
Критическое отношение Гадамера к методологии традиционной теории познания отражается уже в названии его работы «Истина и метод». Это название следует понимать не в том смысле, что истина достижима преимущественно на пути метода. Напротив, истина противопоставлена здесь методу. Как справедливо замечает Матиас Юнг по этому поводу, «все научные методы всегда уже движутся в горизонте предпонимания, которое впервые делает возможной истину, но которое никогда не может быть установлено посредством метода» (op. cit.: 117). Научный метод в состоянии лишь высказать частичную истину. Поэтому истину невозможно свести единственно к истине пропозиций. Напротив, существуют различные формы истины, такие, например, как истина художественного произведения, истины религии и морали, которые не менее важны для человека, чем истина науки. Объективности научной истины противостоит значимость истин норм жизненного мира. Научная истина и житейские истины равно необходимы и взаимно дополняют друг друга.
Размышляя об отношении языка и мира, Гадамер проводит различие между предметностью языка и объективностью науки. Мир языка, отражающий различные формы отношения человека к миру, — это не совокупность объектов, которые противостоят языку. Мир, схваченный языком, вообще не имеет характера объекта. Гадамер пишет: «Мир представлен в языке. Языковое миропонимание «абсолютно». Оно превосходит все относительности полагания бытия, поскольку охватывает собой все в-себе-бытие, в каких бы отношениях (относительностях) оно себя не показывало. Языковой характер нашего миропонимания предшествует всему, что может быть познано и высказано в качестве сущего. Основополагающая связь языка и мира не означает поэтому, что мир становится предметом языка. Скорее то, что является предметом познания и высказывания, всегда уже окружено мировым горизонтом языка.» (Там же, С. 520) Мир языка не объект, а тот незримый смысловой горизонт, который неявно присутствует при любом процессе восприятия и мышления и оказывает решающее влияние на способы восприятия и интерпретации предметов. Мир языка — это обусловленный языком целостный взгляд человека на мир. Существенно то, что «не существует никакой позиции вне языкового опыта мира, которая позволила бы превратить в предмет сам этот опыт» (там же, С. 523–524). Предметность языка — это преломление предмета в языке, это особый субъективный способ понимания предмета, подготовленный языком. Причем процесс восприятия предмета в горизонте языка — это процесс, который полностью не поддается осознанию и экспликации.
Человек вступает в мир благодаря освоению того или иного языка. «Жизненный» мир языка относителен, но относительность его проявляется не в результате сравнения мира языка с миром внешних объектов, а в результате сравнения мира одной культуры с миром другой. Иначе ведет себя язык науки: в нем субъективные элементы познания должны быть элиминированы, а сам он должен соответствовать внешнему миру. Его относительность измеряется по отношению к «миру самому по себе», к природе. Преформированность естественного опыта мира языком наука воспринимает как источник ошибок и предрассудков. Она стремится отделить научное познание от его донаучного фундамента, от тех неосознаваемых учеными убеждений, которые проявляются в осознаваемых убеждениях и знаниях.
Механизмы понимания
Если Дильтей в своей герменевтике пытается преодолеть сциентизм теории познания по путеводной нити понятия «жизнь», а Хайдеггер посредством практики обращения с «подручным», то Гадамер стремится достичь той же цели благодаря тому, что он реабилитирует понятие «предрассудок». «Предрассудок» — это не стереотип и не неверное представление, а транслируемая языком традиция донаучного понимания мира, свойственная определенной социальной группе. Некоторые исследователи воспринимают желание Гадамера реабилитировать предрассудок как консерватизм или традиционализм. Однако цель Гадамера заключается не в защите тех или иных конкретных представлений, а в объяснении того, как протекает понимание в рамках определенного жизненного мира.
Согласно ему, основу для понимания мира образует сумма взглядов на мир, свойственных данному сообществу, т. е. предание, традиция или «предрассудок». Традиция как совокупность «предрассудков» формирует предпонимание мира. Когда Гадамер говорит о предпонимании, то, в отличие от Хайдеггера, разработавшего формальную модель предструктуры понимания, он имеет в виду содержание. Для него понимание основывается на усвоении существующих значений. Основная для Хайдеггера проблематика артикуляции опыта от первого лица единственного числа уступает у Гадамера место проблематике овладения преданием. Такое дистанцирование герменевтики языка от прагматически ориентированной герменевтики Юрген Хабермас характеризует как «урбанизацию хайдеггеровской провинции»[81]. Если «провинциальность» Хайдеггера состояла прежде всего в ориентации на целенаправленную практику обращения с «подручным» при анализе понимания, то гадамеровская герменевтика утрачивает связь с практикой и возвращается к типичной для западноевропейского рационализма идее образования.
При этом, однако, Гадамер отказывается от идеи об универсализме познания, свойственной классическому рационализму и подвергает ее критике. Типичным представителем рационализма он считает Просвещение с его абсолютистским, неисторическим и поэтому «наивным» в отношении оценки традиции мышлением. Он критикует дискредитацию «предрассудка» в Просвещении и оправдывает «предрассудок» как условие возможности понимания, отстаивая существенную приверженность предрассудкам всего понимания. В качестве основной идеи Просвещения в отношении познания он выделяет рационализацию понятия авторитета: теперь не предание, а разум представляет собой последний источник авторитета (там же, С. 324–329). Противопоставив преданию автономный, беспредпосылочный разум, Просвещение — как он считает — лишило мышление контекста, а предание восприняло однобоко в качестве принципиального препятствия для познания. В свете абсолютного разума все исторические детерминанты предстали как предрассудки в негативном смысле, т. е. как неправомочное преформирование познания. Такая огульная дискредитация предрассудка в период Просвещения поставила под вопрос наличие предструктуры для понимающего подхода к миру.
Точка зрения Гадамера в отношении познания противоположна позиции классического рационализма. Он считает, что мышление, вырванное из контекста предпонимания, невозможно. Поэтому методологически правильно не противопоставлять подверженное «предрассудкам» свободному от них познанию, а отделять правомочные «предрассудки» от неправомочных. Причем решение этого вопроса должно быть предоставлено не субъекту, напротив, традиция должна говорить сама за себя. Ведь традицию составляют такие «предрассудки», которые уже доказали свою значимость в ходе истории и которые сами — именно в форме традиции — выступают как условие для критики всех прочих «предрассудков». В качестве примера традиции, выступающей в качестве критерия по отношению к прочим «предрассудкам», Гадамер называет понятие «классический» и феномен «классичности». То, что выступает в Европе как классическая традиция, формирует имплицитный горизонт для связанных друг с другом в одно целое парадигм мышления, восприятия, оценки и т. д.
Как видим, герменевтика Гадамера содержит критику понятия о субъекте, предложенного в традиционной рационалистической теории познания. С его точки зрения, Просвещение переоценило субъект в отношении его познавательных возможностей. Мышление субъекта не чисто субъективно, поскольку субъект не является единственным продуцентом смыслосодержаний. Гадамер рассматривает субъект не как «носителя кантовского Apriori», а как «наследника исторически-конечного языка»[82]. Он считает, что выбор языка не зависит от воли и желания конкретного субъекта, «правильнее было бы сказать, что язык говорит нами, а не мы говорим на языке» (Гадамер 1988: 535).
Такой взгляд имеет важные последствия для теории познания, а именно понимание следует представлять не как беспредпосылочное действие субъекта, а как участие субъекта в «свершении предания», в котором прошлое и настоящее постоянно опосредуют друг друга (там же, С. 345). Таким образом, с позиций герменевтики функция субъекта заключается в продолжении определенной традиции мышления. Критикуя солипсизм традиционной теории познания, Гадамер, однако, не отрицает творческого вклада субъекта в развертывание смысла. Понятие «субъект» в его концепции не снято, но субъект немыслим больше в качестве «чистого», внеисторического сознания. Необходимо учитывать, что мыслительная деятельность субъекта протекает в рамках определенного культурного контекста. «Субъект» в герменевтике, следовательно, есть понятие, включающее в себя принадлежность к определенной культуре.
Для объяснения своего антисубъективизма Гадамер прибегает к фигуре герменевтического круга. Последний в его интерпретации охватывает предпонимание в форме исторически передаваемого горизонта, обеспечивающего антиципацию смысла, а также актуальное усилие понимания, которые взаимно обусловливают друг друга. Герменевтический круг Гадамера построен на отношении между познающим субъектом и традицией. Он позволяет учитывать как пребывание в традиции, так и отчуждение от нее. Причем «отчуждение» означает не только временную дистанцию по отношению к традиции, которая должна быть преодолена для достижения понимания. «Отчуждение» также предполагает, что человек осознает историчность собственного сознания.
С учетом логики герменевтического круга понимание предстает как «действенно-исторический процесс». Это означает, что понимание направлено не непосредственно на предмет. Напротив, отношение между понимающим субъектом и предметом опосредовано многочисленными отношениями, которые только частично осознаются им, но действуют безотносительно от того, осознаются они или нет. «Власть истории над конечным человеческим сознанием в том и состоит, что она проявляется даже там, где человек, уверовав в свой метод, отрицает собственную историчность» (там же, С. 357). Гадамер вводит понятие «действенная история», которое призвано подчеркнуть имманентное присутствие прошлого в настоящем. «Действенная история» формирует то предпонимание, на котором основываются все суждения познающего индивидуума. Понятие «действенная история» выступает как синоним для понятия «традиция».
Для познающего субъекта характерно «действенно-историческое сознание». Это означает, что субъекту свойственно знание о собственном обусловленном традицией горизонте предпонимания, знание о собственной историчности. «Действенно-историческое сознание» можно специфицировать, во-первых, как сознание о том, что любой из нас подвержен предпониманию и предрассудкам, и, во-вторых, как сознание невозможности при понимании текстов «отказаться от собственных понятий и думать только в понятиях той эпохи, которую мы стремимся понять» (там же, С. 461). Гадамер считает, что «в действительности, исторически думать означает транспонировать понятия прошлого, если мы пытаемся думать при их помощи. Историческое мышление всегда и с самого начала включает в себя опосредование между этими понятиями и собственным мышлением» (там же, С. 462). «Действенно-историческое сознание» предстает как знание о том, что человек постоянно находится в такой ситуации, которая не поддается полностью объективации и контролю: невозможно выделить все факторы, которые оказывают влияние на понимание человека.
Понятие «действенно-историческое сознание» имеет критический смысл в герменевтике Гадамера. Признание исторически сложившегося характера собственного взгляда на вещи представляет собой требование к интерпретатору. Осознание обусловленности собственного мышления есть первый шаг в анализе собственного понимания. За ним следует содержательное определение предмета понимания.
Гадамер вводит понятие «герменевтической ситуации», которое устанавливает зависимость понимания как от актуального контекста, так и от принятой точки зрения на предмет, открывающей одни горизонты для интерпретации и закрывающей другие. Понятие о герменевтической ситуации имеет ограничительные функции, так как оно подразумевает, что существует определенное направление зрения, сужающее его перспективу.
Для описания процесса понимания Гадамер вводит принцип «слияния горизонтов». Он считает, что «при осуществлении понимания происходит действительное слияние горизонтов, которое вместе с набрасыванием исторического горизонта тут же снимает его. Мы обозначаем контролируемое осуществление такого слияния как задачу действенно-исторического сознания» (там же, С. 363). Критерием слияния горизонтов служит исчезновение барьера между языком интерпретатора и языком интерпретируемого текста. Этот вывод подготавливает следующий отрывок: «Понятия, которые мы используем при интерпретации, как таковые не тематизируются. Они предназначены для того, чтобы раствориться в том, что они, интерпретируя, приводят к языку. Парадоксальным образом, истолкование только тогда правильно, если оно способно к такого рода исчезновению» (там же, С. 463). Условие возможности исчезновения исторического горизонта состоит в том, что понимание касается самой вещи. Интерпретация сама собой переходит в предметную постановку вопроса и определяется ей. Гадамер подчеркивает, что «это действие самой вещи есть собственно спекулятивное движение, которое подчиняет говорящего» (там же, С. 478).
Однако, вещь в герменевтике, о которой он говорит, отличается от вещи, с которой имеет дело наука. Вещь для герменевтики есть не предмет внешнего мира, а «разворачивание смыслового целого, на которое направлено понимание» (там же, С. 537). Таким образом, вещь можно отождествить со смыслом, со значением предмета. Вещь — это то, что сформировано пониманием. Только в том случае, если мы идентифицируем бытие, т. е. сущее, вещь, со смыслом, можно понять высказывание Гадамера о том, что «бытие, которое может быть понято, есть язык» (там же, С. 548). Именно смысл выступает как универсальная онтологическая структура понимания, как «глубинное строение всего того, на что вообще может быть направлено понимание» (там же). Достижение взаимопонимания по поводу смысла вещи знаменует процесс понимания.
Смысл, согласно Гадамеру, принципиально выразим в языке. Он говорит об «осуществлении смысла», о «свершении речи», «понимании» и «взаимопонимании». Все эти выражения указывают на то, что происходит движение смысла, его развитие в пределах некоего смыслового целого. Причем «высказывание того, что имеется в виду, попытка выразиться понятно, связывает сказанное вместе с бесконечностью несказанного в единстве смысла и тем самым позволяет понять его» (там же, С. 542). Из того, что каждое сказанное слово имплицитно указывает на несказанное, которое тем не менее влияет на процесс интерпретации, и из того, что каждое сказанное слово функционирует как элемент смыслового целого в рамках определенной традиции, Гадамер делает вывод о спекулятивной структуре языка и мышления.
Что это значит? Он иллюстрирует понятие «спекулятивный» при помощи следующей метафоры: «Отражение сущностно связано с самим взглядом благодаря посредничеству наблюдателя. Оно лишено бытия для себя, оно подобно явлению, которое не есть нечто само по себе и которое тем не менее позволяет явиться в зеркальном отражении самому взгляду. Оно подобно удвоению, которое, однако, выражает существование нечто единого. Подлинная мистерия отражения заключается именно в несхватываемости образа, в неуловимости чистой передачи» (там же, С. 538). Мысль спекулятивна — поясняет Гадамер, «если высказываемое в ней отношение не позволяет мыслить себя как однозначное придание определения субъекту, свойства данной вещи, но должно быть помыслено как отношение отражения, в котором само отражение есть ничто иное как чистое явление отражаемого, подобно тому, как единое есть одно другого и другое первого» (там же, С. 538–539). Другими словами, «спекулятивное означает здесь отношение отражения» (там же, С. 538). Мышление спекулятивно, когда «конечные возможности слова подчинены подразумеваемому смыслу как направлению в бесконечное» (там же, С. 542). Как и у Гегеля, спекулятивное высказывание Гадамера включено в незримую сеть невысказанных мыслей и взглядов и является их представителем, т. е. частично отражает их.
Спекулятивное мышление состоит не из операций соединения или разделения готовых представлений или понятий, а проявляется как выражающее, выявляющее или схватывающее мышление. Его задача не в том, чтобы приписать субъекту некий предикат, а в том, чтобы выявить сущность вещи в «выражающем представлении» („ausdrücklichen Darstellung“) (там же, С. 471). Как и любое повествовательное предложение, спекулятивное предложение имеет субъектно-объектную структуру. Но поверхностная грамматическая структура предложения не совпадает здесь с его глубинной логической структурой. Истинным субъектом «спекулятивного» предложения оказывается не грамматический субъект, а грамматический предикат (здесь Гадамер ссылается на Гегеля, на его предисловие к «Феноменологии духа»). Свою мысль он поясняет на следующем примере: «Предложение «Бог един» не означает, что быть единым есть некое свойство бога, оно означает, что сущность бога состоит в том, чтобы быть единством. […] Субъект не определяется как это и также как то, в одном отношении так, а в другом иначе. Это был бы способ представляющего мышления, а не понятийного. […] Таким образом, форма предложения разрушает саму себя, благодаря тому, что спекулятивное предложение не высказывает нечто о нечто, а выражает единство понятия.» (Там же, С. 539) Спекулятивное мышление схватывает, следовательно, нечто существенное — смысл, выражающий бытие вещи, понятие об этой вещи. Поскольку в приведенном примере речь идет о схватывании сущности предмета, а не в приписывании ему свойств, то единство бога — вот логический субъект рассматриваемого спекулятивного предложения.
Диалектическое спекулятивное развитие смысла происходит постепенно, причем «то, что здесь называется выражением и представлением, не есть, в конечном счете, доказательство, ибо сама вещь доказывает себя тем, что она выражает и представляет себя» (там же, С. 540). Гадамер видит особенность спекулятивного мышления в том, что оно позволяет «выступить самой вещи». «Спекулятивный» значит «саморазличающийся», «самопредставляющийся» в процессе его понимания. Основная максима онтологической герменевтики языка гласит, что «бытие есть язык, то есть самопредставление, раскрытое нам в ходе герменевтического опыта» (там же, С. 562). При этом, однако, «слова не отображают сущее, но высказывают отношение к целому бытия и позволяют этому отношению обрести язык» (там же, С. 542). Сущее высказывает себя, следовательно, в терминах той или иной культурной традиции.
Задачу герменевтики Гадамер видит в том, чтобы «раскрыть целое смысла во всесторонности его отношений» (там же, С. 545). Именно поэтому диалектика развертывания смысла может протекать только в форме разговора с преданием в рамках определенной традиции, в форме диалектики вопроса и ответа. Благодаря диалогической диалектике понимание осуществляется как процесс.
В завершение отметим, что герменевтика превращается у Гадамера в «универсальный аспект философии», поскольку «спекулятивная структура бытия, лежащая в основе герменевтики, столь же универсальна по охвату, как разум и язык» (там же, С. 550–551). Более того, сама философия может существовать лишь как герменевтика.
Аналитическая герменевтика Роберта Брэндома
Сегодня устоявшимся является представление о «прагматическом повороте» в герменевтике, совершенном благодаря Хайдеггеру. Однако, на самом деле о таком повороте можно говорить, уже начиная с Дильтея. Уже он отчетливо сформулировал идею о том, что понимание включает в себя взаимодействие между индивидуумом, средой и его социальным окружением и само может быть рассмотрено как структурный элемент такого взаимодействия. Герменевтика в целом возникла как реакция на теорию познания и относится критически к положению о примате теоретической философии. Ей свойственно интерпретировать миропонимание как результат когнитивных действий, интегрированных в процесс жизни человека, например, как результат понимания переживания в концепции Дильтея, или как результат истолковывающего понимания «подручного» у Хайдеггера, или как процесс, связанный с речевыми действиями в контексте «жизненного мира» (например, идея разговора как герменевтического процесса в концепции Гадамера). Прагматически-герменевтическая точка зрения исходит из того, что понимание — это действие, имеющее интерактивный характер и представляющее собой одну из форм отношения к миру. Понимание в герменевтике — это комплексный процесс, включающий в себя наряду с познавательным также волевой и эмоциональный элементы. Понимание интересует герменевтику не с точки зрения «объективности» и «истинности» подготовленных им высказываний, а с точки зрения его вклада в логический генезис высказываний. Другими словами, герменевтику интересует то, как конституируется «предметность», как возникают представления о предметах, и как эти представления артикулируются в языке.
Идеи прагматики вдохновляли разных философов, концепции которых возникли в рамках герменевтики. Можно привести пример Ричарда Рорти, критикующего с прагматически-герменевтической точки зрения эпистемологические концепции, основанные на теории отражения, или теории Юргена Хабермаса, Карла-Отто Апеля и Роберта Брэндома, подчеркивающие значение прагматики для процессов понимания. В данной главе я остановлюсь на концепции Брэндома.
Нормативная прагматика Брэндома
В своих ставших знаменитыми книгах «Making it Explicit» (1994) и «Tales of the Mighty Dead» (2002) Брэндом предлагает интерпретацию концепций понимания Хайдеггера и Гадамера с позиции аналитической философии. Основываясь на этих теориях, в первой из своих книг он разрабатывает свой собственный вариант прагматической теории значения. Во второй книге он использует свою теорию значения для обновления континентальной герменевтики. В работе «Делая эксплицитным» Брэндом развивает теорию языка, основная идея которой может быть выражена при помощи его собственных слов. Так, он считает, что «содержательность пропозиций должна быть понята в терминах практики выдвижения и требования оснований» («[…] that propositional contentfulness must be understood in terms of practices of giving and asking for reasons“). Проблема, на которой сконцентрирована его теория, состоит в понимании языка (а не мира, в отличие от рассмотренных ранее концепций).
Разрабатывая свою теорию понимания языковых выражений, Брэндом опирается прежде всего на идеи «позднего» Витгенштейна, согласно которому значение языковых выражений можно установить с учетом их использования в различных языковых играх[83]. Положение о том, что языковая практика состоит их языковых игр, правила которых определяют, какие ходы разрешены для отдельных речевых актов в пределах данной игры и какие нет, а также то, как на них следует реагировать, является ключевым в его концепции. Источник значения он видит в речевом действии, функционирующем в рамках нормативно организованных социальных институтов.
Анализ Брэндома сфокусирован на одном виде речевых действий, а именно на утверждениях. Следуя за Вилфредом Селларсом, согласно которому при установлении значения выражения важны не отношения репрезентации между языком и миром, а инференциальные отношения между языковыми единицами, он придает «игре выдвижения и требования оснований» решающее значение для понимания значения языкового выражения. Используя идеи Селларса, он переосмысляет витгенштейновское понятие о языковой игре. Сущность языковой игры он видит в выдвижении оснований для собственных речевых действий и требования их от других. При этом он считает, что языковая игра представляет собой социальный институт, который в известной степени «навязывается» ее участникам, т. е. никто не может не участвовать в ней.
Логика языковой игры предполагает, что для утверждений, во-первых, можно потребовать оснований, а во-вторых, что выдвинутые утверждения сами могут выступать в качестве оснований для последующих утверждений. Утверждения состоят в «сильных» инференциальных отношениях друг с другом, если из утверждения р следует утверждение q. В данном случае говорят о строгом обосновании в силу «настоятельных оснований». Утверждения состоят в «слабых инференциальных» отношениях, когда из полномочия и обоснованности р следует полномочие q. В этом случае говорят о слабом обосновании посредством «добрых» (приемлемых) оснований. И, наконец, утверждения несовместимы, если утверждение р исключает полномочность или обоснованность q.
В соответствие с вышеизложенным, язык предстает как социальная практика обоснования и оправдания высказываний, минимальным элементом которой является отдельное речевое действие. Каждое из речевых действий основывается на следующих нормативных допущениях:
a) Обязательность (commitment): необходимость акцептировать некоторые другие высказывания, следующие из сделанного утверждения. Например, если признать, что Москва находится к юго-востоку от Петербурга, то отсюда следует, что Петербург находится к северо-западу от Москвы. Связь между высказываниями в данном случае носит принципиально дедуктивный характер.
b) Полномочность (entitlement): Высказывая некоторое предложение, говорящий дает возможность или позволяет слушающему реагировать на него определенным образом. Например, из высказывания «этот предмет мебели — стол», слушатель имеет право сделать вывод о том, что существуют другие виды мебели. Связь между суждениями в данном случае имеет принципиально индуктивный характер.
c) Полномочность исключения (precluded entitlement): На основании некоторого суждения слушающий имеет право исключить другие опции. Например, истинное предложение «эта роза красная» исключает возможность утверждать, что она желтая. Связь между суждениями имеет в данном случае характер отрицания.
Согласно Брэндому, игра требования и выдвижения оснований предполагает, что в ней существует нечто подобное импилицитно ведущемуся подсчету очков. Такой мнимый счет служит, с одной стороны, для определения того, какие последующие шаги возможны в пределах данной игры, а, с другой, для модификации игры. Элементами такого счета являются принятие утверждений и право (уполномоченность) на утверждения. При этом счет открыт для каждого «игрока». Если говорящий делает ход в игре, то его счет, т. е. количество принятых им утверждений и, соответственно, его право на определенные последующие утверждения, изменяется. Новое состояние счета определяет, какие дальнейшие шаги говорящий имеет право предпринять и какие нет. Например, принятие утверждения, что «это медь», обязывает говорящего принять утверждение, что это вещество плавится при температуре 1083,4 градусов по Цельсию.
Другими словами, вследствие того, что говорящий делает или принимает некоторое утверждение, он не может быть полностью свободным в своих последующих речевых актах, а обязан вести себя в соответствии с уже сказанным. Наложение таких обязательств на игрока подразумевает, что его поведение будет некорректным, если он в дальнейшем не будет придерживаться высказанного суждения или будет оспаривать данное суждение, если его выскажет другой участник игры. Кроме того, высказывая определенное предложение, говорящий определяет круг дальнейших потенциальных высказываний, представляющих собой логические следствия из уже сделанных высказываний. Таким образом ограничивается область возможных высказываний для данного говорящего. Высказывание некоторого утверждения может также вести к потере права на высказывание некоторых дальнейших утверждений. Например, если некто утверждает, что данное вещество медь, то он теряет право на утверждение, что данное вещество при нормальных условиях представляет собой жидкость.
Высказанное утверждение имеет значение не только для говорящего, но и влияет на полномочия слушателя. Если говорящий S высказывает некоторое утверждение для слушателя Н, то следствием из этого может быть то, что Н со своей стороны имеет право повторить данное высказывание в новой ситуации, для нового слушателя и в случае необходимости оправдать данное утверждение сослаться на первого говорящего S.
Кроме того, между правом на утверждения существуют систематические отношения следования, аналогичные тем, какие существуют для принятия утверждений. Так, утверждение, что данное вещество есть медь, дает право на утверждение, что данное вещество проводит электрический ток. Причем тот, кто взял на себя ответственность за определенное утверждение, берет на себя не только обязательство за дальнейшие высказывания, но и обязательство предложить подходящее обоснование для данного утверждения, обосновывающее право на него, в случае, если такое обоснование потребуется.
Из вышесказанного следует, что понимание смысла утверждаемого высказывания зависит от состояния нормативного «счета» говорящего, т. е. от распределения обязательств по отношению к другим высказываниям и прав на высказывания, зависящих от высказанного утверждения. Это означает, что каждый компетентный участник языковой игры постоянно ведет как свой собственный имплицитный счет по обязательствам и правам, связанным друг с другом причинно-следственными отношениями, так и счет для других участников. Осваивая языковую игру благодаря таким практикам ведения счета, говорящий проходит процесс социализации.
Понимание языка, согласно данной теории, состоит в том, чтобы быть в состоянии вести такой нормативный счет, реагируя на высказывания. Говорящий понял высказывание тогда, когда он может указать на обязательства и права, следующие из данного высказывания.
Задача, которую Брэндом поставил перед собой, не исчерпывается, однако, реконструкцией структуры процесса понимания утверждений. Помимо этого она претендует на объяснение того, каким образом высказывания становятся носителями значения. Его теория понимания предстает одновременно как теория конституирования смысла утверждающих высказываний. Основная идея здесь состоит в применении практики ведения дискурсивного счета для определения смысла высказываний. Брэндом вводит три принципа, объясняющие, каким образом это можно сделать. Во-первых, пропозициональное содержание есть не что иное, как та специфическая роль, которую носитель этого содержания играет внутри поля инференциальных (причинно-следственных) отношений. Во-вторых, инференциальные отношения подлежат анализу, основывающемуся на анализе систематических отношений между обязательствами и правами в языковой игре. В-третьих, семантика высказываний определяется в ходе социальной практики благодаря тому, что участники этой практики воспринимают их как носителей некоторого содержания. Согласно этим принципам, пропозициональное содержание ассерторического предложения идентифицируется на основании его роли в языковой игре, а его роль конкретизируется в динамическом процессе принятия обязательств и предъявления прав по отношению к утверждениям. Другими словами, значение утверждения устанавливается на основании его роли в языковой игре; оно определяется на основании его взаимодействия с другими утверждениями, которые либо вытекают из данного, либо позволяют ввести его. Механизм выведения следствий есть элемент социальной практики и именно как вид социального взаимодействия он служит для определения значения понятий и высказываний.
Вышесказанное составляет ядро нормативной прагматики Брэндома[84], в которой практика понимания выражений связана с практикой конституирования их значения. Как справедливо заметил Себастьян Кнель, существенным для данной концепции является то, что «наше понимание направлено не на некую независимую от него институциализи-рованную нормативную структуру, определяющую смысл, но оно есть орган имплицитной институциализации этой структуры» (op. cit.: 22).
Итак, согласно Брэндому, значение выражения вытекает из логических отношений, в которых оно находится по отношению к другим выражениям. Значение выражения всегда имеет нормативный аспект, т. е. его значимость нуждается в обосновании в рамках дискурсивной практики, состоящей в выдвижении и принятии оснований и в предъявлении прав. Отсюда следует, что отдельные высказывания, как правило, не имеют значения, напротив, их значение раскрывается лишь по отношению к другим высказываниям. Брэндом убежден в том, что понятия принципиально вычленяются благодаря инференции. Понимать их на практике означает разбираться в правильности или в несовместимости инференций, в которые эти понятия включены. Классификация может быть названа понятийной, если она организована как система инференций.
Обратим внимание на то, что в модели Брэндома ведение счета участниками языковой игры дифференцировано с учетом социальной перспективы. Дело в том, что инференциальные следствия некоего утверждения часто зависят от сопровождающих его дополнительных утверждений, которые в каждом конкретном случае могут выступать лишь как вспомогательные предпосылки понимания. Так, тот, кто утверждает, что Марк Аврелий был императором-интеллектуалом, не обязан принимать утверждение о том, что автор «Размышлений» был императором-интеллектуалом, если он не знает, что автором этого произведения был Марк Аврелий. Понимание сути дела в данном случае зависит от общего образовательного уровня участника игры и носит лишь частичный характер.
Не только говорящий, но и слушающий обязан принимать те дополнительные утверждения, которые определяют следствия из утверждений говорящего. Так, если слушающий знает, что Марк Аврелий был последователем Антония Пия, то он также знает, что из признания говорящим того, что Марк Аврелий был императором-интеллектуалом, имплицитно следует, что он должен признать, что последователь Антония Пия был императором-интеллектуалом. Понимать высказывание значит не только знать, какие следствия вытекают из него в социально нормированном горизонте утверждений говорящего, но значит также знать, какие следствия вытекают из него в контексте собственных утверждений слушающего. Именно в этом смысле следует понимать идею Брэндома о том, что ведение дискурсивного счета участниками зависит от их социального статуса. Ведение счета отражает инференциальный потенциал горизонта возможных утверждений как из перспективы говорящего, так и из перспективы слушающего, которые могут не совпадать.
Дополнения к герменевтической теории
Какое значение все вышесказанное имеет к герменевтике? Прежде всего, Брэндом уточняет понятие «интерпретация». Он выделяет две возможные формы интерпретации высказываний — интерпретацию de dicto и de re. Этой теме посвящена последняя часть его главного труда «Making it Explicit». Обозначения de dicto и de re (лат. «о сказанном» и «о вещи“) используются в современной логике и философии языка для демонстрации различия в значении интенсиональных операторов и модальных понятий «возможно» и «необходимо». В случае модальности de dicto необходимость является результатом того, каким образом описывается определенная вещь, в случае модальности de re она результируется из самой вещи.
Кроме того, согласно Брэндому, следует различать два типа убеждений: убеждения, которых некто сознательно придерживается, и убеждения, которых некто придерживается, не отдавая себе в этом отчета. Так, может случиться, что автор текста в действительности налагает на себя гораздо больше аргументативных обязательств, чем он сам думает и признает, и это обстоятельство используется интерпретатором. Такую ситуацию Брэндом интерпретирует как «слияние горизонтов». Модель «слияния горизонтов» он рассматривает для случая, когда высказывание имеет «репрезентативную направленность» (8 гл. в работе «Making it Explicit“).
Репрезентативная направленность свойственна de-ге-интерпретациям, имеющим форму «S говорит о р, что р есть F». Предлог «о» артикулирует репрезентативное отношение, существующее между высказыванием о вещи и самой вещью, о которой идет речь. Одно из возможных прочтений б/е-ге-интерпретаций предполагает, что они эксплицируют следствие, которое следует из данного высказывания из перспективы интерпретатора. В данном случае б/е-ге-интерпретация основана на механизме идентификации высказываний. Поясним, о чем здесь идет речь: например, допустим, что S утверждает, что Марк Аврелий был императором-интеллектуалом. Интерпретатор, который знает, что Марк Аврелий был последователем Антониуса Пия, может модифицировать утверждение говорящего таким образом, что он приходит к следующему выводу: «S сказал о последователе Антониуса Пия, что он был императором-интеллектуалом». Интерпретатор приписывает здесь некое утверждение говорящему на основании известных ему дополнительных высказываний. Интерпретация de-re осуществляется в данном случае из перспективы интерпретатора, причем сам говорящий может быть с ней не согласен. Такое развитие инференциального потенциала в виде приписывания говорящему утверждения на основании дополнительного контекста утверждений интерпретатора Брэндом характеризует как дискурсивное сплавление горизонтов. Сущность процедуры «сплавления» заключается в установлении инференциальной и тем самым дискурсивной связи между различными горизонтами говорящего и слушающего. Отметим, что «сплавление горизонтов» здесь навязано говорящему. Это возможно на основании экспликации некоторого следствия, вытекающего при de-ге-интерпретации высказывания в дискурсивном контексте интерпретатора.
Брэндом использует свою теорию инференциальной семантики для модернизации герменевтики Гадамера. Этому посвящена первая часть его работы «Tales of the Mighty Dead».
Он разделяет основополагающее убеждение Гадамера о том, что значимость и истина высказываний не зависит от формы репрезентации. Однако, если Гадамер делает различие между понятиями «объективность» и «предметность» в отношении языка, то для Брэндома значимость и истина высказываний определяются исключительно на основе совокупности утверждений и их импликаций в процессе их употребления. Для представления этих отношений ему и требуется инференциальная, т. е. основанная на причинно-следственных связях, семантика.
Брэндом считает, что аналитическая теория значения и герменевтика образца Гадамера пытаются решить общую задачу, а именно они обе нацелены на прояснение того, как происходит понимание языка. Он обозначает путь аналитической теории значения как «атомистическую», «bottom-up» рекурсивную стратегию, в то время как стратегию герменевтики он интерпретирует как «холистическую», «top-down» стратегию. Ведущий принцип аналитической теории значения он характеризует как семантическую «композициональность», а герменевтики — как контекстуальность.
Свою задачу Брэндом видит в объединении этих двух стратегий. Он спрашивает о том, что герменевтика может дать аналитической теории значения. Говоря о герменевтике, он имеет в виду теорию Гадамера, которая выступает для него в качестве образца герменевтического мышления, а основные положения которой он обобщает как сумму «герменевтических общих правил» („hermeneutische Plätitüden“). К таким «правилам» он относит базовые понятия современной герменевтики, такие как «разговор», «предпонимание», «контекстуальность», «плюрализм во мнениях», «вариативность семантических контекстов» и «бесконечность интерпретации». Он пытается переосмыслить эти понятия и продемонстрировать их продуктивность для аналитической теории значения. При этом он старается продвигаться по среднему пути между двумя экстремумами, к которым он относит свойственное аналитической философии «нахождение значения» и свойственное герменевтике «придание значения». Основной вопрос состоит для него в том, какие семантические ограничения следует соблюдать при интерпретации исторических текстов.
Брэндом выделяет два исторических типа герменевтики, кладя в основу своей классификации убеждения, которые может иметь говорящий или автор текста: это интеллектуальная историография de dicto и интерпретация текстов de re. История идей de dicto реконструирует только те убеждения, которые признает автор интерпретируемого текста, и только те значения, которые сам автор имел в виду. В отличие от нее, интерпретация de re реконструирует также и те убеждения, которые автор мог бы и не признать в качестве своих убеждений, и те значения, которые он сам не имел в виду. При этом Брэндом опирается на отстаиваемое им положение, что мы можем иметь убеждения, о которых мы сами не знаем. С учетом его можно допустить, что в некотором тексте уже имплицитно заключены понятия, которые лишь позже будут эскплицитно артикулированы и терминологизированы.
Например, некое понятие может быть элементом логического измерения некоторого сложного аргумента, системы убеждений или теории задолго до того, как автор этого аргумента, этого убеждения или этой теории располагал вокабуляром для того, чтобы выразить это понятие в терминах и тем самым эксплицировать его. Если исключить возможность интерпретации de re и принцип скрытых импликаций, то следует признать, что о концептуальных инновациях можно говорить только в тех случаях, когда они непосредственно вводятся автором при помощи терминов. Роль интерпретации de re заключается, следовательно, в выявлении герменевтической «латентности» текста, т. е. скрытых в нем смыслов.
Рассмотрим теперь, что представляет собой спецификация содержания de dicto. Интерпретируемый текст играет в данном случае роль и предпосылки и вывода при интерпретации. Только он определяет, какие следствия могут из него вытекать и какие нет. Если же возникают трудности с его интерпретацией, то в качестве вспомогательного средства разрешено привлекать контекст. В качестве привилегированных контекстов при интерпретации de dicto Брэндом рассматривает другие утверждения того же автора. Парадигмой такой интерпретации является парафраза (вместо цитирования). Смысл парафразирования состоит в том, чтобы использовать по возможности те же самые выражения, которые использовал или мог бы использовать сам автор. Наряду с парафразой интерпретация de dicto включает в себя выведение следствий из сделанных автором высказываний. Например, Брэндом полагает, что если некто считает Канта великим философом и утверждает, что Кант ценил Гамана, то справедливо заключить, что, согласно этому автору, великий философ ценил Гамана[85].
Проблемы при приписывании значений высказываниям на основании имплицитных инференций возникают, например, когда интерпретируемый автор в более поздних текстах высказал утверждение, противоречащее приписываемому ему интерпретатором утверждению. Тогда возникает вопрос о том, какое из высказываний является верным. Кроме того, проблематичным оказывается определение границ контекста, используемого при интерпретации высказываний. Допускается ли использовать только один единственный текст или следует принимать в расчет все творчество данного автора? Гипотеза Брэндома состоит в том, в качестве контекста для данного высказывания могут быть привлечены тексты, которые либо связаны с условиями создания данного текста либо специфицируют его. При этом желательно, чтобы выбранный контекст мог бы быть признан самим автором. Другими словами, различия во взглядах интерпретатора и автора должны быть минимальными. Таковы предлагаемые Брэндомом правила для истории идей или для истории философии de dicto. При этом работает правило, что чем начитаннее интерпретатор и чем лучше он знаком с корпусом текстов как интерпретируемого автора, так и других современных ему авторов, тем точнее будет его интерпретация. Таким образом, интерпретация de dicto представляется Брэндому настоящим вызовом для интерпретатора и требует от него огромного труда и огромного объема соответствующих знаний.
Как уже говорилось, помимо контекста de dicto при интерпретации текстов может использоваться и контекст de re. В этом случае выбор контекста, в рамках которого интерпретируется текст, может быть произвольным, а критерии для выбора контекста гибкие. Решающей оказывается в данном случае цель интерпретации, которая состоит в реконструкции того, что автор «думает на самом деле» и какие «реальные» последствия вытекают из сказанного им. При этом проводят различие между двумя контекстами: между тем, который сам автор имел в виду, и между тем, который является производным из его утверждений. Так, если S полагает, что изобретатель лампочки накаливания не жил в Филадельфии, и думает, что Бен Франклин изобрел лампочку накаливания, то разрешается приписать ему убеждение в том, что Бен Франклин не жил в Филадельфии (независимо от того, осознавал ли сам автор это или нет). В данном случае следует, однако, соблюдать требование о том, чтобы при интерпретации не изменялось истинностное значение авторского утверждения.
Отметим, что высказывание автора должно оставаться тем же самым, независимо от того, идет ли речь об интерпретации de dicto или de re. Утверждение о том, что изобретатель лампочки накаливания не жил в Филадельфии, и о том, что Бен Франклин не жил в Филадельфии, согласно Брэндому, это одно и тоже утверждение. Однако в первом случае интерпретация соответствует тому, что думал сам интерпретируемый автор, а в последнем высказывание автора интерпретируется в свете определенных фактов. Во втором случае важно выявить, что действительно следует из некоторого высказывания автора, рассмотренного в свете определенных фактов из перспективы интерпретатора („from the facts as she takes them to be“). Таким образом, одно и то же содержание интерпретируется с двух совершенно разных позиций.
При этом интерпретация de re так же правомочна, как и интерпретация de dicto. Различие в интерпретации вытекает из того, какой контекст, определяющий следствия из данного утверждения, взят за исходный пункт. При интерпретации de re используется контекст, который интерпретатор считает истинным. Интерпретатор стремится объяснить, что действительно следует из высказанного автором утверждения, какие действительные возражения могут для него существовать, каковы истинные убеждения автора, независимо от того, высказал ли он их эксплицитно или нет. Интерпретация de re прибегает к дополнительным фактам, наряду с зафиксированными текстуально убеждениями автора. Она требует умения экстрагировать следствия, оценивать свидетельства и дифференцировать контексты. Например, именно благодаря такой форме интерпретации, как подчеркивает Брэндом, Кант был переоткрыт Питером Строссоном и Джоном Беннетом для аналитической философии. Можно добавить, что философия в целом развивается по пути интерпретации de re. Заметим, что обе формы интерпретации, о которых говорит Брэндом, не были изобретены им. Уже в средневековой герменевтике различали буквальную интерпретацию текста (sensus litteralis) и интерпретацию с позиций определения исторического смысла текста (sensus historiens).
Помимо интерпретаций de dicto и de re, Брэндом выделяет интерпретацию de traditione. Эта форму интерпретации он считает разновидностью истолкования de re. Она заключается в том, что текст рассматривается как репрезентант определенной традиции, что позволяет приписать ему характерные для этой традиции инференциальные следствия. В данном случае интерпретатор вступает в диалог не с отдельным текстом, а с целой традицией. Умение вести такой диалог основывается на том, что предпосылки для интерпретации принимаются на основании соответствующих источников, а следствия выявляются путем анализа как предпосылок автора, так и предпосылок, свойственных данной традиции. Таким образом, интерпретатору противостоит не только текст, но и исторический контекст.
Разумеется, что каждая из форм интерпретации накладывает свои ограничения на процесс интерпретации. После того, как форма интерпретации выбрана, интерпретатор больше не обладает свободой изменять игровое пространство и должен придерживаться правил выбранного стиля интерпретации. Тем самым он определяет для себя характер и направление интерпретации. В выборе формы интерпретации интерпретатор, однако, свободен, и его выбор определяется либо прагматическими либо научными интересами.
Значение инференциальной семантики Брэндома для герменевтики можно видеть, прежде всего, в том, что она демонстрирует, что выбор контекста интерпретации эквивалентен выбору перспективы. Инференциальное значение текста зависит от инференциальных предпосылок, составляющих контекст интерпретации. Интерпретативный плюрализм, который утверждает герменевтика Гадамера, получает свое обоснование в виде концептуального перспективизма. Принципиальная незавершенность интерпретации, о которой говорит Гадамер, предстает в новом свете благодаря предложенному Брэндомом инференциальному подходу к конституированию значения.
Границы эпистемологической ответственности: о концепции Джона /\Лак-Доуэлла
Данная глава посвящена концепции американского философа Джона Мак-Доуэлла, которая, несмотря на то, что она возникла в рамках аналитической философии, тем не менее, проявляет черты, свойственные герменевтическому стилю мышления. На это уже обратили внимание другие авторы[86]. Возможность герменевтического подхода к анализу данной концепции заложена уже в том, что сам автор называет свою концепцию «платонизированным натурализмом». Такое определение указывает на первичность мира смысла по отношению к природе, и, следовательно, на то, что познание природы есть своего рода интерпретация.
В рамках своей теории Мак-Доуэлл пытается решить классическую проблему теории познания о взаимодействии мира и духа. Предлагаемое им решение состоит в том, чтобы рассматривать структуру рациональности homo sapiens в качестве генуинной автономной и нередуцируемой структуры sui generis. Взяв свойственную animal rationale структуру познавательных способностей за Apriori, он пытается объяснить возможность познания мира и составляющих его явлений. То, что Мак-Доуэлл встает на позиции трансцендентальной философии при решении вопроса о возможности познания мира, является еще одним фактором, позволяющим говорить о герменевтическом подходе к анализу процесса познания. Понятие «герменевтика» используется в данном случае в широком смысле слова как наука о понимании нашего понимания мира.
Кризис в теории познания
Рассмотрим сначала, что побудило Мак-Доуэлла предложить новую постановку данной проблемы, объединяющую в себе подход к объяснению познания, свойственный аналитической философии, с одной стороны, и подход так называемой «континентальной» философии, с другой. Тупиковая ситуация в объяснении познания мира, в котором оказалась современная аналитическая философия, была описана Уилфредом Селларсом и Дональдом Дэвидсоном. Селларс указал на кризис эмпиризма, проявляющийся в наивности последнего: в вере «наивного эмпиризма» в «миф о данном»[87]. Сущность веры в «миф о данном» заключается в том, что в качестве последней инстанции, обосновывающей представления о мире, берутся нейтральные, самодостоверные чувственные данные. Процесс обоснования суждений заканчивается здесь простым обрывом цепи рассуждений и указанием на данные опыта. В противоположность Селларсу, Дэвидсон увидел слабость эмпиризма в том, что он с необходимостью ведет к утверждению дуализма понятийной формы и чувственного содержания. Этот дуализм, этаблированный в аналитической философии Уиллардом Куайном, Дэвидсон назвал «третьей догмой эмпиризма»[88]. Отвергнув на этом основании эмпиризм как познавательную стратегию, Дэвидсон предложил исходить из допущения о том, что ничто не может служить основанием для мнения, что само не является мнением. Тем самым он исключил апелляцию к чувственному опыту как возможный аргумент в объяснении знания о мире. Его концепция познания реальности принимает форму теории когерентности.
Сложившаяся в эмпирической теории познания ситуация состоит в следующем: либо признать, что вещи таковы, какими мы их воспринимаем, а причинность является основанием для такого «отражающего» мир восприятия. Либо необходимо признать, что мы ничего не можем сказать о внешнем мире, так как мы располагаем единственно хаосом чувственных данных, упорядочиваемых мышлением в соответствии с его собственными законами.
Эти крайние позиции Мак-Доуэлл обозначает как «наивный» и «рафинированный» эмпиризм. Для первого характерен «дуализм схемы и данного», а для второго «дуализм схемы и содержания». Обе эти позиции представляются для него неприемлемыми. Мак-Доуэлл стремится проложить «третий путь», заключающийся в том, чтобы, с одной стороны, избежать «натуралистической ошибки», т. е. казуального выведения суждений из чувственных данных, свойственного «мифу о данном». С другой стороны, он хочет предотвратить, по его собственным словам, «беспрепятственное вращение в безвоздушном пространстве», свойственное теории когерентности, заключающей реальность «в скобки». Его концепция носит терапевтический характер (в витгенштейновском смысле этого термина) и нацелена против обеих экстремальных позиций в объяснении нашего познания мира, выработанных в рамках аналитической философии. Его цель — сохранить опыт в качестве «трибунала познания», т. е. в качестве основания для суждений о мире. Этим, по сути, исчерпывается его программа, которую он охарактеризовал как «минимальный эмпиризм».
Опыт как «трибунал познания»
Что конкретно данная программа предполагает? Идея опыта как «трибунала познания», сформулированная в терминах аналитической философии, принадлежит Куайну. В соответствии с ней, опыт должен служить оправданием для наших высказываний о мире. Мак-Доуэлл заимствует эту идею и предлагает интерпретировать «опыт» как то, что можно включить в связь обоснования и оправдания познавательных суждений. Реализация этой программы предполагает переопределения понятия «опыт» с тем, чтобы он, оставаясь элементом функционирующего на основе причинности «пространства природы», не был бы исключен из рационального «пространства оснований».
Исключение «опыта» из сферы логического Мак-Доуэлл связывает с кантовским дуализмом, утверждающим активность мышления и рецептивность чувственности. Несмотря на то, что для Канта «опыт» возникает в результате совместной деятельности созерцания и мышления — как известно, согласно ему «созерцания без понятий пусты, а понятия без созерцаний слепы» — понятие о предмете возникает у него за счет оформления категориями рассудка входящей в сознание чувственной информации. Следствием такого дуализма является то, что мы имеем «явление» и «вещь в себе». Для того, чтобы, продолжая традиции Канта в его интерпретации опыта, избежать созданной им тупиковой ситуации, когда опыт ничего не говорит о мире самом по себе, Мак-Доуэлл решает переосмыслить понятие «созерцания». Основная его поправка к Канту гласит, что любое чувственное созерцание всегда имеет понятийный характер.
Данный ход основывается на следующей логике: мы можем отвечать только за те понятия, которые мы сами сформировали. «Эмпирическое» понятие формируется под воздействием внешнего мира, т. е. оно есть результат опыта. Тогда, если мы должны нести ответственность за наши «эмпирические» понятия, то обосновывающие их восприятия сами должны иметь понятийный характер.
Представление об активности чувственности имеет давнюю традицию, корни которой уходят к неогумбольдианцам (Карл Фосслер, Карл Бюлер, Александр Потебня), к представителям философии жизни (Вильгельм Дильтей, Георг Миш) и неокантианства (Герман Коген, Пауль Наторп, Эрнст Кассирер). Его разрабатывали с целью восстановления разрушенного Кантом единства мира. Мак-Доуэлл наталкивается, однако, на существенную сложность, вытекающую из постулата об активности чувственности. Она состоит в следующем: опыт должен, с одной стороны, оставаться рецептивным, для того, чтобы человек воспринимал вещи такими, какие они есть, а с другой стороны, опыт должен иметь понятийный характер. Данную сложность можно переформулировать в типичных терминах рационалистической метафизики: как можно совместить в теории познания принципы свободы и принципы природы. Именно так ставит проблему Мак-Доуэлл.
Предлагаемый им выход из проблематичной ситуации состоит в различении «пассивных» и «активных» понятий. Под «активными» он понимает суждения, т. е. предикативный синтез или мышление посредством понятий. «Пассивные» понятия производят «значение», т. е. обеспечивают предметный синтез путем установления отношений. Помимо восприятия они также обеспечивают различение и запоминание. Пассивное понятие не элемент суждения, но посредством него схватываются отношения к тому, что находится по внешнюю сторону границы, охватывающей область понятийного.
Утверждая, что чувственность носит деятельный характер, Мак-Доуэлл имеет в виду синтез значений посредством «пассивных» понятий или, другими словами, пассивную деятельность понятийных способностей в применении к чувственности. Например, среди «понятийных» предпосылок для образования эмпирического понятия «красный» он называет понятие видимой поверхности предметов и понятие соразмерных условий для различения цвета вещи при оптическом восприятии. Эмпирическое понятие о цвете выступает как элемент в целом пучке «пассивных» понятий, которые можно назвать конституирующими. Причем «конституирующие» или «пассивные» понятийные способности человека всегда актуализированы при любом чувственном восприятии.
С учетом этого, последним элементом в цепи обоснования познания, будет находиться если не «содержание мышления», то, по крайней мере, «мыслимое содержание», чего требует «рафинированный эмпиризм», а не голые, логически неоформленные чувственные данные, что делает эпистемологически несостоятельным «миф о данном» «наивного эмпиризма». Опыт сохраняет, таким образом, рецептивный характер и тем самым предстает как природный феномен, но одновременно он может быть включен в «пространство оснований», поскольку даже непосредственные опытные суждения, например, о цвете предметов, оказываются включены в систему значений.
Согласно Мак-Доуэллу, в опыте вещи предстают такими, какие они есть, воздействуя на наши органы чувств, и одновременно опытные суждения могут стать элементами инференциального логического рассуждения, нацеленного на оправдание наших убеждений или действий. Опыт, в котором понятийная деятельность представлена как пассивная, ограничивает конструктивную свободу человека и соответствует требованию соответствия действительности «мифа о данном». То обстоятельство, что опыт имеет пассивный характер и представляет собой случай деятельной чувственности, должно гарантировать контроль со стороны внешнего мира, но одновременно этот контроль происходит не со стороны внешней по отношению к мышлению инстанции, а со стороны нечто мыслимого. Мак-Доуэлл утверждает, что в опыте мы познаем — посредством воздействия мира на наши чувства — элементы реальности, которая более не находится вне сферы понятийного содержания.
Он считает, с одной стороны, что приобретая опыт, человек открыт по отношению к очевидным фактам, к фактам, которые существуют независимо и влияют на его чувственность, а, с другой, что содержания опыта — это мыслимые содержания, которые стоят в цепи оправдания суждений на самом внешнем крае. Совместить эти два положения можно, если предположить, что понятийные способности, выполняющие в опыте пассивную роль, относятся к сети способностей активного мышления, «к сети, которая направляет реакции, направленные рациональным образом на понимание, реакции, касающиеся влияния мира на чувственность»[89]. Мак-Доуэлл включает чувственность в пространство оснований, ибо хотя опыт пассивен, но он вводит в игру способности, которые относятся к спонтанности мышления. В итоге он имеет дело с понятийно структурированной рецептивностью. Он определяет опыт как «деятельную рецептивность», в которой спонтанность мышления и восприимчивость чувственности связаны друг с другом. Согласно ему, созерцание, своего рода input из опыта, следует понимать не как результат простого воздействия непонятийного данного, а как состояние, имеющее понятийное содержание. С другой стороны, опыт есть влияние мира на наши чувства, продукт чувственности, имеющий реальное содержание. Содержание опыта составляют понятия о так называемых вторичных качествах предметов (цвет, вкус, запах и т. д.).
Что выигрывает теория познания, дополненная концепцией Мак-Доуэла? Во-первых, вместо «чувственных данных» эмпиризма мы имеем «опыт» или «эмпирические понятия». Во-вторых, вместо кантовского тезиса о структурировании опыта априорными категориями рассудка мы имеем неокантианский тезис об активной чувственности.
Цель Мак-Доуэлла состоит в том, чтобы разработать рациональную теорию познания с минимальным эмпирическим содержанием. Рациональное отношение к миру в процессе познания он понимает как признание ответственности по отношению к нему. Положение об ответственности в процессе познания предполагает, наряду с прочим, ответственность за эмпирические понятия. Принятие на себя ответственности за понятийное строение мира подразумевает, однако, что человек — в определенной степени — все же конституирует мир. Тогда положение об ответственности за предложения опыта можно рассматривать как положение о герменевтической ответственности по отношению к миру. При этом, однако, возникает вопрос о том, насколько далеко простирается сфера герменевтической ответственности человека.
Можно ли вообще говорить об ответственности человека по отношению к эмпирическому миру, т. е. об ответственности за эмпирические понятия? Идет ли у Мак-Доуэлла речь о том, что индивидуум должен в каждом конкретном случае корректировать свои восприятия? Например, о том, что дальтоники должны использовать понятие «красный», даже если они не способны воспринимать красный цвет? Или же вопрос об ответственности носит трансцендентальный характер в том смысле, ответственны ли люди за то, что они приписывают определенным вещам предикат «красный»? Ответственна ли летучая мышь за то восприятие мира, которая она имеет на основе строения своего организма? Должен ли человек оправдывать то, что он создан так, а не иначе? Или же он должен принять этот факт и постараться понять, почему он в результате имеет определенный способ восприятия?
Как вообще может сочетаться положение об ответственности человека за эмпирические понятия с положением об опыте как трибунале познания? Как кажется, эмпирическое понятие может служить «трибуналом опыта» только тогда, когда человек не несет никакой ответственности за эмпирические понятия. То есть в том случае, когда у человека нет возможности образовать альтернативное эмпирическое понятие, когда эмпирическое понятие не зависит от мировоззрения. Мак-Доуэлл и сам признает, что «то, как опыт индивидуума репрезентирует вещи, находится вне нашего влияния» (там же, С 35). Он, однако, настаивает на том, что «от нас зависит, принимаем ли мы эту видимость или нет» (там же). Спрашивается, не спутаны ли в данном случае речь об эмпирическом понятии и о его нормативной интерпретации?
Соотношение элементов эмпиризма и рационализма в концепции Мак-Доуэлла явно характеризуется преобладанием последних. Он разрабатывает идею о понятийном характере опыта для того, чтобы даже непосредственные эмпирические понятия (цвет, запах) можно было бы рассматривать как «возможные элементы мировоззрения». Он полагает, что «если мы хотим избежать проклятия пустоты, то мы должны рассматривать созерцания как находящиеся в рациональных отношениях к тому, что мы должны думать, и не только в причинных отношениях к тому, что мы действительно думаем, в противном случае идея того, что мы нечто думаем, оказывается потерянной» (там же, С. 93).
Понятие «природа»
Кульминацией его программы, выявляющей ее герменевтический характер, можно считать его предложение переосмыслить понятие природы. Герменевтической или натуралистической теория познания предстает в зависимости от того, как она предлагает думать о природе: мыслит она природу на основании модели рациональности или на основании закона причинности. Другими словами, в качестве критерия можно использовать эмпирическое понятие: воспринимается оно как «значение», зависимое от мировоззрения, т. е. «для нас», или его воспринимают как «значение» в смысле Фреге, выступающее репрезентантом чувственно воспринимаемого предмета. Согласно Мак-Доуэллу, человек изначально помещен в рациональное «пространство оснований» и анализ природы должен основываться на этом положении. Тем самым он ставит под вопрос натуралистическое восприятие природы и открывает путь для герменевтического подхода к ее пониманию.
Первый шаг в этом направлении он видит в необходимости переосмысления представлений о природе человека. Мак-Доуэлл пишет: «Новое мышление требует другой концепции об актуализации нашей природы. Мы должны выводить восприимчивость к значению из операций наших естественных чувственных способностей, даже если мы настаиваем на том, что восприимчивость не следует понимать натуралистически, т. е. как попадающую в область законов природы» (там же, С. 102). То, к чему он стремится, это «натурализм, освобождающий место для значения» (там же, С. 103), который, в конечном счете — что признает сам Мак-Доуэлл — вообще перестает быть натурализмом.
Переосмысление природы человека состоит в том, что «пространство оснований» входит в «логическое пространство природы» как его часть. Другими словами, опыт, имеющий рациональную структуру, но остающийся в рамках рецептивности, рассматривается как то, что объединяет человека с природой. Мак-Доуэлл отказывается, в отличие от Селларса, идентифицировать разделение логических пространств с разделением природного и нормативного. «Нормативное» относится к «природе», поскольку способности к образованию понятий, относящиеся к логическому пространству оснований sui generis, проявляются не только в активных, сознательных процессах мышления, которые субъект может регулировать, но уже на уровне естественных, «пассивных синтезов» (говоря языком Гуссерля), которые протекают под воздействием внешнего мира на рецептивные способности субъекта. Мак-Доуэлл убежден в том, что спонтанное проявление способности к образованию понятий свойственно человеку как представителю мира природы. Рациональность человека представляет собой, таким образом, природный феномен sui generis. Тот факт, что содержание чувственного восприятия человека представляет собой понятийное содержание, не отчуждает человека ни от животных, ни от собственной природы как природного существа. Понятийную деятельность человека Мак-Доуэлл рассматривает как свойственный человеку «натурализм второй природы». «Натурализм второй природы» предполагает, что нормальный взрослый человек есть разумное существо. Разум присущ человеку как живому организму, а не является элементом таинственного сверхприродного царства, и определяет его естественное бытие.
Преимущество своей теории, называемой им «натурализированный платонизм», Мак-Доуэлл видит в том, что она, с одной стороны, противостоит «безудержному платонизму», с его идеей сверхприродной сущности разума, и, с другой стороны, «неприкрашенному натурализму», стремящемуся объяснить рациональность исключительно при помощи естественнонаучного вокабуляра и тем самым свести «пространство оснований» к природным процессам. В отличие от представителей традиционного натурализма в качестве структур, формирующих «вторую природу» человека, он признает не только физико-биологическую организацию человеческого организма, но и «образование». «Образование» он понимает в широком смысле как социализацию. Важную роль в процессе социализации он отводит языку. Можно говорить о гадамеровских мотивах в его концепции, проявляющихся в понимании языка как изначального воплощения всего осмысленного, как отражение усилий человека, направленных на понимание мира. Если для многих представителей аналитической философии, например, для Майкла Даммита язык выступает лишь средством коммуникации и носителем мышления, то для Мак-Доуэлла он служит источником традиции, сокровищницей аккумулированных в ходе времени знаний.
Влияние культивированного интерсубъективного разума на жизнь индивидуума Мак-Доуэлл описывает как «новое заколдовывание» природы (в противовес выдвинутой Максом Вебером идее о ее «расколдовывании», начиная с девятнадцатого века). «Новое заколдовывание» не означает возврата к догматическому платонизму, который воспринимает структуру пространства оснований, т. е. структуру, в которую помещены вещи, имеющие значение, как сверхприродную. Но оно предполагает, что природу нельзя идентифицировать только с областью действия природных законов. Напротив, природные способности человека (чувственные восприятия, рецептивность чувственности) есть часть его «второй природы» и зависят от нее.
Мак-Доуэлл призывает вернуться в идее Аристотеля о том, что нормальный взрослый человек есть рациональное природное существо, дополнив ее кантовской идеей о том, что рациональность формирует сферу свободы, т. е. сферу культуры. Он критикует современный натурализм за то, что последний «забывает вторую природу», следствием чего является попытка натурализировать рациональность человека. Основная идея Мак-Доуэлла заключается в утверждении «натурализма второй природы», что позволяет представить сферу свободы как элемент сферы природы.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что герменевтическая теория познания Мак-Доуэлла основывается на антропологической предпосылке. Суть последней выражается в необходимости признания природы человека, состоящей преимущественно из «второй природы», в качестве начального пункта рассуждений о возможности познания. При этом следует учитывать, что «вторая природа» обусловлена не только естественными особенностями строения человеческого организма, которыми он наделен от рождения, но и особенностями воспитания и образования. Деятельный субъект есть живая вещь со свойственной ей активно-пассивной телесной и духовной организацией. С одной стороны, он имеет тело, а с другой, субстанциально принадлежит социально обустроенному миру, в котором он накапливает опыт и действует.
Мак-Доуэлл отождествляет «натурализм второй природы» и «натурализированный платонизм». Это означает признание того, что человеческая жизнь, естественный способ бытия человека всегда оформлен благодаря значению. Причем уже опыт он основывает на суждении, поскольку, согласно ему, установление рациональных отношений между опытом и суждением возможно лишь при идентификации «пространства оснований» с «пространством понятий».
Второй шаг Мак-Доуэлла, позволяющий рассматривать его теорию познания как герменевтическую теорию, это его предложение мыслить всю природу в целом не как сферу, находящуюся вне пространства значений, а как принадлежащую к ней. В противном случае, как он считает, было бы невозможно объяснить, каким образом опыт способен схватывать не имеющие значения события из области законов природы. Таким образом, как сфера духа, так и сфера природы попадают в сферу действия понимания. Мак-Доуэлл универсализирует понятие «понимание» как основное познавательное отношение к миру: «понимание — способность, которую мы используем в отношении текстов — должно играть роль даже там, где речь идет о понимании голых процессов безо всякого значения» (там же, С. 124). Тем самым герменевтический подход становится исходным для рассуждений о мире.
Такая «трансформация» теории познания требует переопределить понятие «понятие». Если традиционный эмпиризм использует теорию обозначений, которая идентифицирует понятийное с предикативным, то «платонизированный эмпиризм» не может удовлетворяться идеей о том, что познание состоит в простом описании вещей и их свойств, будто бы существующих независимо от связи значений. Мак-Доуэлл пишет: «Если мы хотим идентифицировать область понятийного с областью мышления, то правильным переводом для «понятийный» было бы не слово «предикативный», а выражение «относящийся к области смысла» как у Фреге» (там же, С. 133). Как известно, понятие «смысл» у Фреге означает способ данности предмета. Предложение Мак-Доуэлла состоит, следовательно, в том, чтобы любое природное явление наделять значением. По сути, это аспект его программы повторяет основные черты программы Гадамера, который любому научному методу предпосылает донаучное понимание мира в пределах некой культуры.
В заключение, обратим внимание на то, относя теорию Мак-Доуэлла к герменевтической теории познания, следует учитывать то, что его обращение к так называемой «континентальной философии» было продиктовано целью спасти эмпиризм, от которого отказались, например, Дэвидсон и Селларс. В целом его теория сохраняет остаточный сциентизм и ориентацию на традиционную теорию научного познания.
Литература
Arndt, Andreas. Gefühl und Reflexion. Schleiermachers Stellung zur Transzendentalphilosophie im Kontext der zeitgenössischen Kritik an Kant und Fichte // Jaeschke, Walter (Hg.), Transzendentalphilosophie und Spekulation. Der Streit um die Gestalt einer Ersten Thilosophie (1799–1807). Hamburg. 1993:105–126.
Angehrn, Emil. Sinn und Nicht-Sinn. Das Verstehen des Menschen. Tübingen. 2010.
Barthes, Roland. S/Z, Frankfurt am Main. 1976.
Barthes, Roland. Das Reich der Zeichen, Frankfurt am Main. 1981.
Barthes, Roland. Einführung in die strukturale Analyse von Erzählungen. Frankfurt am Main. 1987.
Barthes, Roland. Das semiologische Abenteuer. Frankfurt am Main. 1988.
Bollnow, Otto Friedrich. Dilthey. Eine Einführung in seine Philosophie. Berlin. 1967.
Bloomfield, Feonard. Language. New York, Chicago, San Francisco, Toronto. 1961.
Bolten, Jürgen. Die Hermeneutische Spirale. Überlegungen zu einer integrativen Literaturtheorie!! Poetica 17 (1985), H.%.
Carnap, Rudolf. Meaning und Necessity. Chicago University Press. 1947.
Coplan, Amy, Goldie, Peter. Empathy: Philosophical and Psychological Perspectives. Oxford. 2011.
Dannhauer, Johann C. Idea Boni Interpretis Et Malitiosi Calumniatoris Quae Obscuritate Dispuisa, Verum Sensum à falso discernere in omnibus auctorum scriptis ac orationibus doc et, & plenè respondet ad quaestionem Unde scis hunc esse sensum non aliuml Glaser, Argentorati. 1630.
Davidson, Donald. On the Very Idea of a Conceptual Scheme// Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 47, 1973-74 (New York 1974): 5-20.
Davidson, Donald. Bedeutung, Wahrheit und Belege // Donald Davidson, Der Mythos des Subjektiven. Feipzig. 2000.
Davidson, Donald. Die Wahrheitstheorie der Bedeutung // Donald Davidson, Wahrheit und Interpretation. Frankfurt am Main. 2006.
Demmerling, Christoph. Implizit und Explizit // Merker, Barbara (Hg.), Verstehen nach Heidegger und Brandom. Hamburg. 2009: 61–78.
Derrida, Jacques. Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen // Derrida, Jacques. Die Schrift und die Differenz. Frankfurt am Main. 1972.
Dilthey, Wilhelm. Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens. Abhandlungen zur Grundlegung der Geisteswissenschaften. GW. Bd. V. Feipzig. 1924.
Dilthey, Wilhelm. Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. GW. VII. Leipzig und Berlin. 1927.
Dilthey, Wilhelm. Ausarbeitungen zum zweiten Band der Einleitung in die Geisteswissenschaften. GS. Bd. 19. Göttingen. 1982.
Deines, Stefan, Liptow, Jasper. Explizit-Machen explizit gemacht// Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 55 (2007) 59–78.
Günter Figal, Selbstverstehen in instabiler Freiheit. Die hermeneutische Position Martin Heideggers // Birus, Hendrik (Hg.). Hermeneutische Positionen. Göttingen. 1982: 89—119.
Foucault, Michel. Was ist ein Autor? // Kimmich, Dorothee, Renner, Rolf G., Stiegle Bernd (Hg.). Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart. Stuttgart 1996: 233–247.
Frank, Manfred. Die Grenzen der Beherrschbarkeit der Sprache // Forget, Philippe (Hg.). Text und Interpretation. München. 1984.
Frank, Manfred. Einleitung // Schleiermacher, Friedrich. Hermeneutik und Kritik. Frankfurt am Main. 1990.
Frege, Gottlob. Logische Untersuchungen. Göttingen. 1966.
Gadamer, Hans — Georg. Text und Interpretation // Forget, Philippe (Hg.). Text und Interpretation. München. 1984: 24–55.
Gadamer, Hans — Georg. Wahrheit und Methode. GW. Bd. I. Tübingen. 1986.
Gadamer, Hans — Georg. Vom Zirkel des Verstehens // Kindt, Tom, Koppe, Tilmann (Hg.). Moderne Interpretationstheorien. Göttingen. 2008. umbrecht, Hans Ulrich. Diesseits der Hermeneutik. Frankfurt am Main. 2004. Habermas, Jürgen. Philosophisch-politische Profile. Frankfurt am Main. 1987.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Phänomenologie des Geistes // Hegel, Werke. Bd. 3. Frankfurt am Main. 1970.
Hermeren, Göran. Interpretation: Typen und Kriterien // Kindt, Tom, Koppe, Tilmann (Hg.). Moderne Interpretationstheorien. Göttingen. 2008: 248–276.
Heidegger, Martin. Sein und Zeit. Tübingen. 2006.
Hirsch, Eric D. Validity in Interpretation. New Haven: Yale University Press. 1967. Hörmann, Hans. Meinen und Verstehen. Grundzüge einer psychologischen Semantik. Frankfurt am Main. 1976.
Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Hamburg. 1995.
Jung, Mathias. Hermeneutik zur Einführung. Hamburg. 2001.
Keller, Rudi. Zeichentheorie. Zu einer Theorie semiotischen Wissens. Tübingen, Basel. 1995.
Knell, Sebastian. Diskursive Kontoführung als Praxis des Verstehens // Merker, Barbara (Hg.). Verstehen nach Heidegger und Brandom. Hamburg. 2009: 17–26.
Lévi-Strauss, Claude. Strukturale Anthropologie. Frankfurt am Main. 1967.
Lyons, John. Semantik. Band I. München. 1980.
McDowell, John. Geist und Welt. Frankfurt am Main. 2001.
Mautner, Fritz, Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Berlin, Wien. 1982.
Millikan, Ruth G. Language, Thought and other Biological Categories. MIT Press. 1987.
Millikan, Ruth G. Die eingebettete Vernunft // Deutsche Zeitung für Philosophie 59 (2011)4.
Millikan, Ruth G. Die Vielfalt der Bedeutung. Frankfurt am Main. 2008.
Misch, Georg. Die Idee der Lebensphilosophie in der Theorie der Geisteswissenschaften ff Kant-Studien. 1926. 31. Band: 536–548 Nöth, Winfried. Handbuch der Semiotik. Stuttgart. 2000.
Olay, Csaba. Verstehen und Auslegung bei Heidegger // Merker, Barbara (Hg.). Verstehen nach Heidegger und Brandom. Hamburg. 2009: 47–61.
Paul, Hermann. Prinzipien der Sprachgeschichte. Tübingen. 1880.
Piepmeier, Rainer. Baruch de Spinoza: Vernunftanspruch und Hermeneutik ff Nassen, Ulrich (Hg.). Klassiker der Hermeneutik. Paderborn. 1982.
Plessner, Helmuth. Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie // Plessner, Helmuth. Gesammelte Schriften. IV. Frankfurt am Main. 1982.
Plessner, Helmuth. Die Deutung des mimischen Ausdrucks. Ein Beitrag zur Lehre vom Bewusstsein des anderen Ichs ff Plessner, Helmuth. Gesammelte Schriften. VII: Ausdruck und menschliche Natur. Frankfurt am Main. 1982.
Pöggeler, Otto. Heidegger und die hermeneutische Philosophie. Freiburg. 1983.
Posner, Roland, Robering, Klaus, Sebeok, Thomas Albert. Semiotik. München. 2003.
Putnam, Hilary. Die Bedeutung von «Bedeutung». Frankfurt am Main. 1975.
Quine, Willard. Wort und Gegenstand. Leipzig. 1980.
Ricoeur, Paul. Der Text als Modell: hermeneutisches Verstehen ff Gadamer, Hans — Georg, Boehm, Gottfried (Hg.). Seminar: Die Hermeneutik und die Wissenschaften. Frankfurt am Main. 1978:83-117.
Rickert, Heinrich. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. Tübingen. 1921.
Rolf, Eckhard. Metaphertheorien. Berlin, New York. 2005.
Schleiermacher, Friedrich. Hermeneutik // Schleiermacher, Friedrich. Hermeneutik und Kritik. Frankfurt am Main. 1990.
Sellars, Wilfrid. Empiricism and the Philosophy of Mind. Cambridge, MA. 1997. Steinmetz, Michael. Zwischen Kausalität und Intention. Die sprachlichen Bedeutungs konzeptionen von Charles L. Stevenson und H. Paul Grice. GRIN Verlag. 2007.
Stevenson, Charles Leslie. Ethics and Language. New Haven: Yale University Press. 1944. Johann Stöcklein, Bedeutungswandel der Wörter. Lindauer. 1898.
Szondi, Peter. Einführung in die literarische Hermeneutik. Frankfurt am Main. 1975. Tarsky, Alfred. Der Wahrheitsbegriff in der formalisierten Sprachen ff Berka, Karel,
Kreiser, Lothar (Hg.). Logik-Texte. Kommentierte Auswahl zur Geschichte der modernen Logik. Berlin. 1983: 445–546.
Tugendhat, Ernst. Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie. Frankfurt am Main. 1976.
Wellmer, Albrecht. Eine hermeneutische Anthropologie ff Deutsche Zeitschrift für Philosophie (59) 2011. Rezension auf: Emil Angehrn: Sinn und Nicht-Sinn. Das Verstehen des Menschen. Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2010.
Vattimo, Gianni, Jenseits der Interpretation. Die Bedeutung der Hermeneutik für die Philosophie. Frankfurt, New York. 1997.
Windelband, Wilhelm. Geschichte und Naturwissenschaft ff Windelband, Wilhelm.
Präludien. Bd. II. Tübingen. 1915.
Ziehen, Theodor. Lehrbuch der Logik: auf positivistischer Grundlage mit Berücksichtigung der Geschichte der Logik. Bonn. 1920.
Бахтин, M. Слово в романе ff Бахтин, M. Вопросы литературы и эстетики. Москва. 1975.
Бахтин, M. М. Из записок 1970–1071 г.г. ff Бахтин, M. М. Эстетика словесного творчества. Москва. 1979.
Витгенштейн, Л. Философские работы. Ч. 1–2. Москва. 1994.
Гадамер, X. — Г. Истина и метод. Москва. 1988.
Нагель, Т. Что все это значит"? Очень краткое введение в философию. Пер. с англ. А. Толстова. Москва. 2001.
Хайдеггер, М. Бытие и время. Москва. 1997.
Шпет, Г. Г. Внутренняя форма слова. Иваново. 1999.
Шпет, Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры.
Примечания
1
http:// plato.stanford.edu/ entries/hermeneutics/
(обратно)2
Johann Conrad Dannhauer, Idea Boni Interpretis Et Malitiosi Calumniatoris Quae Obscuritate Dispuisa, Verum Sensum à fatso discemere in omnibus auctorum scriptis ac orationibus doc et, & plenè respondet ad quaestionem Unde scis hunc esse sensum non alium? Glaser, Argentorati, 1630.
(обратно)3
Winfried Nöth, Handbuch der Semiotik. Stuttgart, 2000.
(обратно)4
Gianni Vattimo, Jenseits der Interpretation. Die Bedeutung der Hermeneutik für die Philosophie. Frankfurt, New York. 1997: 22.
(обратно)5
Об этом см. Roland Posner, Klaus Robering, Thomas Albert Sebeok, Semiotik: Ein Handbuch zu den Zeichentheoretischen Grundlagen. München. 2003: 2519.
(обратно)6
Rainer Piepmeier, Baruch de Spinoza: Vemunft an Spruch und Hermeneutik // Ulrich Nassen, Klassiker der Hermeneutik. Paderborn. 1982: 9—42. Здесь C. 9.
(обратно)7
Norbert W. Bolz, Friedrich D. E. Schleiermacher: Der Geist der Konversation und der Geist des Geldes // Ulrich Nassen (Hg.), Klassiker der Hermeneutik. Paderborn. 1982: 108–130. Здесь C. 110–111.
(обратно)8
Manfred Frank, Einleitung// Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik. Frankfurt am Main. 1990: 7–8.
(обратно)9
Ср. Andreas Arndt, Gefühl und Reflexion. Schleiermachers Stellung zur Transzendentalphilosophie im Kontext der zeitgenössischen Kritik an Kant und Fichte // Walter Jaeschke (Hg.), Transzendentalphilosophie und Spekulation. Der Streit um die Gestalt einer Ersten Philosophie (1799–1807). Hamburg. 1993:105–126.
(обратно)10
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes// Werke. Bd. 3. Frankfurt am Main. 1970: 24.
(обратно)11
Hans Ulrich Gumbrecht, Diesseits der Hermeneutik. Frankfurt am Main. 2004: 61.
(обратно)12
Wilhelm Dilthey. Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens. Abhandlungen zur Grundlegung der Geisteswissenschaften. GW. Bd. V. Leipzig. 1924:144.
(обратно)13
Wilhelm Windelband, Geschichte und Naturwissenschaft ff Wilhelm Windelband, Präludien. Bd. II. Tübingen. 1915: 136–160; Heinrich Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. Tübingen. 1921.
(обратно)14
Цитируется по: Frithjof Rodi, Erkenntnis des Erkannten. Zur Hermeneutik des 19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt am Main. 1990: 70.
(обратно)15
Hans — Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Tübingen. I960: 398.
(обратно)16
Hans — Georg Gadamer, Text und Interpretation // Philippe Forget (Hg.), Text und Interpretation. München. 1984: 24–55. Здесь C. 31.
(обратно)17
Roland Posner, Klaus Robering, Thomas Albert Sebeok, Semiotik: 2519.
(обратно)18
Manfred Frank, Die Grenzen der Beherrschbarkeit der Sprache // Philippe Forget (Hg.), Text und Interpretation. Munchen. 1984:183.
(обратно)19
М. Бахтин, Слово в романе // М. Бахтин, Вопросы литературы и эстетика. Москва. 1975.С. 76.
(обратно)20
М. М. Бахтин, Из записок 1970–1071 г.г. // М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. Москва. 1979. С. 359.
(обратно)21
Hans-Georg Gadamer, Text und Interpretation // Philippe Forget (Hg.), Text und Interpretation. München. 1984: 47.
(обратно)22
Х.-Г. Гадамер, Истина и метод. Москва. 1988. С. 396. Необходимо отметить, что указания страниц при ссылках на данную работу производится по русскому изданию. Однако, перевод часто не соответствует имеющемуся, а сделан автором данной книги.
(обратно)23
Сравни с мнением Рикера: Paul Ricoeur, Der Text als Modell: hermeneutisches Verstehen // Hans — Georg Gadamer, Gottfried Boehm (Hg.), Seminar: Die Hermeneutik und die Wissenschaften. Frankfurt am Main. 1978: 83—117. Здесь C. 109.
(обратно)24
Claude Lévi-Strauss, Strukturale Anthropologie. Frankfurt am Main. 1967: 233.
(обратно)25
Roland Barthes, Das semiologische Abenteuer. Frankfurt am Main. 1988:11.
(обратно)26
См., например, книгу: Amy Coplan, Peter Goldie, Empathy: Philosophical and Psychological Perspectives. Oxford. 2011.
(обратно)27
Цитируется по: Manfred Frank, Einleitung II Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik. 1990:14–15.
(обратно)28
Manfred Frank, Einleitung /'/ Friedrich Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik-, 10.
(обратно)29
Friedrich Schleiermacher, Hermeneutik// Friedrich Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik. Frankfurt am Main. 1990: 97.
(обратно)30
На это сходство также указывает Франк (там же, С. 42).
(обратно)31
М. Бахтин, Слово в романе. С. 95.
(обратно)32
Гадамер, Истина и метод. С. 448. Напомним еще раз, что указания страниц даны по имеющемуся переводу, но в некоторых случаях он исправлен мной и поэтому цитаты в моем тексте и в книге не совпадают.
(обратно)33
Hans-Georg Gadamer, Vom Zirkel des Verstehens // Tom Kindt, Tilmann Koppe (Hg.), Moderne Interpretationstheorien. Göttingen. 2008: 53–66.
(обратно)34
Jürgen Bolten, Die Hermeneutische Spirale. Überlegungen zu einer integrativen Literaturtheorie // Poetica 17 (1985), H.¾.
(обратно)35
Paul Ricoeur, Der Text als Modell: hermeneutisches Verstehen // Hans — Georg Gadamer, Gottfried Boehm (Hg.), Seminar: Die Hermeneutik und die Wissenschaften. Frankfurt am Main. 1978: 83-117. Здесь C. 101.
(обратно)36
Ср. Albrecht Wellmer, Eine hermeneutische Anthropologie // Deutsche Zeitschrift iür Philosophie. 59 2011. Rezension auf: Emil Angehrn: Sinn und Nicht-Sinn. Das Verstehen des Menschen. Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2010.
(обратно)37
Jacques Derrida, Die Struktur, das Zeichen und das Spiel imDiskurs der Wissenschaften vom Menschen // Jacques Derrida, Die Schrift und die Differenz. Frankfurt am Main. 1972.
(обратно)38
Paul Ricoeur, Der Text als Modell: 86.
(обратно)39
Frithjof Rodi, Erkenntnis des Erkannten. Frankfurt am Main. 1990: 97.
(обратно)40
Об этом см.: Gadamer, Vom Zirkel des Verstehens.
(обратно)41
Paul Ricoeur, Der Text als Modell: hermeneutisches Verstehen: 117.
(обратно)42
Fritz Mautner, Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Berlin, Wien. 1982.
(обратно)43
Emil Angehrn, Sinn und Nicht-Sinn. Das Verstehen des Menschen. Tübingen. 2010.
(обратно)44
Eckhard Rolf, Metaphertheorien. Berlin, New York. 2005: 4.
(обратно)45
Hermann Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte. Tübingen. 1880: 75.
(обратно)46
Johann Stöcklein, Bedeutungswandel der Wörter. Lindauer. 1898:15.
(обратно)47
Theodor Ziehen, Lehrbuch der Logik: auf positivistischer Grundlage mit Berücksichtigung der Geschichte der Logik. Bonn. 1920: 355.
(обратно)48
Edmund Husserl, Logische Untersuchungen. Hamburg. 1995: 69.
(обратно)49
Gottlob Frege, Logische Untersuchungen. Göttingen. 1966.
(обратно)50
Rudi Keller, Zeichentheorie. Zu einer Theorie semiotischen Wissens. Tübingen, Basel. 1995:60.
(обратно)51
Ernst Tugendhat, Vorlesungen zur Einführung in die sprach analytische Philosophie. Frankfurt am Main. 1976.
Rudolf Carnap, Meaning und Necessity. Chicago University Press. 1947. Hilary Putnam, Die Bedeutung von «Bedeutung». Frankfurt am Main. 1975.
(обратно)52
Rudolf Carnap, Meaning und Necessity. Chicago University Press. 1947.
(обратно)53
Hilary Putnam, Die Bedeutung von «Bedeutung». Frankfurt am Main. 1975.
(обратно)54
Ruth G. Millikan, Language, Thought and other Biological Categories. MIT Press. 1987.
(обратно)55
Ruth G. Millikan, Die eingebettete Vernunft ff Deutsche Zeitung für Philosophie 59 (2011) 4. S. 489. Сравни: Ruth Millikan, Die Vielfalt der Bedeutung. Frankfurt am Main. 2008.
(обратно)56
См. по этой теме, например: Michael Steinmetz, Zwischen Kausalität und Intention. Die sprachlichen Bedeutungskonzeptionen von Charles L. Stevenson und H. Paul Grice. GRIN Verlag. 2007; Hans Hörmann, Meinen und Verstehen. Grund Züge einer psychologischen Semantik. Frankfurt am Main. 1976.
(обратно)57
Leonard Bloomfield, Language. New York, Chicago, San Francisco, Toronto. 1961.
(обратно)58
Charles Leslie Stevenson, Ethics and Language. New Haven: Yale University Press 1944:
(обратно)59
Willard Quine, Wort und Gegenstand. Leipzig. 1980 (впервые опубликована в 1960 г.).
(обратно)60
Donald Davidson, Bedeutung, Wahrheit und Belege // Donald Davidson, Der Mythos des Subjektiven. Leipzig. 2000: 49–64.
(обратно)61
Rudi Keller, Zeichentheorie. Zu einer Theorie semiotischen Wzssens: 70.
(обратно)62
Alfred Tarsky, Der Wahrheitsbegriff in der formalisierten Sprachen ff Karel Berka, Lothar Kreiser (Hg.), Logik-Texte. Kommentierte Auswahl zur Geschichte der modernen Logik. Berlin. 1983: 445–546.
(обратно)63
Donald Davidson, Die Wahrheitstheorie der Bedeutung // Donald Davidson, Wahrheit und Interpretation. Frankfurt am Main. 2006.
(обратно)64
Томас Нагель, Что все это значит"? Очень краткое введение в философию. Пер. с англ. А. Толстова. Москва. 2001.
(обратно)65
Wilhelm Dilthey, Hermeneutik. GW. V: 319.
(обратно)66
Wilhelm Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. GW. VII. Leipzig und Berlin, 1927: 3.
(обратно)67
Mathias Jung, Hermeneutik zur Einführung. Hamburg. 2001: 72.
(обратно)68
Günter Figal, Selbstverstehen in instabiler Freiheit. Die hermeneutische Position Martin Heideggers // Hendrik Birus (Hg.), Hermeneutische Positionen. Göttingen. 1982: 89-119. Здесь C.91.
(обратно)69
Martin Heidegger, Sein und Zeit. Tübingen. 2006:12.
(обратно)70
Csaba Olay, Verstehen und Auslegung bei Heidegger /'/ Barbara Merker (Hg.), Verstehen nach Heidegger und Brandom. Hamburg. 2009: 47–61. Здесь C. 55.
(обратно)71
Gadamer, Text und Interpretation'. 25.
(обратно)72
Christoph Demmerling, Implizit und Explizit // Barbara Merker (Hg.), Verstehen nach Heidegger und Brandom'. 61–78. Здесь C. 64.
(обратно)73
Georg Misch, Die Idee der Lebensphilosophie in der Theorie der Geist eswissensch aft en// Kant-Studien. 1926. 31. Band: 541.
(обратно)74
Wilhelm Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften. GS. Bd. V. Leipzig. 1924: 4.
(обратно)75
Wilhelm Dilthey, Ausarbeitungen zum zweiten Band der Einleitung in die Geisteswissenschaften (ca. 1880–1890). GS. Bd. 19. Göttingen. 1982: 58—295. Здесь C. 231.
(обратно)76
См. подробно: Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie // Helmuth Plessner, Gesammelte Schriften. IV. Frankfurt am Main. 1982.
(обратно)77
Helmuth Plessner, Die Deutung des mimischen Ausdrucks. Ein beitrag zur Lehre vom Bewusstsein des anderen Ichs // Helmuth Plessner, Gesammelte Schriften. VII: Ausdruck und menschliche Natur. Frankfurt am Main. 1982: 67—129.
(обратно)78
Mathias Jung, Hermeneutik zur Einführung. Hamburg. 2001:113.
(обратно)79
Gianni Vattimo, Jenseits der Interpretation. Die Bedeutung der Hermeneutik für die Philosophie. Frankfurt, New York. 1997: 16.
(обратно)80
Ганс Георг Гадамер, Истина и метод. 508.
(обратно)81
Jürgen Habermas, Philosophisch-politische Profile. Frankfurt am Main. 1987: 393.
(обратно)82
Gadamer, Text und Interpretation. 24.
(обратно)83
Ср. с точкой зрения Sebastian Knell, Diskursive Kontoführung als Praxis des Verstehens // Barbara Merker (Hg.), Verstehen nach Heidegger und Brandom: 17–26.
(обратно)84
Сравни с мнением Stefan Deines, Jasper Liptow, Explizit-Machen explizit gemacht // Deutsche Zeitschrift iür Philosophie, 55 (2007) 59–78.
(обратно)85
Как мне кажется, такое приписывание автору значения неверно. Правильнее было бы сказать, что «Кант был великим философом и уважал Гамана», поскольку «великий философ» — это лишь одно из свойств Канта и имеет другой объем понятия по сравнению с идентифицирующим высказыванием «Кант— великий философ».
(обратно)86
Сравни: Nicholas Н. Smith (ed.), Reading McDowell. On Mind and World. London, New York. 2002.
(обратно)87
Wilfrid Sellars, Empiricism and the Philosophy of Mind. Cambridge, MA. 1997. § 1.
(обратно)88
Donald Davidson, On the Very Idea of a Conceptual Scheme ff Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 47, 1973-74 (New York 1974): 5-20.
(обратно)89
John McDowell, Geist und Welt (Mind and World). Frankfurt am Main. 2001: 36.
(обратно)
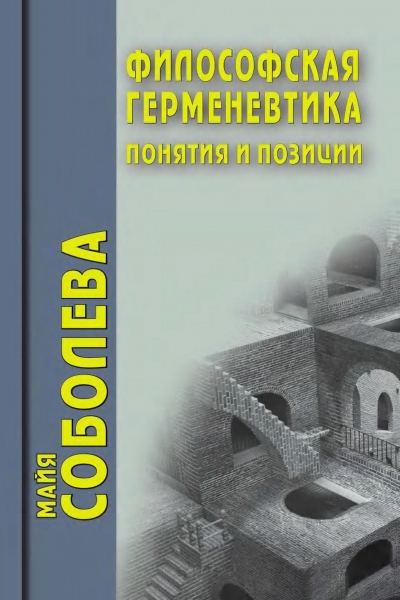

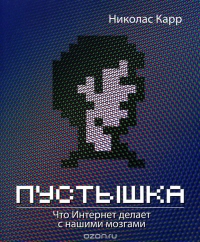

Комментарии к книге «Философская герменевтика. Понятия и позиции», Майя Евгеньевна Соболева
Всего 0 комментариев