Аристотель. БОЛЬШАЯ ЭТИКА
КНИГА ПЕРВАЯ (А)
1. Собираясь говорить о вопросах этики (ethikon), мы должны прежде всего выяснить, частью чего является этическое. Всего короче будет сказать, что этическое, по-видимому,— составная часть политики[1]. В самом деле, совершенно невозможно действовать в общественной жизни, не будучи человеком определенных этических качеств, а именно человеком достойным. Быть достойным человеком — значит обладать добродетелями[2]. И тому, кто думает действовать в общественной и политической жизни, надо быть человеком добродетельного нрава. Итак, этика, по-видимому, входит в политику как ее часть и начало (arche)[3]; и вообще, мне кажется, этот предмет по праву может называться не этикой, а политикой.
Так что прежде всего, как видно, надо сказать о добродетели, что она такое и из чего возникает (ek tinon ginetai), ведь, пожалуй, бесполезно иметь знание о добродетели, не понимая, как и из чего она появляется. В самом деле, нам надо ее рассмотреть, не просто чтобы знать, что она такое, по и чтобы знать, каким путем она достигается, коль скоро мы хотим не только понимать ее, но и сами быть добродетельным», а этого мы не сможем без знания, из чего и как она возникает. Словом, знать, что такое добродетель, надо потому, что трудно понять, из чего и как она возникает, не зная, что она такое,— как во всех науках. Но не следует упускать из виду и того, что говорили об этом другие.
Первым взялся говорить о добродетели Пифагор, но рассуждал неправильно. Он возводил добродетели к числам и тем самым не исследовал добродетели как таковые[4]. Ведь справедливость (dikaiosyne), например,— это вовсе не число, помноженное само на себя.
Потом пришел Сократ и говорил о добродетелях лучше и полнее, однако тоже неверно. А именно он приравнял добродетели к знаниям, но это невозможно. Дело в том, что все знания связаны с суждением (meta logoy), суждение же возникает в мыслящей (dianoetikoi) части души, так что, если верить Сократу, все добродетели возникают в разумной (logistikoi) части души. Получается, что, отождествляя добродетели с науками, Сократ упраздняет внеразумную (alogon) часть души, а вместе с нею и страсть (pathos), и нрав. Этим его подход к добродетелям неверен. После него Платон верно разделил душу на разумную и внеразумную части, каждую часть наделив подобающими добродетелями. До сих пор у него все хорошо, но после этого — опять неверно. Платон смешал и связал добродетель со своим учением о высшем благе и поступил неправильно: это благо не имеет отношения к добродетели как таковой. Ведя речь о бытии и об истине, он не имел оснований говорить о добродетели, поскольку они не имеют с нею ничего общего[5].
Вот в какой мере и как затронут [вопрос философами]. Теперь, после них, посмотрим, что мы сами должны говорить об этих вещах.
Во-первых, надо обратить внимание на то, что у любой науки (epistmes) и умения (dynameos) есть какая-то цель и эта цель есть всегда некое благо: ни одна наука, ни одно умение не существуют ради зла. И если благо — цель всех умений, то очевидно, что целью высшего умения будет высшее благо. А высшее умение, несомненно, политическое искусство, так что именно целью политики будет высшее благо. Нам нужно, стало быть, говорить о благе, причем не вообще (haplos) о благе, а о нашем благе,— ведь мы не должны говорить здесь о благе богов, потому что о нем другое учение и исследовать его надо иначе[6]. Итак, наше дело говорить о благе в общественной, политической жизни.
Опять-таки и его надо подразделить. О благе в каком смысле? Оно ведь не однозначно. Благом называется либо то, что является лучшим для каждого сущего, т. е. нечто по самой своей природе достойное избрания, либо то, что делает благими другие причастные ему вещи, т. е. идея блага. Надо ли говорить об идее блага или[7], скорее, благо есть то общее, что присущее всему благому? А [благо как такой общий признак] явно не тождественно идее блага. Идея блага — нечто отделенное (khoriston) и существующее само но себе, общее же присутствует во всех вещах и, конечно, не тождественно отделенному, потому что отделенное и существующее само по себе не может находиться во всех [единичных предметах]. Итак, о том ли благе мы должны говорить, которое присуще всем единичным вещам, или не о нем? [Не о нем.] Почему? Потому что это общее существует на правах определения (horismos) и результата индукции (ераgoge).
Определение имеет целью назвать сущность каждого [предмета и говорит], что [предмет] хорош, плох или еще какой-нибудь; и определение именует такое-то благо как благо вообще, т. е. как нечто само по себе достойное избрания. То, что принадлежит всем вещам как их общий признак, подобно определению. Но определение говорит: то и то есть благо. Между тем никакая наука и никакое умение не заявляют о себе, что их цель — благо, это рассматривает какое-либо другое умение. Так, ни врач, ни строитель не говорят, что здоровье или дом — это благо, но говорят: один — что такие-то вещи создают здоровье и как именно создают, другой — что [такие-то вещи создают] дом. Соответственно и политика, очевидно, не должна рассуждать об этом благе вообще, поскольку и она такая же наука, как остальные. Ни одно умение, ни одна наука не скажут, что цель у них — благо вообще. Стало быть, не дело политики рассуждать о благе вообще, существующем по способу определения.
Но не ее дело говорить и о том общем благе, которое получается путем индукции. Почему? Потому что когда мы хотим указать на какое-то частное благо, то либо показываем при помощи определения, что и для блага вообще, и для того, что мы хотим объявить благом, подходит одно и то же понятие, либо мы прибегаем к индукции. Например, желая доказать, что благородство (megalopsychia) — благо, мы говорим, что справедливость — благо, мужество и вообще добродетели — блага, а благородство — добродетель, поэтому благо и оно. Стало быть, политика не должна говорить и об общем благе, получаемом через индукцию, потому что и тут будут те же препятствия, что и в случае с общим благом, данным в определении. Ведь и здесь будет сказано: это вот есть благо.
Таким образом, ясно, что говорить следует о высшем благе, а именно о высшем в смысле высшего для нас. И вообще легко увидеть, что нет такой единой науки или умения, которые рассматривали бы всё благо в целом. Почему? Потому что свое благо есть для каждой категории, будь то сущность, качество, количество, время, отношение, место, в общем, любая категория. Больше того, какое именно время хорошо для врачевания, знает врач, какое для управления кораблем — кормчий, и так каждый в своей науке: когда нужно оперировать, знает врач, а кормчий знает, когда нужно пускаться в плавание. Так в любом ремесле мастер знает, какое время хорошо для дела: врач не будет знать, какое время благоприятно для управления кораблем, а кормчий — какое благоприятно для врачевания. Значит и в этом смысле тоже нельзя говорить об общем благе, ссылаясь на то, что [категория] времени является общей для всех. Подобным образом и благо в категории отношения, и благо в прочих категориях есть нечто общее для всех наук, однако ни одному умению, ни одной науке не дано говорить о том, что (и когда именно) нечто есть благо для всех паук. Значит, политике тоже не дано говорить о благе как общем. Итак, она должна говорить о присущем ей благе, причем о высшем благе и нашем высшем благе.
Опять-таки при желании разъяснить что-либо не надо пользоваться неясными примерами, но неясное разъяснять при помощи очевидного, причем умопостигаемое — при помощи чувственного: оно всего яснее. Именно поэтому, заводя речь о благе, не надо говорить о его идее. Однако люди думают, что, раз зашла речь о благе, надо говорить об идее: надо не разбирать высшее благо, а оно принадлежит к тому, что существует само по себе, поэтому, считают они, идея — это, пожалуй, и есть высшее благо[8]. Рассуждение, может быть, и верное, только политика или умение, о которых у нас сейчас речь, рассматривают не это благо, а наше благо. Коль скоро ни одна наука, ни одно умение не говорят, что у них цель — благо, и политика тоже не говорит этого. Соответственно она и не рассуждает об идее блага.
Кто-нибудь, правда, возразит, что можно принять идею блага за первоначало (агсhe) и переходить от него к рассуждению о благе, присущем каждой отдельной вещи. Но и такой ход мысли неправилен, потому что первоначала надо брать сообразные [предмету]. Скажем, нелепо брать в качестве первоначала [утверждение] «душа бессмертна», когда хочешь доказать, что сумма углов треугольника равна двум прямым. Такое первоначало чуждо [предмету], тогда как первоначало должно быть сообразно предмету и связано с ним.
Что сумма углов треугольника равна двум прямым, доказуемо и без ссылки на бессмертие души. Точно так же, имея дело с разными видами блага, их можно рассматривать независимо от идеи блага, поскольку не она есть внутренняя основа (arche) именно этого блага.
И Сократ неправильно отождествлял добродетели с науками. Ведь ничто, по его мнению, не должно быть излишним. Между тем из приравнивания добродетелей к наукам у него выходило, что добродетели излишни. Почему? Потому что в науках знание, в чем состоит наука, совпадает с владением ею. Кто знает врачебную науку, тот уже и врач; так же и с остальными науками. Но с добродетелями — иначе: если кто знает, в чем состоит справедливость, от этого он еще не стал сразу справедливым; то же и с другими добродетелями. Выходит, что, не будучи науками, добродетели в качестве наук излишни.
2. Разобравшись в этих вещах, попытаемся определить, в скольких смыслах говорится о благе. Из благ одни относятся к ценимым (timia), другие — к хвалимым (epairieta) вещам, третьи — к возможностям (dynameis). Ценимым я называю благо божественное, самое лучшее, например душу, ум, то, что изначально, первопринцип и тому подобное. Причем ценимое — это почитаемое, и именно такого рода вещи у всех в чести. Добродетель тоже ценность, раз благодаря ей человек становится достойным (spoydaios); он достигает тогда присущей добродетели красоты (eis to tes aretes schema hekei). Хвалимое благо — это те же добродетели в той мере, в какой согласные с ними действия вызывают похвалу. Блага-возможности — это власть, богатство, сила, красота. Добродетельный человек сумеет воспользоваться ими для добра, дурной — для зла, почему такие блага и называют возможностями. Они действительно блага, поскольку каждое из них удостоверяется тем, как его употребляет не дурной, а достойный человек. Такие блага иногда имеют причиной своего возникновения также и случай: по случаю достаются и богатство, и власть, и вообще то, что причисляется к возможностям. Существует еще четвертый вид блага: нечто сохраняющее или создающее другое благо; так, гимнастика сохраняет здоровье, и тому подобное.
Есть и другие подразделения блага. Скажем, из благ одни всегда и всячески заслуживают избрания, другие — не всегда: например, справедливость и прочие добродетели всегда и всячески достойны избрания, а сила, богатство, власть — не всегда и не всячески. И еще другой [способ деления]: благо может быть целью и может не быть целью; скажем, здоровье — цель, но то, что делается ради здоровья, — не цель. Из них всегда высшее благо — цель; так, здоровье выше, чем исцеляющие средства, и вообще всегда выше то, ради чего существует остальное. В свою очередь, среди целей совершенная лучше, чем несовершенная. Совершенное есть то, при наличии чего мы уже ни в чем не нуждаемся, несовершенное — то, при наличии чего продолжаем нуждаться. Например, имея справедливый нрав, мы еще во многом нуждаемся, а имея счастье, уже ни в чем не нуждаемся. И совершенная цель есть то наше высшее благо, которого мы ищем. Таким образом, совершенная цель есть благо и цель всех других благ.
Как после этого надлежит исследовать высшее благо? Причисляя его к другим благам? Но это нелепо. Высшее благо есть совершенная цель, совершенная же цель сама по себе есть, по-видимому, не что иное, как счастье. Но счастье слагается из многих видов блага. Если, рассматривая высшее благо, ты и его причислишь [к видам блага], оно окажется выше самого себя, раз оно — высшее. Возьми средства, доставляющие здоровье, и рядом с ними само здоровье и рассмотри, что здесь высшее: высшее — здоровье, и, если оно высшее из всего, оно выше и самого себя! Получается нелепость. Высшее благо нельзя, конечно, рассматривать таким образом.
Тогда каким же? Может быть, как существующее отделенно? Или это, скорее, тоже нелепость? Ведь счастье состоит из каких-то благ, и нелепо рассматривать то, что состоит из отдельных благ, как лучшее, чем они! счастье не есть нечто существующее отделенно от них, но совпадает с ними.
Может быть, правильнее было бы прибегнуть к какому-то сравнению при исследовании высшего блага? Например, сравнивая счастье, состоящее из отдельных благ, с тем благом, которое не входит в состав счастья, мы сумеем правильно исследовать высшее благо? Но высшее благо, которое мы сейчас ищем, не есть нечто однородно простое. Можно было бы, пожалуй, сказать, что разумность (phronesis) —высшее благо из всех, если сопоставлять с ним каждое по отдельности. Но едва ли так удастся разыскать высшее благо. Мы ведь тут ищем совершенного блага, а разумность одна сама по себе еще несовершенна; значит, она не то и не в том смысле высшее благо, какое мы исследуем.
3. Наряду с этим существует еще и другое деление блага. Благо может находиться в душе — таковы добродетели, или в теле — таковы здоровье, красота, или вне того и другого — таковы богатство, власть, почет и им подобное. Самое высокое благо — то, которое в душе. Благо, находящееся в душе, расчленяется на три: разумность, добродетель и наслаждение.
Тут мы подходим к тому, что все мы признаем и что, по-видимому, есть и цель всех благ, и высшее благо; я имею в виду счастье. Счастье, говорим мы,— это то же самое, что благополучие (еу prattein) и хорошая жизнь (еу dzen). Причем всякая цель не проста, а двояка: в некоторых вещах целью служат деятельность и пользование (chresis), как видение — цель зрения, причем пользование важнее простого обладания, ведь цель — именно в пользовании, потому что никто не захотел бы обладать зрением, собираясь не глядеть, а держать глаза закрытыми. То же можно сказать о слухе и подобном. Итак, когда имеют место пользование и обладание, пользование всегда лучше и предпочтительнее обладания: пользование и деятельность — цель, обладание же существует ради пользования.
Теперь, если мы рассмотрим все науки[9], то увидим, что нет особой науки, которая бы строила дом [как таковой], и [другой] науки, которая бы строила хороший дом, но есть [одна] наука — зодчество. Причем достоинство (arete) строителя способно делать то, что он делает, хорошим. Так обстоит дело и со всей остальным.
4. После этого обратим внимание на то, что мы живы не чем иным, как душой. Но в душе и добродетель: про одно и то же мы говорим, что это действие души и что это действие ее добродетели. Всякая добродетель, как мы сказали, делает хорошим то, в чем она проявляет себя. Душа совершает, конечно, и многое другое, однако прежде всего она есть то, благодаря чему мы живем; стало быть, благодаря добродетели души мы сможем жить хорошо. А хорошей жизнью и благополучием мы называем не что иное, как счастливую жизнь. Итак, счастливая жизнь и счастье состоят в том, чтобы жить хорошо, а хорошо жить — значит жить добродетельно. В этом цель, счастье и высшее благо. Причем счастье должно заключаться в некоем пользовании, т. е. в деятельности; ведь, как мы говорили, когда даны и обладание, и пользование, целью является именно пользование, т. е. действование. Добродетелью душа обладает, но для последней возможно также и действие, и применение добродетелей, и, значит, цель ее — в этом действии и пользовании, И счастье в том, чтобы жить согласно добродетели. Итак, поскольку высшее благо — это счастье, и оно — цель, а совершенная цель — в деятельности, то, живя добродетельно, мы можем быть счастливы и обладать высшим благом.
Не следует упускать из виду, что, поскольку счастье — совершенное благо и цель, оно будет уделом совершенного, не ребенка (недаром ребенка не называют блаженным), а взрослого мужа, который достиг совершенного возраста. И не в неполном отрезке времени, а в полном. Полный же срок — это время человеческой жизни. И верно говорят, что счастливым надо признавать человека в конце его жизни,— как бы в том смысле, что для совершенного счастья необходимы и завершенный срок жизни, и совершенный человек. Что счастье — деятельность, можно видеть и из следующего: мы не согласимся назвать счастливым человека во время сна — скажем, если кто-то проспит всю жизнь — именно потому, что в этом случае он живет, но не живет сообразно добродетели, т. е, не действует.
То, что будет сказано дальше, на первый взгляд не связано с изложенным, но и не совсем чуждо ему. Душа, по-видимому, имеет в себе какую-то часть, при помощи которой мы питаемся и которую мы зовем питающейся. Разумно думать, что такая часть души существует. Камни, мы видим, не могут питаться, так что способность питаться явно присуща одушевленным существам. А если это свойство одушевленных существ, то причина его — душа. И при этом причиной способности питаться не может быть ни рассудительная, ни гневливая, ни вожделеющая часть души, но какая-то иная, которую мы не можем назвать более подходящим именем, чем питательная (threptikon). И вот, могут спросить: а этой части души тоже присуща добродетель? Если присуща, то ясно, что душа должна действовать также и посредством нее; ведь действие совершенной добродетели — счастье. Существует ли добродетель этой части души или не существует — особый вопрос. Суть в том, что, если она существует, ей не присуще действие. Там, где нет стремления, не будет ведь и деятельности, а в этой части, по-видимому, нет стремления, она похожа на огонь: что ни брось в огонь, он все истребит, если же не бросаешь, то сам он не порывается охватить свою пищу. Точно так же ведет себя и эта часть души: дашь ей пищу — она питается, а если не дашь, в ней нет порыва к питанию. Поэтому в ней, лишенной стремления, нет и деятельности. Выходит, эта часть души нисколько не содействует счастью.
Теперь следовало бы сказать, что такое добродетель, если ее действование есть счастье. В самом общем смысле добродетель — это наилучшее состояние (hexis). Однако такие общие слова, пожалуй, недостаточны, и нужно более ясное определение добродетели.
5. Прежде всего, надо сказать о ее источнике, душе,— не о том, что такое душа (об этом другое рассуждение), а как она в общих чертах расчленяется. Душа, утверждаем мы, разделена на две части — обладающую разумом (to logon echon) и внеразумную (to alogon). В обладающей разумом заключены разумность (phronesis), проницательность (agkhinoia), мудрость, способность к научению, память и тому подобное; во внеразумной — то, что зовется добродетелями: благоразумие (stfphrosyne), справедливость (dikaiosy), мужество и другие черты нрава (ethos), вызывающие одобрение. В самом деле, за них нас одобряют, тогда как за свойства, входящие в разумную часть души, никто никого не благодарит: человеку никогда не выражают одобрение за то, что у него есть ум, разумность или иное подобное свойство. Но и внеразумную часть души одобряют, конечно, только когда она согласуется с разумной частью души и служит ей.
Для этической добродетели губительны и недостаток, и излишество. В том, что вредны как недостаток, так и излишество, легко убедиться на примере чувственно воспринимаемых вещей (когда речь идет о неочевидном, надо пользоваться свидетельством очевидного). В самом деле, мы сразу убеждаемся в сказанном на примере гимнастических упражнений: когда их слишком много, силы гаснут, и когда слишком мало — бывает то же. То же самое с питьем и едой: при очень большом количестве их здоровье портится, при малом — также, а когда все в меру, силы и здоровье сберегаются. Нечто подобное происходит и с благоразумием, мужеством и другими добродетелями: сделай человека чересчур бесстрашным, так что он и богов не станет бояться,— он уже не мужественный, а безумный; а если всего боится, то трус. Мужественным поэтому будет и не тот, кто всего боится, и не тот, кто ничего не боится. Добродетель и губится, и умножается при помощи одного и того же: и чрезмерные страхи, и страх всего губительны, и полное бесстрашие тоже. Мужество — это мужество перед страхом, так что, когда страх умерен, мужество увеличивается; одни и те же вещи и увеличивают, и губят мужество: под действием тех же самых страхов люди становятся и мужественны, и трусливы. То же самое можно сказать и про другие добродетели.
6. Добродетель определяется не только этим, но также скорбью и наслаждением: ради наслаждения мы идем на дурные поступки, скорбь удерживает от хороших. И вообще невозможно приобрести ни добродетели, ни порока, не испытав скорби или наслаждения. Итак, скорбь и наслаждение имеют отношение к добродетели.
Свое название, если нужно исследовать истину исходя из буквы (а это, пожалуй, нужно), этическая добродетель получила вот откуда: слово ethos, нрав, происходит от слова ethos, обычай, так что этическая добродетель называется так по созвучию со словом привычка. Уже отсюда ясно, что ни одна добродетель вне разумной части души не возникает в нас от природы: что существует от природы, то уж не изменится под влиянием привычки. Скажем, камень и вообще тяжести от природы падают вниз. Сколь бы часто ни бросали их вверх, приучая лететь кверху, они все равно никогда не несутся ввысь, но всегда падают вниз. Так же обстоит дело и в других подобных случаях.
7. Желая определить, что такое добродетель, мы должны теперь узнать, что именно находится в душе. А находятся в ней движения чувств (pathe), предрасположенности (dynameis) и состояния (hexeis). Поэтому добродетель явно должна оказаться чем-то из этих трех. Движения чувств — это гнев, страх, ненависть, вожделение, зависть, жалость и все подобное, чему обычно сопутствуют огорчение и удовольствие. Предрасположенности — это то, в силу чего мы зовемся способными испытывать движения чувств, т. е. то, благодаря чему мы в силах гневаться, огорчаться, жалеть и т. д. Состояния — это то, соответственно чему наше отношение к движениям чувств бывает хорошим или плохим. Возьмем отношение к гневу: когда мы слишком гневливы, мы находимся в плохом состоянии по отношению к гневу, а если вовсе не гневаемся, на что следует гневаться, то и тогда наше состояние в том, что касается гнева, плохое. Придерживаться здесь середины — это значит и не слишком распаляться, и не оставаться бесчувственным; когда мы так относимся к нему, мы находимся в хорошем состоянии. То же самое можно сказать о прочих подобных вещах. В самом деле, умеренность в гневе и уравновешенность (to ргаion) занимают середину между гневом и бесчувствием по отношению к гневу; и в таком же соотношении находятся хвастовство и притворство (eironeia)[10]: делать вид, что имеешь больше того, что имеешь,— это хвастовство, а меньше — это притворство; середина между ними и есть правдивость (aletheia).
8. Подобным образом обстоит дело и со всем остальным. А именно благодаря состоянию, в котором мы находимся, наше отношение к движениям чувств хорошо или дурно; и хорошее состояние (еу ekhein) по отношению к ним есть отсутствие наклонности к их избытку и к их недостатку. Наше состояние хорошо, когда в нас есть наклонность держаться середины противоположных движений чувств, и за это нас одобряют; наоборот, дурное состояние (kakos ekhein) — это наклонность к их избытку или недостатку. А поскольку добродетель — середина этих движений чувств, движения же чувств — это или огорчения, или удовольствия, или нечто не лишенное огорчения или удовольствия, то и отсюда видно, что добродетель соотносится с огорчениями и удовольствиями.
Есть и другие движения чувств, которые, по-видимому, нехороши независимо от того, слишком их много или слишком мало, как, например, разврат: развратник — не тот, кто совращает свободных женщин больше, чем следует, но предосудительна и эта страсть, и любая подобная ей, заключающаяся в распущенности по отношению к удовольствиям, равно как и заключающаяся в избытке или недостатке.
9. После этого, пожалуй, необходимо сказать о том, что противопоставляется середине: излишек или недостаток. В одних случаях середине противоположен недостаток, в других — излишек. Например, мужеству противоположна не дерзкая отвага (thrasytes), а трусость, т. е. некий недостаток. С другой стороны, благоразумию, середине между распущенностью и бесчувствием к удовольствиям, по-видимому, противоположно не бесчувствие, т. е. недостаток, а распущенность, т. е. излишек. Бывает, что середине противопоставляется и то и другое, излишек и недостаток, поскольку середина меньше, чем излишек, и больше, чем недостаток. Так, расточительные называют щедрых скупыми, а скупые щедрых — расточительными, равно как дерзко отважные и опрометчивые зовут мужественных трусливыми, а трусливые мужественных — опрометчивыми и одержимыми (mainomenoys).
Две причины, по-видимому, заставляют нас противопоставлять середине то избыток, то недостаток. В одном случае смотрят на сам предмет, ближе или дальше он от середины, например что дальше от щедрости, расточительность или скупость; на щедрость больше походит расточительность, чем скупость, и, стало быть, скупость дальше отстоит от нее, а то, что дальше отстоит от середины,— то, по-видимому, более противоположно ей, так что сам предмет показывает, что в этом случае недостаток более всего противоположен середине. В других случаях смотрят иначе; например, что от природы более свойственно, то более противоположно середине. Например, нам свойственнее распущенность, чем упорядоченность. Мы склоняемся больше в сторону, которая нам свойственна, и, к чему мы больше склоняемся, то более противоположно [середине]; однако мы больше преуспеваем в распущенности, чем в упорядоченности; следовательно, избыток [в этом случае] наиболее противоположен середине, ведь распущенность — это избыток по отношению к благоразумию.
Итак, мы рассмотрели, в чем состоит добродетель. Она, по-видимому, есть некая середина между противоположными страстями. Недаром человек, желающий быть уважаемым за свой прав (ethos), должен соблюдать середину во всяком движении чувств. Оттого и трудно быть достойным человеком, ведь в любом деле трудно держаться середины. Например, круг начертить может всякий, но установить его середину непросто; подобно этому, и рассердиться легко, и легко впасть в противоположную крайность, но удержаться посредине — трудно. Вообще можно наблюдать на любом движении чувств, что удаленное от середины легко, а середина, за которую нас хвалят, трудна. Из-за этого добродетель редка.
Поскольку о добродетели, таким образом, сказано, следовало бы теперь рассмотреть, возможно ли ее приобрести, или, как говорит Сократ, не в нашей власти (eph'hemin) стать хорошими или дурными[11]. Ни один человек, по его словам, на вопрос, хотел ли бы он быть справедливым или несправедливым, не выберет несправедливости. То же можно сказать и про смелость и трусость и про любую добродетель, и если люди бывают дурны, то, очевидно, они дурны не по своей воле; отсюда ясно, что и хорошие тоже не по своей воле добродетельны. Однако такое рассуждение неверно. В самом деле, почему тогда законодатель не позволяет совершать дурных поступков, а прекрасные и достойные велит? Почему он в дурных делах устанавливает наказание, когда их делают, в добрых — когда их не делают? Нелепо было бы узаконивать то, что не в нашей власти исполнить. Нет, видимо, от нас зависит быть людьми достойными или дурными. О том же свидетельствует и сама возможность похвалы и порицания. В самом деле, за добродетель хвалят, за порочность порицают, но ведь за невольные поступки не хвалят и не ругают; значит, в нашей власти поступать достойно или недостойно. Чтобы доказать, что мы невластны в своих поступках, ссылались на такой пример: почему, если мы больны или некрасивы, никто за это не бранит? Это неправда; мы и таких людей браним, если находим, что они сами виновны в своей болезни и в плохом состоянии своего тела. Мы и тут усматриваем добровольное начало (to hekoysion). Итак, очевидно, что мы по своей воле бываем добродетельны или порочны.
10. Еще яснее это можно видеть из следующего, природное способно порождать себе подобную сущность; скажем, растения и животные — и те и другие способны порождать названным образом. Они порождают из первоначал (arch'tfn); дерево, например, родится из семени, которое есть некое первоначало. Происходящее из первоначал ведет себя таким образом: каковы первоначала, таково и происходящее из первоначал. Всего яснее это видно в геометрии. Поскольку и тут берутся некоторые первоначала, то от того, каковы эти первоначала, зависит получающееся из них; например, если треугольник имеет углы, равные в сумме двум прямым, то четырехугольник — равные четырем прямым, и, если изменится треугольник, вместе с ним так же изменится и четырехугольник, потому что он соответствует [треугольнику]; наоборот, если бы углы четырехугольника не были равны четырем прямым, то и в треугольнике они были бы не равны двум прямым.
11. С человеком — то же самое и подобное тому, Поскольку человек способен порождать те или иные сущности (oysias) из определенных первоначал, постольку он порождает из некоторых первоначал и те действия (praxedn), которые он совершает. Что еще иначе могло бы их породить? Ни про неодушевленные, ни про одушевленные существа, кроме человека, мы не говорим, что они действуют (prattein), а [говорим так] только о человеке. Ясно, что человек — сила, порождающая действия. Поскольку же действия, как мы видим, изменяются и мы никогда не делаем одного и того же, причем действия проистекают из определенных первоначал, то очевидно, что при изменении действий меняются их первоначала, как мы уже говорили выше на примере из геометрии. Первоначало действия, как хорошего, так и плохого,— это намерение, воля и так далее; очевидно, стало быть, и они изменяются. Мы свои действия изменяем добровольно, так что и первоначало, т. е. намерение и воля, меняется добровольно. Отсюда ясно, что от нас зависит быть хорошими или дурными.
Кто-нибудь скажет, пожалуй: если от меня зависит быть справедливым и добродетельным, то стоит мне только захотеть, и я стану добродетельнее всех. Но это, конечно, невозможно. Почему? Потому, что даже в вещах, касающихся тела, это недостижимо: не у всякого, кто примется ухаживать за своим телом, оно непременно станет самым прекрасным. Нужен не только уход, нужно, чтобы и от природы тело было ладным и крепким (kalon k'agathon). Уход сделает тело лучшим, но не самым лучшим. То же следует предполагать и в отношении души. Человек, стремящийся быть самым добродетельным, тоже не станет им, если его природа этому не способствует, но более достойным станет.
12. Теперь, когда ясно, что быть добродетельными зависит от нас, необходимо сказать о том, что такое добровольный поступок (to hekoysion). Это — добровольность — для добродетели имеет решающее значение. Добровольным в собственном смысле слова бывает то, что мы делаем без принуждения. Об этом, впрочем, надо сказать яснее. То, в силу чего мы совершаем тот или иной поступок, есть стремление (orexis), стремление же бывает трех видов: страстное желание (epithymia), порыв (thymos), хотение (boylesis). Рассмотрим сначала поступок, совершаемый по страстному желанию.
Доброволен ли он? Не похоже, чтобы он был недобровольным. Почему и на каком основании? Потому, что поступки недобровольные мы совершаем по принуждению, а все, что совершается по принуждению, вызывает огорчение, тогда как поступки, совершаемые по страстному желанию, вызывают наслаждение. Выходит, стало быть, что делаемое по страстному желанию не может быть недобровольным, но должно быть добровольным. Однако есть довод, который говорит против этого, — довод «от распущенности». В самом деле, никто, как считают, по доброй воле не делает зла, если знает, что это зло; человек же распущенный все равно делает зло, зная, что оно зло, и делает его с вожделением. Значит, он поступает не добровольно, следовательно, по принуждению. Против этого тоже есть свой довод: вожделенное делается не по принуждению, поскольку всякому страстному желанию сопутствует удовольствие, а где удовольствие, там нет принуждения.
И еще одним способом можно показать, что распущенный человек действует по доброй воле: неправые (adikoyntes) творят свою неправду добровольно, распущенные же неправы и творят неправду, так что распущенный в своей распущенности поступает по своей воле.
13. И опять против этого есть довод в пользу недобровольности. В самом деле, воздержный воздержан по доброй воле: ведь его хвалят, хвалят же за поступки добровольные. Но если совершаемое по страстному желанию оказывается поступком добровольным, то тогда совершаемое наперекор желанию недобровольно. Воздержный же действует наперекор желанию, так что, выходит, воздержный воздержан недобровольно, однако это не похоже на истину. Значит, совершаемое по страстному желанию, в свою очередь, тоже будет недобровольным.
То же самое можно сказать и о действиях, к которым толкает порыв: здесь сохраняют силу те же доводы, что и в отношении страстного желания, и они создают ту же апорию, поскольку гнев может охватывать и распущенного человека, и воздержного.
Нам осталось рассмотреть еще один вид стремления, который мы назвали хотением (boylesis). Добровольно ли оно? Нам скажут: люди распущенные, к чему они порываются, того и хотят; следовательно, распущенные поступают дурно по своему хотению. Но добровольно ведь никто не делает зла, если знает, что это зло; распущенный же человек хотя и знает, что зло — это зло, все равно делает его, если ему так захотелось. Выходит, он поступает недобровольно и хотение есть вещь недобровольная. Подобным рассуждением, однако, упраздняется [само понятие] распущенности и распущенного. Ведь если распущенный действует недобровольно, его нельзя порицать; но его порицают; стало быть, его действия добровольны, и, следовательно, хотение добровольно.
Поскольку некоторые доводы явно противоречат друг другу, надо внести ясность в [понятие] добровольности.
14. Прежде всего, конечно, надо сказать о насилии (Ыа) и принуждении (anagke). Насилие [может распространяться и на] неодушевленные предметы. В самом деле, любой неодушевленный предмет имеет свойственное ему место: для огня это верх, для земли низ. Но тут, конечно, возможно применение насилия, так что камень будет двигаться вверх, а огонь — вниз. Насилию можно подвергнуть и животное — скажем, перехватить коня, бегущего прямо, и повернуть в сторону. Когда причина действия, совершаемого наперекор природе или наперекор желанию, лежит вовне, все делаемое так мы назовем делающимся насильно. Наоборот, где причина лежит внутри самих [делателей], там мы не говорим о насилии. А иначе распущенный человек станет возражать и не признает себя дурным: он скажет, что плохо ведет себя из-за того, что страстное желание насилует его.
15. Итак, дадим следующее определение насилию: насилие имеет место там, где причина, заставляющая действовать, лежит вовне; наоборот, где причина внутри, в самих вещах, там нет насилия.
Надо сказать, в свою очередь, о принуждении и о вынужденном (toy anagkaioy). Далеко не всегда следует говорить о чем-либо как о вынужденном. Не следует делать этого тогда, когда мы что-то устраиваем ради наслаждения. Ведь нелепо было бы говорить, что наслаждение вынудило кого-то растлить жену своего друга. Причина в том, что принуждение тоже может исходить не от всего, а только от внешнего,— например, когда кто-то, вынуждаемый обстоятельствами, терпит убыток, спасая что-то более важное; скажем: я был вынужден спешно пойти на поле, иначе там все погибло бы. Итак, принуждение относится к подобным случаям.
16. Если добровольности нет ни в каком порыве (hormei), то она, по-видимому, коренится в умысле (dianoia). Невольное (akoysion) — это то, что делается вынужденно, насильственно и, в-третьих, без умысла. Подтверждение тому — случаи [из жизни]. Когда человек ударит, убьет или учинит что другое неумышленно, мы говорим, что он сделал это невольно, и [тем самым признаем, что] добровольное — это умышленное. Рассказывают, например, как одна женщина дала кому-то выпить любовный напиток (philtron) и человек потом умер от этого напитка, а женщина предстала перед ареопагом, однако была оправдана именно потому, что действовала без злого умысла: напоила из любви, но ошиблась. Убийство признали невольным, поскольку она давала любовный напиток без умысла погубить человека. Здесь видно, что добровольное совпадает с умышленным.
17. Осталось рассмотреть, что такое свободный выбор (proairеsin), стремление ли это или нет. Стремление присуще и другим живым существам, свободный же выбор не присущ; ведь выбор сопровождается рассуждением (meta logoy), рассуждение же не присуще никому из животных, [кроме человека], так что выбор не может быть стремлением. Но может быть, он — хотение? Или тоже нет? Ведь хотение относится и к вещам недоступным: мы хотели бы, например, быть бессмертными, но не выбираем этого. И еще. Выбор направлен не на саму цель, а на то, что ведет к цели: так, никто не выбирает себе здоровья, но мы выбираем то, что полезно для здоровья,— прогулки, бег; хотение, напротив, направлено па саму цель: мы хотим быть здоровыми. Так что и отсюда тоже видно, что хотение и выбор не совпадают. Выбор (proairesis), по-видимому, соответствует точному значению этого слова: мы выбираем одно вместо другого, например лучшее вместо худшего. Таким образом, всякий раз, когда из предложенного на выбор мы отдаем предпочтение (antikatallattometha) лучшему, а не худшему, уместно, как нам кажется, говорить о выборе.
Если, таким образом, никакой из видов стремления не есть выбор, то, может быть, с выбором связано раздумывание (to kata dianoian)? Или, пожалуй, тоже нет? Ведь о многом мы думаем и составляем себе мнение при раздумывании, но выбираем ли мы, когда раздумываем? Скорее, нет. Ведь часто мы раздумываем о том, что [делается] в Индии[12], однако не выбираем ничего. Следовательно, выбор — это и не раздумывание.
Если выбор не совпадает ни с одной из названных вещей в отдельности, а они и есть все то, что находится в душе, то выбор неизбежно должен быть соединением некоторых из них.
Как уже было сказано, выбор касается благ, ведущих к цели, а не самой цели, и он касается вещей нам доступных и позволяющих спорить о том, следует ли избирать то или это; отсюда ясно, что сначала должно быть обдумывание и принятие решения (boyleysasthai), а затем, когда после обдумывания мы что-то сочтем за лучшее, возникает стремление к действию, и, совершая это действие, мы, по-видимому, поступаем согласно своему выбору.
И вот, если выбор — это некое стремление, соединенное с обдумыванием и решением, то добровольное не тождественно выбору. В самом деле, многое мы делаем добровольно, не успев подумать и принять решение, например садимся, встаем и много подобного делаем добровольно без обдумывания, тогда как все делаемое по выбору связано с обдумыванием. Значит, добровольное не совпадает с выбором. Наоборот, выбор всегда доброволен: решившись действовать, как избрали, мы поступаем добровольно. В редких случаях даже и законодатели отличают добровольное от намерен- но избранного и за добровольное полагают меньшее наказание, чем за совершенное по свободному выбору, Выбор имеет место там, где совершается действие, и совершается так, что от нас зависит делать дело или не делать, делать его одним способом или другим и, где бывает возможно, установить причину действия.
Причина понимается неоднозначно. В геометрии на вопрос о причине, почему в четырехугольнике углы равны четырем прямым, отвечают: потому что и в треугольнике углы равны двум прямым. В таких случаях мы находим причину в установленном первоначале (arches horismenes). Но при действиях, совершаемых по выбору, дело обстоит иначе (тут ведь нет никакого установленного первоначала); здесь на вопрос: почему ты поступил так? — отвечают: потому что нельзя было иначе, или: потому что так лучше. Исходя из самих обстоятельств, выбирают то, что кажется лучшим, и ради лучшего.
Именно поэтому в подобных случаях и возможно обсуждение того, как надо [поступать], а в науках — нет. Никто не обсуждает, как писать имя Архикл, потому что существует установленное правило, как надо писать имя Архикл. Ошибка тут случается не при обдумывании, а в самом действии письма. Где не может быть ошибки при обдумывании, там не принимается и решений. Там же, где не установлено, как надо [поступать], возможна ошибка.
Установленных правил нет в поступках и действиях, в которых возможны ошибки двух родов. Ошибки в поступках и действиях те же, что и в стремлений к добродетели. Когда мы стремимся к добродетели, мы впадаем в ошибки, уступая своим врожденным склонностям, причем ошибка может быть как в сторону недостатка, так и в сторону избытка. К тому и другому влекут нас удовольствие и страдание (hedon6n kai lyperi). Ради удовольствия мы делаем недостойные вещи, а избегая страдания, уклоняемся от хорошего.
18. Еще. Разум (dianoia) не подобен чувству. Скажем, зрение дает возможность только видеть, слух — только слышать; ничего другого с их помощью сделать нельзя. И мы не обсуждаем (boyleyometha) того, следует ли нам нашим слухом слушать или смотреть. Разум не таков: он может делать что-то одно, но вместе с тем и другое, поэтому в нем уже уместно обсуждение.
Ошибка при выборе благ тоже касается не целей (ведь все согласны, что здоровье, к примеру,— это благо), а вещей, которые ведут к цели, например хорошо ли для здоровья съесть вот это или нет. Ошибаться в таких случаях чаще всего заставляет удовольствие или неудовольствие, поскольку второго мы избегаем, первое избираем.
После того как мы разобрались, в чем именно и как может произойти ошибка, остается спросить, на что направлена добродетель: на цель или на то, что ведет к цели, например на прекрасное или на то, чем прекрасное достигается. Как обстоит дело в науке? В том ли дело строительной науки, чтобы хорошо поставить цель, или в том, чтобы увидеть то, что ведет к цели? [Первое]; но если цель хорошо поставлена — например, сделать прекрасный дом,— то и нужное для нее и найдет, и сделает не кто иной, как строитель.
Во всех других науках дело обстоит подобным образом. Это, по-видимому, относится и к добродетели. Ее задача в большей мере цель, которую надо правильно поставить, чем то, что ведет к цели; но создаст для нее все условия и найдет все необходимое тоже не кто иной, [как добродетельный].
И разумно думать, что именно дело добродетели — ставить цель. Всякая вещь, заключающая высшее начало, сама ставит цель и осуществляет ее. Но выше добродетели нет ничего, ради нее и все прочее; и первоначало в ней, и средства существуют по большей части ради [нее как цели]. Цель подобна как бы первоначалу, и всякая вещь существует ради нее. Так, впрочем, и должно быть. Словом, и в добродетели, коль скоро она высшая причина, дело обстоит явно так же, [как в науке]: она устремлена больше к цели, чем к вещам, ведущим к цели.
19. Цель добродетели — прекрасное (to kalon), причем она больше устремлена к нему, чем к его составным частям. Правда, и они имеют к ней отношение, но нелепо [думать, будто только они]. Это все равно как в живописи можно быть хорошим изобразителем, однако едва ли такого будут хвалить, если он не поставит своей целью подражать самым лучшим [предметам]. Таким образом, непременное дело добродетели — ставить прекрасные цели. Почему же, могут нам возразить, сперва мы говорили, что деятельность лучше обладания, а теперь приписываем добродетели в качестве ее прекраснейшей черты не то, откуда проистекает деятельность, а то, в чем нет деятельности? Да, но и теперь мы все равно утверждаем, что деятельность лучше обладания. В самом деле, наблюдая за достойным человеком, судят о нем по его делам, поскольку [иначе] невозможно обнаружить, какому выбору он следовал. А если бы можно было видеть совесть (gndme) человека и его стремление к прекрасному, то его сочли бы добродетельным и без дел[13].
Раз уж мы перечислили некоторые срединные состояния чувств, надо сказать, о каких чувствах (pathon) идет речь.
20. Если мужество соотносится с дерзкой самоуверенностью и со страхами, то надо рассмотреть, с какими именно страхами и с какой самоуверенностью. Скажем, человек страшится потерять имущество (oysian), труслив ли он? А если он не боится таких вещей, мужествен ли он? Или, скорее, нет? Все равно как, если кто боится болезни или, наоборот, безрассудно уверен в себе, нельзя утверждать, что боязливый здесь трус, а небоязливый мужествен. Стало быть, мужество заключается не в таких страхах и дерзаниях, Но и не в таких, когда кто не боится грома, молнии или еще чего-нибудь сверхчеловеческого и страшного. Он тогда не мужественный, а какой-то безумец (mainomenos). Итак, мужество обнаруживается в страхах и дерзаниях, соразмерных человеку. Скажем, если кто среди вещей, которых многие или все боятся, бывает отважен, тот мужествен.
Проведя это разграничение, можно рассмотреть, какой человек мужествен в том смысле, что люди бывают мужественны по многим причинам. Бывает, что человек мужествен благодаря опыту, как, например, воины: они знают, что в таком-то месте, или в такое-то время, или при таком-то поведении ничего плохого не случится. Знающий это и потому выдерживающий врага не мужествен, ведь, если бы этого не было, он не выдержал бы. Не следует поэтому называть мужественными мужественных благодаря опыту. И конечно, Сократ был не прав, когда называл мужество знанием[14]: знание становится наукой, когда от привычки приобретает опыт, а тех, кто благодаря опыту выдерживает [натиск], мы не называем да и никто не назовет мужественными. Стало быть, мужество не наука. Опять-таки есть люди, ведущие себя мужественно по неопытности: кто не знает по опыту, чем кончится дело, тот не испытывает страха по причине своей неопытности. Таких тоже нельзя называть мужественными. Другие кажутся мужественными из-за своих страстей (pathe), например влюбленные (erpntes) или объятые вдохновением (enthoysiadzontes). Но и их нельзя назвать мужественными; ведь, если у них отнять страсть, они перестанут быть мужественными, мужественный же должен всегда быть мужественным. Недаром про животных не говорят, что они мужественны, например про свиней, если они отбиваются, когда их больно бьют; и человека мужественного в страсти тоже не следует считать мужественным. Существует еще и иное мужество, как бы гражданское (politike), когда, к примеру, люди выносят опасность из стыда перед согражданами и кажутся мужественными. Вот образец этого. Гомер изобразил Гектора говорящим: «Первый Полидамас на меня укоризны положит»[15] и Гектор думает поэтому, что надо идти в бой. Но и это нельзя называть мужеством. Для всех таких случаев подойдет одно и то же разграничение (diorismos): если мужество пропадает, когда человек лишается чего-либо, то он едва ли мужествен; в самом деле, если устранить стыд, благодаря которому он стал мужественным, то он перестанет быть мужественным. Кажутся мужественными еще и другие, те, кто мужествен в надежде на добро и ожидании его. Их, однако, тоже нельзя называть мужественными, поскольку нелепо называть мужественными тех, кто делается мужественным в зависимости от обстоятельств.
Итак, нельзя признать мужественным никого из таких людей. Тогда надо исследовать, в чем состоит мужество и какой человек мужествен. Собственно (h'os haplos) говоря, мужествен тот, кто мужествен не в силу чего-либо из вышеперечисленного, а потому, что считает мужество благом и действует мужественно независимо от того, присутствует кто-либо при этом или не присутствует. Но, конечно, мужество не бывает вовсе без страсти и порыва. Только этот порыв должен исходить от разума и быть устремлен к прекрасному. Кто осмысленно (dia logon) устремляется ради добра (kaloy) в опасность и не боится ее, тот мужествен, и в этом мужество. «Не боится» [я говорю не в том смысле], что мужественный вовсе не испытывает страха. Не тот мужественный, кому вообще ничто не страшно,— тогда мужественны были бы камень и прочие неодушевленные предметы; нет, мужественный непременно боится, но стоит твердо (hypomenein). А если человек тверд, не испытывая страха, его не назовешь мужественным.
И еще. Как мы уже определили выше, речь идет не о всех вообще страхах и опасностях, а о тех, при которых дело касается жизни (oysias). И еще: мужество проявляется не во всякое вообще время, а в то, когда страхи и опасности ближе всего. Ведь если кто не боится опасности, которая наступит лет через десять, то это еще не значит, что он мужествен, потому что иногда люди мужественны, когда опасность далеко, а очутившись вблизи нее, умирают от страха. Вот каковы мужество и мужественный.
21. Благоразумие (sbphrosyne) — середина между распущенностью и бесчувственностью к удовольствиям. В самом деле, благоразумие и вообще всякая добродетель — это наилучшее состояние (hexis), наилучшее же состояние — обладание наилучшим, а наилучшее — середина между избытком и недостатком, поскольку осуждают за то и за другое — за избыток и недостаток; поэтому если середина — наилучшее, то и благоразумие должно быть чем-то средним между распущенностью и бесчувствием (anaisthesias). Итак, оно их середина.
Благоразумие имеет отношение к удовольствиям и огорчениям, но не ко всяким и не по поводу всего. Так, если кто-то наслаждается, созерцая живопись, статую или что-либо подобное, он не становится от этого распущенным. То же можно сказать об удовольствиях слуха или обоняния, благоразумие же проявляется по отношению к удовольствиям, получаемым от осязания или вкушения. Не будет благоразумным тот, кто не испытывает никакого удовольствия от этих вещей (такой человек бесчувствен). Благоразумен тот, кто испытывает их, но не увлекается ими настолько, чтобы предаваться им без меры, вменяя ни во что все остальное, и кто ведет себя так только ради самого добра, а не иного чего. Кто воздерживается от чрезмерного наслаждения, или из страха, или по другой похожей причине, того нельзя назвать благоразумным. И мы не называем благоразумным ни одно живое существо, кроме человека, потому что у животных нет разума, чтобы с его помощью исследовать и избирать благо. Ведь всякая добродетель имеет целью благо (kalori) и стремится к благу.
Итак, благоразумие имеет отношение к удовольствиям и огорчениям, какие бывают при вкушении и осязании.
Установив это, следовало бы сказать об уравновешенности (praotetos), что она такое и в чем проявляется. Уравновешенность — середина между гневливостью и безгневием, как и вообще добродетели суть, по-видимому, некие середины. То, что они середины, можно выразить и так: если самое лучшее — середина, добродетель же — наилучшее состояние, то добродетель должна быть чем-то средним. Это становится яснее при рассмотрении каждой из них. В самом деле, гневлив тот, кто по всякому поводу весь охватывается сильным гневом; и он достоин порицания, потому что гневаться надо не по всякому поводу, не на всех, не всецело и не всегда. Однако, с другой стороны, не надо быть и в таком состоянии, чтобы ни на кого никогда не гневаться: такой человек тоже достоин порицания, как бесчувственный. Итак, если достоин порицания и тот, в ком [избыток] гнева, и тот, в ком его недостает, то находящийся посредине будет уравновешенным и заслужит похвалу. Поистине достоин похвал и уравновешен не тот, в ком недостаток гнева, и не тот, в ком избыток его, а тот, кто занимает здесь срединное положение. Уравновешенность — среднее между названными движениями чувств (pathon).
Щедрость (eleytheriotes) — среднее между расточительностью и скупостью. Эти движения чувств касаются денег и богатства. Расточителен тот, кто тратит, на что не надо, больше, чем надо, и когда не надо. Скупой, напротив, не тратит, где надо, сколько надо и когда надо. Оба достойны порицания: один — за недостаток, другой — за избыток. Щедрый, поскольку он заслуживает похвалы, должен быть чем-то средним между ними. Кто же он? Тот, кто тратит, где надо, сколько надо и когда надо.
Между прочим, существует много видов скупости: мы, например, называем иных скрягами, иных — крохоборами, корыстолюбцами, мелочными. Все они подпадают под [определение] скупости. Поистине зло многообразно, добро же единовидно: здоровье, например, просто, а болезнь многообразна. Все виды скупцов заслуживают порицания за свое обращение с деньгами. Свойственно ли щедрому приобретать деньги и копить их? Или, скорее, нет? И ни одна из прочих добродетелей этим тоже не занимается. В самом деле, ковать оружие — это дело не мужества, а чего-то другого, но дело мужества — взять его и правильно им воспользоваться. То же [можно сказать] о благоразумии и прочих добродетелях. Заниматься приобретением, конечно, свойственно не щедрости, а искусству приобретения (chrematistik).
25. Благородство (megalopsykhia) — это середина между кичливостью и приниженностью. Дело тут касается чести и бесчестья — чести, которая воздается не толпой, а достойными людьми, и именно такой чести больше всего. Ведь достойные люди воздадут честь, правильно поняв и рассудив, а благородный сам предпочтет, чтобы честь ему воздали те, кто сознает, что он достоин чести. И не ко всякой чести будет иметь отношение благородство, а лишь к самой высокой, когда это чтимое есть благо, причем такое, которое занимает в ряду благ место первоначала[16].
Люди жалкие и дурные, но мнящие себя великими и думающие, что их должны соответственно чтить,— кичливы. Те же, кто считает себя достойными меньшего, чем им подобает,— приниженны. Значит, посредине между ними стоит тот, кто не считает себя достойным меньшей чести, чем ему подобает, но и не мнит себя достойным большей, причем не всякие почести принимает. Таков благородный. Ясно, таким образом, что благородство — середина между кичливостью и приниженностью.
26. Широта (megaloprepeia) — середина между мотовством и мелочностью. Широта — [добродетель, относящаяся к] тратам, которые следует делать при подобающих обстоятельствах. Тот, кто тратит, где не надо,— мот; скажем, если кто угощает пирующих в складчину так, словно это брачное пиршество, то он мот (мот — это человек, который в неподходящее время показывает свое благосостояние). Мелочный ведет себя противоположным образом: там, где нужны большие траты, он не станет их делать, или, неся расходы на хорегию или свадьбу, будет тратиться недостойно, скудно. Таков мелочный. Широта уже самим своим названием показывает, что она такова, как мы о ней говорим. Ведь когда человек в подобающее время широко тратится, то «широта» правильно обозначает его. Итак, широта, поскольку она заслуживает одобрения, есть некая середина между недостаточностью и чрезмерностью в расходах, когда человек растрачивается подобающим образом на то, на что следует.
Существуют, по общему мнению, многие виды широты. Ее имеют в виду, когда говорят, например: «Он сделал широкий жест». И в других подобных случаях о широте говорят в переносном, а не в прямом смысле, потому что широта заключается не в этих вещах, а в тех, о которых мы сказали.
27. Негодование (nemesis) — середина между завистью и злорадством. И то и другое чувство заслуживает порицания, негодующий же достоин одобрения. Негодование — это скорбь о том, что блага принадлежат недостойному; негодующий — тот, кого огорчают такие вещи. Он же огорчится и тогда, когда увидит, что кто-то страдает незаслуженно. Таковы негодование и негодующий. Завистливый же ведет себя противоположным образом. Его будет огорчать благоденствие любого человека, будь оно заслуженное или незаслуженное. Так же и злорадный будет рад беде любого человека, заслуженной и незаслуженной. Негодующий же не таков, он как бы некая середина между ними.
28. Чувство собственного достоинства (semnotes) — середина между своенравием и подхалимством. Оно проявляется при взаимном общении людей. Своенравный таков, что не способен ни общаться, ни разговаривать с кем-либо. Само имя, по-видимому, указывает на его характер: своенравный — это как бы нравящийся сам себе и довольный самим собой. А подхалим —это умеющий общаться со всеми, всячески, везде. Ни тот ни другой не похвальны. Похвален тот, у кого есть чувство собственного достоинства; как средний между ними, он общается не с любым без разбора, а с достойными и не сторонится всех, но входит в общение с достойными же.
29. Скромность (aidos) — середина между бесстыдством и стеснительностью. Она проявляется в поступках и словах. Бесстыжий говорит и действует как придется, при любых обстоятельствах, обращаясь ко всякому. Стеснительный, напротив, остерегается делать и говорить что бы то ни было перед кем бы то ни было (ведь человек, во всем стесняющийся, бездеятелен). Скромность и скромный — некая середина между ними: скромный не станет вслед за бесстыжим говорить все и по-всякому, но и не будет, подобно стеснительному, остерегаться всего и всегда, а будет говорить и делать там, где надо, что надо и когда надо.
30. Чувство юмора (eytrapelia) — середина между шутовством и дикарством. Его область — насмешки. Шут считает нужным по всякому поводу смеяться над всем, а дикарь отказывается сам смеяться, не хочет, чтобы над ним смеялись, и сердится. Посредине между ними человек с чувством юмора. Он не смеется надо всем по всякому поводу, но и не дичится. О чувстве юмора можно говорить в двух смыслах: человек с чувством юмора — это и тот, кто умеет отпустить меткую шутку, и тот, кто переносит насмешки.
31. Дружелюбие (philia) — середина между лестью и враждой. Проявляется оно в поступках и словах. Льстец добавляет больше того, что должно и что имеется на самом деле, а враждебный ненавистник отнимает и то, что есть. Ни тот ни другой по справедливости не заслуживают одобрения. Дружелюбный же занимает срединное место между ними: он не станет добавлять сверх того, что есть, и не будет хвалить того, что не должно, однако и принижать не будет и ни в каком случае не станет говорить противное тому, что думает. Таков дружелюбный.
32. А правдивость (aletheia) — среднее между притворством (eirоneias) и хвастовством и проявляет себя в речах, однако не во всяких. Хвастун выказывает себя имеющим больше того, что у него есть, или знающим то, чего не знает; притворщик, напротив, делает вид, что имеет меньше, чем на самом деле, и не говорит того, что знает, но скрывает свое знание. Правдивый не станет делать ни того ни другого: он не будет делать вид, что имеет больше или меньше того, что имеет, но скажет и про имущество, и про знание, что у него есть то, что есть.
Добродетели ли это или не добродетели — об этом другое исследование[17]. Ясно, однако, что они — середины между названными [крайностями], и люди, живущие сообразно [такой середине], бывают хвалимы.
33. Осталось сказать еще о справедливости (dikaio- synes) — что она такое, в чем проявляется и к чему относится. Возьмем сначала справедливое — что оно такое. Справедливое бывает двух родов. Один из них — соответствие закону: справедливым называют то, что приказывает закон. Закон велит поступать мужественно, благоразумно и вообще вести себя в согласии с тем, что зовется добродетелями. Вот почему, как говорят[18], справедливость — это, по-видимому, некая совершенная добродетель. Ведь если справедливое — это то, что велит делать закон, а закон приказывает исполнять все добродетели, то поступающий справедливо в соответствии с требованиями закона достигнет совершенного достоинства, так что справедливый и справедливость — это некая совершенная добродетель. В этом состоит и к этому относится один род справедливого. Однако мы исследуем не такое справедливое и не такую справедливость. В самом деле, при таком понимании справедливого возможно быть справедливым самому с собой: благоразумный, мужественный, воздержный бывает таким сам по себе. От упомянутого справедливого, требуемого законом, отличен второй род справедливого — справедливое по отношению к другому человеку. В вещах справедливых по отношению к другому человеку нельзя быть справедливым [только] для самого себя. А мы исследуем как раз справедливое по отношению к другому и соответствующую ему справедливость[19].
Справедливое по отношению к другому есть, собственно говоря, равенство (to ison). В самом деле, несправедливое — это неравное: когда люди наделяют себя хорошими вещами больше, а плохими меньше, то тут имеет место неравенство, и принято думать, что таким путем совершают несправедливость и подвергаются ей. Итак, если несправедливость сводится к неравенству, то очевидно, что справедливость и справедливое состоят в равенстве обязательств (symbolaioi)). Поэтому ясно, что справедливость есть некая середина между излишеством и нехваткой, между многим и малым: несправедливый, совершая несправедливость, имеет больше, а терпящий несправедливость, подвергаясь ей, имеет меньше. Середина между ними — справедливое, среднее же — это равное. Так что равное между большим и меньшим справедливо, а справедливый — это человек, стремящийся иметь равное. Причем равное бывает между по меньшей мере двумя лицами. Итак, быть равным по отношению к другому справедливо, и такого человека можно назвать справедливым.
Поскольку, однако, справедливость заключена в справедливом, то есть в равном, то есть в середине, причем о справедливом говорится как о справедливом в чем-то, о равном — как о равном чему-то, о среднем — как о среднем между чем-то, то, следовательно, справедливость и справедливое будут таковыми по отношению к кому-то и в чем-то.
Если справедливое — это равное, то пропорционально равное также будет справедливым. Пропорциональность предполагает самое меньшее четыре члена: А так относится к В, как Г к Д. Например, есть пропорциональное [равенство] в том, что имеющий большое имущество делает большой взнос, а имеющий малое — малый взнос, и равным образом в том, что понесший большие труды получает много, а понесший малые — мало. Как потрудившийся относится к нетрудившемуся, так [полученное первым] многое относится к [полученному вторым] малому, а потрудившийся относится [к полученному им] многому, как нетрудившийся — к [полученному им] малому. И Платон в «Государстве» явно применяет эту справедливую пропорциональность[20]. Земледелец, говорит он, производит хлеб, строитель — дом, ткач — плащ, сапожник — обувь; и земледелец при этом дает строителю хлеб, а строитель земледельцу — дом, и равным образом все прочие вступают в такие же соотношения, обменивая свои изделия на то, что есть у других. В этом состоит пропорция: земледелец так относится к строителю, как строитель к земледельцу. Равным образом и между сапожником, ткачом и всеми другими существует одинаковая пропорция взаимных отношений, и этой пропорциональностью держится общественная жизнь (politeian). Таким образом, справедливое — это, по-видимому, пропорциональное; общественная жизнь держится справедливостью, и справедливое — то же, что пропорциональное. Поскольку, однако, строитель ценит свою работу выше, чем сапожник, и сапожнику было трудно обмениваться со строителем — в обмен на обувь нельзя было брать дом,— то постановили (enomisan) пользоваться серебром, объявив его монетой (nomisma), за которую все это можно купить: каждый за свою вещь назначал цену, и так производили обмен друг с другом; тем самым поддерживалась государственная общность (politiken koinonian).
Итак, если справедливое заключено в таких вещах и в том, о чем сказано выше, то справедливость в отношении к ним есть некое расположение (hexis), намеренно стремящееся к названным вещам в названных обстоятельствах.
Справедливое — это также и взаимопретерпевание (to antipeponthos), но не в том смысле, какой вкладывали в него пифагорейцы[21]. Они полагали, что справедливо претерпеть самому то, что сделал другому. Но такое определение не может относиться ко всем. Ведь не одно и то же справедливо для слуги и для свободного: если слуга ударит свободного, справедливо ответить не ударом, а многими, то есть взаимопретерпевание справедливо тоже при пропорциональности: со- отношение, какое существует между свободным как высшим и рабом, существует и между ответным действием и действием раба. Таким же [пропорциональным] будет и отношение свободного к свободному. Если кто вырвал кому глаз, то справедливое не в том, чтобы в ответ и ему только глаз вырвали, но в том, чтобы он потерпел еще больше, с соблюдением пропорциональности: ведь и начал он первый, и поступил несправедливо; он несправедлив вдвойне, и справедливо, чтобы пропорционально несправедливостям и он претерпел в ответ больше того, что сделал.
Поскольку о справедливом говорится во многих значениях, следовало бы определить, какое именно справедливое мы исследуем.
Говорят, что есть место для справедливости в отношениях слуги к господину и сына к отцу. Но справедливое тут, по-видимому, лишь омоним к справедливому между гражданами государства. Справедливость, которую мы исследуем,— это гражданская справедливость, то есть она больше всего сводится к равенству (ведь граждане — это своего рода «общники»[22] и по природе стремятся к равенству, но различаются нравом), в отношениях же сына к отцу и слуги к господину нет, как нам кажется, ничего от такой справедливости. Ведь [нет ничего от такой справедливости и в отношениях] ко мне моей ноги или моей руки, равно как и любого из моих членов. Таково, по-видимому, и отношение сына к отцу. Сын — это как бы некая часть отца, пока он не встанет в разряд взрослых мужчин и не отделится от отца. Тогда он уже равен и подобен отцу. Именно таковыми стремятся быть граждане. По той же причине нет ничего от справедливости в отношениях слуги к господину. Слуга — это нечто принадлежащее господину. Если и существует для него справедливое, то это «домашнее справедливое» по отношению к нему. Мы же исследуем не такое справедливое, а гражданское. Гражданское справедливое состоит, по-видимому, в равенстве и подобии. Однако к государственному справедливому близко справедливое, бывающее в общении между мужем и женой. Жена ниже мужа, но очень близка ему и в наибольшей мере причастна его равенству, поэтому жизнь их близка к общению, которое имеет место среди граждан, и выходит, что справедливое в отношениях между женой и мужем преимущественно перед другими [видами справедливого] есть [справедливое] гражданское. Итак, поскольку справедливое — это то, что находит себе место в общении людей внутри государства, справедливость и справедливый человек имеют отношение к гражданскому справедливому.
Справедливость может быть природная и установленная законом. Однако не надо понимать этого так, будто [в первом случае] не бывает никаких перемен. Ведь и с вещами, существующими от природы, происходят изменения. Скажем, если бы все мы постоянно упражнялись в бросании левой рукой, обе наши руки стали бы правыми. Но по своей природе левая рука — это левая, и правая все равно лучше, чем левая, в силу своей природы, хотя бы мы и все делали левой рукой, как правой. Из-за этих перемен вещи не перестают быть по природе тем, что они есть. И если в большинстве случаев и большую часть времени левая рука остается левой, а правая — правой, это у них от природы. Так же обстоит дело и со справедливым от природы. Если при нашем обращении с ним оно изменяется, это не значит, что нет справедливого от природы. Оно есть. Остающееся в большинстве случаев справедливым, видимо, и есть справедливое от природы. То, что мы сами положим и признаем справедливым, становится после этого таковым, и мы называем его справедливым по закону. Справедливое от природы выше справедливого по закону, однако исследуем мы гражданское справедливое, а оно существует по закону, не от природы. Может показаться, что несправедливое (adikon) и несправедливое дело (adikema) —одно и то же, но это не так. Несправедливое — это определенное законом; например, несправедливо не возвращать полученного на хранение. Несправедливое дело — это уже совершенный несправедливый поступок. Равным образом и справедливое (dikaion) не тождественно справедливому делу (dikaiopragema): справедливое — это определенное законом, а справедливое дело — совершение справедливых поступков.
Когда имеет место справедливое, а когда нет? Говоря вообще, когда человек поступает по свободному выбору, добровольно (о том, что такое добровольно, мы говорили выше) и сознавая, по отношению к кому, каким способом и ради чего он это делает, при таком условии совершается справедливое. Подобно этому и несправедливый человек — это тот, кто действует, сознавая, по отношению к кому, каким способом и ради чего [он действует]. Если же кто поступит несправедливо, не ведая ни одной из этих вещей, то он не нарушитель справедливости, а несчастный. Так, если, думая, что убивает врага, человек убьет отца, он поступит несправедливо, однако в этом случае он будет не нарушителем справедливости, а несчастным. Поскольку совершающий несправедливое не бывает нарушителем справедливости, если поступает по неведению, о чем мы только что вели речь, говоря, что он действует, не зная кому, чем и ради чего наносит вред, нам надо теперь дать определение неведению, [показав], в каком случае человек не бывает несправедлив если даже вредит кому-либо в неведении. Пусть определение звучит так: когда неведение — причина какого-то поступка и человек совершает его не по доброй воле, он не нарушитель справедливости; когда же человек сам причина своего неведения и делает что-то в неведении, он ведет себя несправедливо, и его по праву будут звать несправедливым. Возьмем пьяниц. Совершившие зло в пьяном виде — нарушители справедливости, потому что они сами причина своего неведения. Ведь они могли не напиваться до такой степени, чтобы не сознавать, что бьют отца. Подобно этому и в других случаях нарушителями справедливости бывают те, кто совершает неправый поступок по неведению, которому причина — они сами. Если же не они сами в нем виновны и причина, по которой содеянное ими было содеяно, — неведение, то они не нарушители справедливости. Таким неведением бывает естественное неведение. Дети, например, в неведении бьют родителей, однако такое естественное неведение не заставляет нас за подобное действие называть детей нарушителями справедливости, потому что причина поступка тут — неведение, но дети неповинны в нем, поэтому и не называют их несправедливыми.
А как с перенесением несправедливости? Можно ли добровольно терпеть несправедливость? Или, скорее, нельзя? В самом деле, мы добровольно совершаем справедливые и несправедливые поступки, но терпим несправедливость от других недобровольно. Мы избегаем даже быть наказанными, так что очевидно, что по доброй воле мы не станем подвергаться несправедливости. Добровольно никто не терпит вреда себе, а терпеть несправедливость — это значит терпеть вред.
Да, скажут нам, но бывает, что люди уступают кому-то, имея право на равную долю, так что если равное, как мы говорили, справедливо, а меньшее — несправедливо, причем имеющий меньше соглашается добровольно, то, выходит, он добровольно подвергается несправедливости. Но что это опять же не так, ясно из следующего. Все берущие себе меньшую долю приемлют взамен честь, похвалу, славу, дружбу или иное, что в том же роде, а кто получает что-либо взамен того, что упускает, уже не терпит несправедливости; если же не терпит несправедливости, то и не терпит ее по доброй воле. И еще: берущие себе меньшую долю, то есть терпящие несправедливость, как не получающие равного, рисуются этим и превозносятся, говоря: «Я мог взять равную долю и не взял, но уступил старшему или другу». Но терпящий несправедливость никогда этим не станет превозноситься. Если терпящим несправедливость не свойственно превозноситься, а в данном случае люди превозносятся, то, неся ущерб, они не терпят несправедливости; если же не терпят несправедливости, то и не могут терпеть несправедливость добровольно.
Этому и подобным доводам противостоит довод «от невоздержности». А именно невоздержный вредит сам себе, причиняя зло, и делает это добровольно; сознательно вредя сам себе, он, выходит, сам от себя терпит несправедливость добровольно. Однако и здесь известное разграничение не позволяет воспользоваться этим доводом. Разграничение сводится к тому, что никто не хочет терпеть несправедливость. Невоздержный же охотно предается своему невоздержанию, так что сам по отношению к себе совершает несправедливость. Значит, он хочет, чтобы с ним случилось дурное; но ни у кого не бывает желания терпеть несправедливость. Так что и невоздержный тоже не причиняет добровольно сам себе несправедливость.
Однако, пожалуй, тут опять кто-нибудь задастся вопросом, возможно ли поступать несправедливо с самим собой? Если смотреть с точки зрения невоздержного, то, видимо, возможно. И еще следующим образом несправедливость по отношению к самому себе представляется возможной. Если справедливы те дела, которые устанавливает закон, то человек, не исполняющий их, несправедлив, и если он упустил возможность исполнить их по отношению к лицу, на которое указывает закон, то этому лицу такой человек наносит несправедливость. Но закон [в числе прочего] велит быть благоразумным, приобретать имущество, заботиться о теле и тому подобное; выходит, кто ведет себя не так, тот причиняет несправедливость сам себе, ведь несправедливость в этом случае ни на кого другого не распространяется. Однако [подобное рассуждение] едва ли было правильным, и невозможно, чтобы человек был в этом смысле несправедлив по отношению к самому себе. В самом деле, невозможно, чтобы один и тот же человек одновременно имел и больше и меньше, поступал добровольно и недобро-вольно. Но поступающий несправедливо в силу того, что он несправедлив, имеет больше, а терпящий несправедливость тем самым, что он ее терпит, имеет меньше. Поэтому, если он сам по отношению к себе несправедлив, получается, что один и тот же человек в одно и то же время имеет и больше и меньше. Но это невозможно. Значит, невозможно, чтобы человек сам по отношению к себе был несправедлив.
И еще. Поступающий несправедливо действует добровольно, а терпящий несправедливость терпит ее невольно, так что если возможно быть несправедливым по отношению к самому себе, то окажется возможным делать одновременно что-то и по доброй воле, и не по доброй. Но это невозможно. Значит, и такое рассуждение исключает возможность несправедливости по отношению к самому себе.
И еще: возьмем несправедливые поступки каждый в отдельности. Люди несправедливы, когда не отдают залога, развратничают, воруют или делают другое какое-нибудь несправедливое дело. Но никто никогда но лишал сам себя своего залога, не впадал в блуд с собственной женой и не воровал сам у себя. Поэтому если в этом состоят несправедливые поступки, то невозможно быть несправедливым по отношению к самому себе. Если все же тут возможна несправедливость, то это «домашняя несправедливость» (oikonomikon adikema), а не гражданская. Ведь душа, разделенная на много частей, имеет в себе часть лучшую и худшую, так что если возникает какая-то несправедливость в душе, то это несправедливость частей души по отношению друг к другу. Такую «домашнюю несправедливость» мы подразделили на несправедливость по отношению к худшей и лучшей части, когда сам человек поступает с собой справедливо и несправедливо. Мы рассматриваем, однако, не это, а гражданскую несправедливость. Таким образом, пока речь идет о несправедливостях, которые подлежат нашему рассмотрению, поступать несправедливо с самим собой невозможно.
И еще вопрос: кто из двух совершает несправедливость и в ком [источник] несправедливого поступка — в получившем что-либо несправедливо или в том, кто судит и присуждает, как случается при состязаниях? Получивший пальму от председательствующего и присудившего ее не бывает не прав, хотя бы пальма была дана ему несправедливо; тот же, кто плохо рассудил и дал ее,— несправедлив. Но и он несправедлив в одном отношении, а в другом — прав: он не различил того, что по истине и но природе своей справедливо, и потому не прав, однако остается правым по отношению к тому, что самому ему кажется справедливым.
34. Про добродетели мы успели сказать и что они такое, и в чем заключены, и на какие вещи направлены, а про каждую из них сказали, что мы поступаем наилучшим образом, действуя в соответствии с правильным рассуждением (kata ton orthonlogon)[23]. Но говорить о действиях в соответствии с правильным рассуждением — это все равно как если бы мы сказали, что всего лучше достичь здоровья, если применять средства, приносящие здоровье. Тут нет ясности (asaphes). И мне скажут: разъясни, какие средства приносят здоровье. Так и относительно рассуждения [надо выяснить], что оно такое и когда оно правильно.
Необходимо, пожалуй, определить сначала, какой [части души] присущ разум. Выше мы уже провели разграничение в общих чертах, сказав, что в душе есть часть, имеющая разум (logon ekhon), и часть, не пользующаяся разумным рассуждением (alogon). Обладающая разумным рассуждением часть души делится на две части — на совещательную (boyleytikon) и познавательную (epistemonikon). To, что они отличны друг от друга, можно обнаружить исходя из того, на что они направлены. Подобно тому как отличны друг от друга цвет, вкус, звук, запах, различны и чувства, которые природа дала для их восприятия: мы узнаем звук при помощи слуха, вкус — при помощи органа вкуса, цвет — при помощи зрения. Таким же способом надо рассуждать и об остальном: поскольку душе подлежат разные предметы, разнообразны и части души, которыми мы их познаем. Мыслимое отлично от чувственного, но и то и другое мы познаем душой; значит, не одна и та же часть будет иметь отношение к вещам мыслимым и чувственным. Совещательная, то есть избирающая (proairetikon), часть души направлена на чувственные предметы, на то, что находится в движении, и вообще на то, что подлежит возникновению и уничтожению, В самом деле, мы совещаемся относительно вещей, делать или не делать которые зависит от нашего выбора, для которых возможны обсуждение и выбор, делать их или не делать. Но таковы вещи чувственные и находящиеся в подвижной изменчивости. Поэтому, если так рассуждать, избирательная часть души касается вещей чувственных[24].
После этих разграничений, — поскольку речь идет об истине, мы же исследуем, как проявляет себя истина, и поскольку [в качестве проявлений истины] существуют знание, разумность, ум, мудрость, предположение,— должно сказать, на что эти последние направлены. Знание (episteme) распространяется на то, что познаваемо при помощи доказательства и рассуждения; разумность (phronesis) касается вещей, связанных с деятельностью, когда имеет место выбор и уклонение, когда делать что-либо или не делать зависит от нас. Создавая вещи, мы делаем их, а исполняя, действуем, и это не одно и то же[25]. При создании наряду с деланием есть еще и другая цель. Возьмем, например, строительное искусство. Оно есть создание домов, и цель его — готовый дом, а не только его делание. Это относится и к плотницкому делу, и к прочим видам создающей деятельности. При исполнении нет иной цели, кроме самого действия. Так, например, при игре на кифаре нет никакой иной цели, и сама цель ее как раз и есть действие игры, исполнение. Разумность направлена на такое действие и на вещи исполняемые, а мастерство (techne) — на дела и создаваемые вещи; недаром изобретательность больше проявляет себя в делах создаваемых, чем в исполняемых. Поэтому можно признать, что разумность — это некое состояние выбора и исполнения действий, исполнять или не исполнять которые зависит от нас,— действий, которые направлены на пользу.
Разумность — это, пожалуй, добродетель, а не знание. Ведь разумных хвалят, хвалят же за добродетель. И еще: существует наивысшая степень всякого знания, но для разумности нет высшей степени, потому что она сама, по-видимому, уже есть некая высшая степень.
Ум (noys) направлен на первоначала вещей умопостигаемых и сущих. В самом деле, знание имеет дело с вещами доказуемыми, первоначала же недоказуемы, поэтому не знание, а ум имеет дело с первоначалами. Мудрость же (sophia) сложена из знания и ума. Ведь мудрость имеет дело и с первоначалами, и с тем, что происходит из первоначал и на что направлено знание; поэтому в той мере, в какой мудрость имеет дело с первоначалами, она причастна уму, а в той, в какой она имеет дело с вещами доказуемыми, существующими вслед за первоначалами,— она причастна знанию. Итак, ясно, что мудрость состоит из ума и знания, так что она должна быть направлена на те же предметы, что ум и познание.
Предположение же (hypolepsis) — это [способность] сомневаться, когда мы думаем обо всем, так ли обстоит дело или не так.
Одно и то же ли разумность и мудрость? Или, скорее, нет? Ведь мудрость направлена на вещи доказуемые и неизменные, разумность же — не на них, а на вещи изменчивые. Назовем, к примеру, прямое, кривое, вогнутое и тому подобное — они всегда остаются самими собой. А полезные вещи не пребывают неизменными: сейчас что-то полезно, а назавтра уже нет, одному полезно, другому — нет, в одном виде полезно, а другом — нет. На полезные вещи направлена разумность, но не мудрость. Значит, мудрость отлична от разумности.
Добродетель ли мудрость или нет? Что она — добродетель, можно показать, ссылаясь на разумность. В самом деле, разумность, как мы говорим,— это добродетель одной части из разумных частей души; разумность ниже мудрости, потому что направлена на низшие предметы: мудрость, утверждаем мы, связана с вечным и божественным, разумность — с полезным для человека. Если низшее — добродетель, то для высшего тоже естественно быть добродетелью; поэтому ясно, что мудрость — это добродетель.
А что такое сообразительность (synеsis), на что она направлена? Сообразительность проявляет себя в том же, что и разумность,— в действиях и поступках. Сообразительным человек зовется тогда, когда он способен принять решение и правильно судить и видеть.
Однако суждение его касается малого, в малых вещах. Сообразительность и сообразительный человек — это некая часть разумности и разумного человека, и без них ее не бывает, Нельзя отделить сообразительного от разумного.
Подобным образом, похоже, обстоит дело и с находчивостью (demotes). Находчивость и находчивый человек — это не то же самое, что разумность и разумный, при том что разумный находчив и потому находчивость как-то содействует разумности. Но и дурного человека называют находчивым. Так, например, Ментор был, по-видимому, находчив, но не был разумен. Разумному и разумности свойственно стремиться к самому лучшему, избирать его и всегда выполнять. Находчивости же и находчивому — усматривать, приз помощи каких [средств] может быть выполнено каждое дело, и доставлять их. Итак, находчивый, по-видимому, проявляет себя в этом и имеет дело с подобными вещами.
Может вызвать вопрос и удивление, почему мы, говоря о нравах, то есть неким образом о политике, говорим о мудрости. Во-первых, видимо, потому, что рассмотрение ее не чуждо предмету, если, как мы утверждаем, мудрость — это добродетель. И еще, конечно, потому, что философу свойственно исследовать попутно все, что так или иначе входит в его предмет. Мы говорим о том, что в душе, и необходимо сказать обо всем в ней; мудрость также находится в душе, поэтому речь о мудрости не чужда [нашему предмету].
Как находчивость относится к разумности, так в каждой добродетели, по-видимому, [природное предрасположение относится к совершенному состоянию добродетели]. Всякому человеку, говорю я, уже от природы присущи добродетели. У каждого, например, есть тяга без рассуждения к чему-то смелому и правому, и любая [добродетель предполагает] такую же тягу. Существуют также добродетели по привычке и зависящие от личного выбора. Те, которым сопутствует разум, совершенны и вызывают похвалу. Природной добродетели самой по себе не присуще рассуждение; но если она отделена от рассуждения, то мала и б не вызывает похвалы, если же соединена с рассуждением и выбором, это делает добродетель совершенной. Поэтому природный порыв к добродетели и содействует разумной добродетели, и вместе с тем не может помимо разума стать добродетелью. С другой стороны, и рассуждение и свободный выбор, если нет природного порыва, не достигают состояния совершенной добродетели. Поэтому не прав был Сократ, говоривший, что добродетель — это рассуждение[26]: от поступков-де смелых и справедливых нет пользы, если человек не ведает, [что такое добродетель], и не делает ее предметом своего разумного выбора. На этом основании Сократ называл добродетель рассуждением и был но прав. Нынешние судят лучше: добродетель, говорят они,— это [способность] совершать прекрасные дела, соответствующие правильному рассуждению (kata ton orthon logon). Однако и они не правы. Ведь человек может совершить справедливый поступок без выбора и без знания о том, что такое прекрасное, но действуя по какому-то нерассуждающему порыву, причем его поступок [может быть] правильным и соответствовать правильному рассуждению (то есть, скажем мы, он поступил так, как ему велело бы правильное рассуждение). Однако в этом случае его действие не заслуживает похвалы. Наше определение — «порыв к прекрасному, соединенный с рассуждением» — лучше; такой порыв — это и есть добродетель, и он достоин похвалы. У кого-нибудь, пожалуй, может вызвать вопрос, добродетель ли разумность или нет. Да, она добродетель, и вот откуда это видно: поскольку справедливость, мужество и прочее — добродетели в силу того, что они прекрасные действия и вызывают похвалу, то, очевидно, и разумность должна принадлежать к вещам, вызывающим похвалу и стоящим в ряду добродетелей, коль скоро разумность толкает к тому же поступку, что и мужество. Да и вообще, что бы ни повелела разумность, то мужество и делает. Поэтому если мужество заслуживает похвалы за поступки, которые велит делать разумность, то сама разумность вполне должна заслуживать похвалы и быть добродетелью.
О том, исполняющая ли (praktike) деятельность разумность или нет, можно сделать вывод из следующего, обратив внимание на ремесла, на строительное искусство например. Как мы говорили, в строительстве участвуют двое: один, называемый архитектором, и второй — его помощник, делающий дом. Но и архитектор, поскольку он создавал дом, также создатель дома. Подобным образом обстоит дело и с прочими видами создающей деятельности. В них участвуют руководитель (arkhitokton) и его помощник. Итак, руководитель создает нечто и то же самое создает его помощник.
Если и с добродетелями обстоит дело точно так же, а это и вероятно и правдоподобно, то разумность тоже должна быть исполняющим действием. Ведь все добродетели — исполнители действий, а разумность — это как бы архитектор среди них: как она прикажет, так и действуют добродетели и те, кто им следует. Поэтому раз добродетели [из числа вещей] исполняющих и действующих, то и разумность также должна быть исполняющей и действующей.
Требует решения и такой вопрос: первенствует ли разумность над всем в душе, как на первый взгляд кажется, или нет? Над высшими [свойствами], по-видимому, нет. Над мудростью, например, она не первенствует. Но, скажут, разумность обо всем печется, она — госпожа повелевающая[27]. Ее, пожалуй, можно сравнить с управителем дома. В самом деле, он — господин всего и всем управляет, однако не первенствует надо всем, а доставляет досуг хозяину, чтобы тому [заботы] о жизненных потребностях не мешали творить прекрасные и приличные ему дела. Подобно этому и разумность, словно управитель у мудрости, доставляет мудрости досуг и возможность делать свое дело, сдерживая страсти и вразумляя (sophronidzoysa) их.
КНИГА ВТОРАЯ (В)
1. После этого следует рассмотреть порядочность (epieikeia), что она такое, в чем заключается и на что направлена. Порядочность и порядочный человек — это тот, кто довольствуется меньшим того, на что имеет законное право. А именно, есть вещи, которые законодатель не в силах точно определить по отдельности, но называет их в общем. Кто в этом случае уступает и избирает для себя то, что законодатель хотел определить по отдельности, но не мог, тот человек порядочный. Это не значит, что он вообще умаляет себя в своих законных правах. Он умаляет себя не в правах естественных и подлинных, а лишь в том, что согласуется с законом и что упустил определить законодатель.
2. Сознательность и сознательный (eygncmbri) касаются тех же вещей, что и порядочность,— дел справедливых, по оставленных законом без точного определения. Сознательный — это человек, способный судить о том, что пропущено законодателем, и понимающий, что опущенное тем не менее справедливо. Сознательность не бывает без порядочности. Сознательный — тот, кто судит подобающим ему образом; порядочный — тот, кто действует в соответствии с таким суждением.
3. Рассудительность (eyboyliaj) касается тех же вещей, что и разумность, а именно того, что можно выполнить, избрать или избегнуть, и не бывает без разумности. При этом разумность направлена на действие в таких вещах, а рассудительность — это состояние, расположение или нечто подобное, направленное на достижение наилучшего и полезнейшего в действиях. Поэтому если что-то само собой получается по чьему-то желанию, то рассудительность тут, по-видимому, ни при чем: в тех случаях, где не соучаствует разум с его исканием наилучшего, мы не назовем рассудительным того, у кого что-то вышло по его желанию, а скажем: ему везет. Везение — это удачи, к которым непричастен испытующий разум.
Справедливо ли при обхождении с людьми держать себя как равный с равными? (Например, скажем, при общении с любым человеком считать его таким же, как ты.) Или, скорее, нет? Ведь так, по-видимому, ведут себя и льстец и подхалим. В то же время воздавать при общении каждому по достоинству свойственно, по-видимому, справедливому человеку и достойному.
Затруднение может вызвать вот еще что: если поступать несправедливо — это значит вредить по доброй воле, сознавая, как и зачем, и если вред и несправедливость имеют дело с вещами хорошими и направлены против хорошего, то поступающий несправедливо, т.е. неправый, должен соответственно знать, что хорошо и что дурно, иметь же знание о таких вещах свойственно человеку разумному и разумности. Получается поистине нелепость: неправому присуще величайшее благо — разумность. Или, скорее, неправому не присуща разумность? В самом деле, неправый не видит и не способен различать, что вообще хорошо и что хорошо для него, но ошибается. Разумности же свойственно правильно рассматривать такие вещи. Тут дело обстоит как во врачебной науке: все мы знаем, что целебно вообще и что приносит здоровье, знаем, что чемерица, слабительное, надрезы и прижигания целительны и приносят здоровье, однако мы не владеем врачебной наукой, потому что не знаем, что благо в каждом отдельном случае, как знает это врач, знающий, для кого именно бывает хорошо такое-то средство, когда именно и при каком состоянии. Ведь в этом лишь и состоит врачебная наука. Мы же, хотя знаем о целительных средствах вообще, не владеем врачебной наукой, и она не имеет к нам отношения. Так и человек не-справедливый: он знает, что сами по себе господство, начальствование и власть — благо, но не знает, благо ли это для него и когда именно и при каком его состоянии благо, Но знать это — главное дело разумности, и, следовательно, несправедливому разумность не присуща. Вещи, которые выбирает несправедливый и с которыми он правильно обращается,— блага, но блага сами по себе, а не для него: богатство и власть сами по себе благо, однако для него они могут и не быть благом, потому что, получив достаток и власть, он и сам себе, и друзьям причинит много зла, ведь правильно пользоваться властью он не сможет.
Заставляет задуматься и нуждается в рассмотрении вот еще что: можно ли по отношению к дурному человеку совершать несправедливость? Или нет? Ведь если несправедливость — это [нанесение] вреда, а вред состоит в лишении благ, то [несправедливость], по-видимому, не причиняет [дурному человеку] вреда: дело в том, что блага, которые дурной человек признает для себя благом, не суть для него блага. Богатство и власть будут вредны для дурного человека, не способного правильно ими пользоваться. Итак, если наличие их повредит дурному человеку, тот, кто отнимает их у него, не делает, по-видимому, ничего несправедливого. Толпе такое рассуждение, пожалуй, покажется парадоксальным: ведь все думают, что они способны пользоваться властью, силой, богатством. Однако это мнение превратно, как показывает практика законодательства. Не всем законодатель позволяет начальствовать: для того, кто собирается стать у власти, определяется возраст и достаток, потому что не всякий способен быть начальником. Если же кто-то вознегодует от того, что он не у власти, или от того, что ему не позволяют управлять, ему можно сказать: у тебя в душе нет того, при помощи чего ты мог бы начальствовать и управлять. Мы видим также, что [больному] телу не могут принести здоровья вещи, хорошие сами по себе, но, кто хочет вылечить больное тело, должен прежде всего пить воду и принимать малое количество пищи. Точно так же тому, у кого душа негодна, разве не следует, чтобы не делать ничего дурного, воздерживаться от богатства, власти, силы и тому подобных вещей, тем более что душа намного подвижнее и переменчивее тела? Подобно тому как больному телом необходим указанный образ жизни, так и человеку с больной душой надо вести подобную жизнь, не имея ничего из вышеназванного.
Затруднение вызывает и такой вопрос: как надо действовать, если нельзя действовать в одно и то же время и мужественно, и справедливо? Мы уже говорили, что во врожденных добродетелях есть только тяга к прекрасному, но нет разумного основания. Человек же, делающий выбор, делает его при помощи разума и [в той части души, которая] обладает способностью рассуждать. Поэтому [в таком человеке] найдут себе место и выбор, и совершенная добродетель, которая, как мы говорили, соединена с разумностью и не бывает без врожденной тяги к прекрасному. Добродетель не станет противницей добродетели, ведь ей свойственно подчиняться разуму и [действовать], как он велит: куда бы он ни повел, туда она и склоняется. Разум же избирает лучшее. Прочих добродетелей нет без разумности, и совершенная разумность не бывает одна, без других добродетелей: они как-то сотрудничают (synergoysi) друг с другом, сопутствуя разумности.
Трудно решить и такой вопрос: обстоит ли с добродетелями дело так же, как и с прочими благами — внешними и относящимися к телу? Эти блага, когда их слишком много, портят людей. Так, большое богатство превращало людей в спесивых и неприятных. То же можно сказать про другие блага — власть, почет, красоту и величие. Не так ли обстоит дело и с добродетелями и не станет ли человек хуже, имея в себе избыток справедливости и мужества? Или нет? Конечно, не станет. Однако ведь добродетель вызывает к себе почтение, а слишком большой почет делает людей худшими: добродетель — причина почета, поэтому, возрастая, добродетель может портить людей. Или это не так? В самом деле, несмотря на то, что у добродетели много других дел, главное среди них — уметь правильно пользоваться такими и им подобными благами. Если достойный человек, облеченный и большим почетом, и властью, не пользуется ими правильно, то он уже не может называться достойным человеком. Ни почет, ни власть не портят достойного, а значит, не портит его и добродетель.
В общем же, как мы определили вначале, добродетели — это середина, и, чем добродетель выше, тем в большей мере она середина. Поэтому добродетель, возрастая, сделает человека не худшим, а лучшим. Середину же мы назвали серединой между бессилием страстей и их избытком.
4. Об этом сказано. Теперь нам следует обратиться к новой теме и говорить о воздержности и невоздержности. И добродетель эта, и порок необычны (atopoi); необычными по необходимости будут и рассуждения о них. Добродетель эта не похожа на остальные добродетели. В самом деле, [если взять] другие добродетели, то разум и [добродетельное] чувство устремлены к одному и тому же и не противятся друг другу[28], в этом же случае разум и чувство друг другу противятся.
В душе коренятся три свойства, за которые нас называют дурными: порочность (kakia), невоздержность (akrasia), зверство. О порочности и о добродетели, что они такое и в чем состоят, мы уже говорили выше. Теперь следовало бы сказать о необузданности и зверстве.
5. Зверство (theriotes) — это крайняя испорченность (kakia). Когда мы видим полного негодяя, мы говорим, что это не человек, а зверь, допуская тем самым, что есть такой порок — зверство. Противоположная добродетель остается безымянной: она выше человека, как героическая и божественная. Безымянна же эта добродетель потому, что у бога нет своей добродетели: бог выше всякой добродетели, и не добродетелью определяется его достоинство, потому что в таком случае добродетель будет выше бога. Вот почему безымянна добродетель, противоположная пороку зверства. Этому пороку противостоит [добродетель] божественная, не человеческая. Подобно тому как зверство — порок не человеческий, так и противоположная ему добродетель.
6. Начинать рассуждение о невоздержности (akra-sias) и воздержности (egkrateias) надо с вещей, вызывающих вопросы, и с доводов, противоречащих тому, что кажется очевидным, чтобы, приняв во внимание доводы, в которых заключены трудности и противоречия, рассмотреть их, исследовать и узнать истину об этих вещах, насколько это возможно. Так легче будет увидеть истину. Сократ старший[29] совсем упраздняет невоздержность, он утверждает, что ее нет, заявляя, что никто не изберет для себя зло, зная, что это зло. Невоздержный же, по-видимому, знает, что зло — это зло, однако, гонимый страстью, отдает ему предпочтение. В силу этого довода Сократ полагал, что не существует невоздержности. Но он не прав. Нелепо, доверившись такому рассуждению, не заметить того, в существовании чего мы убеждаемся на опыте. Невоздержными люди бывают, и они знают, что поступают дурно, однако поступают так. Если же невоздержность существует, то встает вопрос: обладает ли невоздержный каким-то знанием (epistemen), при помощи которого он видит и исследует, что дурное дурно? По-видимому, нет, потому что нелепо, чтобы самое лучшее и прочное в нас было побеждаемо чем-то, а ведь знание — это как раз и есть самое постоянное в нас и самое неодолимое. Итак, [сократовское] рассуждение опровергается еще одним доводом — доводом, что знания [у невоздержного] нет.
Знания нет, но, может быть, есть мнение? А если невоздержный обладает мнением, то его нельзя порицать. Ведь если он в чем-то ведет себя нехорошо, не зная этого наверное, но лишь догадываясь, то ему простительно то, что он прельстился наслаждением и поступил дурно, не зная наверное, а лишь догадываясь. Тех же, для кого мы находим извинение, мы не порицаем, так что невоздержный, если он обладает одним только мнением, не вызовет порицания. Но он вызывает его!
Вот таковы рассуждения, заводящие в тупик: к бессмыслице приводят доводы, утверждающие, что [невоздержный] не обладает знанием; к такой же бессмыслице приводят и доводы, говорящие, что у него нет также и мнения.
У кого-то вызовет вопрос вот еще что: человек благоразумный (sophron) считается воздержным; но будет ли он испытывать сильное влечение к чему-либо? Если он воздержан, то он должен испытывать сильное влечение; ведь не назовешь воздержным человека, который умеет сдерживать в себе только спокойные влечения. Охваченный же сильными влечениями уже не будет благоразумным, потому что благоразумен тот, кто не имеет таких влечений и страстей[30].
Возникает и такая трудность: есть основания говорить, что в некоторых случаях невоздержный вызывает одобрение, а воздержный — порицание. Допустим, говорят, что кто-то рассуждает ошибочно и, когда рассуждает, хорошие вещи кажутся ему дурными, желание же его устремлено к хорошему. Выходит, что разум не позволит ему действовать, но он [все равно] будет действовать, увлекаемый своим желанием, ведь невоздержный именно таков. И он совершит прекрасный поступок,— в самом деле, как мы допустили, желание влечет его к этому; разум же станет препятствовать,— мы ведь допустили, что он ошибается в своем рассуждении о прекрасном. Такой человек будет невоздержан, но вызовет одобрение: он заслуживает одобрения тем, что поступок его хорош. Получается явная нелепость. Сделаем еще и такое допущение: человек рассуждает ошибочно, и прекрасные вещи не кажутся ему прекрасными, но желание влечет его к этим прекрасным вещам; воздержан же тот, кто чего-либо сильно желает, но не делает, потому что его останавливает разум. И вот человек, рассуждающий ошибочно о прекрасных вещах, не позволит себе сделать то, что ему хочется сделать, а дело, от которого он себя удерживает,— хорошее дело, к нему ведь влекло его желание. Однако тот, кто не делает хорошего дела, когда его надо сделать, достоин порицания. Значит, воздержный будет иногда вызывать порицание. Такой вывод тоже нелеп.
Во всем ли и по отношению ко всему ли [проявляют себя] невоздержность и невоздержный — например, по отношению к деньгам, почету, гневу, славе; ведь именно в таких вещах люди, по-видимому, бывают невоздержны, — или, напротив, невоздержность проявляет себя в чем-то определенном? Этот вопрос тоже может вызвать затруднение.
Таковы вещи, ставящие нас в тупик. Но надо решить эти вопросы. Первый вопрос — о знании. Нелепым казалось то, что человек, обладающий знанием, лишается его или изменяется. Тот же довод сохраняет свою силу и для мнения, потому что безразлично, идет ли тут речь о знании или о мнении: если мнение сильно тем, что оно твердо и непоколебимо, то, когда люди придерживаются мнения, что все обстоит так, как им кажется, мнение ничем не будет отличаться от знания. Таким, например, было мнение Гераклита Эфесского о вещах, о которых он имел свое мнение[31].
В том, что невоздержный, обладающий знанием пли таким мнением, о каком мы говорим, поступает дурно, нет ничего нелепого. Дело в том, что знание бывает двух родов: можно обладать знанием (мы говорим, что человек знает, когда он имеет знание), а можно действовать при помощи знания. Так вот, невоздержный имеет знание о прекрасном, но не действует в согласии с таким знанием. Когда он не действует в соответствии со своим знанием, он может действовать порочно, хотя и обладает знанием, и в этом нет ничего нелепого. Тут происходит то же, что со спящими: они, хотя и обладают знанием, однако во сне делают и претерпевают много неприятного, потому что знание не действует в них. Подобным образом ведет себя и невоздержный. Он похож на спящего и не действует при помощи знания. Так разрешается это затруднение. Возникал вопрос: отбрасывает ли в этих случаях невоздержный знание или изменяет его? И то и другое, по-видимому, нелепо. Внести ясность в этот вопрос можно. Как мы говорили в «Аналитиках», силлогизм состоит из двух посылок: первой — общей и второй — подчиненной ей и частной[32]. Например: я умею всякого человека, страдающего горячкой, сделать здоровым; но вот этот человек страдает горячкой; следовательно, я умею и его сделать здоровым. Может случиться, что я знаю, как обращаться со знанием вообще, по не знаю, как быть с ним в частном случае. Отсюда может возникнуть ошибка у обладающего знанием: [я умею] любого страдающего горячкой сделать здоровым, но не знаю, страдает ли горячкой вот этот человек. Так ошибается и невоздержный, обладающий знанием. Ведь возможно, что невоздержный обладает общим знанием, какие вещи вредны и дурны, но не знает, что именно такие-то отдельные вещи вредны, поэтому, обладая знанием, он допустит ошибку. Знание общего у него есть, а знания частного нет. Следовательно, опять нет ничего нелепого, если невоздержный, обладая знанием, поступает дурно. Это как с пьяными. Пьяные, когда их оставит опьянение, снова делаются самими собой. Ни разум, ни знание не покинули их, но были подавлены опьянением; освободившись от опьянения, эти люди снова стали самими собой. Подобным образом ведет себя и невоздержный: пересилившая страсть заставила умолкнуть в нем рассуждение, но когда страсть, как опьянение, покидает его, он опять делается самим собой.
Еще одно соображение о невоздержности могло завести в тупик: довод, что иногда невоздержный вызывает одобрение, а воздержный — порицание. Однако такого не бывает. В самом деле, воздержный или невоздержный — не тот, кто обманут в своем рассуждении, а тот, кто ведет правильное рассуждение и с его помощью судит о том, что дурно и что хорошо. Невоздержный не повинуется такому рассуждению, воздержный повинуется и не идет на поводу у вожделений. Ведь не тот воздержан, кто, сдерживая себя, не бьет отца, когда ему хочется его побить и он не думает, что бить отца позорно. Если в подобных случаях нет места воздержности и невоздержности, то, по-видимому, невоздержность никогда не может вызвать одобрения, а воздержность — порицания, как могло показаться[33]. Невоздержность бывает болезненная и от природы.
Болезненная такая, например: некоторые люди вырывают волосы и грызут [ногти][34]. Если человек подавляет в себе такого рода удовольствие, его не хвалят, а если не подавляет — его не ругают или ругают только слегка. А вот пример невоздержности от природы: сына судят в суде за то, что он бьет отца, он же оправдывается тем, что и тот тоже бьет своего отца,— и сын избегает наказания, потому что судьи решают, что это преступление от природы. За то, что человек подавляет в себе желание бить отца, его не станут хвалить. Мы же сейчас исследуем не такие случаи невоздержности и воздержности, а те, за которые нас открыто хвалят и порицают.
Бывают блага внешние, например богатство, власть, почет, друзья, слава; бывают блага, по необходимости присущие нам и связанные с телом. Таковы осязание и вкус (если кто невоздержан в этом, то его можно считать невоздержным вообще) и чувственные удовольствия. Невоздержность, которую мы исследуем, касается, по-видимому, именно этих последних.
Вызывал трудность вопрос, в чем еще может проявляться невоздержность. В [стремлении] к почету человек не бывает невоздержным в полном смысле слова. Ведь неудержимый в стремлении к почету заслуживает иногда одобрения: он высоко ценит честь. В общем мы и в отношении подобных вещей говорим о невоздержности, прибавляя: невоздержан в [искании] почета, славы; невоздержан в гневе. Однако когда речь идет о невоздержном вообще, мы не добавляем,— в чем, полагая, что и так, без добавлений, ясно, в чем именно он невоздержан: невоздержный вообще невоздержан в том, что касается телесных удовольствий и неудовольствий.
И еще по одной причине ясно, что невоздержность вообще касается названных вещей. Если невоздержный вызывает порицание, то должны вызывать порицание и предметы [его невоздержности]. Почет, слава, власть, деньги и другие вещи, по отношению к которым людей называют невоздержными, не вызывают порицания; чувственные же удовольствия вызывают. Вот почему, естественно, того, кто предается им сверх должного, называют невоздержным в полном смысле слова (teleos).
Среди невоздержностей, требующих уточнения, в чем именно человек ведет себя невоздержно, невоздержность в гневе вызывает наибольшее порицание. Встает вопрос: что заслуживает большего порицания — невоздержность в гневе или в чувственных удовольствиях? Невоздержность в гневе похожа на тех слуг, которые полны готовности услужить. Стоит хозяину сказать «подай мне», они всякий раз с готовностью несутся подавать, не расслышав, что именно надо подавать, и ошибаются: когда надо подать книгу, они часто подают палочку для письма. Подобен им и человек, невоздержный в гневе. Стоит ему услышать первое слово «обидел», гнев гонит его к мщению, не позволяя спокойно разобраться, нужно ли гневаться или не нужно или нужно, но не с такой силой. За такую вспышку гнева, которая представляется невоздержностью в гневе, не следовало бы слишком осуждать. А вот тяга к наслаждению вызывает порицание. Эта невоздержность отличается от первой: в последнем случае есть разумный довод, удерживающий человека от наслаждения, но человек ведет себя вопреки разуму; именно поэтому такая невоздержность вызывает большее порицание, чем невоздержность в гневе. Невоздержность в гневе — это огорчение , потому что нет человека, который бы гневался и не был бы огорчен. Напротив, невоздержность в страсти связана с наслаждением, поэтому она заслуживает большего порицания. Невоздержность в страсти соединена, по-видимому, с заносчивостью (hybris).
Одно ли и то же воздержность и терпение (karteria)? Или, скорее, нет? Воздержность касается наслаждений, и воздержный — это тот, кто подавляет наслаждение, терпение же имеет дело с огорчениями, а именно терпеливо переносящий огорчения — это человек терпеливый. Опять-таки невоздержность и расслабленность (malakia) не одно и то же. Расслабленность и расслабленный — это когда не переносят таких трудностей, какие другой наверняка вынес бы. Невоздержный же тот, кто не может устоять против наслаждений, но расслабляется (katamalakidzomenos) и увлекается ими.
Бывают еще и так называемые распущенные (akolastos). Распущенный и невоздержный — это одно и то же? Или, скорее, нет? Распущенный — тот, кто думает, что он делает самое для себя лучшее и полезное, и никакой закон разума не противится в нем тому, что кажется ему приятным. Невоздержный же носит в себе закон разума, который противится тому, к чему влечет его страсть.
Кого легче исправить — распущенного или невоздержного? На первый взгляд, по-видимому, не невоздержного: распущенный легче поддается лечению; ведь стоит в нем родиться закону разума, который научит его тому, что дурное дурно, и он не станет делать зла; в невоздержном же есть закон разума, однако он все равно поступает [дурно], так что такой человек, по-видимому, неисцелим.
Но с другой стороны, кто находится в худшем состоянии — тот ли, в ком нет ничего хорошего, [или тот, в ком есть нечто хорошее] наряду с дурными свойствами? Очевидно, первый, тем более если у пего в плохом состоянии находится самое ценное. Хорошее в невоздержном — это правильный закон его разума (orthos logos). У распущенного его нет. И еще: закон разума (logos) — первооснова (arche) каждого человека. У невоздержного первооснова, высшая ценность, находится в хорошем состоянии, у распущенного — в плохом, так что распущенный, выходит, хуже необузданного. И еще: это подобно тому, как обстоит дело и со зверством. Мы так назвали порочность, которая проявляется не в звере, а в человеке: зверство — название чрезмерной испорченности. Почему только в человеке? Не по какой иной причине, как по той, что в звере нет дурной первоосновы (arche phayle"). Первооснова — это закон разума (logos)[35]. Кто может сделать больше зла: лев или Дионисий, Фаларид, Клеарх или еще какой-нибудь негодяй? Ясно, что они. Когда первооснова дурна, она во многом содействует [злу]; в звере же нет никакой первоосновы. В распущенном человеке дурна первооснова: поскольку он творит дурные дела, а закон его разума их одобряет и ему кажется, что так и должно поступать, первооснова в нем испорчена. Получается, что невоздержный, по-видимому, опять-таки лучше распущенного.
Существует два вида невоздержности. Одни — невоздержность запальчивая, необдуманная, внезапная. Так, например, при виде красивой женщины мы сразу бываем охвачены каким-то чувством, и от страсти рождается порыв сделать нечто, быть может, неподобающее. Второй вид — невоздержность как бы болезненная, перемешанная с соображениями, отклоняющими от действия. Первый вид, кажется, не вызывает сильного порицания; такая необузданность бывает у людей достойных, у горячих и одаренных. Второй вид присущ людям холодным и угрюмым (psykhrois kai melagkho-likois); они вызывают порицание. И еще: не поддаться чувству человек может в том случае, если его предостережет довод (logos): придет красивая женщина, значит, надо себя сдерживать. Тот, кого невоздержным склонно делать первое впечатление, будучи предостережен таким доводом, не ощутит и не сделает ничего постыдного. Большего порицания заслуживает тот, кто разумом знает, что так поступать нельзя, однако предается удовольствию и расслабляется. В самом деле, невоздержным этого последнего рода никогда не стал бы человек достойный, и, кроме того, здесь тот случай, когда предостерегающий довод не способен исцелять. Несмотря на то что и этот разумный довод остается главенствующим в его душе, человек ему нисколько не повинуется, предается удовольствиям, расслабляется и как бы опускается (eksasthenei po's).
Выше уже был поставлен вопрос, воздержан ли человек благоразумный (sophron). Ответим на него сейчас. Благоразумный вместе с тем и воздержан. Воздержный ведь не только тот, кто, следуя закону разума, сдерживает охватывающие его страсти, но и тот, кто, будучи свободен от страстей, таков, что способен сдерживать их, если бы они в нем возникли. Благоразумен тот, в ком нет дурных страстей, но есть правильное рассуждение о них; воздержан тот, в ком страсти дурные, но рассуждение о них правильное, так что воздержность сопутствует благоразумию и благоразумный будет воздержным. Однако нельзя сказать наоборот, что воздержный благоразумен. Ведь благоразумный не претерпевает страстей, а воздержный претерпевает и пересиливает страсти или способен их иметь. У благоразумного нет ни того, ни другого, поэтому нельзя сказать, что воздержный благоразумен.
Невоздержан ли распущенный и распущен ли невоздержный? Или, скорее, между ними нет зависимости? Невоздержный — это тот, в ком разум борется со страстями; распущенный же не таков, ибо в нем разум соглашается с дурными поступками. Значит, распущенный не похож на невоздержного, а невоздержный не похож на распущенного. Распущенный хуже невоздержного. Природное труднее выправить, чем то, что вошло в привычку, ведь и привычка явно тем сильна, что стала природой. Распущенный сам по себе таков, что он как бы дурен по природе, вот почему и в силу чего самый ум у него порочен; невоздержный же не таков: ведь не потому, что он сам по себе таков, его рассуждение (logos) несостоятельно (рассуждение должно было бы быть негодным, если бы он от природы был подобен дурному). Значит, невоздержимый нехорош в силу привычки, а распущенный — от природы. Распущенного труднее исправить: навык искореняется другим навыком, а природа ничем не искореняется.
Если невоздержный обладает знанием и безошибочно ведет рассуждение, а разумный тоже рассматривает каждую вещь правильным рассуждением (logoi orthoi), то может ли разумный быть невоздержным или нет? Сказанное может вызвать затруднение. Если следовать тому, что мы утверждали раньше, то разумный не бывает невоздержан. Мы ведь говорили, что разумному присуще не только правильно рассуждать, но и делать то, что рассуждение признает наилучшим. Если же разумный поступает наилучшим образом, то он уже не может быть невоздержным. Зато невоздержный может быть находчивым. В самом деле, выше мы провели различие между разумным и находчивым, которые не одно и то же: они имеют дело с одинаковыми вещами, но один делает то, что должно, другой же не обязательно делает это. Находчивый может быть невоздержным постольку, поскольку он может не делать того, что должно; разумный же не может быть невоздержным.
7. Теперь перейдем к вопросу о наслаждении, или удовольствии (hedones), поскольку речь мы ведем о счастье (eydaimonias); счастье же, как все думают, — это либо наслаждение и приятная жизнь, либо [жизнь] не без наслаждения. Некоторые, наоборот, порицают наслаждение и не уверены, что наслаждение не следует причислять к благам, но по крайней мере относят к ним безболезненность (to alypon), а безболезненность, конечно, близка к наслаждению. Итак, надо сказать о наслаждении не только потому, что другие считают это нужным, но и потому, что говорить о наслаждении нам необходимо, поскольку речь у нас идет о счастье, а счастье, как мы определили и утверждаем, — это действие добродетели в совершенной жизни, добродетель же имеет дело с наслаждением и огорчением. О наслаждении необходимо говорить и потому, что счастье не бывает без наслаждения.
Прежде всего перескажем доводы тех, кто думает, что не должно причислять наслаждение к благам. Во-первых, говорят они, наслаждение — это становление (genesin), становление же — нечто несовершенное, а благо не имеет в себе места для несовершенства; во-вторых, бывают-де дурные удовольствия, благо же не заключено ни в чем дурном; и еще потому наслаждение не благо, что оно присуще всем: дурному и достойному, и зверю, и скоту; благо же не смешивается с дурным и не бывает общим для многих. Кроме того, наслаждение — это не самое лучшее, благо же — это то, что лучше всего. И наконец, наслаждение мешает поступить хорошо, а то, что препятствует хорошему, не может быть благом.
Прежде всего надо обсудить первый довод, утверждающий, что удовольствие — это становление, и попытаться разрешить этот довод, показав, что он неистинен. В самом деле, во-первых, не всякое наслаждение — становление. Так, удовольствие, получаемое от созерцания (theorein), не есть становление, равно как и удовольствие от слушания, зрения, обоняния, поскольку оно не вызвано [восполнением] недостатка в чем-либо, как это бывает в других случаях, например при еде или питье. В подобных случаях наслаждение вызывается скудостью или избытком чего-либо в том смысле, что тут восполняется недостаток или устраняется избыток; из-за этого оно кажется становлением. Недостаток же и избыток огорчительны; значит, огорчение здесь предшествует тому становлению, в качестве которого здесь выступает наслаждение. Но, конечно, никакое огорчение не предваряет зрения, слушания, обоняния: никто получающий удовольствие от зрения или запаха до этого не испытывал огорчения, равно как и предающийся размышлению может наслаждаться созерцанием чего-либо без предшествующего страдания. Итак, возможно удовольствие, которое не есть становление. И если наслаждение, как утверждает их довод, потому нехорошо, что оно — становление, но бывает удовольствие, которое не есть становление, то наслаждение может быть благом.
Больше того, вообще ни одно наслаждение не есть становление, потому что даже то удовольствие, которое приносят еда и питье, не есть становление, и ошибаются те, кто называет все подобные удовольствия становлением. Поскольку наслаждение, полагают они, возникает при приеме пищи, наслаждение есть становление. Но это не так. В душе есть часть, благодаря которой мы ощущаем удовольствие, когда потребляем то, чего нам недостает. Эта часть души действует и движется; ее деятельность и ее движение есть удовольствие. По той причине, что эта часть души действует при приеме пищи, или по причине ее действия они называют удовольствие становлением, поскольку прием пиши явен, а часть души не явна[36]. Похожее бывает, когда думают, что человек — тело, поскольку тело ощутимо, а душа — нет. Душа, однако, тоже существует. Подобное имеет место и тут. Существует некая часть души, посредством которой мы испытываем удовольствие, и эта часть действует, когда имеет место потребление. Поэтому никакое удовольствие не есть становление.
Утверждают также, что [наслаждение] — это чувственно ощутимое восстановление (apokatastasis) природного состояния. Однако, [возразим мы], удовольствие получают и те, кто не восстанавливает природного состояния. Ведь восстановить природное состояние — это значит восполнить естественный недостаток. Удовольствие же можно испытывать, утверждаем мы, и не имея недостатка ни в чем. Ведь где чего-то не хватает, там огорчение, а мы говорим, что можно наслаждаться без огорчений и до огорчений. Следовательно, удовольствие — это вовсе не восстановление недостающего, поскольку при таких [не соединенных со скорбью] удовольствиях нет недостающего. Итак, если удовольствие не признавали благом по той причине, что оно — становление, на самом же деле никакое удовольствие не есть становление, то отсюда следует, что удовольствие вполне может быть и благом.
Другие утверждают, впрочем, что не всякое удовольствие — благо. Здесь, пожалуй, можно разобраться следующим образом. В силу того что в каждой категории, как мы признаем, будь то сущность, отношение, количество, время и вообще любая категория, идет речь о благе, ясно следующее: всякой действительности блага сопутствует наслаждение, а благо находит себе место во всех категориях, поэтому и удовольствие — благо. Итак, поскольку в них, [категориях], и блага, и удовольствие, а удовольствие — это удовольствие, получаемое от благ, то всякое удовольствие будет благом[37]. Отсюда делается ясным и то, что удовольствия бывают разных видов. Ведь различны и категории, в которых находит себе место наслаждение. Дело тут обстоит иначе, чем в науке,— иначе, например, чем в грамматике или какой-либо другой науке. Если Лампр сведущ в грамматике, то он как грамматик в силу своего грамматического искусства будет обладать теми же качествами, как и любой другой человек, сведущий в грамматике, потому что нет двух различных грамматик: одной для Лампра, другой для Ила. Но все обстоит иначе, когда дело касается наслаждения: неодинаково то наслаждение, которое приносит пьянство, и то, которое бывает при совокуплении. Таким путем обнаруживается, что удовольствия различны по своему виду.
Не признавать наслаждение благом заставлял их также и довод, что некоторые удовольствия дурны. Подобный довод и подобная оценка относятся не только к удовольствиям, но и к природе, и к науке.
Природа бывает низменной (phayle), например у червей, жуков и вообще у гадких животных, но отсюда не следует, что сама по себе природа относится к низменным вещам. Подобным образом существуют и низменные науки, например ремесла, однако наука из-за этого еще не есть низменная вещь. И наука и природа по своему роду суть благо. Чтобы увидеть, каков ваятель, надо смотреть не на то, что ему не удалось и что он сделал плохо, а на то, что у него хорошо; подобным образом и о науке, природе и обо всем другом надо судить, каковы они, не по тем их видам, которые дурны, а по тем, которые хороши. Подобно этому, и наслаждение — благо по своему роду, хотя мы не забываем, что существуют дурные удовольствия. Поскольку живые существа обладают неодинаковой природой, хорошей и низменной, у человека, например, она хорошая, у волка же и другого зверя — низменная, равно как не одна и та же природа у лошади и человека, у осла и собаки, а наслаждение — это перемещение (katastasis) из неестественного состояния в естественное, которое у каждого свое, то должна иметь место такая особенность: у низменной природы — низменное удовольствие. В самом деле, не одно и то же свойственно лошади и человеку, равно как и прочим [животным], но, поскольку природы неодинаковы, неодинаковы и удовольствия. Удовольствие, как определили [сами же сторонники обсуждаемого мнения],— это восстановление (apokatastasis), причем, как они говорят, восстановление природы, так что восстановление низменной природы низменно, а хорошей — хорошо.
Однако не признающие само по себе наслаждение чем-то хорошим находятся примерно в таком же состоянии, как люди, которые не знают, что такое нектар, и думают, что боги пьют вино и слаще вина ничего нет. Такое бывает с ними от незнания. Подобное происходит и с теми, кто признает все удовольствия возникновением, а потому не считает их благом: им ведомы только наслаждения тела, они понимают, что это становление, т. е. нечто недостойное, и потому вообще не признают наслаждение благом. Поскольку наслаждение бывает и там, где природа восстанавливается, я там, где она уже восстановлена, причем удовольствие от восстановления бывает там, где восполняется недостающее, а удовольствие восстановленной природы — там, где удовольствие исходит от зрения, слушания и тому подобных вещей, то более высокой, пожалуй, надо считать деятельность уже восстановленной природы. Удовольствия того и другого вида — это деятельности. Поэтому очевидно, что наслаждения от зрения, слушания и размышления (dianoeisthai) должны быть лучшими, раз удовольствия тела — это удовольствия от восполнения недостающего.
Наслаждение не признавали благом потому еще, что будто бы быть во всех вещах и быть общим всему не есть благо. Однако такой довод свойствен скорее честолюбцу и честолюбию (philotimias). Честолюбец желает быть единственным обладателем и тем самым превосходить прочих. Значит, и наслаждение, [рассуждает он], чтобы быть благом, должно быть чем-то в том же роде. Но, может быть, это не так? Не потому ли, напротив, оно и считается благом, что к нему все стремится? Ведь все естественно стремится к благу. И если все стремится к наслаждению, то наслаждение по своему роду должно быть благом.
Еще и за то не признавали наслаждение благом, что оно помеха. Называть удовольствие помехой заставлял, по-видимому, неправильный способ исследования (me orthos skopein). В самом деле, наслаждение выполняемой работой не помеха ей, но если это наслаждение чем-то другим, то помеха; например, наслаждение пьянством — помеха работе, но в таком смысле и наука будет помехой науке, потому что нельзя действовать одновременно в двух науках. Однако разве наука не благо, когда она доставляет приносимое ею удовольствие? Разве оно послужит ей помехой? Или, скорее, напротив,— человек сделает больше? В самом деле, наслаждение деятельностью побуждает действовать еще усерднее: заставь, например, человека достойного совершать дела добродетели и совершать их с наслаждением, разве по ходу дела не будет возрастать его усердие? Причем, если кто делает дело с удовольствием, то он достойный человек, а если с огорчением выполняет прекрасное дело, то недостойный. Ведь огорчение сопутствует вынужденным действиям, и если кто с горечью исполняет прекрасные дела, он делает их вынужденно, действующий же по принуждению — человек недостойный. Больше того, дела добродетели невозможно делать, не страдая или не наслаждаясь при этом. Среднего пути нет. Почему? Потому, что добродетель проявляется в движениях чувств (en pathei), движения же чувств связаны с огорчением и наслаждением, в середине между которыми никакого движения чувства нет. Отсюда ясно, что и добродетель соединена либо с огорчением, либо с наслаждением. Делающий прекрасное дело с огорчением — недостойный человек, поэтому добродетель не должна соединяться с огорчением; следовательно, она должна соединяться с удовольствием. Итак, наслаждение не только не помеха, но скорее побуждение к действию, и добродетель вообще по может быть без приносимого ею удовольствия.
Был и такой довод: ни одна наука (episteme) не доставляет удовольствия[38]. Он тоже не истинен. Ведь повара, сплетатели венков, изготовители благовоний доставляют наслаждение. В других науках действительно удовольствие не их цель, однако и с ними соединено наслаждение, и не без удовольствии [происходит занятие ими]. Значит, и наука доставляет удовольствие.
Приводился и такой довод: наслаждение — не высшее благо. Но, рассуждая так, можно с равным успехом упразднить единичные [виды] добродетелей. Мужество — не высшее благо, по неужели оно вовсе не
благо? Не нелепо ли? Так же обстоит дело и с другими добродетелями. Из-за того, что наслаждение — не высшее благо, нельзя отрицать, что оно — благо.
Если обратиться теперь к добродетелям, то может возникнуть вот какое затруднение: известно, что разум способен подчинять себе чувства (мы говорим о человеке воздержном) и что чувства, действуя в противоположном направлении, способны подчинять себе разум, как это бывает у людей невоздержных; поэтому, если взять случай, когда неразумная часть души, в которой заключена порочность (kakian), подчиняет себе верно направленный разум (logoy ey cliakeime-поу) (таков невоздержный), а также и тот случай, когда дурно направленный разум (logos faulos diakei-menos) подчинит себе верно направленные чувства, в которых заключена добродетель, то окажется, что добродетель можно использовать во зло (поскольку дурно направленный разум, хотя бы он и использовал добродетель, обратит ее во зло). Получается, по-видимому, нелепость.
Нетрудно опровергнуть такое утверждение и решить вопрос, исходя из уже сказанного нами о добродетели. Добродетель, как мы признаем, появляется тогда, когда верно направленный разум бывает согласен с движениями чувств, которым присуще иметь собственную добродетель, а движения чувств согласны с разумом. При таком состоянии разум и чувства придут в созвучие друг с другом, так что разуму станет свойственно всегда приказывать лучшее, а верно направленным чувствам — легко выполнять все, что бы ни приказал им разум. Где разум направлен неверно, а чувства верно направлены, там нет места добродетели, потому что нет [верно направленного] разума, добродетель же проистекает из того и другого. Вот почему не представляется никакой возможности использовать добродетель во зло[39].
Вообще, вопреки мнению некоторых, не разум — начало и руководитель добродетели, а, скорее, движения чувств (ta pathe). Сначала должен возникнуть какой-то неосмысленный порыв (hormen alogon) к прекрасному — как это и бывает,— а затем уже разум произносит приговор и судит. Это можно наблюдать у детей и бессловесных животных: у них сначала без участия разума возникают порывы чувств к прекрасному (kalon), и потом уже разум, соглашаясь с ними, помогает совершать прекрасные дела. Но не так обстоит дело, когда стремление к прекрасному берет свое начало в разуме: чувства не следуют за ним в полном согласии и часто противятся ему. Поэтому скорее верно направленное движение чувств (pathos ey diakeimenon), а не разум служит началом (archei) добродетели.
8. Вслед за этим мы должны сказать и о случайной удаче (eytykhias), коль скоро разговор у нас идет о счастье. Толпа думает, что жизнь счастливая — это жизнь удачливая или не лишенная удач; и она, пожалуй, права, поскольку без внешних благ, которые посылает случайная удача, нельзя быть счастливым. Нужно поэтому сказать об удаче, о том, кто таков удачливый в собственном смысле слова (haplos eytykhes), в чем и по отношению к чему он таковым оказывается.
Прежде всего уже тут, если вдуматься, может возникнуть затруднение. Никто не скажет, что случайность — это природа. Там, где природа — причина чего-либо, она всякий раз производит по большей части одно и то же, случайность же действует не так, беспорядочно, как попало (hos etykhen), почему и говорится о случае применительно к подобным вещам. Не скажешь также, что случайность есть нечто подобное уму или правильному рассуждению, поскольку и в них имеет место не меньшая упорядоченность и неизменность, но отнюдь не случай. Там, где больше действует ум и правильное рассуждение, случайности меньше, а где больший простор для случайности, там меньший простор для ума. Но, может быть, случайная удача — это какая-то забота (epimeleia), проявляемая богами? Или, пожалуй, так думать нельзя? Бог, признаем мы,— господин над подобными вещами и распределяет доброе и злое по заслугам; однако случайность и проистекающее от случайности возникают поистине случайно. Если мы допустим, что бог распределяет случайно, то признаем его дурным или несправедливым судьей. А такое богу не подобает. И все же ни к чему другому, кроме перечисленных вещей, случайность причислить нельзя, поэтому ясно, что она относится именно сюда. При этом ум, расчет, наука, по-видимому, вовсе отличны от случайности. С другой стороны, ни заботу, ни благоволение бога нельзя принять за счастливую случайность, потому что она выпадает и дурным, а печься о дурных не свойственно богу. Остается природа как ближе всего стоящая к удаче.
Удача и случайность (eytykhia kai tykhe) — это то, что нам не подчинено, в чем мы не властны и чего сами сделать не в силах. Поэтому не называют справедливого человека удачливым за то, что он справедлив, не называют так и храброго и вообще никого не называют так за добродетель, коль скоро мы властны иметь или не иметь ее. С большим правом можно говорить об удаче применительно к следующим вещам: мы называем удачливым человека благородного происхождения и вообще любого, кто обладает такими благами, какие от него не зависят. Однако и тут случайная удача не употребляется в полном смысле слова (kyrios). Удачливый имеет много значений: мы называем удачливым того, кому вопреки его расчетам довелось сделать что-то хорошее, а также и того, кто вместо ожидаемого убытка получил прибыль, называем удачливым.
Итак, удача состоит в том, что мы получаем благо, на какое не рассчитывали, и не подвергаемся злу, какого ждали. При этом именно получить благо свойственно случайной удаче: получить что-то хорошее — это счастливая случайность в ее чистом виде; не подвергаться же злу — счастливая случайность привходящим образом (kata symbebekos). Случайная удача, таким образом,— это природа, действующая неосмысленно. Удачлив тот, кто безрасчетно (aney logoy) стремится к хорошим вещам и улучает их, а это свойственно природе, потому что от природы в душе заложено нечто такое, благодаря чему мы безрасчетно стремимся ко всему, что приводит нас к доброму расположению (еу ekhomen). Если спросить так действующего человека: «Отчего тебе правится делать вот это?» Он ответит: «Не знаю, но мне нравится, и я испытываю то же, что люди, охваченные вдохновением (enthoysiadzoysin)». Вдохновенные одержимы неосмысленным стремлением делать что-то (prattein ti).
Для случайной удачи у нас нет особого подходящего и собственного имени, но мы часто говорим о ней как о причине. Причина, однако, есть нечто чуждое понятию удачи[40], поскольку причина и то, чему она причиной,— разные вещи. Случайную удачу называют причиной и тогда, когда нет никакого стремления к улучшению благ,— например когда избегают зла или, напротив, когда, не думая получить благо, получают благо. Такая удача отлична от первой и бывает от совпадения обстоятельств; это удача не в собственном смысле, а привходящим образом. Поэтому, хотя и она случайная удача, однако счастье связано, по-видимому, больше с той удачей, при которой внутри самого человека заложен первоначальный порыв к благам. Поскольку счастье не бывает без внешних благ, а они, как мы недавно говорили, бывают от случайной удачи, то такая удача должна быть сотрудницей (synergos) счастья. Так мы скажем о случайной удаче.
9. Мы говорили о каждой добродетели в отдельности; теперь остается, пожалуй, обобщить частности, сложив их в одно целое. В самом деле, в отношении человека вполне добродетельного есть неплохое имя — нравственная красота (kalokagathia)[41]. Нравственно прекрасным называют человека совершенного достоинства (teleb's spoydaios). Ведь о нравственной красоте говорят по поводу добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого, мужественного, благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями [человека].
Применяя деление надвое, мы одни вещи относим к прекрасным (kala), другие — к хорошим (agatha), из хороших же одни хороши как таковые (liaplos), другие — нет. И к вещам прекрасным мы относим добродетели и добродетельные поступки, к хорошим же — власть, богатство, славу, честь и им подобное. Нравственно прекрасен тот, для кого вещи, которые хороши как таковые, хороши, и вещи, которые прекрасны как таковые, прекрасны. Такой человек и хорош и прекрасен (kalos kai agathos). А тот, для кого вещи, хорошие сами по себе, нехороши, не будет нравственно прекрасным, подобно тому как не будет здоровым тот, для кого неполезны вещи, сами по себе полезные. Так, если для кого-то вредны богатство и власть, они нежелательны ему, и он предпочтет обладать тем, что не повредит ему. Того, кто опасается обладать каким-либо благом, нельзя считать нравственно прекрасным. Хорош и прекрасен тот, для кого все хорошее хорошо, и его не портят такие вещи, как, например, богатство, власть.
10. О правильном действии, согласном с добродетелями, говорилось, но мало. Мы назвали так действие в согласии с правильным рассуждением (kala ton orthon logon)[42]. Но человек несведущий тут может спросить: а что значит согласие с правильным рассуждением, где это правильное рассуждение? Согласно правильному рассуждению поступают тогда, когда внеразумная (alogon) часть души не мешает энергиям се разумной (logistikon) части; тогда наши действия согласны с правильным рассуждением. В душе у нас есть высшее и низшее, и низшее всегда существует ради высшего, подобно тому как в отношениях души с телом тело существует ради души, и мы говорим, что тело в хорошем состоянии (ekhein kalos), когда оно способно не только не мешать, но даже содействовать и помогать душе делать ее дело (ведь низшее существует ради высшего, чтобы содействовать высшему). Поэтому, когда движения чувств будут не мешать уму действовать, совершая свое дело, наступит соответствие разумному основанию.
На это могут возразить: «Да, но в каком состоянии движения чувств не мешают? И когда подобное состояние бывает? Я ведь такого не знаю». — На подобный вопрос нелегко ответить. В таком же положении оказывается врач, когда он велит давать настойку заболевшему горячкой, а его спрашивают: «А как узнать горячку?» Он отвечает: «Когда увидишь больного пожелтевшим». — «А как узнать пожелтевшего?» Здесь врач должен понять, [как надо ответить]: если ты сам не ощущаешь таких вещей, скажет он, я ужо не в силах тебе объяснить. Это общее рассуждение приложимо и к другим предметам. Оно сохраняет свою силу и там, где надо распознать движения чувств, [не мешающих действию ума], а именно человек должен и сам от себя приложить какие-то усилия, чтобы почувствовать (aisthesin) это.
Могут задать еще и такой вопрос: стану ли я действительно счастлив, если буду знать все это? Принято думать, что да. Но это не так. Из других наук тоже ведь ни одна не приобщает к применению или деланию, а лишь вводит в обладание [знанием]. Так и здесь: знание подобных вещей не влечет за собой их осуществления (тогда как счастье, утверждаем мы, — это деятельность), а только вводит человека в обладание [знанием]. Счастье не в том, чтобы знать, из каких вещей (ex lion) оно состоит, а в том, чтобы осуществлять их. Осуществлять, применять и действовать (khresin kai energeian) — не дело науки [о счастье], раз никакая другая наука тоже не доводит дела до использования ее, а дает лишь обладание знанием.
11. В добавление ко всему этому нельзя не сказать о дружбе (philia): что она такое, в чем и по отношению к чему проявляется. Мы видим, что она тянется через всю жизнь при любых обстоятельствах, видим, что она — благо, и поэтому о ней надо говорить как об имеющей отношение к счастью. Начать, пожалуй, лучше всего с того, что вызывает затруднение и требует исследования.
Между теми ли, кто подобен друг другу, устанавливается дружба, как обычно думают и говорят? «Галка,— говорят,— садится рядом с галкой», и «Равного с равным бессмертные сводят»[43]. Какая-то собака, рассказывают, постоянно спала на одном и том же кирпиче. Когда Эмпедокла спросили, почему спит собака на одном и том же кирпиче, он ответил, что собака чем-то похожа на этот кирпич, давая понять, что причина, по которой это место стало для собаки излюбленным,— сходство.
Другие, напротив, полагают, что дружба — это скорее взаимное тяготение противоположностей, ведь говорится: «Когда земля суха, то мил ей дождь». Противоположное, считают они, стремится к дружбе с противоположным, тогда как похожее не допускает дружбы с похожим, коль скоро похожее ни в чем похожем на себя не нуждается.
Трудно или нет стать другом? Льстецы, быстро вошедшие в доверие,— это вовсе не друзья, хотя кажутся друзьями.
И вот еще вопрос: станет или нет достойный человек другом дурному? Для дружбы необходимы верность и надежность, а дурной совсем не таков.
Может ли дурной быть другом дурному? Или, скорее, тоже не может?
Следовало бы определить с самого начала[44], какую именно дружбу мы рассматриваем. Принято думать, что существует дружба с богом и дружба с неодушевленными предметами. Это неверно. Дружба, утверждаем мы, имеет место там, где возможна ответная любовь (antiphileisthai), а дружба с богом не допускает ни ответной любви, ни вообще какой бы то ни было любви (phiJem). Ведь нелепо услышать от кого-то, что он «дружит с Зевсом» (philein ton Dia). Точно так же и со стороны неодушевленных предметов не может быть ответной любви. Бывает, впрочем, любовь (phi-Па) и к неодушевленным вещам, например к вину или чему-то еще такому. Итак, мы исследуем не дружбу (philian) с богом и не дружбу с неодушевленными предметами, по дружбу предметов одушевленных и таких, со стороны которых возможна ответная любовь; Если рассмотреть теперь, что такое предмет, вызывающий к себе любовь, то он не иное что, как благо. Предмет, вызывающий любовь (phileton), не то же самое, что предмет, требующий к себе любви (phileteon), равно как и желанное (boyleton) не то же самое, что желательное (boyleteon). Желанное — это благо как таковое, желательное — благо, которое хорошо для данного человека. Так и предмет, вызывающий любовь, — благо само по себе, а требующий любви — благо для самого данного человека; поэтому предмет, требующий к себе любви, всегда может быть вместе и вызывающим к себе любовь, но предмет, вызывающий любовь, не совпадает с требующим к себе любви. С этим связан вопрос: становятся или нет друзьями человек достойный и дурной? В самом деле, благо, которое хорошо для данного человека, своего обладателя, неким образом соединено с благом вообще, равно как и требующее к себе любви соединено с тем, что вызывает к себе любовь, а с благом связано и ему сопутствует свойство быть приятным и полезным. Дружба людей достойных — это их взаимная любовь (antiphildsin) друг к другу. Они любят друг друга как вызывающие к себе любовь, а любовь они вызывают тем, что [хороши]. Так что же, спросят, достойный человек не станет другом дурного? Все-таки станет. Благу сопутствует польза (to sympheron) и приятность (to hedy), и дурной — друг в той мере, в какой он приятен; насколько он полезен, он тоже друг. Однако подобная дружба, конечно, не опирается на то, что вызывает к себе любовь (phileton). Вызывающее к себе любовь мы определили как благо, дурной же не вызывает к себе любви. Основа этой дружбы [не вызывающее любовь], а требующее к себе любви, — [не желанное, а желательное]. Поистине от той всецелой дружбы, которая бывает между добродетельными людьми, происходят все эти [виды] дружбы: дружба ради удовольствия и дружба ради выгоды. Любящий за доставляемое удовольствие дружит не той дружбой, в основу которой положено благо, равно как и любящий выгоду. Эти виды дружбы, в основе которых лежат благо, удовольствие, польза, не тождественны, но и не вовсе чужды друг другу, а неким образом восходят к чему-то общему. Мы говорим, например, что врачует нож, врачует человек, врачует наука, но смысл этих слов неодинаков: про нож это говорят в том смысле, что он используется при врачевании, про человека — в том смысле, что он лечит, про науку — в том смысле, что она причина и начало. Равным образом не тождественны дружба людей добродетельных, в основе которой — благо, и дружба, вызванная удовольствием и выгодой. Эти виды дружбы не просто омонимы: хотя они не одно и то же, по в какой-то мере имеют отношение к одному и тому же и происходят из одного и того же. В самом деле, если кто-нибудь скажет: любящий ради удовольствия не друг этому человеку, поскольку благо не лежит тут в основе дружбы, то он исходит при этом из дружбы людей добродетельных, которая вмещает в себя все эти виды дружбы: дружбу, опирающуюся на благо, на удовольствие, на выгоду. Действительно, тот человек не дружит такой дружбой, а лишь дружбой, которая ищет приятного и выгодного.
Будет ли добродетельный другом добродетельному? Подобный, говорят, ни в чем подобном себе не нуждается. Довод этот имеет в виду дружбу, ищущую выгоды: друзья, если они друзья постольку, поскольку нужны друг другу, дружат дружбой, которая опирается на выгоду. Но мы уже определили дружбу, ищущую или удовольствия, или выгоды, как отличную от дружбы, в основе которой добродетель. Достойный поистине друг добродетельному, причем эта дружба намного сильнее других видов дружбы: ведь в эту дружбу входит все: и благо, и приятное, и полезное. Но будет ли добродетельный другом дурному? — В той мере, конечно, в какой он приятен, он друг ему. А будет ли дурной другом дурному? — В той мере, в какой им выгодно одно и то же, они друзья; мы наблюдаем это всякий раз, когда им бывает выгодно одно и то же; друзьями их делает выгода, и ничто не мешает и дурным людям находить в чем-то одинаковую выгоду.
Итак, самая прочная, верная и прекраснейшая дружба — это взаимная любовь людей достойных, в основе которой, естественно, лежат добродетель и благо. Добродетель, на которую опирается такая дружба, неизменна, так что неизменна и сама дружба. Выгода же никогда не остается неизменной, поэтому дружба, ищущая выгоды, непрочна и меняется в зависимости от выгоды. Это относится и к дружбе, в основе которой удовольствие. Дружба лучших людей опирается на добродетель, дружба большинства — на выгоду, а у людей грубых (phortikois) и заурядных (tykhoysin) дружба зависит от получаемого наслаждения.
Попадая на плохих друзей, люди обычно негодуют и изумляются. Однако в том, что их постигает, нет ничего странного. Если эти люди стали друзьями ради удовольствия и выгоды, то стоит им исчезнуть, как дружбе приходит конец. Часто бывает так: дружба не прерывается, но друг плохо обошелся с другом, и это вызывает негодование. Ничего неожиданного в этом нет: твоя дружба с ним опиралась не на добродетель, и в том, что он ведет себя недобродетельно, нет ничего странного. Не правы те, кто негодует в таких случаях. В дружбу они вступили, ища удовольствия, а думают, что она должна быть дружбой, опирающейся на добродетель, что невозможно. Дружба, ищущая приятного и выгодного, не связана с добродетелью. Сдружившись ради удовольствия, они ищут [в самой по себе дружбе чего-то] добродетельного, но это неверно: где удовольствие и выгода, там нет добродетели; наоборот, где добродетель, там ей сопутствуют удовольствие и выгода. Нелепо отрицать, что достойному приятнее всех достойный, поскольку даже дурные приятны друг другу, как о них говорит Еврипид: «Дурной с дурным сплавляется»[45]; в самом деле, не наслаждение сопровождается добродетелью, а добродетель — наслаждением. Должно или не должно иметь место удовольствие в дружбе между людьми достойными? Нелепо утверждать, будто не должно. Если лишить их свойства быть ПРИЯТНЫМИ ДРУГ ДРУГУ, ТО ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО общаться они должны будут [не друг с другом, а] с другими, приятными друзьями, поскольку для совместной жизни нет ничего важнее, чем быть приятными друг другу. Нелепо думать, будто достойные не должны уживаться вместе. Однако люди уживаются лишь тогда, когда им это бывает приятно. Стало быть, именно добродетельным должно быть особенно присуще свойство быть приятными.
Дружба была у нас разделена на три вида, и затруднение вызывал вопрос: опирается ли в них дружба на равенство или на неравенство? Ответим на пего теперь: она опирается и на то и на другое. Дружба, порожденная сходством,— это дружба людей достойных, совершенная дружба. Дружба, в основе которой несходство,—это дружба, ищущая выгоды. Бедняк — друг богача, поскольку ему не хватает того, чем обеспечен богач. По той же причине дурной — друг добродетельного: он друг ему, потому что надеется приобрести от него недостающую ему добродетель. Дружба между несхожими, стало быть, основана на выгоде, и недаром Еврипид говорит: «Когда земля суха, то мил ей дождь»[46], подразумевая, что между этими противоположностями возникает дружба, основанная на выгоде. Возьми самые крайние противоположности — огонь и воду, и [увидишь, что] они полезны друг другу. Огонь, говорят, гаснет, если нет влаги, ведь она, как полагают, служит ему пищей, взятая в том количестве, которое огонь может преодолеть. Если влага в излишке, она пересилит и потушит огонь, но если ее количество соразмерно, то она подкрепит его. Итак, очевидно, что даже между самыми противоположными вещами возникает дружба, и это дружба ради выгоды. Все дружеские отношения, основанные на равенстве и на неравенстве, подпадают под [сделанное нами] расчленение на три вида.
Во всех видах дружбы существует различие взаимоотношений: друзья любят, благотворительствуют, помогают или еще что-то в том же роде делают неодинаковым образом. Когда один усердствует, а другой небрежёт, то за пренебрежение [его] упрекают и порицают. Пренебрежение со стороны одного из друзей особенно явно, когда друзья имеют общую цель, например, если они дружат ради выгоды, удовольствия, добродетели. Если ты делаешь мне больше добра, чем я тебе, то не спорю, я должен любить тебя больше.
Если же мы дружим не ради чего-то общего, то расхождений бывает больше. В таких случаях пренебрежение со стороны одного из друзей мало заметно. К примеру, если один друг доставляет удовольствие, а второй — выгоду, то тут возникает спор: тот, кто больше приносит выгоды, думает, что за приносимую пользу он не получает заслуженного удовольствия, а кто больше доставляет приятного, находит, что извлекаемая выгода — малодостойная благодарность за наслаждение. Вот почему расхождения чаще возникают при этих видах дружбы.
Там, где друзья неравны, те, у кого много богатства или еще чего-то в этом роде, думают, что сами они не должны любить, но что их должны любить люди более бедные. Однако самому любить лучше, чем быть любимым: любить -— это некое действие, доставляющее наслаждение (energeia tis hedones), и благо, а быть любимым не вызывает в предмете любви никакой деятельности. И еще: лучше познавать, чем быть познаваемым, ведь быть познаваемым свойственно даже неодушевленным, а познавать и любить — одушевленным. И еще: быть благотворителем лучше, чем не быть им. Любящий благотворит постольку, поскольку он любит, а любимец в качестве любимца не благотворит. Тем не менее люди из честолюбия предпочитают быть любимцами, а не сами любить, поскольку быть любимцем связано с каким-то превосходством, любимец всегда пользуется превосходством и в наслаждении, и в обилии средств, и в добродетели, а честолюбец стремится к такому превосходству. И пользующиеся превосходством не думают, что они обязаны любить, полагая, что вознаграждают любящих тем, в чем они их превосходят. И еще: если любящие ниже своим положением, любимые думают, что должны не сами любить, а принимать любовь. Тот же, кому не достает денег, удовольствий, добродетели, восхищается тем, у кого все в изобилии, и любит его, полагая, что получает или получит от него это.
Бывает дружба из сочувствия, из желания добра кому-то. Возникающая при этом дружба не содержит в себе всех [выше упоминавшихся свойств]: часто мы одному желаем добра, но общаться хотим с другим. Надо ли называть эти чувства свойством дружбы вообще или только дружбы совершенной, основанной на добродетели? Именно последнему виду дружбы присуще все это: в достойном человеке соединяется и приятное, и полезное, и добродетель, и ни с кем иным нам не захотелось бы жить вместе, и добра мы пожелали бы именно ему, а также только ему — жизни и благополучия.
О том, бывает или нет у человека дружба с самим собой и любовь к самому себе, мы сейчас умолчим, по в дальнейшем скажем об этом. Сами себе мы желаем всего: хотим общаться сами с собой (это, пожалуй, и неизбежно), благоденствовать, жить, желать добра не иному кому, как себе. Себе больше всего сочувствуем: стоит нам ушибиться или иное что в этом роде испытать, мы тотчас огорчаемся. Словом, с этой точки зрения существует, по-видимому, дружба человека с самим собой. Действительно, говоря о таких вещах, как сочувствие, желание благополучия и прочее, мы относим их либо к дружбе с самим собой, либо к совершенной дружбе. В обоих случаях все это имеется: тут есть и совместная жизнь, и желание жизни и благополучия, и все остальное.
Можно, пожалуй, считать, что везде, где существуют [отношения] справедливости, существует и дружба. Поэтому сколько видов справедливости, столько и видов дружбы. В самом деле, справедливость [проявляет себя в отношениях] чужестранца к гражданину, раба к хозяину, гражданина к гражданину, сына к отцу, жены к мужу, и сколько вообще существует видов общения, при стольких имеет место и дружба. Всего прочнее бывает, по-видимому, дружба чужестранцев: у них нет общей цели, ради которой они соперничают, как это бывает между согражданами. Соперничая из-за первенства, сограждане не остаются друзьями.
Теперь, подводя итог, мы можем сказать, бывает или нет у человека дружба с самим собой. Как уже вкратце говорилось выше, мы видим, что дружба узнается по отдельным видам блага, на которые она направлена, иметь же все эти блага мы больше всего желали бы сами себе: себе хотим и добра, и жизни, и благополучия, себе больше всего сочувствуем, с собой больше всего хотим жить. Поэтому если дружба познается по отдельным видам доставляемого блага, но все эти блага мы желали бы иметь себе, то ясно, что существует дружба по отношению к самим себе, подобно тому как, согласно нашему утверждению, существует несправедливость по отношению к самому себе. В силу того что обидчик и обиженный — разные лица, человек же один, казалось бы, не бывает несправедливости по отношению к самому себе. Между тем она бывает, как мы в этом убедились, рассматривая части, входящие в состав души: их много, и при всяком их несогласии возникает несправедливость по отношению к самому себе. Подобно этому, по-видимому, существует и дружба с самим собой. Недаром если [у нас] есть друг, то всякий раз, желая сказать о нем как о большом друге, мы говорим: «У нас с ним одна душа». Поскольку душа состоит из нескольких частей, то «одна душа» будет тогда, когда придут в согласие разум и чувства (таким путем она станет единой); и, если в душе будет единство, наступит дружба с самим собой. Такою будет дружба с самим собой у человека добродетельного: только в его душе составные части в хорошем состоянии и не восстают друг против друга. Дурной же никогда не бывает себе другом, он всегда во вражде с самим собой. Необузданный, если учинит что-либо, ища наслаждений, потом раскаивается и чернит себя. Подобным образом дурной чувствует себя и из-за других своих пороков, не переставая враждовать против самого себя и противоречить себе.
Существует также дружба, основанная на равенстве. Например, дружба товарищей предполагает, что достаток их равен по количеству и ценности: среди товарищей никто не должен владеть имуществом большим, чем другой, ни по количеству, ни по ценности, ни по размеру, но должен иметь все равное с другими, потому что товарищи равны. Дружба, основанная на неравенстве,— это дружба отца и сына, подчиненного и начальника, лучшего и худшего, жены и мужа; и вообще она имеет место всюду, где между друзьями есть низшая и высшая ступень. Такая дружба в неравенстве предполагает пропорциональность. Так, при раздаче добра никто не уделит равное лучшему и худшему, но всегда даст больше тому, кто имеет преимущество. Этим достигается пропорциональное равенство: в каком-то отношении худший, получив меньше добра, равняется с лучшим, получившим больше.
12. Из всех вышеназванных видов дружбы больше всего любви в дружбе родных, а именно — в отношениях отца к сыну. Но почему отец любит сына сильнее, чем сын отца? Не потому ли, как правильно говорят некоторые, имея в виду, конечно, толпу, что отец — благодетель сына, тогда как сын обязан ему благодарностью за благодеяние? Эта причина, по-видимому, действует и там, где дружба основана на вы- годе. Здесь дело обстоит так же, как мы это наблюдаем и в практических умениях (epistemas). Я говорю о случаях, когда совпадают цель и действие и нет иной цели, помимо действия. У флейтиста, например, его цель совпадает с действием (ведь для него игра на флейте — это и цель и действие), а в строительном искусстве они не совпадают, поскольку тут существует особая цель помимо действия. Дружба — это действие, и у нее нет иной цели, кроме действия — любви, но только она одна. Отец всегда действует в этом смысле как бы больше сына, потому что сын — его создание.
То же самое наблюдаем мы и в других случаях: все бывают благосклонны к тому, что они сами создали. Отец неким образом благоволит к сыну как к своему созданию, движимый и воспоминанием, и надеждой. Поэтому отец больше любит сына, чем сын отца.
Надо рассмотреть те виды дружбы, которые называются и кажутся дружбой, действительно ли они дружба. Например, дружбой признают расположенность (eynoia). В общем, расположенность, по-видимому, не дружба. Ко многим мы часто расположены, увидав или услыхав о ком-то хорошее, но разве от этого мы уже и друзья? Скорее, нет. Ведь если кто благоволил к Дарию Персидскому, а такое могло быть, то это еще не была дружба с Дарием. Однако расположенность может, по-видимому, быть началом дружбы; стать дружбой она может тогда, когда человек, способный делать добро, присоединит к расположенности желание делать добро тому, к кому он расположен. Расположенность — нравственное качество и обращено к нравственному началу. Ведь не говорят, что человек расположился к вину или чему-то еще из неодушевленных благ и удовольствий. Расположение питают к тому, кто добродетелен нравом. Расположение неотделимо от дружбы и проявляет себя в том же, что и она. Поэтому его признают дружбой.
Единодушие (homonoia) очень близко дружбе, если понимать единодушие в собственном смысле слова. Допустим, что у кого-то такие же понятия, как у Эмпедокла, и он признает те же элементы, что и Эмпедокл. Единодушен ли такой человек с Эмпедоклом? Или, скорее, нет? В самом деле, единодушие имеет в виду вещи другого рода. Прежде всего оно проявляется не в умозрении, а в практических делах, да и в этих последних не тогда, когда их одинаково понимают, а тогда, когда, понимая их одинаково, отдают предпочтение одному и тому же в делах, о которых размышляют. Так, если оба мечтают о власти, один для себя и другой для себя, то единодушны ли они? Едва ли! Но если я хочу сам властвовать и он тоже хочет, чтобы я властвовал, то мы единодушны. Единодушие бывает в практических делах, когда хотят одного и того же.
В практических делах единодушие в собственном смысле слова (kyrios legomene) касается назначения одного и того же лица в начальники.
13. Поскольку, как мы утверждаем, существует дружба с самим собой, то будет или нет любить себя человек достойный? Себялюбец — это тот, кто все делает ради самого себя в том, что приносит выгоду. Стало быть, себялюбив дурной, ведь он все делает ради самого себя; достойный же не таков. Он потому и добродетелен, что ради другого делает свое дело, следовательно, он не себялюбив. Однако все стремятся к благам и уверены, что именно им нужно больше благ. Там, где дело касается богатства и власти, это особенно очевидно: человек достойный отступится от них в пользу другого, по не потому, что ему самому но пристало иметь их в избытке, а потому, что он видит, как другой лучше его сумеет ими воспользоваться. Остальные же люди так не поступают либо по неведению (они не знают, что могут злоупотреблять такими вещами), либо из честолюбивого стремления к власти. Но ни то ни другое не окажет своего влияния на человека достойного. Он, следовательно, не себялюбив в том, по крайней мере, что касается подобных благ. Если же он и любит себя, то там, где речь идет о прекрасном. Только здесь он не уступит другому; от выгоды же и наслаждения отступится. Если выбирать приходится прекрасное (to kalon), то он любит себя; если же — пользу и удовольствие, то любит себя не он, а дурной.
14. Себя ли будет достойный человек любить больше всего или нет? В одних случаях он больше всего будет любить сам себя, в других — нет. Поскольку, как мы утверждаем, достойный человек отступится в пользу друга от благ, приносящих выгоду, он будет любить друга. Да, но он отступается от них в той мере, в какой, уступая другу, приобретает прекрасное самому себе. Следовательно, в одних случаях он любит друга больше, чем себя, в других — сам себя. Когда речь идет о выгоде, он любит друга больше, чем себя; если же о прекрасном и о благе, то себя любит сильнее, ведь эти вещи — а они-то суть самые прекрасные — он приобретает себе. Значит, он добролюбив, а не себялюбив. Если он любит сам себя, то только потому, что хорош. Дурной же человек себялюбив: в нем нет ничего, за что бы ему любить себя, нет ничего прекрасного, но и не имея этого он сам себя будет любить за то, что это он сам. Поэтому его можно в строгом смысле слова назвать себялюбцем (plnlaytos).
15. В добавление [к рассмотренному] можно сказать о самодовлении (aytarkeias) и о человеке самодовлеющем. Возникнет или нет у него потребность в дружбе? Или он и тут будет довольствоваться самим собой? Ведь и поэты говорят такие слова:
Тогда на что и друг?
Среди удач Благодеяний бога нам довольно[47].
По этой причине возникает вопрос: нуждается ли в дружбе человек, имеющий все блага и довольствующийся сам собой? Или, скорее, именно в таком случае потребность в ней особенно сильна? В самом деле, кого ему благодетельствовать и с кем жить вместе? Проводить жизнь одни он, конечно, не станет. Раз он нуждается в подобных вещах, а они неосуществимы без дружбы, то самодовлеющий, по-видимому, нуждается в дружбе. Прибегать к привычному для [известных] рассуждений сравнению с богом было бы и там (в самих этих рассуждениях) неправомерно, и здесь неприемлемо. Если бог самодовлеющ и ни в чем не нуждается, то отсюда не следует, что и мы ни в чем не будем нуждаться. Существует и такое рассуждение о боге: бог, говорят, владеет всеми благами и самодовлеющ, чем же он занят? Не спит же он? Оп будет созерцать что-то, утверждает рассуждение, поскольку такое занятие самое прекрасное и наиболее свойственное ему. Что он будет созерцать? Если оп станет созерцать нечто отличное от самого себя, то будет созерцать что-то лучшее себя. Но бессмысленно, чтобы существовало нечто лучшее, чем бог, следовательно, on будет созерцать сам себя, а это нелепо: ведь даже человека, который сам себя разглядывает, мы упрекаем в тупости. Бог будет вести себя бессмысленно — такой выдвигается довод,— если станет смотреть сам на себя. Опустим вопрос, что именно станет рассматривать бог[48]. Мы ведем исследование не о самодовлении бога, а о человеческом самодовлении: будет ли нуждаться в дружбе самодовлеющий человек или нет? Исследовав [понятие] «друг», можно увидеть, что такое друг, каков оп и [понять, что] друг — это «второе я», когда дело касается очень близкого друга.
Как гласит поговорка «это второй Геракл»; друг — это второе я[49].
Узнать самого себя — это и самое трудное, как говорили некоторые из мудрецов, и самое радостное (ведь радостно знать себя)[50], но самих себя своими силами мы не можем видеть (что сами себя не можем [видеть], ясно из того, что, укоряя других, не замечаем, что сами совершаем сходные проступки; это происходит от снисходительности [к самим себе] или от пристрастия, и многих из нас это ослепляет, мешая судить правильно); поэтому, как при желании увидеть свое лицо мы смотримся в зеркало и видим его, так при желании познать самих себя мы можем познать себя, глядя на друга. Ведь друг, как мы говорим,— это «второе я». Итак, если радостно знать самого себя, а знать себя невозможно без помощи друга, то самодовлеющий человек должен нуждаться в дружбе, чтобы познать самого себя. И еще, если прекрасно — а оно так и есть,— чтобы тот, кому судьба послала блага, был благотворителен, то кого он станет благодетельствовать? С кем будет совместно жить? Он не станет, конечно, проводить жизнь в одиночестве. Совместная жизнь приятна и необходима. Если эти вещи прекрасны, необходимы, приятны и не могут осуществиться без помощи дружбы, то человек самодовлеющий должен испытывать потребность в дружбе.
16. Многих или немногих друзей надо иметь? Вообще говоря, ни многих, ни немногих. Если друзей много, то трудно каждому в отдельности уделять любовь. И в других случаях наша слабая природа также не имеет сил досягать до удаленных предметов. При помощи зрения мы не видим далеко, и если стать от предмета дальше надлежащей меры, то по бессилию природы [зрение окажется] недостаточным. То же самое относится к слуху и ко всему остальному. Но если по бессилию природы любовь окажется недостаточной, это вызовет справедливые нарекания, и такой человек не может быть другом, потому что не любит, а только па словах друг, дружба же этого не терпит. И еще, если друзей будет много, то не будет конца огорчениям. Ведь когда друзья многочисленны, то естественно, что с кем-то одним всегда приключается беда и огорчение тут неизбежно. С другой стороны, (нехорошо иметь) немногих друзей – одного или двух, число их должно соответствовать обстоятельствам и стремлению человека к любви.
17. А теперь надо рассмотреть, как следует обращаться с другом. Исследование наше коснется не всякой дружбы, а лишь той, при которой друзья больше всего обвиняют (egkaloysi) друг друга.
Обвиняют не во всех случаях одинаково. Дружба отца с сыном, например, не дает таких поводов для обвинений, как те виды дружбы, [при которых действует правило]: «как я тебе, так и ты мне, а за упущение строгое взыскание (egklema)». Там, где друзья неравны, не бывает равенства. Любовь отца к сыну основана на неравенстве, подобна ей и любовь жены к мужу, слуги к господину и вообще низшего к высшему. При таких видах дружбы не бывает обвинений. Обвинения бывают тогда, когда друзья — люди равного достоинства. Поэтому рассматривать мы должны, как следует обращаться с другом в том случае, когда друзья равны по достоинству[51]...
ПРИМЕЧАНИЯ
Необычный в истории философии факт — существование трёх «Этик» и самостоятельного очерка этики в конце 1-й — начале II-й кн. «Риторики» — лишнее свидетельство места, которое Ар. и его школа отводили жизненно-нравственным вопросам. Назывались разные причины, почему самая сжатая из «Этик» именуется «Большой» (или «Большой Никомаховой»): она якобы посвящена Никомаху старшему, отцу Ар. (так пишет поздний неоплатоник Элий); она первая полная аристотелевская этика (В. Тайлер, 1934); она развернута из какой-то другой, еще более краткой (О. Кигон, 1951); она состоит из вдвое более длинных книг, чем другие (И. Моро, 1951); она содержит «великие», важные наставления (Хр. 11 ант, 1841); в ней затронуто больше тем (Альберт Великий, XIII в.). Действительно, только в ММ есть раздел о предшествующих этических учениях (I 1); в ММ разбирается понятие удачи (II 7), говорится о калокагатии (II 9), о друге как зеркале, в котором познают себя (II 15), о справедливости правителя мира (II 8), чего в EN нет, хотя отчасти есть в ЕЕ; темы свободного выбора, природной добродетели, правильного рассуждения, различия между желанным и желательным, «восполнения природы» тоже получают в ММ специфическую и иногда более подробную разработку. Однако здесь отсутствует, напр., важный раздел о созерцательной жизни (EN X).
Ренессансные филологи, которым претила сухая краткость трактата, усомнились в его подлинности. Необычность его стиля ощущается всеми, и в своем большинстве аристотелеведы считают ММ компилятивным сочинением неизвестного античного перипатетика по материалам ЕЕ. Вместе с тем даже такие стилистические особенности, как употребление предлога hyper («за») вместо обычного peri («о»), не обязывают относить ММ к другому или более позднему автору. Фр. Шлейермахер в 1817 г., обращая внимание на силу и целеустремленность философской мысли в ММ, назвал этот трактат единственной подлинно аристотелевской «Этикой». Предположение, что ММ — авторский конспект или достоверная запись, в которой звучит живое слово Ар., высказывалось в XX в. (Г. Арним, В. Тайлер). Подводя итог разнообразным взглядам и собственным многолетним исследованиям, Ф. Дирльмайер, капитальный труд которого мы используем в наших примечаниях, высказывает убеждение, что ММ — не компиляция и не черновой набросок, а работа самого Ар., возникшая до «Метафизики» и других «Этик», стилистически цельная, выкроенная как бы из единого куска; вмешательство редактора-издателя, даже если такое было, не пошло дальше мелочей; со своей острой постановкой проблем и апорий ММ есть, возможно, уникальный образчик учебника, написанного Ар. в «плотном», «педагогическом» стиле и предназначавшегося, согласно гипотезе Дирльмайера, для проработки на самостоятельных занятиях продвинутых учеников (Dirlmeier Fr. Ein-leitung. — In: Aristoteles. Magna moralia. Berlin, 1973, S. 147, 469). Проблема аристотелевских «Этик» далеко не решена. Так, основываясь на отсутствии до II в. н. э. свидетельств о EN и на статистическом анализе словоупотребления, А. Кенни (1978) предложил исключить «Никомахову этику» из числа аристотелевских произведений и считать аутентичной «Евдемову», а также отчасти «Большую», но лишь в меру предполагаемой зависимости последней от «Евдемовой». Представляется, что вывести из подобных метаний в оценке подлинности и сравнительного достоинства текстов Ар. сможет только более полное понимание его философской мысли.
Перевод выполнен по изд.: "Aristotelis quao feruntur Magna moralia". Recogn. F. Susemihl. Lipsiae, 1883. Сверка-редактирование и примечания В. В. Бибихина.
СОКРАЩЕНИЯ
Ар. - Аристотель.
EN - "Никомахова этика".
EE. - Ethica Eudemia.
Met. - "Метафизика".
MM - "Большая этика".
Poet. - "Поэтика".Il. - "Илиада".
Prot. - "Протогор".
Rhet. - "Риторика".
Rp. - "Государство".
Top. - "Топика".
Примечания
1
Meros les politikes. To же возвышение "архитектонической" науки политики — в начале EN.
(обратно)2
Spoydaion einai... aretas ekhein. Как всегда, Ар. дает развернуться содержанию и смыслу, которые обнаруживаются в непосредственно данной действительности или предполагаются ею. Добродетель и благо у него не диктуемые извне нормы, а необходимая предпосылка индивидуальной и социальной практики, залог ее успеха: добротность, надежность душевной установки и годность, «правильность» действий и поступков.
(обратно)3
Этика уже политики и в этом смысле ее часть, но, поскольку полис строится на началах справедливости и дружбы, политика в свою очередь отправляется от этики. Такая взаимозависимость связывает политику только с этикой, но не с военным искусством, экономикой и риторикой: три последних подчинены политике, тогда как этика по существу отождествляется с нею (I 34; Rhet., начало). Здесь нет отхода от Платона, который исследовал политику и этику как одно целое (см. название соответствующего трактата: «Государство, или О справедливости»). У Платона бросается в глаза родство понятий полиса и «города души», политической деятельности и внутреннего, нравственного гражданствования; воспитание детей есть у него насаждение благоустроенной политики в их внутреннем полисе (Rp. IX 590е — 591 а; II 398 de). Ар. тоже систематически сближает внутреннее гражданствование с внешним, устроение души — с государственным строем (I 34,1197Ь27—35; EN VII, 1152а20—24, bI; VIII 5, 1157а26). Различие между двумя философами в том, что для Платона важнее блюсти «небесный порядок» душевного града (Rp. IX 592ab) и внешнее государство для него лишь модель и символ внутреннего, тогда как Аристотель острее сознает зависимость душевного устроения от граждански-государственного и необходимость общего дела для самоосуществления человека; благо всех для него заведомо «лучше» блага единицы, хотя вначале должно быть достигнуто это последнее (EN II).
(обратно)4
Oyk oikeian ton areton ten theorian epoielo. О числовом структурализме пифагорейцев см. Met. I 8; I 5; XIII 4. Работа Ар. «О пифагорейцах» не сохранилась. Ниже (I 33) и в EN (V 8, начало) назван принцип пифагорейской справедливости — «взаимопретерпевание» (to antipcporithos), каким-то образом выражавшееся через Квадрат («число, помноженное само на себя»). Возможно, мысль пифагорейцев тут упрощена и «взаимопретерпевание» предполагало не просто равенство понесенного наказания, потому что у самого Ар. (РгоЫ. mech. 850 b 2) термин antipaskho означает соразмерность величин, а у Евклида (VI 11 —15) — взаимную пропорциональность сторон фигур.
(обратно)5
Т.е. поскольку задача этики — конкретная работа осмысления, взращивания и упрочения природной добродетели, созерцание, запредельных идей может только отвлечь и расхолодить человека Вся эта 1-я глава — спор с платонизмом, понятым как раздвоение мира на действительный и идеальный.
(обратно)6
См. EN VII 15 — о простоте божественной радости, Met. XII 7 — о наслаждении бога своей непрерывной деятельностью и Polit. VII 1 — о его блаженной евдемонии
(обратно)7
Аристотелевское «или» (ё) означает часто отрицание предшествующего тезиса, как в данном случае. Этическое благо — явно не отвлеченная идея. Из перечисленных его пониманий:
1) лучшее для каждого конкретного сущего, 2) идея, 3) общее понятие, 4) результат индукции
принимается первое (1183а 6—7).
(обратно)8
Реальный Платон умел думать и говорить об идеях без отвлеченностей и абстракций, так что аристотелевская критика направлена не против него, а против такого платонизма, который вместо вещей начинает созерцать их воображаемые прообразы. В данном случае заоблачные идеализации отводятся аргументом «от науки»: дело практической науки, искусства, умения — не раздумывать о видах блага, а делать конкретные шаги к нему. В EN I 4 другая аргументация: не к чему заговаривать об идее, раз все равно знание о ней извлекается из знания о воплощающей ее конкретной вещи.
(обратно)9
Epistemon pason. Эпистема здесь, как не раз и в других «Этиках» (ЕЕ 1216Ы7; 1221Ь5; EN 1094а18; 1097а4; 1106Ь8) смешивается с техно — практическим умением и искусством, даже с простым ремеслом (117, 1205а32); все они берутся пока в общем качестве целенаправленной деятельности, которая может быть успешной (добродетельной) или нет. Ср. EN I 1 и прим. 3.
(обратно)10
Труднодостижимая аристотелевская «середина» противоположна позиции среднего человека (см. EN II 2 и прим. 7), потому что всегда далека от крайностей, между которыми колеблются «люди толпы», то вспыльчивые, то равнодушные, то чересчур хвастливые, то слишком скрытные и т. д.
(обратно)11
По Сократу и Платону, мы делаем злые и порочные вещи против собственной воли, когда нас «обкрадывает» беспамятство, «насилует» страдание и «обольщает» удовольствие: причина зла — несовершенство общества, недостаток подлинных знаний и неумение жить (Rр. 412е — 413с; Prot. 345a; 355ab; Gorg. 509e; Soph. 230a; Tim. 87b).
(обратно)12
Нет оснований видеть тут намек на индийский поход Александра. Ар. в разных сочинениях упоминает Индию, но всегда как пример отдаленной страны, на события в которой мы не можем влиять (ЕЕ II 10, 1226а26; Polit. VII 13, 1332Ь24 со ссылкой на Скилака). Характерно, что Ар. и Платон не раз говорят о египетской мудрости и науках, но не упоминают об индийской философии.
(обратно)13
Kai анеу toy prattein. Платоновская мысль о невидимой красоте ума (нуса) получает аристотелевский акцент на необходимости его внешнего выражения. Аналогичным образом и любовь для Ар. не любовь, если никак не дает о себе знать (EN VIII 2)
(обратно)14
Сводя мужество к знанию, Сократ имел в виду не просто осведомленность и навык (см. EN III 11 и прим. 41). Сократово «знание», отождествляемое им с добродетелью, сродни правильному рассуждению и разумности, которым подчинены добродетели и у самого Ар. Снова опровергается не столько Сократ, сколько грозящее его теории перетолкование.
(обратно)15
Il. XXII 100.
(обратно)16
Kai to timion agathon kai arkhes taxin ekhon. Высшее благо — евдемония, а не честь, но по мере того, как Ар. высветляет главные добродетели, осмысливает их и связывает с общим движением человека к своему осуществлению, каждая имеет тенденцию становиться «вседобродетелью», «подтягивая» за собой остальные (см. EN VI 13 и прим. 68). Благородство (величие души — megalon-sykhia) оказывается тогда как бы космосом добродетелей и немыслимо без них всех (EN IV 7, 1124а1—3), но их совокупность составляет евдемонию, а последняя и есть «наиболее чтимое» (timion), «начало благ» (EN I 13, 1102а1—4).
(обратно)17
См. EN IV 10—14 и прим. 48. Ар. оставляет под вопросом принадлежность к добродетелям по крайней мере шести из перечисленных «середин», а именно негодования, чувства собственного достоинства, совестливости (скромности), чувства юмора (обходительности), дружелюбия и правдивости. Из них последние три явно причислены к свойствам добродетельного BEN IV 12—15. В ЕЕ III 7, 123316—18 (ср. 1234а24—27) все шесть названы «серединами чувственных состояний» (pathetikai mesotetes), т. е. отнесены отчасти к аффектам, чувствам, страстям (palhemata, ср. Rbet. II 3; 4; 0; 9), отчасти к природным добродетелям, которые остаются еще только предпосылками подлинных, пока не сложились в намеренную нравственную установку. Слова allos an eie logos — буквально «должно бы быть другое рассуждение» — не обязательно означают обещания строго расклассифицировать все отдельные свойства, тем более что такой педантизм (mikrologia) не в духе Ар.
(обратно)18
«Совершенной добродетелью» справедливость названа у Платона (Legg. I 630с; она возглавляет все добродетели и в «Государстве»). Справедливость в еще большей мере, чем благородство и даже разумность, склонна вбирать в себя остальные добродетели, становясь вседобродетелью (hole arete), хотя бы потому, что предполагает исполнение законов, а те требуют от людей добродетельности (EN V 3). К всеобщей справедливости относятся слова Ар. (EN 1129Ь28—29), с небольшим изменением повторенные Кантом в его знаменитом изречении о «звездном небе над нами» и «нравственном законе внутри нас» («Критика практического разума», Заключение).
(обратно)19
Ар. EN V 3. Справедливость pros heteron (по отношению к другому) подчеркивается явно в противовес Платону, для которого справедливость есть прежде всего внутренний лад души (Rр. IV 443с—444а; IX 591е—592Ь). См. выше, прим. 3.
(обратно)20
PL Rp. II 369с—370а. Платоновская теория обмена, основанного на мере потребности, полнее изложена в EN V 8.
(обратно)21
См. выше, прим. 4, а также EN V 8.
(обратно)22
Koinonoi gar hoi politai tines. Развертывание широкого смысла слова: граждане образуют сообщество постольку, поскольку имеют между собой общее, т. е. в какой-то мере равны.
(обратно)23
Частое у Платона, но встречающееся также у софистов, а позднее у стоиков выражение orthos lo^od (букв, «прямой разум») Ар. осмысливает в свете своей телеологии и своего учения о середине (которое в свою очередь тоже восходит к Платону, ср. Rр. X 619а: «Всегда надо уметь выбирать среднее»). Человек — разумное существо (logon ekhon), поэтому для достижения своего телоса он должен осуществить в себе энтелехию разумности, следуя по любому, а единственно правильному разумению. Orthos logos есть вместе с тем то «правильное соотношение», которого добродетель придерживается в середине между крайностями противоположных пороков. В ЕЕ III 4, 1231Ь32 слова «[действовать!, как [велит] правильное рассуждение» (hos ho logos ho orthos) означают просто «[действовать], как должно» (hos del). Добродетель у Ар. есть то, что состоит в союзе с правильным рассуждением, а последнее в свою очередь определяется в EN VI 13, 1144Ь27—28 как phronesis — вседобродетель разумности. Правильное действие в согласии с добродетелями поясняется через добродетельное действие в согласии с правильным рассуждением (ММ II 10). Ар. и не думает выбираться из этого герменевтического круга: разумность добродетели и добродетельность разума для него не подлежат логическому обоснованию, их надо «чувствовать» (II 10; EN II 9, 1009Ь23; IV 11, 1126а4 и VI 9, 1149а23—29: последний критерий практики —-«чувство»).
(обратно)24
«Чувство» — aisthesis — у Ар. иногда выше логоса: не только индивидуальные конкретности, но и исходные первосмыслы, т. е. «начала и концы» бытия (prdta kai eskhata), в границах между которыми простирается сфера логической рациональности, постигаются «умным чувством» — ощущением, которое тождественно нусу (EN VI 12, 1143Ь5: aisthesis... noys).
(обратно)25
Создание и делание — poiesis, исполнение и действие — praxis. См. EN VI 4—5. Различение идет от Платона (Charm. 163b), который в свою очередь ведет его от Гесиода (Ergg. 309).
(обратно)26
Сократ, «помогая Логосу» против софистики, приравнял добродетель к знанию и разуму (см. выше, прим. 13). «Нынешние философы» (т. е. Древняя Академия, которая не обязательно во всем следовала Платону) своей формулой kata ton orthon logon (в соответствии с правильным рассуждением) дали повод считать, наоборот, будто добродетели осуществляются независимо от разума и только что не вступают с ним в противоречие. Аристотелевская формулировка meta toy orthoy logoy (в союзе с правильным рассуждением) отражает срединную позицию: добродетель и не растворяется в логосе, и невозможна без намеренного соединения с ним. По духу и даже по букве это позиция Платона (см. Phaed. 68b: meta phroneseos, как в MM II 3, 1200а4).
(обратно)27
Как выше (см. прим. 16, 18) благородство и справедливость, так теперь разумность (phronesis), осмысленная в своей энтелехии — слиянии душевных порывов с «правильным рассуждением», охватила собой все практические добродетели. Она правит движениями души так же, как платоновский "образцовый политик" — частями государства (Pol. 259d—260b). Под ее «архитектоническим» водительством все силы и способности рационально-практической сферы приходят к простому гармоническому единству, предоставляя теперь «хозяину дома», дианоэтическим добродетелям, возможность спокойного досуга. ММ подходит, таким образом, вплотную к теме "теоретической жизни", которую Ар. разбирает в конце EN.
(обратно)28
Гармония страстных движений души с правильным рассуждением так важна для аристотелевской концепции добродетели, что Ар. не знает, куда отнести воздержность с ее внутренними борениями, и она повисает у него где-то между добродетелью и способностью души (см. EN IV 15, 1128Ь 34; 113; VII 9; Тор. IV М, 1128а 7—8). Соответственно невоздержный в отличие от распущенного оказывается не вовсе дурным (см. конец гл. 9 кн. VII EN).
(обратно)29
Sokrales ho presbytes — возможно, в отличие от «младшего Сократа» (см. Met. VII 11). Возможный перевод — «почтенный Сократ». Прочное знание, по Сократу, — наиболее властная способность в душе, поэтому никогда нельзя сказать, что человеку не хватило силы воли: мнимый безвольный просто пока еще не совсем знает, что ему нужно в жизни (Prot. 352а).
(обратно)30
Sophrosyne — благоразумие, или, по этимологическому значению слова, целомудрие (см. EN III 13 и прим. 51) — это в отлично от сомнительной воздержности полноценная гармоничная добродетель, не знающая порочных и губительных порывов.
(обратно)31
См. EN VII 5, 1146Ь29—31 и прим. 15 к с. 196. Платон тоже приравнивал «истинную доксу» к эпистеме.
(обратно)32
Katholoy... epi meroys. Словесно к этим выражениям близко не «Первая аналитика» (I 1; 24—25), а «Топика» (II 1, 108b1 — 109а1), но неточное цитирование собственных сочинений вообще характерно для Аристотеля.
(обратно)33
Т. е. хотя воздержность не вполне добродетель и даже не всегда похвальна, она никогда не противоположна добродетели.
(обратно)34
Текст восполнен по EN VII 6, М48Ь27—28.
(обратно)35
Всего губительнее человек, творящий зло «из принципа» (arkhe). Таковы утонченные злодеи Дионисий Сиракузскнй (о нем неоднократно в «Политике» и «Риторике»), Фаларид (EN VII 6; Polit. V 10) и неверный ученик Платона гераклейский тиран Клеарх.
(обратно)36
Психологический анализ, который и вообще всегда сопутствует аристотелевской этике, на время становится здесь главной темой исследования. Психология Ар. — развитая дисциплина, но она отличается от современной психологической науки тем, что всегда ориентируется на здоровые явления психики, почти не замечая болезненных.
(обратно)37
Неясное из-за лаконичности место. Возможный смысл: удовольствие, кажущееся дурным, будет благом, если испытано в иной мере, в ином виде, иным человеком, в другом месте, в другое время и т. д. О «благе в каждой категории» см. выше (11). Подлинное удовольствие неповторимо конкретно и индивидуально, оно дело жизненного искусства, опыта, разумения. «Гедонизм» Ар., по слонам Ф. Дирльмайера, настолько одуховлен, что сам этот термин утрачивает иной смысл. «Ар. — классически!! представитель евдемонизма... Однако это не гедонистический, а «аретологический евде-монизм» (арете — «добродетель») (Лебедев А. Аристотель. — Филос. энцикл. словарь. М., 1983, с. 37).
(обратно)38
Подразумевается, что если уж наука не признает удовольствия, то оно достойно отвержения вообще. Примеры «наук, доставляющих наслаждение», взяты явно из платоновскою «Горгия» (462Ь—466а).
(обратно)39
За формальным доводом (то, что не следует «прямому разуму», по определению, не есть добродетель, поэтому «добродетель, используемая во зло» есть нелепость) стоит недоказуемое опытное знание сродства добродетели и достоинства с разумностью, но никогда — со злом и заблуждением (см. прим. 22 и 23 к кн. I). Исходную «породненность» (synoikeiosthai) человеческих порывов с логосом и нравственными добродетелями Ар. выводит из природы человека и его телесности (EN X 8, 1178а9—23; ср. VI 13, 1144Ь31-— 32).
(обратно)40
Толкование Дирльмайера: Ар., называющий иногда случайную удачу «причиной» (Тор. 116Ы—7; ЕЕ 1247ЬЗ), теперь уточняет, что, строго говоря, причиной надо считать действующее начало в данном случае — нашу добродетель и наше стремление к благу! Не будь этого стремления, пусть хотя бы в виде простого предпочтения блага злу, не могло бы зайти и речи об «удаче», так что случайную удачу лучше называть не причиной, а следствием, тем более что даже по смыслу слова «удача» — это скорее то, что «дано», чем то, что «дает».
(обратно)41
Традиционно "калокагатия" — сочетание внутреннего достоинства с внешними благами, но Ар. переосмысливает ее как такую совокупность добродетелей, при которой человека не испортят внешние блага.
(обратно)42
См. I 34 и прим. 22 и 25. Различение между формулами «в соответствии» и «в соединении» (I 34, 1198а10—21) снова забыто как несущественное в данном контексте. Современный исследователь справедливо отмечает «повсеместное у Ар. барское пренебрежение (lordly contempt) к техническим терминам и методологическим приемам своего же собственного изготовления» (Kenny A. The Aristotelian Ethics. Oxford, 1978, p. 220).
(обратно)43
Галка с галкой, равный с равным — см. EN VIII 2 и прим. 6.
(обратно)44
Собака и кирпич, земля и дождь — см. там же, прим. 7.
(обратно)45
Eur., fr. 298 (Nauck). Пер. М. Гаспарова.
(обратно)46
См. Metheor. II 2. Ар. не думает, что огонь питается влагой, но приводит этот взгляд без критики как пример «общего места»: что «крайности сходятся».
(обратно)47
Eur. Or. 667. Пер. И. Анненского.
(обратно)48
Бог — не тема для науки о нравах, потому что он выше нравственности (II 5); кроме того, предмет этики только наше человеческое благо (I 1 и прим. 6). «Довод» о времяпрепровождении бога изложен здесь без критики, возможно просто из доксографической объективности (см. выше, прим. 19). Но даже если автор ему сочувствует, противоречия с Met. XII 7 нет: там говорится не о пассивном разглядывании богом самого себя, а (вслед за Платоном, Tim. 34а — Ь) о живом и действенном самомышлении божественной мысли.
(обратно)49
Вторым Гераклом называли героя и силача. Здесь, возможно, поговорка имеет смысл добродушной иронии по поводу обычного завышения человеческой самооценки.
(обратно)50
Это учение о познании себя, как в зеркале, в близком друге даже словесно представляет собой комментарий к Платону и развитие скрытой у него мысли (ср. Ale. I, 132с—133с и Phaedr. 255d)
(обратно)51
Мысль оборвана, но даже если от ММ следует ожидать такой же структуры, как от EN, остается неразобранной только тема евдемонии. Более вероятно, что ММ подходит вплотную к ней, не затрагивая ее, как было в конце кн. I с темой теоретической жизни. В таком случае в дошедшем до нас тексте недостает лишь нескольких строк или страниц.
(обратно)
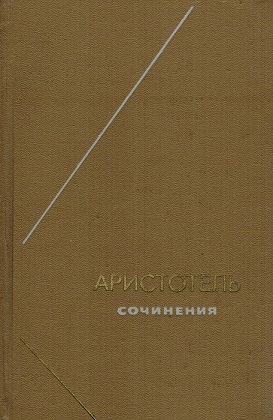

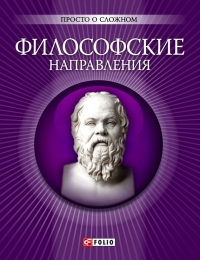
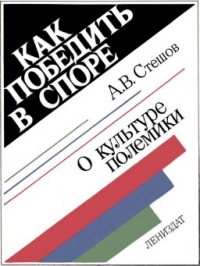

Комментарии к книге «Большая этика», Аристотель
Всего 0 комментариев