Евгений Васильевич Аничков Эстетика
– составляет особую отрасль философии, занимающуюся красотой и искусством. Самый термин Э. происходит от греческого αίσθετικός, что значит чувственный, и в таком смысле встречается еще у самого основателя науки о прекрасном, Канта, в «Критике чистого разума». Современное специальное значение он впервые получил в книге Баумгартена «Aesthetica» (1750). В логике Вольфа, кроме познания разумом, стремящимся к истине, предполагалось еще одно смутное чувственное познание (verworrene Vorstellung). Это особое познание, под названием cognitio sensitiva, и исследовал в своей книге Баумгартен, находя, что совершенство, достигаемое этим познанием, есть красота (Perfectio cognitionis sensitivae…est pulchritudo). Э., наука о чувственном познании, превратилась, таким образом, в науку о красоте. Когда Кант, в «Критике силы суждения», старался определить восприятие прекрасного, ему оставалось только, следуя терминологии Баумгартена, назвать его эстетическим. Став наукой о красивом, Э. сама собой оказалась одновременно и наукой об искусстве. Изящные искусства (les beaux arts, die schönen Künste, artes pulchre cogitandi) понимались неизменно как деятельность, направленная на создание красивого; отсюда Э. являлась наукой, наследующей красоту, как воспринимаемую нами из природы, так и нами самими создаваемую средствами искусства. За последнее время, однако, объем Э. значительно изменился, и теперь такое определение стало уже не только неточным, но и прямо неверным. Прежде всего, исконно рядом с красотой в нашу науку вводились такие термины, как возвышенный, трагический, комический, признаваемые моментами или видоизменениями красоты (другие термины, как прелестный, нежный, грациозный, только промелькнули и не возымели никакого влияния). Но, спрашивается, как быть с уродливым? Входит ли в Э. учение о восприятии уродливого или вообще некрасивого? Суждение о нем сходно суждению о красивом, и нельзя, вместе с Розенкранцем, говорить, будто восприятие всего некрасивого, как противоположного красивому, есть отрицание всякого эстетического суждения. Ведь то, что в одних культурно-исторических условиях признается красивым, в других считается верхом уродства. Еще Виктор Гюго, большой охотник до китайщины, относил ее к области некрасивого (le grotesque); мы же теперь вместе с самими китайцами научились восхищаться их искусством. Сообразно с этим можно было бы сказать, что Э. – наука о красивом и уродливом, о трагическом и комическом, как это и предлагает Баш, вслед за Гроосом, в своем монументальном труде по эстетике Канта. Но сам Гроос предполагал нечто иное. Дело не только в том, чтобы ввести в Э. и уродливое: дело в том, чтобы центр интереса перенести с оценки явлений на то состояние сознания, которое производит эстетическую оценку, но заключается вовсе не в ней одной. Гроос предлагает считать Э. не наукой об одной оценке, какова бы она ни была, а наукой об эстетическом сознании, выражающемся либо в восприятии природы или произведений искусства, либо в художественном творчестве. На этом определении и можно остановиться, во избежание тавтологии заменив лишь при характеристике восприятия слово эстетический либо словом чувственный и вернувшись, таким образом, к первоначальному значению термина Э., либо, что несравненно точнее, словом художественный. Э., скажем мы тогда, есть наука о художественном восприятии и художественной деятельности. Право на такое определение дает нам то, что именно художественное творчество привело к возникновению в нас особого эстетического сознания, которое мы отнюдь не должны рассматривать как нечто врожденное человеческой природе или как первоначальную способность души.
I. Первые шаги художественного самосознания
В наиболее культурных странах – в Англии, в Бельгии, в Западной Германии, в Северной Франции – огромное количество населения почти совершенно лишено всяких эстетических впечатлений. Квартира в фабричной казарме, платье купленное готовым и рассчитанное лишь на дешевизну при его производстве, полное отсутствия песен, кроме кое-каких воспоминаний из music-hall или кафешантана, фельетонный роман в двухкопеечной газете – все это вовсе не питает художественного сознания. Прибавьте еще к этому и окрестности, заваленные складами и отбросами угля, так что от пейзажа не осталось и помину. Немного выше рабочего стоит, в этом отношении, и средний обыватель; его также окружают уродливые создания машинного производства; на музеи, концерты, истинно-художественные зрелища, даже на чтение, хотя бы лучших произведений текущей беллетристики, у него очень мало времени. В эпоху, когда эстетическое знание достигло высокой степени, когда постоянной и систематической разработке и популяризации подвергается теория искусства, огромной массе населения оно совершенно чуждо. Оно знает о нем, но не видит и не слышит его. Все искусство сосредоточилось в руках кучки людей – профессиональных артистов и их досужих почитателей. Как раз обратное замечаем мы у народов первобытных и среди современных дикарей. И тех, и других можно было бы без особого преувеличения назвать врожденными артистами. «Ни одна жизненная потребность, – пишет Бюхер, – не вызывает у них (у дикарей) такой массы утомительного труда, как потребность украшения: прическа волос, раскрашивание тела, татуировка, изготовление бесчисленного множества мелочей, которыми они убирают члены своего тела. Орнаменты орудий первобытных народов удивительно богаты содержанием, хотя в то же время необыкновенно трудны». Рядом с этим, сколько знает дикарь и песен. «Австралийцу, – рассказывает Грей, – песня то же, что понюх табаку. Рассердит его что-либо, он поет, счастлив он – поет, голоден – поет, пьян – поет еще больше». Что почти все работы и теперь сопровождаются у дикарей и всегда сопровождались у всех народов земного шара песнями, об этом недавно собрал много сведений Бюхер. Ратцель, Ахелис и главным образом Гроссе и Гроос показали также, какую роль играют в первобытной жизни танцы. Кто исследовал внимательно ремесла и обыденную жизнь средних веков (например, Вильям Моррис, Рескин), тот приходил к такому же выводу: загнанный и запуганный крестьянин и рабочий «старого режима» не только больше, чем современный, веселился на своих бесчисленных праздниках, но наслаждался широким размахом своего искусства, произведения которого высоко ценим и мы, его отдаленные потомки. Если этого первобытного человека-эстета мы бы спросили, однако, что он думает о красоте, легко могло бы случиться, что он вовсе не понял бы нас, как не понял бы самого термина художник, которым мы определяем его деятельность. Эстетическому сознанию предшествуют века интенсивной художественной деятельности. Что оно есть не более как результат сложной эволюции – видно особенно ясно из того, как поздно становится понятен этот казалось бы столь первоначальный термин: «красота природы». Визе в целом ряде очерков показал, что, например, древние греки, которых мы со времени Винкельмана привыкли считать народом, высоко одаренным в эстетическом отношении, о красоте природы ничего не знали до Еврипида. Даже в римскую эпоху это понятие становится доступным сознанию лишь очень поздно, ко временам Авзония и Фортуната. В средние века оно вновь исчезает, чтобы вспыхнуть лишь у кое-каких избранных натур, как у Петрарки, на рубеже Возрождения. Еще в XVIII в. мы нередко наталкиваемся на полное непонимание красоты пейзажа, хотя уже почти столетием раньше пейзаж занял почетное место в живописи. Правда, мы часто сходимся с первобытным человеком в оценке отдельных красот природы. Дикарь любит цветы не менее нашего; средневековые трубадуры и труверы неизменно останавливались в восхищении перед весенним ландшафтом. Однако, как это показал Грант-Аллен («Mind», 1880), дикарь любит цветы лишь для того, чтобы украсить ими свое тело; средневековый человек и современные крестьянки, русские и сербки, идут весной «по цветочки» лишь для плетения венков.
Первым проблеском эстетического самопознания можно назвать такую попытку дознаться, что считается красивым, какую мы находим в «Гиппии» Платона. Здесь еще не дается никакого другого определения красивого, кроме простого замечания, что оно приятно для слуха и зрения (τό δί άκοής τε καί όφεως ήδύ). Эта попытка стала возможна лишь тогда, когда Акрополь и Парфенон были полны множеством созданий самого совершенного зодчества, когда стены их уже были покрыты фресками, когда прозвучали стихи Гомера и Софокла – словом, в золотой век античного искусства. Надо было еще, чтобы Сократ привычным, безучастным взором смотрел на все это искусство, среди которого он жил, чтобы и к нему он отнесся с тем бесстрашным анализом, который так испугал его сограждан и довел его до чаши с ядом. Только Сократ и его ученики достигли того, что как бы становились выше жизни и выше искусства, и начинали, как это рассказывает про Сократа Ксенофонт, сравнивать понятия «красивый» с другими понятиями, по-видимому, сродными. Не только для толпы афинян такие вопросы еще были непонятны: они были чужды и самим художникам, творцам всего этого искусства. Тот же ксенофонтовский Сократ рассказывает, что обошел всех художников, спрашивая их об искусстве; они сообщали ему много подробностей, но никто не сказал ему, что такое искусство. Тут, в этих замечаниях ксенофонтовского Сократа, и нужно видеть точку отправления эстетики. Основание ее было положено Платоном и Аристотелем, с которых и надо начинать обозрение эстетических учений. Такое положение их в нашей науке едва ли изменится даже тогда, когда ориенталисты облегчат нам знакомство со взглядами на красоту и искусство мудрецов древней Индии, а может быть, и Китая. Красота представлялась Платону результатом восприятия чувствами (αίσθήσεσιν); оттого она вызывает удовольствие и даже стремление, любовь. В то же время, однако, красота понимается и интеллектуально, а особая высшая красота оказывается даже доступной только одному разуму. Кроме того, красота почти вовсе не отделима от добра, справедливости, истины. Учение Платона о красоте заключается главным образом в диалогах «Федр» и «Филеб». В «Федре» оно связано с теорией любви и с представлением о горнем сверхнебесном мире, месте пребывания бестелесных душ и чистых идей. В «Филебе» красота рассматривается как источник чистого удовольствия, противополагаемого смешанному, сопряженному с страданием. Сверхнебесный мир это – мир истинно существующего, вечный и совершенный прототип здешнего мира. Этот мир и есть собственно мир красоты, как и истины, справедливости и добра. Красота здешняя есть лишь отражение той божественной красоты. Когда падшая, т. е. воплощенная в тело, душа видит земную красоту, в ней возникает воспоминание (άναμνησις) о ранее пережитом в горнем отечестве. И тогда она охвачена безумием (μανία); ее влечет к красивому, ее воспламеняет любовь, но любовь эта различна сообразно способностям души. Чаще всего это лишь любовь к земной красоте (τήδε κάλλος), т. е. к производящим удовольствие чистым тонам, краскам, запахам и правильным линиям и фигурам. Но действительно возлюбивший красоту (φιλόκαλος) становится истинным ее любовником (έραστής), и его любовь стремится уже к самой божественной красоте (άληθοΰς), о которой душа его была способна сохранить ясное воспоминание. Эта красота доставляет удовольствие лишь отношением между явлениями, а не самыми явлениями. Она сказывается в архитектуре и музыке, в симметрии и мере. Вместе с Пифагором полагая сущность явлений в числовых отношениях, Платон ставил их в самом центре своей системы. Мера и симметрия принадлежат одинаково и к здешнему, и к горнему миру, ими оба мира собственно и связаны. Оттого, воспринимая меру и симметрию, человек «вспоминает» уже красоту «бесформенного, бескрасочного, неосязаемого» мира, куда душа проникает лишь ведомая разумом. Но в мере и симметрии коренится и сама добродетель; в них заключается также и истина, и мы можем назвать их, вместе с красотой и истиной, основным благом. Теория красоты отношений проведена, таким образом, совершенно стройно, и это особенно отчетливо выступает рядом со сбивчивостью телесной красоты (τήδε κάλλος). Каким образом мир «бесформенный и бескрасочный» может быть прототипом чистых красок и правильных линий – это представить себе весьма трудно. Правильные, т. е. отвлеченно-геометрические, линии и чистые цвета также не могут считаться производящими чувственное впечатление; в них, во всяком случае, заключается значительная доля интеллектуальности. Эта низшая красота мало интересовала Платона. По своей неопределенности она не отразилась и на рассуждениях Аристотеля, в своей «Поэтике» все внимание сосредоточившего именно на учении о красоте отношений. Он дал ей более формальный характер и этим отделил ее от добра и истины, с которыми она так тесно слита у Платона. Учение о красоте в мере и симметрии по самому существу своему давало полную возможность формальной разработки. У Аристотеля оно приняло впервые объективно-формальное обличие теории единства в разнообразии, которое впоследствии встречается и у Цицерона, и у Горация, и у блаженного Августина. Эту мысль Аристотель высказал, требуя, чтобы произведение прекрасного было так составлено, что если уничтожить часть, то нарушится и целое; целостность же или единство есть основное свойство всего красивого. Напротив, субъективно-формальный характер дал Аристотель платоновской Э., установив, что красивое может быть только определенных размеров. Несоразмерно большое не может быть предметом непосредственного восприятия. Соображения Аристотеля, развивающие мысли Платона, дают нам также возможность выйти из отвлеченного учения Платона о красоте и в теории искусства. Если мера и симметрия, эти первоосновы красоты в системе Платона, воспринимаются из архитектуры и музыки, то уже этим искусство вводится в сферу красивого. Любовное безумие, вызываемое красивым, также определяется Платоном как наиболее свойственное поэтам; его не надо бояться именно потому, что в нем коренится вдохновение. Уважение к искусству сказывается и в той самой X главе «Политики», где предписывается почти полное изгнание артистов из государства. Если появится драматический поэт, то, по словам Платона, пусть глава его будет украшена лавровым венком, но, воздав ему почести, пусть граждане предложат ему удалиться. Платон совершенно отрицает красоту трагедии и комедии, как не только не доставляющих чистого удовольствия, но даже заставляющих проливать слезы. Поэтам он отводит лишь шестое место. Не только правитель народа, но даже врач и прорицатель поставлены выше поэта. В сущности теорию искусства эстетика Платона не обнимает вовсе. Объясняется это тем определением Платона, по которому искусство есть лишь подражание подражанию, т. е. отстоит еще дальше от сверхнебесного мира, истинно существующего, чем наша бренная жизнь. Столяр, делая ложе, подражает истинному ложу или идее ложа, – а художник подражает этому подражающему идее ложа предмету. Художник воспроизводит лишь видимость, тень действительно существующего для этого мира ложа. И вот оттого-то он и изгоняется из государства: ведь «заблуждение противно богам и людям» – а что же, как не заблуждение, эта видимость предметов, это «подражание подражанию»? По той же причине граждане должны удалять драматургов, гораздо более ревниво оберегая от них государство, чем, например, от лирика. Последний, в своем любовном безумии, говорит от себя и тем, несомненно, меньше грешит против истины, чем драматург, умеющий говорить сразу от лица нескольких людей. Именно за эту способность введения в заблуждение и должно драматурга постигнуть изгнание. Облагородил и, так сказать, защитил искусство только Аристотель, также признававший, что искусство есть подражание (μίμησις), но зато поставивший рядом с подражанием тому, что есть, еще подражание тому, что должно быть (οΐα εΐναι δεΐ). Равным образом Аристотель, все-таки отдавая предпочтение эпосу, как бы примирил эстетику Платона с трагедией и комедией. Конечно, трагедия заставляет нас проливать слезы, а комедия хотя и радует жестокой насмешкой над тем, кто нам враждебен, но доставляет также не чистое удовольствие; однако страсти видимые или изображаемые на сцене – вовсе не то же самое, что настоящие. Трагедия «посредством страха и сострадания производит катарсис этих страстей». Это изречение Аристотеля вызвало бесчисленное множество толкований. В трагедии страсти производят какое-то особое впечатление. Каково оно – это и объясняет слово катарсис. Барнайс показал, что оно встречается и в «Риторике» и обозначает чисто медицинское очищение. Трагедия посредством страха и сострадания производит, стало быть, очищение или освобождение от этих страстей. Что дело, как показал Лессинг, идет об освобождении именно от страха и сострадания – это совершенно очевидно; нельзя согласиться с толкованием, по которому трагедия изображает очищенные страсти или очищает вообще от всяких страстей. В настоящее время принято считать, что Аристотель бросил это выражение, еще не вполне продумав его значение, и стремился, вводя его, либо указать на то, что фиктивное (подражающее) возбуждение страстей, противоположное настоящему, дает наслаждение (очищая душу от страха и сострадания), либо как можно сильнее оттенить возможную полезность трагедии с точки зрения государственной безопасности. Первое мнение встречается, например, в «Поэтике» Шерера, второе принадлежит Бергеру. Как бы то ни было, Аристотель прежде всего старался расширить эстетику Платона, заставив ее обнять и искусство. Оправдывая трагедию, это произведение «сладчайшей речи», он, как формалист, ополчался также и за права красоты. Итак, часть эстетики Платона – учение о красоте отношений – была развита с формальной точки зрения Аристотелем и легла в основу эстетического формализма. Развиваясь в этом направлении, ей пришлось расстаться с родственными правдой и добром. Это повторяется каждый раз, когда в Э. торжествует формальная точка зрения – и каждый раз естественно возникает вопрос, не столкнется ли Э. с этикой и религией. Чтобы избежать этого и в то же время не объявлять войны ни этике, ни религии, остается только подчинить Э. требованиям морали или религии. Введя представление о катарсисе, Аристотель отчасти и вступил на этот путь. Гораздо дальше пошел Гораций, когда объявил, что в поэзии omne tulit punc t um qui miscuit utile dulci. Такое наиболее простое разрешение вопроса и имело огромный успех в течение долгих веков. Его слышим мы иногда и теперь. Однако у Платона было и еще одно учение красоты, которое было уже невозможно формализовать. Красота тонов, линий, звуков, красок есть отражение или подражание идей, т. е. того мира, где красота слита с добром и истиной. Эту теорию Платона развили неоплатоники, и среди них прежде всего Плотин. Таким образом было положено основание эстетическому идеализму. Чтобы развиться, ему надо было пройти через перемол восточного мистицизма. Александрия и начало христианской эры были для того самой подходящей обстановкой. Идеалистические построения были облегчены Плотину тем, что дуализм, лежащий в основе учения Платона, появилась возможность заменить мистическим монизмом. Сверхнебесный мир идей, т. е. вечного существования, и мир явлений, т. е. существования бренного, мир духа и мир материи составляют у Плотина уже нечто единое. Материя есть лишь сгущение, падение, затемнение духа. На подобной общей основе и развита Э. Плотина в шестой книге первой «Эннеады». Красота, как и у Платона, принадлежит вечному миру, где она сопряжена с истиной и добром; но чувственный глаз воспринимает эту красоту лишь в материальном чувственном проявлении. Его красота и есть та другая, низшая земная красота, выражающаяся в цветах, звуках и равномерности. Материя, эта самая низшая стадия существующего, сама по себе бесформенна и уродлива, и только по мере приближения к духу она получает порядок (симметрию). Через посредство огня, который прекрасен сам по себе, она получает также и свет, и цвета, а при помощи гармонии одухотворяется звуком. Все это, попадая в сознание человека через посредство материального восприятия, тем самым возвышает его к духовному. Поднимаясь выше, человек приобщается и к духовным сущностям, через посредство добродетели достигая сверхнебесной красоты. При подобных эстетических теориях искусство хотя и считается подражанием, но стоит уже не ниже природы, а выше ее. Это составляет особенность и позднейших идеалистических систем. Искусство, подражая, не только воспроизводит как должно быть, согласно мысли Аристотеля: оно еще одухотворяет материю, поднимая ее до красоты, т. е. до небесного. Само по себе искусство не может быть, таким образом, противополагаемо добродетели. Стоит только подвергнуть искусство нравственно-аллегорическому толкованию, чтобы оно стало послушным орудием в руках как моралиста, так и теолога. Подобное толкование мы и находим в средние века, когда платонизм сделал из самого Вергилия провозвестника христианства. Рядом с этим идеализм в Э. ведет, у Филострата, к образованию понятия фантазии, вместо подражания. Художник оказывается творящим, по выражению Цицерона, сообразно «speciei menti insidenti», т. е. сообразно идее. Идеалистическая Э. выдвигает и другие представления, родственные красоте. Лонгин в III в. впервые вводит понятие о возвышенном, понимаемом, правда, еще в чисто нравственном смысле.
II. Средние века, Возрождение и период классицизма
«С третьего века по восемнадцатый, – по словам Циммермана, – в истории философии искусства и красоты нет ничего, кроме огромного пробела». В наше время такое мнение уже невозможно; современные историки эстетики, Бозенкит и Нойт, отводят несравненно больше места этим долгим периодам, не перестававшим давать множество совершеннейших созданий искусства. Правда, независимого осмысления эстетического сознания, когда сама философия была только ancilla theologiae, было бы трудно ждать; но у отцов церкви, у Августина и у Скота Эригены мы все-таки находим отдельные замечания о красоте, а в XIII в. Фома Аквинский посвящает ей особый трактат. В эпоху Возрождения интерес к вопросам Э. выражается в целом ряде «Поэтик» и «Защит поэзии». Так, за Дантовским «De vulgare eloquio» в XV и XVI вв. следует длинная вереница подобных произведений, принадлежащих либо гуманистам, как Триссино и Фичино, либо поэтам, как Торквато Тассо, Лопе де Вега и Филипп Сидней. Важное значение для Э. имеют и трактаты Альбрехта Дюрера, Леона Батисты Альберти и Леонардо да Винчи. Разрабатывая вопросы художественной техники, все они одновременно иллюстрируют и эстетическое сознание своего времени. С XVII в., когда Декарт положил основание современной независимой философии, появилась возможность обновления Э. и как части общего миросозерцания. Хотя сам Декарт и не отозвался на вопросы красоты и искусства, влияние его системы сказывается как на самом искусстве, так и на его осмыслении. Попытки воссоздания Э. Декарта были сделаны аббатом Валле, в его книге о Фоме Аквинском, и Кранцем, в его «Эстетике Декарта». Весьма возможно, что со временем все семь веков, отделяющих зарождение Э., как науки, от первых шагов в художественном творчестве новых народов, также окажутся способствовавшими возникновению Э. усилиями отвлеченной мысли, вторившей порывам искусства. Покамест приходится, однако, для всего этого времени ограничиться лишь немногими замечаниями. Наиболее характерную черту средневековой эстетики составляет своеобразное развитие Платоновских воззрений. В философии Эригены мир плоти, как создание Творца, сам по себе представляется прекрасным, и только порочный человек, отдаляясь от мыслей о Боге и не видя больше божественности вселенной, как бы делает ее уродливой. При таком чисто субъективном понимании созерцания все дело сводится к тому, как мы воспринимаем явления. Мы должны усматривать в них божественность и этим сами создавать красоту; высшая красота – это уже красота небесная, доступная только при полном разрыве с плотью и слиянии с Богом. За вещественной внешностью создания скрывается для непросвещенного глаза его духовная сущность. Сходно с этим и также аллегорически понимает красоту и Фома Аквинский, в своем «Opusculum de Pulchro». Красота для него – воссияние формы (resplendentia formae) либо над пропорциональностью частей, либо над разнообразными силами и действиями. Выражение «resplendentia formae» в высшей степени характерно для эстетического сознания как средних веков, так и раннего Возрождения; в нем коренится главное приобретение и самого искусства, и художественной мысли, достигнутое за время от XII до XIV века. Как образы самой природы под светлым небом Прованса, этой колыбели средневекового искусства, так и традиционно и бессознательно возникшие у трубадуров, труверов и миннезингеров роды и виды поэзии начинают пониматься символически, а иногда и прямо впадают в аллегорию. Идеалы доблести, куртуазности и выспренней любви к даме, составляющие главное содержание и лирической поэзии, и так называемых chansons de geste, a позднее – и рыцарских романов, постепенно все углубляются и возносятся выше и выше, понимаемые и как идеалы христианских добродетелей, и как высший тип человечности, честности и благородства. Самая любовь сливается с поэзией и становится каким-то восторженным чувством, не только платоническим, но ведущим к высшему нравственному совершенству. Оттого, рядом с чисто схоластическими ухищрениями, в психологии любви поэзия развивается в сторону скрытого смысла (символизма – сказали бы теперь). Данте, разъясняя план своей «Божественной комедии», в письме к Кан Гранде всего сильнее выразил своеобразную особенность этой новой платоновской Э.: «Произведение это, – пишет Данте, – непросто; оно скорее может быть названо содержащим несколько смыслов», – и иллюстрирует свою мысль толкованием библейского рассказа об исходе евреев из Египта. «Если, – говорит он, – мы обратим внимание только на букву рассказа, в нем не окажется иного смысла, как выход детей Израиля из Египта во времена Моисея; если же мы встанем на аллегорическую точку зрения, мы увидим и Искупление нас во Христе, в моральном же отношении здесь окажется и переход души от печали и скорби греха в состояние блаженства». Все эти различные значения поэтических образов имел в виду Данте при создании своей «Божественной комедии», отсюда множество толкований ее, которые тянутся от Боккаччо до наших дней. Ведя художественный замысел к иносказанию и одновременно внушая такое же иносказательное понимание и при восприятии искусства и поэзии, платоническая точка зрения, однако, не исключает того, что мы привыкли звать реализмом. Прежде всего, ведь сама природа вся проникнута божественным смыслом и поэтому имеет высокую ценность. Понимание красоты природы было далеко еще от своего эстетического осмысления во времена трубадуров и даже Данте, но, например, у Франциска Ассизского мы уже находим его в полном блеске. Рядом с этим сознательным реализмом, основанным на мыслях, схожих с приведенными воззрениями Скота Эригены, через все средние века и через эпоху раннего Возрождения тянется еще другой, наивный реализм, самостоятельно возникший в народной поэзии и не поколебленный учением, основанным на платонизме. Средневековый поэт изображал даже героев античных рассказов – Александра Македонского и др. – в той обстановке, которую видел вокруг себя; даже разрабатывая самые сказочные сюжеты, он любовно описывал подробности своего быта. Равным образом и художник раннего Возрождения одевал всех святых и всех библейских героев в современные ему костюмы. В этом отношении, может быть, всего характернее эта наивная двуспальная кровать в доме Иосифа и Богоматери, нисколько не оскорблявшая религиозное сознание Луки Кранаха. Оттого, несмотря на свою стилизацию, так верны и точны пейзажи старых итальянских мастеров, которых в этом отношении великий знаток пейзажа, Рескин, даже ставил в пример венецианцам. У Альбрехта Дюрера мы находим такие слова: «семь мудрецов в Греции учили, что мера лучше всего во всех вещах (и физических и нравственных); но красота зависит от многих обстоятельств, и художник прежде всего не должен отступать от природы, потому что искусство стоит твердо на данных природы…Мы находим в природе красоту далеко превосходящую наше понимание и никто из нас не может вместить ее целиком в свои произведения». Этим замечанием Дюрер далеко превосходит Рафаэля, признававшегося, что придумывал красоту своих Мадонн. Мистически-символическое понимание, углублявшее искусство, поскольку оно вело к аллегоризму, представляло, однако, большую опасность для художественного совершенства. Иносказание должно было оторваться от своей реалистической основы и привести к манерности. Это течение мы видим во времена появления «Романа о Розе» и во всем французском искусстве XIV, XV и даже XVI вв. Но у этого аллегоризма, который сказывается и в поздних образцах религиозной драмы (моралите), с древним платонизмом уже покончены все счеты. Его теперь вновь заменяет рассудочный принцип Горация о соединении приятного с полезным. Оттого аллегоризм развивается заодно с притворным морализированием разных «евфуизмов» и «гонгоризмов», с ученым нагромождением мифологических образов и вообще со всей этой осложненностью искусства, любезной гуманистам-книгочеям позднего Возрождения, эпохи влюбленного в могучие формы Микеланджело, красочной живописи венецианцев и пышной архитектуры, идущей уже в сторону упадочного «барокко». Только гений Сервантеса, Шекспира и Рабле сумел преодолеть всю эту деланность и условность, естественное последствие подражательности одновременно и антику, и раннему Возрождению. Они вновь вдохнули в свое искусство и вдумчивость, и глубину – но теперь это уже вдумчивость современных тревожных исканий. Сервантес, говоривший, что обязанность поэта самые невероятные эпизоды делать правдоподобными, и Шекспир, в «Зимней сказке» восхищавшийся совершенством подражания природе, вернулись к реализму, а Рабле, по самому замыслу своей причудливой книги даже избегавший правдоподобия, сделал ее тем не менее целой эпопеей современности. Совершенно своеобразное возвращение к принципу подражания природе, причем в центре эстетических интересов всецело стоит «Поэтика» Аристотеля, представляет собой эпоха рационализма или эпоха Декарта. Эстетические воззрения этой поры, во Франции протянувшейся до самого конца XVIII в., выражены в «Поэтике» Буало, в «Traité du Beau» Круза, в «Réfléxions critiques sur la Poésie et la Peinture» аббата дю Бо (1719) и в книге аббата Баттё: «Les Beaux Arts réduits à un mê me principe» (1746). Влияние картезианства на Э. этого времени старался представить Кранц. Искусство, в котором, по мнению французов XVII века, выражается только красивое, представлялось изысканным занятием «порядочного человека» (honnête homme), образованного, но не педанта, а светского. «Порядочный человек» наслаждается им потому, что оно остроумно или доставляет приятность, но он требует, чтобы искусство удовлетворяло и его вкусу, воспитанному на созданиях греко-римского искусства. То, что удовлетворяет вкусу, и есть красивое. Самый вкус, однако, должен руководствоваться здравым смыслом (raison); отсюда положение Буало: «rien n'est beau que le vrai», которое раньше него выражал и Пьер Николь (принадлежавший к Пор-Руаялю), говоря: «pulchritudinis fontem in veritate esse». Принцип правды, хотя он и опирается на аристотелевское подражание, отнюдь не есть, таким образом, принцип реализма, как было в средние века. Дело теперь не в воспроизведении жизни такой, как она есть: это могло бы оскорбить вкус «порядочного человека». Дело в правдоподобии, т. е. именно в удовлетворении здравого смысла. Все, что противно здравому смыслу, не может быть терпимо, не может быть и красиво. Этот принцип правдоподобия всего яснее выступает в теории тогдашней драмы. Необходимость соблюдения трех единств Корнель и Буало отстаивали прежде всего потому, что перенесение действия из одной страны в другую и изображение в течение каких-нибудь двух часов целой человеческой жизни противно своим неправдоподобием здравому смыслу. Требование здравого смысла приводит и к подчинению искусства морали; иначе оно было бы безрассудно и нетерпимо в обществе порядочных людей. Если трагедия, сообразно корнелевскому пониманию Аристотелевского катарсиса, либо ужасает, либо вызывает сострадание, изображая очищенные, т. е. возвышенные страсти героя, то комедия имеет своим прямым назначением исправление человеческих недостатков и слабостей. Вот почему не только развитие действия должно быть подчинено поэтической справедливости, но самый замысел действующих лиц должен быть основан на моральном принципе. Действующие лица должны быть характерны. Индивидуализация отнюдь не должна мешать одной какой-либо характерной черте развиться настолько, чтобы она управляла всеми речами и поступками. Позднее, когда появилась мещанская трагедия, принципы поэтической справедливости упрочились еще сильнее. Они теперь основаны не на требованиях рассудочной морали, а на чувствах. Мы подошли ко времени влияния Руссо, имя которого обыкновенно не упоминается в обзорах эстетических учений, но который своей страстностью поколебал стройность рационалистической Э. Тот же Руссо способствовал и восторженному отношению к красоте природы. Воспроизведения ее, а не только подражания, впервые потребовал Дидро в своем «Essai sur la peinture». Первые признаки нарождения новой Э. среди английских и немецких мыслителей во Франции отразились на Энциклопедии, куда немецкие и английские мысли проникли, однако, лишь украдкой.
III. Кант и Шиллер
В промежуток времени с 1750 до 1790 г., т. е. между появлением эстетики Баумгартена и выходом в свет «Критики силы суждения» Канта, вопросы красоты и искусства подвергаются самому оживленному обсуждению, преимущественно в Англии и в Германии. В этой последней стране они привлекают к себе всеобщее внимание. В критике мы последовательно видим Винкельмана, Лессинга, Гердера и молодого Гёте, потом братьев Шлегелей, Вакенродера, Жан Поля (Рихтера). В поэзии период Бури и Натиска сменяется нарождением романтизма с одной стороны и неоклассицизма Гёте и Шиллера – с другой. Характернейшей чертой этого золотого века немецкой образованности является, может быть, взаимодействие между исканиями самого искусства и подчас перегоняющей их усиленной работой художественного самосознания. В области чистой Э., как науки, появляется в это время целый ряд исследований. В Германии главнейшие из них принадлежат Баумгартену, Эбергарду, Зульцеру и Мендельсону, а в Англии – Бёрку, Юму и Шэфтсбери (этот последний, увлеченный мыслями Платона, стоит, впрочем, особняком). В этом своем предкантовском фазисе Э. делает новые приобретения. Чтобы понять их, надо установить различие между английской и немецкой точками зрения. Англичане сосредоточивают все свое внимание на удовольствии, получаемом от красивого нашими собственными чувствами; в Германии выдвигается вышедшая из логики Вольфа и оптимизма Лейбница теория совершенства самих явлений, познаваемых особым чувственным познанием. Юм, например, говорит, что «красивое и уродливое в гораздо большей степени, чем сладкое и горькое, вовсе не свойства предметов»; мы можем лишь предположить существование в природе «таких свойственных предметам качеств, которые направлены к тому, чтобы вызывать эти чувства». Такое понимание красоты резко отличается от «perfectio cognitionis sensitivae» Баумгартена. С одной стороны, мы имеем учение сенсуалистическое, с другой – рационалистическое. Между этими двумя крайними положениями занимает место система Канта. Еще раньше Лессинг, которого справедливо называют предтечей Канта в Э., старался в своем «Лаокооне» отмежевать красоту одновременно и от удовольствия, и от совершенного. Необходимость занять среднее положение между этими двумя точками зрения вызывается тем, что обе они ведут к преувеличениям. Рационалистическая точка зрения Баумгартена естественно порождала сомнение в том, какое же существует различие между эстетическим совершенством и добром, как в практическом, так и в моральном смысле. Сенсуалистическое понимание, со своей стороны, вело удовольствие от красивого в сторону удовольствия вообще полезного. Эти трудности хорошо чувствовали оба лучших представителя обоих воззрений, Баумгартен и Бёрк. Баумгартену удалось до известной степени отмежевать совершенно-красивое от совершенно-доброго утверждением, что первое заключается лишь в форме. Бёрк, со своей стороны, отделил чувство красоты от чувственности. В своем «Очерке о возвышенном и красивом» он противополагает впечатления страха и ужаса от высокого впечатлениям душевного спокойствия от красивого; высокое внушает страсти, красивое – любовь. Бёрк иллюстрирует свою мысль на примере человеческой красоты: ведь именно она вызывает любовь – то особое чувство, которое так отделяет влечения человека от влечений животного. К той же категории необходимых разграничений относятся и замечания Юма о вкусе. Исходя из того, что «о вкусах не спорят», он все-таки должен был признать, что и в самых предметах есть нечто, что делает их красивыми. Здесь можно видеть зародыш примирения сенсуалистической и рационалистической точек зрения, поскольку первая ведет к чистому субъективизму, а вторая, наоборот, к объективизму.
Таковы те проблемы, которые должен был разрешить и осмыслить Кант. Ему предстоял выбор между субъективизмом и объективизмом, между сенсуализмом и рационализмом (чувством красоты или ее познанием); ему надо было установить, что же такое вкус, и объяснить, почему красивое не есть полезное и в то же время не есть доброе в моральном смысле.
Изложение Кантовской Э. не может быть предпринято отдельно от его общей философии. Действительно, «Критика чистого разума» открыла тот априорный закон, который рассудок наш предписывает природе. «Критика практического разума» открыла закон нашего поведения; она сказала: человек должен быть свободен, иначе он руководился бы в своих поступках не разумом и не был бы за них ответственен, т. е. поведение его было бы совершенно аморально. Нравственный поступок – результат нравственного сознания – имеет причину в долженствовании. Таким образом уму Канта представились два совершенно различных мира: мир необходимости и мир долженствования. Когда Кант уже приступил к «Критике силы суждения», ему надо было найти такой трансцендентальный принцип, по которому мир необходимости представился бы тем же самым миром, что и мир свободы. У нас есть в смутном состоянии способность именно так судить о мире, потому что на деле мы признаем одновременно и причинность, и мораль. Эта способность и есть способность суждения. Она относится отчасти к миру познания, т. е. природы, отчасти к миру желания, т. е. долженствования. Когда мы чего-нибудь хотим, т. е. ждем или получаем удовольствие, мы, с одной стороны, очевидно, нечто познали, а с другой стороны – в нас проявляется и сознание того, что велит нам долг. Если желание не противоречит долгу, удовольствие оказывается полным, и в то же время вместо разногласия двух миров получается их согласие. Антиномия необходимости и долженствования оказывается на деле разрешенной. Получаемое при этом удовольствие и есть суждение. Как вызывающее удовольствие, суждение относится к чувству, хотя, как имеющее непосредственное отношение к рассудку, оно не может считаться исключительно чувством. «Критика силы суждения» стремится раскрыть, какой априорный закон управляет этим суждением чувства. Закон этот Кант называет целесообразностью. И это закон нашей силы суждения, потому что она не определяет мир, как целесообразный, подводя его под какой-либо закон рассудка (что у Канта и значит определять), а напротив, восприняв этот закон из опыта, через посредство чувства, обращает его на самое себя и становится рефлектирующей. Так обстоит дело, если мы испытываем удовольствие, получив при этом и пользу. Мы говорим себе тогда: очевидно, мир необходимости и долженствования – то же самое; я захотел, получил пользу и удовольствие и при этом поступил согласно долгу; мир целесообразен, он не случаен; он направлен к какой-то цели, достигаемой и долженствованием, и необходимостью одновременно. По терминологии Канта, такое суждение будет телеологическим. Но вот удовольствие состоялось, а пользы я для себя никакой не жду. Возможен ли подобный случай? Да, конечно; именно он и имеет место при восприятии красивого. Рядом с телеологической способностью суждения мы обладаем такой же рефлектирующей эстетической способностью суждения. Какой же закон открывает эту область нашего сознания? Ответ на этот вопрос и будет одновременно ответом на то, что такое красота. Дойдя до этого момента рассуждений, Кант приступает к аналитике, чтобы потом перейти к дедукции и диалектике. Если мы спросим себя, еще не сделав ни шагу вперед, что такое красота, нам придется ответить: красивое есть то, что вызывает эстетическую рефлектирующую способность суждения, производя при этом удовольствие бесполезное, или бесцельное, или незаинтересованное (это все одно и то же). Если же красивое, как красивое, бесцельное и незаинтересованное, то, очевидно, суждение произошло непосредственно, т. е. не по отношению к чему-либо еще постороннему, а само собой. Удовольствие доставила нам не сущность явления, потому что тогда удовольствие не могло бы быть незаинтересованным. Например, дерево понравилось нам не потому, что это ель или яблоня, одной своей формой; мы восприняли и яблоню, и ель не как целесообразные предметы, поскольку ель и яблоня полезны и нужны как таковые; об этом мы даже не думали, когда получали удовольствие. И вот теперь мы и подошли к знаменитому определению, которое Кант дает красоте: красивое есть то, что непосредственно одной своей формой вызывает в нас незаинтересованное наслаждение.
К этому определению Канта подвела, как мы видели, сама система его философии. В нем нетрудно, однако, узнать предшествовавшую Канту работу Э. Аналитика эстетической способности суждения не могла не войти в разбор чувства красоты и помимо того, какое место ей принадлежит во всей системе. Эстетика Канта занимает среднее положение между Бёрком и Баумгартеном. Кант старался, с одной стороны, отмежевать то, что нравится, от того, что доставляет удовольствие, а с другой, через свой крайний формализм он очистил красивое от представления о совершенстве. Эта часть Кантовской эстетики должна считаться самой сильной. Мы имеем впервые дело с ясным установлением пределов, в которых заключается эстетическое суждение. Нельзя этого сказать о другой основной мысли Канта, также взятой из прежней эстетики, которой и не предстояло получить дальнейшего развития. По системе Канта, эстетическое суждение есть суждение вкуса, играющего ту же роль, какую для разума играет категорический императив. Понятно, что при подобном представлении о вкусе эстетическое суждение оказалось каким-то застывшим, неизменным и общеобязательным. Отсюда упорное стремление Канта доказать, что суждение о красоте одинаково и объективно, и субъективно. Гартманн справедливо замечает, что ни одна мысль не доставила Канту столько труда и ни одна не осталась столь спорной. Вкус еще более субъективен, чем понятие о красоте. Представление о неоспоримости велений вкуса особенно ярко обнаружило свою несостоятельность, когда речь зашла об искусстве. Тут пришлось допустить, что, стремясь к созданию красивого, художник – гений, как выражается Кант – не только руководится вкусом, но создает новый вкус. Иначе думать было невозможно в самый разгар споров о новом романтическом искусстве, когда в лице Шиллера и Гёте это искусство уже победило и почти стало, в свою очередь, классическим. Понятно, как трудно было отстаивать общеобязательность вкуса. Из этого затруднения Кант вышел только замечанием, что вкус как бы накладывает узду на порывистое новаторство гения. Таковы соображения, по которым к приведенному выше определению Кант прибавляет еще слова: необходимо и у всех. Красивое, стало быть, есть то, что необходимо и у всех одной своей формой вызывает незаинтересованное наслаждение.
Если теперь мы вновь вернемся к месту, занимаемому Э. в системе Канта рядом с телеологией, как учением о целесообразности, то окажется, что красота есть как бы особая цель природы, открываемая нашей способностью суждения. Действительно, получая эстетическое удовольствие, мы также получаем удовлетворение и не можем тогда сокрушаться о бесцельности мира. Кант и признал красоту особой целесообразностью, не имеющей никакого отношения к какой-либо другой, посторонней цели. Отсюда глубокое и в то же время парадоксальное определение красоты как бесцельной целесообразности. Эта последняя мысль Канта позволяет нам установить отношение его Э. и к воззрениям древности. Если позволительно гармоническую целесообразность понимать как «совершенство», то окажется, что «единство в разнообразии» Аристотеля составляет понятие, определяющее собой наше трансцендентальное представление о мире вообще. Совершенство Кант прямо и рассматривает как единство в разнообразии. Эстетическая система Канта приняла в себя, таким образом, аристотелевское определение красоты, придав ему только еще более формальный характер. Душа человека, встревоженная разногласием необходимости и долженствования – что случается каждый раз, как не удовлетворено законное, справедливое желание, – может найти утешение в красоте, где все-таки заключается источник наслаждения, которым природа как бы улыбается страдальцу. С этой мысли начинает Шиллер свои «Письма об эстетическом воспитании», где эстетика Канта получила такое чреватое последствиями развитие.
Эстетика Канта не создала в сущности еще никакой теории искусства: она вся целиком сосредоточилась на определении эстетического суждения. И это понятно: Кант сам говорит, что вкус, этот основной орган суждения, не может вовсе руководить никаким делом (opus), что, по Канту, составляет сущность искусства в противоположность действию (effectus) природы. Теория искусства, входящая в дедуктивную часть его Э., является, как справедливо заметил Баш, посторонней надстройкой на его системе (см. ниже). Канту было трудно подойти к вопросам искусства еще и вследствие его строгого формализма, относящего категорию красивого только к одной внешности, без всякого отношения к сущности. Чтобы быть последовательным, Кант вводит даже особое понятие: чистая или свободная красота, обнимающее собственно только краски цветов, арабески, декоративные украшения, резьбу и т. п. Логически следуя за Кантом, это и есть собственно красота, как целесообразность без цели. В суждении обо всем остальном – в том числе обо всем искусстве целиком и даже о декоративном, поскольку оно изображает и украшает целесообразные предметы – мы имеем в виду «не чистое суждение вкуса», а «основанное на понятии» о внутренней цели. Все это входит, стало быть, в условную или привходящую (adhФrens) красоту. Ясное дело, как трудно было при таких взглядах подойти к разбору подражания или воспроизведения составляющих, по Аристотелю, сущность художественной деятельности. Строго кантианскую теорию искусства создал уже Шиллер, до того проникшийся кантианством, что возникшая у него теория искусства оказалась именно тем, до чего не дошел Кант, на этом пункте свернувший совершенно в сторону. Мысли Шиллера об искусстве постепенно вылились в ряде популярных журнальных статей. Таковы, главным образом, «Письма об эстетическом воспитании» («Hören», 1792) и «О сентиментальном и наивном» («Hören», 1795 и 1796), но стройность системы Шиллера такова, что изложение ее не требует соблюдения хронологии. Как автор «Разбойников» и «Коварства и любви», Шиллер привык смотреть на искусство как на нечто служащее вопросам жизни. И вот положение эстетики Канта, что мир красоты, этой бездельной целесообразности, как бы разрешает антиномию сурового мира необходимости и светлого мира долженствования и свободы, остановило на себе особенно властно внимание Шиллера. Искусство, как служение красоте, – говорит он в свою очередь, – есть одновременно и служение человечеству. Этим примирялась и жившая в душе самого Шиллера антиномия между все громче звучавшей в нем музыкой «сладчайшей речи» его поэзии и общественно-политическими влечениями времен его республиканизма и протеста. Такова исходная точка его «Писем об эстетическом воспитании». На почве искусства осуществляются благородные стремления человека. Здесь человек, с одной стороны, свободен от гнета мира «необходимости», а с другой, воспроизводя его, вовсе не расстается с ним. Здесь человек творит, скорбя душой (в элегии) или возмущаясь и позоря (в сатире). Он свободно проявляет себя. Под влиянием Гёте, этого величаво спокойного воссоздателя природы, Шиллер думает – хотя сам он, как художник, и не понимает еще этого, – что, подобно самой природе, можно почти не творя, не делая, создавать (effectus Канта) прекрасное, стремящееся к бессознательно разумной, т. е. нравственной «прекрасной душе». В первом случае мы получим сентиментальное, во втором – наивное искусство. Современная поэзия с ее теорией поэтической справедливости, которой неизменно следовал и сам Шиллер, сентиментальна. Поэзия греков с ее теорией судьбы и поэзия кудесника, постигшего тайны природы, Гёте – наивны. В каком, однако, отношении находится разрешающий мировые вопросы художник к самой действительности? Действительно ли он влияет на нее? С этим вопросом не вполне справился Шиллер. Как кантианец он остался на субъективной точке зрения и спросил себя о другом: что происходит в самом художнике, когда он поднялся на высоту разрешения неразрешимого? И он ответил: художник играет в процессе творчества, как играл древний грек в свои государственные и эстетические игры; «сурова жизнь, но весело искусство». Только в игре, думалось Шиллеру, человек действительно сам, действительно проявляется целиком. Тут он свободен от необходимости и находится под единственной и освобожденной властью разума; «как бы на самом деле» подражая природе, он играет и создает прекрасное, одновременно и доброе, и красивое, играет и наслаждается только формами. Почти то же говорил уже Кант. Шиллер думает, что в искусстве вполне возможно созерцать явления без всякого отношения к «основанной на понятии» цели, потому что художник имеет дело только с видимостью. Это выражение, введенное Шиллером, получило огромное распространение в нашей науке и занимает в ней в настоящее время центральное место. Реальность вещей есть создание их самих, – говорит Шиллер; видимость вещей – это создание человека. Эти слова ясно показывают, что представление о видимости, заменившей кантовскую форму, возникло из теории искусства. Как мы увидим дальше, из созерцания видимости в искусстве и вырабатывается вообще эстетическое созерцание.
IV. Английские позитивисты и немецкие психологи
Уже в переписке Шиллера с его другом Кернером заходит речь о возможности разработать кантовскую Э. и с объективной точки зрения. Сам Шиллер этого плана не исполнил. Положил основание подобному изучению красоты и искусства основатель современной немецкой психологии Гербарт, а через полстолетия Герберт Спенсер, во всех иных отношениях стоящий от Канта за тридевять земель. В «Основаниях психологии», насколько они касаются эволюции эстетического сознания, Спенсер руководится другими соображениями, чем при построении плана своего огромного труда. В центре системы Спенсера стоит принцип пользы, принцип утилитарный. Переживание наиболее приспособленного, как естественный результат «борьбы за существование», – вот основной закон эволюции, причина всех дифференциаций и интеграций. Э. в эту систему не входит. Красивое и полезное противопоставлены у Спенсера еще резче, чем у Канта. Если Дарвин видел зачаток Э. еще у животных, например у птиц, когда самцы в периоды скрещивания привлекают самок яркостью своих перьев и звонкостью голосов, красоту которых признаем и мы, люди, на высоте нашей цивилизации, то для Спенсера эта мысль Дарвина проходит совершенно незамеченной. Он стоит на диаметрально противоположной точке зрения; его Э. не имеет ничего общего с принципом утилитаризма. «Красиво то, что было полезно и перестало им быть». Этот парадокс выражен Спенсером в его «Очерках», в статье, толкующей о морских раковинах. Составляющие эстетическую прелесть раковин неровности на их поверхности когда-то имели значение органов движения. Теперь они перестали исполнять это свое назначение и стали элементом красоты. Это наблюдение в области биологии стало для Спенсера исходным пунктом. Не то же ли самое происходит и с человеком? – спрашивает себя Спенсер. Когда-то охотиться, ездить верхом, удить рыбу было полезным занятием; теперь все это стало забавой, спортом. Первобытным оружием мы украшаем комнаты; мы предпочитаем парусную яхту более совершенному пароходу. В жизни искусства в Англии того времени были течения, несомненно отразившиеся на этом взгляде Спенсера. Маколей в своих «Очерках» утверждает, будто поэзия возможна лишь среди наивно первобытных народов. Увлечение Диккенсом и Теккереем, полное забвение Вордсворта и Шелли, глубокий антиэстетизм домашней обстановки Англии в 60-х годах – все это, как будто, вторило Маколею. По ту сторону пролива в то же время Тэн современной формой поэзии признавал деловой роман Бальзака, до сих пор в глазах англичан составляющий не предмет искусства, а лишь игру воображения (fiction). Искусство и красота – позади; впереди – дела, наука, политика. Тот, кому нужна красота, черпает ее из давно минувшего, где все кажется ему прекрасным. В эту пору деловой горячки и научных увлечений так думали и сами эстеты: Китс, Рёскин, а за ними Россетти, Вильям Моррис, отчасти Карлейль. Китс оплакивал «розовые кусты» старой веселой Англии; Рёскин ненавидел железные дороги и машинное производство; Россетти весь ушел в поклонение дорафаэлевской живописи; Моррис искал вдохновений в поэзии и искусстве времен королевы Анны. Эстетизм и полезность стали, таким образом, непримиримыми противниками; Спенсер только облек в биологический закон временные течения артистической жизни Англии. И вот тут-то теория игры Шиллера и принцип бесцельной целесообразности, доставляющей удовольствие, оказались как нельзя более кстати. Искусство – игра, бесполезное разряжение свободных сил, как и у детей, идущее на подражание полезному. К игре способны только животные, стоящие на высокой стадии органического развития; у низших едва хватает жизненной энергии, чтобы прокормить себя. В надорганическом развитии игра интегрируется в особую отрасль деятельности; она становится искусством, подражающим некогда полезному. И это именно – разряжение сил, избавление от страдания, полученного от накопления энергии. Вот пляшет перед нами балерина или конькобежец выделывает на льду замысловатые фигуры. Мы восклицаем: «как грациозно!» Но что такое сама грация, как не достижение максимума движения при минимуме напряжения. В ней приятно разряжается накопленная энергия, и организм приходит в равновесие. Этой теории искусства-игры вторили и социологи, сделавшие впервые не раз подтвердившееся наблюдение, что первобытная песня есть одновременно и пляска, и игра. Поэзия и музыка, как вокальная, так и инструментальная – не более как результат дифференциации и интеграции некогда слитного целого. Такого рода взгляды на искусство подводят нас к эстетическим построениям английских и немецких психологов. Перенеся наши предположения об игре, как о приятном разряжении сил, из области творчества в область восприятия, мы неминуемо должны признать, что и «на эстетическое созерцание надо смотреть как на игру». В полном соответствии с вышеприведенной теорией грации оказывается положение, по которому наши органы чувств «с наибольшим удовольствием воспринимают возбуждения средней интенсивности». Это – основное приобретение такого исследования, которое, сохраняя целиком установленные Кантом пределы эстетического сознания, изучает их с чисто объективной точки зрения. Первый шаг в этом отношении был сделан Гербартом, когда он сказал, что «сущность (das Sein) существует сама по себе, без отношения к субъекту, а видимость (der Sehein) существует только для субъекта». При такой постановке вопроса интерес был перенесен на «рассмотрение всей суммы несомненно и необходимо нравящихся отношений», как выразился Циммерман в конце своей истории Э. Эту объективно-кантианскую Э., к которой принадлежат в Германии Цейзинг, Фехнер, Циммерман, Зибек, Кестлин, а также Гельмгольц, Вундт и Штумпф, в Англии – Грант-Аллен, Маршаль, Джемс Сёлли, можно было бы назвать еще либо гедонистической, как исходящей из того положения, что красивое доставляет удовольствие, либо формально-сенсуалистической, потому что, разрабатывая именно формализм Канта, она стремится определить чувственное наслаждение от эстетических форм. Как и в древности, из чувств при этом имеются в виду лишь зрение и слух, как не причиняющие сами по себе страдания и, будучи переутомлены, быстро отдыхающие при замене объекта их применения. Основная проблема Э. свелась, таким образом, к изучению того, что доставляет удовольствие зрению и слуху. Методов тут может быть два, и оба они применялись в исследованиях подобного рода, взаимно помогая друг другу. Дело идет, с одной стороны, об изучении физиологии зрения и слуха и условиях их работы, что стало вполне доступно и опыту со времени появления экспериментальной психологии; с другой стороны, взяв ряд произведений искусств, мы можем наблюдением над ними придти к определению того, как отражаются они на зрении и слухе. В области органов слуха дело идет о ритме, о гармонии и мелодии, в области органов зрения – о красках, пространствах и протяжениях. Еще в эпоху Возрождения Микеланджело убеждал своего ученика Марко да Сиена придерживаться в картинах пирамидальной формы и извивающейся линии. Этот совет припомнил английский художник Гогарт в своих «Analyses of beauty» (Лондон, 1763). По его мнению, все дело именно в волнообразной линии. Современные психологи, в свою очередь, считают, что удовольствие зрение получает, когда следит за горизонтальной линией, если ее изгибы не представляют собой резких и утомляющих зрение зигзагов, а глаз наш ровно скользит по дуге. Среди подобных изысканий наибольшее значение имеет так называемое золотое сечение. Удовольствие доставляет нам такое пересечение вертикальной линии, когда верхняя кратчайшая линия (a) относится к нижней длиннейшей (b), как эта последняя к целому [a/b = b/(a + b)]. Фехнер доказал, что и прямоугольник нравится нам тогда, когда он построен по принципам золотого сечения. Однако, по наблюдениям Вундта, «вертикальные линии мы постоянно считаем большими, чем равные горизонтальные». Прямоугольник, у которого основание короче боков, нам должен казаться ромбом, и тогда остается под сомнением, не нравится ли нам фехнеровский прямоугольник только вследствие ошибки глаза. Важное наблюдение сообщает также Гартман, указавший на то, что нашему глазу вообще легче и привычнее следить по вертикальной линии, чем по горизонтальной. Этот закон объясняет наглядно и просто стремление всех архитектур к высоте зданий. Фехнер пришел также к тому выводу, что горизонтальную линию всего красивее пересекает вертикальная как раз посередине. Это вводит нас уже в симметрию; если «золотое сечение» можно считать особенностью пропорциональности, то мы и имеем здесь основные условия прекрасного в протяжении и отчасти в пространстве. Э. красок и их сочетаний особенно подробно исследовал Грант-Аллен. По его мнению, одна краска, чтобы вызвать в нас удовольствие, должна так следовать за другой, чтобы глаз получал возможность отдохнуть; при смене красного желтым мы получаем именно такой эффект. В сущности, его можно было бы назвать ритмическим, потому что при напряжении от красного мы имеем отдохновение от желтого, а затем при новом усилии, даваемом продолжительностью этого цвета, вновь получаем отдохновение, положим, на голубом или зеленом. Если тот же принцип оказался, таким образом, имеющим значение и при слуховом, и при зрительном восприятии, то еще более усилится эта аналогия при смешении цветов, т. е. восприятии нескольких красок сразу. Удовольствие тут зависит от гармонии совершенно так же, как и при сочетании звуков. Все подобные наблюдения и изыскания относятся, однако, скорее к чувственно-приятному, чем к красивому. Естественно, возникает вопрос не только о том, все ли чувственно-приятное одновременно красиво, но даже всегда ли красивое одновременно и чувственно приятно. Наглядный пример, отрицающий это последнее положение, привел Гроос. Фишер в своей Э. назвал бурый цвет земли некрасивым в смысле чувственно-неприятного, но можем ли мы назвать его таким, когда стоим перед картиной Милле? Все подобные попытки определения красоты имеют, поэтому, скорее лишь косвенное отношение к Э. Они важны для психологии чувств и лишь через эту столь существенную для Э. область знания и могут отразиться на ее выводах. Важнее подобное изучение отдельных произведений искусства. Для получения выводов о том, что такое объективно-красивое, нужно было бы не только проработать все создания искусства прошлого и настоящего, но и еще, что уже невозможно, – и будущего. Тем не менее попытки определить красоту той или иной художественной школы, того или иного композитора, художника или архитектора несомненно могут дать отвлеченно-точные определения для эволюции красивого. Гедонистическая Э. при изучении исключительно простых и первоначальных элементов эстетического восприятия еще не так явно представляется близорукой, как когда ее адепты переходят от чистой формы к содержанию. Тут остается лишь сказать, с Грант-Алленом и Маршалем, что красота в поэзии, например, есть апперцепция приятного. Поэтическое произведение оказывается нравящимся нам потому, что оно вызывает воображаемое приятное состояние чувств. Так как любовь – говорят эстетики этого направления – есть величайшее наслаждение человеческой жизни, она и составляет такую широко распространенную тему поэзии. Жизнь приходит в поэзию вовсе не такой, какая она есть, а какой хотелось бы, чтобы она была. Что подобные взгляды не только не соответствуют тому, что мы знаем об искусстве, а представляют его извращение, возвеличивают самое низменное и жалкое искусство – это бросается в глаза. Действительно, именно на судьбе самого искусства всего нагляднее можно показать несостоятельность гедонизма. Стремление к доставлению удовольствия – это падение искусства, его полное духовное обнищание и часто смерть. Развиваясь в этом направлении, искусство всегда утрачивает и правдивость, и жизненность. Оно льстит ничтожным вкусам, предпочитает банальное и поверхностное глубокому и редкому, пускает в ход мишурные прикрасы. В этом отношении характерно замечание Кёстлина: «мы чувствуем себя хорошо только в простом. Мы с внутренним удовольствием и спокойно смотрим или слушаем лишь простое». Простота есть, конечно, высшая степень законченности, как ясность – венец мудрости. Но не отрицает ли такая теория все тревожные искания искусства, весь тот восторг внутреннего проникновенного напряжения, которое всегда обновляло и обновляет искусство? Нет, искусство не должно и не может стремиться только доставлять удовольствие; во всех своих высших проявлениях оно требует и усилия, и утомления, и страдания, и сострадания. Музыка симфоний выше опереточных мелодиек, запоминаемых с первого же раза на всю жизнь. «Божественная комедия» Данте совершеннее, чем великосветские романы, изображающие приятно раздражающую воображение роскошь. Неприложимость гедонистической точки зрения к искусству делается особенно очевидной, когда мы подходим к трагическому и комическому. Тогда становится одновременно ясно и то, как бессильна раскрыть тайны художественного творчества и вообще художественного наслаждения всякая эстетическая теория, увлекшаяся в сторону формализма. Один из адептов ее, Альт, пишет: «Необходимо сознаться, что если бы музыка ничего не в состоянии была произвести, кроме звуковых арабесок, которые совершенно лишены духовного содержания, она стояла бы на самой низкой степени искусства». Формализм может кое-что осветить из элементов эстетического сознания, но самого его он не затрагивает почти вовсе.
V. Современная эстетика
Психологические исследования вопросов красоты, получившие широкое распространение лишь во второй половине истекшего века, имеют полное право на название современной Э. Так как Э. развивается по следам самого искусства, а во второй половине XIX в. преобладало искусство реалистическое, то нам предстоит рассмотреть эстетические воззрения, создавшиеся на данных реалистического искусства. В первых годах истекшего столетия, после выхода в свет «Вильгельма Мейстера» Гёте, Шлегель объявил роман самой современной формой поэтического творчества; во все последующее время роман и развивается как основной вид поэзии, и забывается та точка зрения XVI, XVII и XVIII вв., по которой роман стоит совершенно отдельно, как бы у притолоки храма искусства. Иными аргументами то же положение, что и Шлегель, высказал полустолетием позже Тэн. С этого времени его можно считать вполне упрочившимся. Сначала особое развитие получает исторический роман или роман с любовной или фантастической завязкой; к середине века роман стремится охватить всю жизнь, во всех ее самых серьезных проявлениях. В этом отношении наиболее характерна «Человеческая комедия» Бальзака. В романе ценится всего более его каждодневность. Аристотелевское положение о подражании, забытое в эстетике, как науке, более чем когда-либо применяется в искусстве. На первых порах это подражание природе переходит в теорию искусства, как характерно-красивое, несколько раз определявшееся еще Гёте, вслед за Гиртом, поместившим об этом статью в «Hören» (1797). Воспроизведение характерного и типичного, как способ подражания природе, возвращает нас к рационалистическим воззрениям на искусство века классицизма, с типичными фигурами его комедий. Связь реалистических приемов творчества XIX в. с реализмом старого, доромантического искусства обнаруживается особенно наглядно на почве комизма. Историк современной живописи Мутер показал совершенно ясно, какое значение имела карикатура для развития жанра, становящегося в центре художественных интересов и постепенно вытесняющего библейские и исторические сюжеты. Тот же путь распространения реалистических вкусов можно проследить и в литературе. Провозвестники реализма или, как он скоро назвал себя, натурализма – Диккенс, Теккерей, Гоголь, писатели-комики, в начале своей деятельности и не ставившие себе иных задач. Равным образом близки с персонажами старой комедии и типы Бальзака – его скупец, любящий отец, озлобленная старая дева, ненасытный сластолюбец. Когда в своем «De l'idéal dans l'art» (1866), вошедшем в «Философию искусства», Тэн доказывает, что проведение преобладающей черты составляет основную задачу художественного воспроизведения, он также ищет наиболее подходящих примеров у Мольера и Бальзака. Типичное и характерное составляют, однако, лишь переходную ступень в теории искусства XIX в.; они представляют собой лишь ту лазейку, через которую проникает каждодневное, простое, взятое прямо из жизни. Красота характерного, преобладающая черта, комизм – все это скоро забывается, и на Бальзака, Диккенса, Гоголя в 60-х годах смотрят уже именно как на создателей натурализма, самым коренным образом отмежевывая их от старых комиков XVII и XVIII вв., которых, впрочем, также начинают ценить как провозвестников воспроизведения действительности. Такое увлечение каждодневным без отношения к тому, через какую категорию эстетических подразделений оно проходит в искусство, совершенно понятно в век науки и деловой горячки. Э. каждодневного естественно становится единственной Э. этой антихудожественной поры позитивизма и политической экономии. «Брюхо Санчо Пансы разорвало пояс Венеры», – говорил Флобер. Позднее своим «Экспериментальным романом» Золя старается создать новую теорию искусства, отвечающую научным увлечениям времени. С одной стороны, эта теория стремится удовлетворить чисто познавательным потребностям; искусство оказывается лишь особым способом научного изыскания. С другой стороны, именно в силу того что искусство ставит себе задачи познания, эта теория уже вовсе не руководится соображениями о том, что красиво и что некрасиво; оно широко раскрывает двери искусства и заведомо уродливому, жалкому, низкому, ничтожному, горестному, даже порочному и извращенному, так как все это одинаково важно для опытов над природой человека. Без всяких оговорок о моментах или видоизменениях красоты она говорит: «искусство – уголок природы, рассмотренный темпераментом художника». Если Гёте уверял, будто в искусстве нам часто нравится то, что противно в жизни, то Золя, увлеченный познаванием и по-своему опоэтизировавший его, вовсе не задумывается над тем, должны ли вообще нравиться воспроизводимые им образы. Иногда окончательно забытым оказывается и характерное, и типичное. Мы слышим о нем во второй половине истекшего столетия все реже и реже. В «Тридцати годах Парижа» А. Доде, рассказывая нам, как возникали в его воображении герои его романов, представляет художественный образ скорее индивидуальным и сознательно индивидуализируемым. Основным принципом теории искусства становится теперь даже не подражание, а правда, правда, часто горькая, вовсе не претендующая на то, чтобы нравиться, – вот всепоглощающий закон, который управляет теперь эстетической деятельностью, не позволяющей себе более никакого выбора. «Каждый атом существующего содержит в себе элементы красоты», – говорит Флобер. Это замечание Флобера служит звеном, соединяющим представленное только что течение в художественной литературе с параллельно развивающимися течениями в живописи. Свет и краска приобретают все большее значение. Когда Энгр говорил: «я открою школу рисования и буду выпускать живописцев», подобный взгляд отзывался еще классицизмом Давида. «Картина должна быть праздником для глаза» – вот чего добивался поэт красок Делакруа, и за ним на поиски за светом и красками устремились целые поколения художников. То же самое делает и Тернер, поставленный Рескиным в центре «Современных Художников». И свет, и краски живописи XIX столетия, по совету того же Рескина, должны избегать театральной деланности величайших колористов Возрождения, венецианцев. Рёскин указывает на дорафаэлевский пейзаж, потому что он более искренен. Света и красок должен добиваться живописец под открытым небом, перед бесчисленными переливами почти неуловимых оттенков природы. Природа становится главным учителем живописи. Она одновременно и вожделенная, недостижимая утопия, и бесконечный источник знания. Природа непогрешима и свята, ее культ – истинный культ красоты. Так говорят французские «pleine-air'исты», так называемая школа художников Фонтенбло. Мы далеко ушли от Гёте, объяснявшего Эккерману, как художник приступает к изображению дерева, как он избирает точку зрения и освещение, как он ищет в дереве требуемой красоты. Невозможно стало и отношение к природе англичан XVIII в., думавших, что восторгаться ландшафтом – значит найти такой угол зрения, с которого природа кажется картинкой, так что хочется вставить ее в рамку. Такое отношение представляется теперь профанацией и святотатством. Природа прекрасна вся целиком, без исключения и без оговорок. Научиться смотреть должен художник, а не выбирать и комбинировать. Смотреть и воспринимать, понять и воспроизвести учит и Рескин, постигший природу и изучавший ее и как естествоиспытатель. Влияние Рескина все усиливается. Чтобы воспитать в себе святой восторг перед природой, не надо так же, как это делали классики, непременно устремляться под небо Италии, не надо, как романтики, искать живописного либо на Востоке, либо в гористых, причудливо пересеченных местностях Европы. Напротив, тот же Рёскин, вслед за Дидро, утверждает, что свою привычную природу, какова бы она ни была, всегда полнее и лучше воспроизведет художник. Рядом с красотой шотландских лохов Вордсворт обращает внимание на менее живописную «страну озер» родного острова. Милле пишет возделанную и всю изрезанную пашнями Францию; у нас березовый лесок с золотыми, падающими осенью листьями, наши лесные дали увлекают еще колеблющихся Клевера и Шишкина, и, наконец, Левитан дает нам совершенный и спокойный русский ландшафт. Но не надо думать, что непременно природа должна руководить художником. Для современного человека, нахлынувшего в города, природа – только часть действительности. Он чуть ли не еще более привык к свету газа и электричества, чем к солнечному и лунному блеску. Природой он наслаждается чаще всего за столиками кофейни в загородном парке, где солнечные лучи пятнами падают на столы и одежды. И эту природу изображает Моне, а за ним целая школа; Дега схватывает и фантастический свет театральной рампы, неестественный цвет лица намалеванных красавиц. В своем влечении к правде живопись хочет дать нам даже эффект мимолетно брошенного взора и редкого освещения. Это – дело «импрессионизма». Учитель искусства уже не одна природа; истинный учитель – действительность, в ней неисчерпаемый бесконечный запас настроений и впечатлений, уроки ее не знают предела и наставлений у нее хватит навсегда. Если теперь мы попробуем сформулировать все эти приобретения искусства в XIX в., мы не найдем более ясного и полного определения, как те два основных вывода, к которым пришел молодой Чернышевский в своих «отношениях искусства к действительности». С одной стороны, содержание искусства не исчерпывается красотой и ее так называемыми моментами, а охватывает все интересное в жизни; с другой стороны, красота искусства в эстетическом отношении ниже красоты действительности. Первое из этих двух положений французские натуралисты выразили бы, правда, несколько иначе. Вместе с Золя они сказали бы: «безразличие к сюжету – вот основа реализма». Но это различие не так существенно: замечательно то, что еще в середине 50-х годов была найдена молодым критиком формула эстетического учения, которому предстояло расти и крепнуть целое полустолетие. Заслуга Чернышевского заключается именно в том, что он решился противопоставить Э., создаваемую современным ему направлением искусства (тогда даже чуть намечавшимся), школьной Э., рассуждавшей отвлеченно. В свое время небольшая книжка Чернышевского, вызвавшая со всех сторон горячие возражения (см., между прочим, брошюру К. К. Случевского), не могла быть понята во всем своем значении. Противоположение искусства действительности было истолковано через призму добролюбовской критики, судившей о жизни на основании текущей художественной литературы и в этом полагавшей главное значение поэзии. Слова Чернышевского, поэтому, долго считались лишь проповедью служебного положения искусства по отношению к жизни. Другое его положение также толковалось лишь как отрицание Э., а вовсе не как момент ее обновления. Книжка Чернышевского и прошла почти незаметно, как бы одиноко и преждевременно упала на неблагодарную почву русского художественного самосознания. Вовсе не освещенной осталась и та философская почва, которая питала мысль Чернышевского. Только Владимир Соловьев указал на то, кого надо признать вдохновителем эстетических воззрений молодого тогда критика. Эстетика Чернышевского – эстетика Фейербаха. Если бы провозвестник современного реализма развил мысли, вскользь брошенные им об античной скульптуре, он, вероятно, сказал бы в принципе почти то же, что его русский поклонник [Высказываемые здесь соображения о значении диссертации Чернышевского для Э., как науки, сложилось у автора настоящей статьи под влиянием беседы с А. Н. Пыпиным.]. Фейербах, считавший мир богов воспроизведением желательного для человечества, смотрел, вместе с Винкельманом, на статуи богов как на реальное изображение окружавшей древнего грека действительности. Что же могло при подобном взгляде на религию представлять собой искусство, как не подражание? Чернышевский явился, таким образом, теоретиком реализма еще задолго до его полного расцвета в искусстве.
Истинное значение «Отношений искусства к действительности» обнаруживается с полной очевидностью при сравнении высказанных здесь положений со стройной и своеобразной эстетической системой, созданной Гюйо в 80-х годах, причем философ этот может быть никогда и не слыхал имени Чернышевского и уж, наверное, не знал ничего о его диссертации по Э. Обе книги Гюйо, «Задачи современной Э.» и «Искусство с социологической точки зрения», возникли из ближайшего знакомства с современным искусством, к концу 80-х годов уже развернувшимся с полной силой. Гюйо силится осмыслить это искусство. Он считает его глубоко современным по тому стремлению к правде, которое так законно в век преобладания точных наук. И у Гюйо мы находим категорически выраженными обе центральные мысли Чернышевского. Гюйо говорит: «надо понять, насколько жизнь полнее и шире искусства, чтобы стараться вложить побольше жизни в художественные произведения»; он настаивает на том, что чувство действительности вовсе не может быть противополагаемо красоте, а напротив, если художник бессилен вложить жизнь в свое создание, то в этом сказывается скорее его слабость. Как древнегреческий скульптор, художник ждет, не оживится ли, не заговорит ли изваянная им фигура. С другой стороны, Гюйо считает не только законным, но и необходимым вторжение в сферу искусства некрасивого. Он, правда, оговаривается, что надо избегать тривиального, но введение некрасивого – не неизбежное зло, не прием, к которому иногда приходится прибегать, как это предполагалось раньше, а естественный вывод из всей эстетической системы. Эстетика Гюйо возникла в самой тесной зависимости от его этики. Обоснование ее вытекает из попытки найти принцип этики, расставшись с утилитаризмом и не признавая в то же время ни нравственной санкции, ни нравственного обязательства. В поисках за новым принципом, могущим лечь в основу добра, Гюйо остановился на представлении о «жизни самой интенсивной и экстенсивной» – и ему стало ясно, что никакого другого принципа нет и не надо. Жизнь – вот основная и единственная ценность бытия; ею все управляется, к ней все стремится. Если жизнь мы рассмотрим с точки зрения синергии, когда дело идет о нас самих, и симпатии, когда мы разумеем общество, мы получим требуемый принцип. Организм можно было бы обозначать множественным числом: он представляет собой сложную систему органов, действующих порознь, пока особым усилием они не будут приведены в гармонию. В нас самих уже содержится, таким образом, зачаток общества. Чувство общественности или симпатия есть развитая далее вовне синергия нашей духовной сущности. И чем сильнее жизнь, чем она интенсивнее, тем более возбуждается эта синергия, распространяющаяся вовне, превращающаяся и в симпатию и тем делающая жизнь экспансивной. Интенсивность и экспансивность жизни заключается именно в возбуждении синергии и симпатии. Из этой интенсивности и экспансивности жизни сама собой вытекает мораль, сущность которой состоит в альтруизме, основанном на симпатии. В ней же коренится и эстетическое сознание. «Всякое ощущение вызывает увеличение наших нервных сил». Ощущение, как зрительное, так и слуховое, само по себе уже делает нашу жизнь интенсивнее; вследствие сложности нашего организма, ощущение, особенно приятное, передаваясь в нашем теле и как бы расширяясь в нем, вызывает в нас особую внутреннюю солидарность. Эта солидарность, по мнению Гюйо, и есть чувство красоты. «Приятное, – говорит Гюйо, – становится красивым по мере того, как оно захватывает в нашем существе больше солидарности и общительности между отдельными его частями и между элементами нашего сознания». «Красивое, это – приятное более сложное и более сознательное, более интеллектуальное и волевое». Вся первая часть «Очерка современной Э.» направлена на доказательство этого положения и, что для нас особенно важно, достигается оно, по выражению Гюйо, «расширением границ Э. и увеличением области красивого». Отсюда та строгая критика, которой подвергает Гюйо кантовско-спенсеровские воззрения на прекрасное. Для нас особенно интересны мысли Гюйо о полезном. Вполне допуская антиномию полезного и красивого, Гюйо замечает, однако, что если красивое может вовсе не быть полезным, тем не менее в самой пользе могут заключаться элементы красоты. Когда дело идет о полезных предметах, о всех этих созданиях нашего антиартистического века, мы не можем не признать, что в процессе приложения их, в самом действии их, они вызывают удовольствие, которое нельзя не назвать эстетическим. Несущийся вдали змейкой поезд железной дороги, огромный и быстрый трансатлантический пароход в открытом море – оба вполне справедливо считаются красивыми. Оттого не надо увлекаться теорией игры; этим мы, может быть, даже унижаем искусство. Элементы красивого в полезном красивы именно тем, что они вызывают чувство жизни. Искусство, создавая прекрасное, внушает жизнь уже тем самым, что оно подражает и воспроизводит. Оно вызывает в нас целый сонм образов и расширяет наше сознание, делая его более экспансивным в смысле симпатии со всем этим «гражданством искусства», с которым мы невольно сживаемся. Проникшись созданиями художников, человек живет как бы целым обществом. «Высшая задача искусства, – говорит Гюйо, – произвести эстетическую эмоцию общественного характера». Из этого положения логически вытекает, во-первых, что образы искусства, как к этому и пришел реализм, должны быть живы, т. е. индивидуальны, а не только характерны и типичны; во-вторых, что некрасивое не может и не должно быть избегаемо в искусстве. «Прогресс искусства отчасти определяется симпатичным интересом, направленным на горестные стороны жизни, на все низшие существа, на все мелочное и уродливое. Это одно из расширений эстетического обобществления. В этом отношении искусство развивается вместе с наукой, для которой нет ничего слишком ничтожного и малого и которая охватывает всеуравнивающими своими законами всю природу». Создав и теорию искусства, и Э. на данных реалистического искусства и стремясь придать им тот обобществленный характер, который так соответствует стремлениям века, Гюйо расширил и Э., и искусство, выводя их, совершенно так же, как этого добивался Чернышевский, за пределы установленной красоты. И Чернышевский, и Гюйо, однако, не представляли себе Э. иначе как науку о прекрасном. Не представлял себе ее иначе и Флобер, видевший элементы красоты в каждом атоме бытия. Первоначальное понимание Э. все еще тяготеет над ними. Они не решились еще сформулировать такое ее понимание, которое сделало бы ненужным всякое расширение и раз и навсегда покончило бы и с вопросом об уродливом. Гюйо идет ощупью в сторону современного понимания Э., когда он заговаривает о низшей доле красоты, заключающейся в полезном. Мы подступили теперь к тому моменту в развитии нашей науки, когда ставится вопрос об эстетическом сознании независимо от вопроса о красоте. В высшей степени характерный в этом отношении пример, наглядно показывающий необходимость именно такой постановки вопроса, мы находим в «Очерке современной Э.». Гюйо приводит здесь рассказ Грант-Аллена о том, что живший на берегу моря крестьянин, когда ему хвалили красивый вид, ежедневно расстилающийся перед ним, соглашался с этим мнением, но неизменно оборачивался при этом спиной к морю и лицом к полю капусты, казавшемуся ему действительно прекрасным. Гюйо берет сторону этого крестьянина и готов согласиться, что и в поле капусты есть красота. Правильнее было бы сказать, что поле капусты представляло большую эстетическую ценность в глазах крестьянина, чем море, совершенно не заводя речи о красоте. Как было указано выше, впервые на подобную точку зрения встал Гроос, в «Введении к Э.», в самом начале 90-х годов. «Злосчастное понятие прекрасного растягивали во все стороны, как если бы оно было из резины, единственно по той причине, что считали необходимым обнять им все, что производит эстетическое действие. Прекрасное должно было превратиться в нечто прямо противоположное, разбиваться на части и вновь собираться, пока наконец оно не было растянуто до степени схемы, которая уже почти ни на что не была годна». Теперь пора уже прямо сказать, что «хотя все прекрасное относится к области эстетической, но не все эстетическое прекрасно». Гроосу принадлежит и та мысль, что в этом вопросе «современное искусство практически давно опередило Э.». При всей важности определения Грооса, оно не составляет как бы начала новой эры в развитии Э. В существе дела, мы вовсе не так далеко отошли от Кантовской «Критики силы суждения», как это могло бы показаться с первого взгляда. Мысли Канта останутся для нас основными даже тогда, когда мы расстанемся с формально-сенсуалистической Э., за пределы которой нас выводит учение о трагическом и комическом.
VI. Художественное восприятие
«Критика силы суждения» – этот краеугольный камень нашей науки, как мы видели, отводит эстетическому сознанию промежуточное место между познанием и желанием. К тому же приводит и наблюдение над ролью внимания в процессе художественного восприятия. Что созерцание, эта первооснова художественного восприятия, тесно связана с напряжением внимания – это само собой очевидно. Какое же место занимает внимание в нашем сознании? В обыденной жизни в нас постоянно происходит борьба между произвольным и непроизвольным вниманием и в минуты бездействия или отдыха мы всецело находимся во власти последнего. Всякая работа, всякое занятие и, вообще, всякое движение к чему-либо желательному сопряжено, наоборот, с произвольным вниманием. Оно находится в услужении у нашей воли; через его посредство воля заставляет нас познавать объект своего приложения. Если достижение желания не требует никаких особых усилий познания (как, например, в еде, одевании и т. п.), внимание быстро освобождается и желаемое достигается машинально, т. е. бессознательно. Если же желательное может быть достигнуто лишь с трудом (например, при решении математической задачи), внимание достигает высшего напряжения; пока не совершено требуемое, мы целиком поглощены познаванием. Произвольное внимание тогда окончательно вытесняет непроизвольное; происходит то, что на языке психологов называется сужением поля сознания. Отсюда ясно, что внимание занимает передаточное положение между желанием и познанием. То же самое можно показать и в обратном порядке: само желание невозможно без познания. Непроизвольное внимание сообщает познанию о какой-либо вещи, и если она не вызывает рефлективного движения (как когда мы отгоняем муху), происходит переход от непроизвольного внимания в произвольное и одновременно с этим составляется решение нашей воли о данном предмете. При художественном восприятии наше внимание сознательно и произвольно; оно должно быть также в значительной степени и напряженным. Однако вызванное напряжением воли внимание немедленно освобождается от его гнета, и никакого желания в нас не возникает. С другой стороны, сопряженное с вниманием познание вовсе не настолько интенсивно, чтобы заставить нас проникнуть в глубь вещей. Чернышевский очень метко сравнил наше состояние при художественном созерцании с положением человека, в былые годы ожидавшего на станции, пока перепрягут лошадей. Если в таком положении не возьмет нетерпение, то невольно на досуге станешь осматриваться кругом, причем взгляд будет безучастно спокойным. При созерцании, стало быть, ни наша воля, ни познание рассудком не приложимы иначе как в самой зачаточной форме; в нас наступает затишье чистого восприятия. Это – как бы мертвая точка между познанием явлений и приложением к ним воли. В таком состоянии находимся мы при созерцании художественного произведения. Ведь мы не стремимся вмешаться в развитие драмы, в нас не возникает любовь к изображению красивой женщины. Такое созерцание возможно и по отношению к полезному предмету, причем вызвать его может именно сознание блага, которое оно приносит, как на это указывал Гюйо. Так же точно созерцать можем мы, например, и математическую теорему или философское построение, вызывая их в памяти. Это будет чистейший вид внутреннего созерцания. Первенствующее значение искусства с особенной ясностью обнаруживается тогда, когда мы стоим перед природой. Искусство научило нас направлять внимание на создания природы, не преследуя при этом какой-либо иной цели, кроме самого созерцания. Что именно искусство воспитывает наше внимание в этом отношении – т. е. в отношении «бесцельной целесообразности», скажем мы вслед за Кантом, – это доказывается тем, что при восприятии мы прежде всего обращаем внимание на явления, знакомые нам из произведений искусства: на синеву дали, если мы поклонники Шишкина, на интимную сцену жизни, если мы любим жанр, и т. п. С другой стороны, косвенно подтверждает эту мысль и особая чуткость и внимательность к явлениям жизни, отличающая всякого художника и поэта. Для получения художественного восприятия одного направления эстетического внимания, однако, еще мало. Мы подошли теперь к роли другой нашей духовной способности, которая обыкновенно только одна и кладется в основу эстетического сознания. Внимание находится в самом тесном взаимодействии с воображением. Работу воображения в этом отношении представил совершенно ясно Гроос. «Сначала, – пишет Гроос, – площадь моего сознания подобна огромной картине, освещенной лишь равномерным, но слабым светом луны; все перед моими глазами, но я ничего не могу разобрать. Затем присоединяется деятельность воображения, которую можно уподобить более ограниченному, но зато и более интенсивному источнику света; то место картины, на котором я сосредоточиваю внимание, я вижу ясно и отчетливо, но окружающие части погружаются в еще больший мрак». Воображение как бы делает выбор из хаоса общего впечатления. Самый характер воображения не у всех людей одинаков. Одни обладают красочным воображением, другие склонны к воображению чистых форм, у третьих, наконец, более развито слуховое воображение. Эти индивидуальные особенности в свою очередь влияют на указанное Гроосом особое освещение воспринимаемого. В зависимости от них меняется и самый результат художественного восприятия: он отнюдь не представляет собой самой природы. Природа остается далекой и непознанной; в нас отражается только видимость, этот внутренний образ природы. К положению видимости и стремится эстетическое восприятие. «Эстетическая видимость, – говорит Гроос, – есть продукт воображения, которое из внешнего предмета выделяет для нас внутренний образ, удерживаемый ею лишь благодаря тому, что она односторонне сосредоточивается на известной части чувственного впечатления». Термины видимость и образность для нас особенно важны. Введением их открывается возможность осветить еще две различные особенности художественного восприятия. Шиллеровский термин видимость оттеняет то обстоятельство, что дело идет здесь не о чистых формах, как думал Кант: мы воспринимаем не одни комбинации линий и красок, а напротив, запечатлевая в своем сознании видимость или образ предмета, этим самым получаем и понятие о его сущности. Эстетическое восприятие есть, таким образом, чувственное восприятие форм; вместе с тем оно вторгается и в область понятий или дознания, не претендуя, однако, на полное ознакомление с сущностью, составляющее предмет науки. Мы опять-таки, даже расширив формализм Канта, остаемся, стало быть, на почве его построений, констатируя, что художественное восприятие находится на перепутье между чувством и познанием, подобно тому как оно занимает и промежуточное место между познанием и желанием. Другое существенное следствие, вытекающее из принятия нами термина видимость, заключается в том, что эстетическое восприятие более, чем какое-либо другое, должно представиться нам не пассивным, а напротив, самым коренным образом творческим. Это еще раз дает нам право отождествлять слова эстетический и художественный. То обстоятельство, что результат восприятия в данном случае есть образ или видимость, т. е. нечто новое, иное, нечто, чего в природе нет, нечто, на чем отразились наши, нам одним свойственные особенности воображения, ясно указывает на известную работу или внутреннюю деятельность, без которой эстетическое восприятие немыслимо. Воспринимать природу – значит уже совершать акт художественного творчества; это значит уже до известной степени стать художником. В сущности, художник отличается от человека, способного к созерцанию, только тем, что возникший в нем образ он умеет воспроизвести красками, резцом или словом. Также творчески воспринимаем мы и создания искусства, хотя, казалось бы, в них эстетическая видимость уже совершенно наглядно и ясно всей силой художественного выражения приготовлена для нашего восприятия. И здесь, при восприятии картины или при чтении книги, мы также можем уловить опять-таки лишь внутренний образ, определяемый вторжением своеобразного, присущего нам воображения. Такая особенность восприятия произведений искусств обнаруживается с полной ясностью, когда дело идет о каком-либо старинном произведении; здесь вкладывание в него нашего «я» не может подлежать сомнению. Творческий характер художественного восприятия составляет его основной признак. Этим отличается оно от восприятия вообще. Гроос говорит, что различие между обоими восприятиями – лишь в интенсивности. Что интенсивность несравненно больше при художественном восприятии – это несомненно, и мы увидим дальше, что большей интенсивностью объясняется не одна черта эстетического сознания. Но дело не в одной только интенсивности. Созерцание, лежащее в основе восприятия, сознательно в смысле произвольного и индивидуального каждому человеку по своему свойственному напряженному вниманию; другими словами, оно имеет творческий характер – и в этом внутреннем творчестве заключается то, что Кант называл целесообразностью. Бесцельное во всех других отношениях художественное созерцание все-таки преследует, сознательно или бессознательно, известную цель, которая неминуемо должна отложиться на характере самого восприятия. С точки зрения формально-сенсуалистической Э. цель эта – удовольствие, доставляемое красотой. Так думал Кант, так думали и продолжают думать и его последователи. Человек, промедливший на своем жизненном пути ради художественного впечатления, оказывается вознагражденным. Он даже может славословить мирозданию за эту особенную его целесообразность – красоту-утешительницу. Гораздо сложнее представляется дело, раз что мы признали эстетическое сознание обнимающим и красивое, и некрасивое. Если при открытии эстетической целесообразности мы все-таки захотим остаться на точке зрения формально-сенсуалистической, нам надо будет неминуемо открыть наслаждение, доставляемое эстетической видимостью вообще. На такую точку зрения и встал Гроос; он признал, что и безобразное «игрой внутреннего подражания» становится эстетически приятным; что же касается до красивого, то в нем Гроос видит, вместе с психологами, чувственно-приятное, сохраняющее это свойство и в эстетической видимости. Однако, как ему возразил вполне основательно Липпс, удовольствие от «игры внутреннего подражания» и есть удовольствие от этой игры, и доставляет ли удовольствие сам внутренний образ – при такой постановке вопроса остается невыясненным. Важно дознаться того, в чем состоит наслаждение от внутреннего образа или, точнее, от объекта эстетического восприятия, независимо от вопроса об «игре». На этот вопрос Гроос никакого ответа нам не дает; не дает на него ответа и установленная Кантом целесообразность без цели, раз мы расширили «формально-сенсуалистическую» Э. Бессилие этой Э. обнаружится еще полнее, если обратиться к так называемым формам красоты: трагическому и комическому. Возвращаясь к Гроосу, следует заметить, что переход чувственно-приятного в красивое эстетической видимости далеко еще нельзя признать доказанным; можно даже заподозрить вообще все выводы объективной Э. Ведь самое введение термина видимость в вышеуказанном смысле заставляет нас, перефразируя приведенные слова Гербарта, признать, что «если сущность и существует сама по себе, без отношения к субъекту, то видимость существует лишь для субъекта; не будь субъекта, она тотчас же исчезла бы». Э., как наука о видимости, ни в каком случае не может упускать из вида воспринимающего или создающего субъекта. С точки зрения субъекта мы только и можем разбираться в вопросе о том, что такое красота и безобразие; это – свойства только в нас возникающей видимости. Различие красивого и некрасивого в эстетическом восприятии и творчестве может быть всего правильнее было бы искать, вместе с Кантом, в суждении вкуса, не пытаясь, однако, придавать ему нечто большее, чем чисто субъективное значение. Вкус, несомненно, складывается исторически, и наша наука должна отвести место рассмотрению его развития рядом с историей искусств. Но суждение вкуса, определяющего, что красиво и что некрасиво, всегда останется лишь чем-то подчиненным и второстепенным в эстетическом сознании. Основная эстетическая ценность в самых высших проявлениях художественной деятельности и художественного восприятия всегда была и всегда будет независима от вкуса. Истинное понимание ее всегда тем более облегчается, чем более уже побежденной и превзойденной оказывается узкая гедонистическая точка зрения, неизбежная в формально-сенсуалистической эстетике.
VII. О трагическом и комическом
Еще от древности нашей науке было завещано представление о возвышенном. Лонгин видел в нем источник удивления и преклонения. По мере того как в поэтиках разрабатывался вопрос о трагическом, причем большое значение придавалось величию героя, возвышенное стало, однако, сближаться с трагическим и вместе с ним получило толкование ужасного, внушающего страх и уважение. В таком смысле понимал возвышенное и Бёрк. Напротив, Кант, вводя возвышенное в свою Э., отчасти вернул ему его первоначальное значение под названием математически высокого, вызывающего удивление перед особенно большим. Лишь рядом с этим скорее интеллектуальным представлением говорит Кант и о динамически возвышенном, основанном на силе. Эта последняя разновидность возвышенного также внушает страх, но страх скорее воображаемый, так как испытывающий его находится в безопасности. Приведенные два типа толкований возвышенного ложатся в основу всех последующих. Мы имеем в них дело то со смешением обоих типов представлений, то с различением их более или менее в духе Канта. Чисто возвышенным считается обыкновенно спокойное море, пустыня, небесный свод, а возвышенное, сливающееся с трагическим, представляют собой в природе – дикие нависшие скалы и бушующее море, в людских делах – могучие страсти. Иногда трагическое, представляющее собой изображение гибели героя, называют, как Куно Фишер, падением возвышенного. Наиболее распространенное и едва ли не более правильное мнение в спокойно возвышенном видит не что иное, как некоторую особенность красоты природы, и сливает воедино возвышенное и трагическое, как одинаково наводящее ужас. Прямую противоположность ужасному представляет собой смешное, в эстетиках подводимое под рубрики комического и юмористического. Комическое также получило у англичан сенсуалистическое определение. Гоббз видел в нем выражение гордого превосходства, заставляющего сильного смеяться над слабым. Толкованию Гоббза можно противопоставить Канта, хотя и считавшего смех явлением чисто физиологическим, но источник его видевшего в интеллектуальной игре остроумия, умеющей неожиданно превратить серьезную мысль в ничто. В этих двух различных объяснениях мы вновь имеем два типа, около которых вращаются все последующие.
В вопросе о трагическом и комическом центральный интерес заключается в том, как объяснить их присутствие в искусстве с формально-сенсуалистической точки зрения. Какую эстетическую ценность могут иметь эти так называемые моменты красоты, несомненно так близко соприкасающиеся с безобразным? Сами по себе и трагические, и комические образы могут, конечно, быть прекрасны. Прекрасна трагедия своей «сладчайшей речью», как говорил Аристотель. Прекрасна она и всей своей обстановкой, особенно когда живописны и время, и место действия, – но нам нужно найти эстетическую ценность самого трагического элемента. Мы должны доискаться красоты или вообще удовольствия от сцены ослепления в Софокловском «Эдипе», от Шекспировского «Ричарда III». Поэтому исследование сопутствующих эстетических элементов трагедии, какое предпринимает профессор Гейнцель по отношению к средневековой религиозной драме, нас мало подвигает вперед. Еще труднее справиться с Э. комизма. Как найти красивое в карикатуре? Если, вместе с Гроосом, сказать, что удовольствие получается от «игры внутренним образом», как и в уродливом, то это не ответ, потому что нам опять-таки надо дознаться, каково удовольствие даже не от самих трагических и комических образов, а специально от трагизма и комизма этих образов. Трагизм и комизм нельзя выбросить из искусства и Э., как это долгое время делали с безобразным. Все важнейшие и величайшие моменты в истории искусств и особенно поэзии отличаются именно развитием комизма и трагизма; в этом даже и состоит их величие. В период высшего блеска античной поэзии появляются трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида, появляется Аристофан. Величайшие создания средних веков – «Песнь о Роланде» и «Нибелунги» – мрачно трагичны, а им сопутствует пестрая толпа fabliaux. У Данте и Боккаччо мы опять имеем расцвет трагизма и комизма. У испанских драматургов, у Сервантеса, у Шекспира и Марло трагические и комические элементы даже сплетаются вместе. Достаточно назвать далее Гётевского «Фауста», трагизм Флобера и Золя, трагический юмор Мопассана, Гауптмана и Ибсена. И сама природа, как источник эстетического наслаждения, привлекла внимание человечества прежде всего трагической красотой горных стремнин и водопадов, грома и молнии. Трагические и комические элементы можно было бы указать и в величайших созданиях музыки. Дело именно в том, что трагизм и комизм не укладываются и не могут уложиться в рамки формально-сенсуалистической эстетики. Шерер в своей «Поэтике», строго настаивая на теории игры, вводит смех как один из основных элементов художественного творчества. Конечно, смех – этот взрыв накопившейся жизненной энергии, как его толкует Спенсер, очень легко привести в гармонию с игрой; но смех – еще не комизм, как повод и следствие еще не составляют самого явления. В объяснении трагизма те, кто стоит на исключительно формально-сенсуалистической точке зрения, ссылаются обыкновенно на катарсис Аристотеля, в том понимании, какое ему придал Бернайс. Они говорят, что удовольствие трагедии именно в очищении или облегчении (Entladung). Таково мнение Шерера, Фрейтага, Фолькельта. Но облегчение – ведь только следствие, а вовсе не причина наслаждения трагическим. Чаще всего, поэтому, писатели разбираемого направления либо вовсе не касаются этих форм красоты, либо, как Кестлин, ссылаются на поэтическую справедливость, говорят, что трагедия навевает гармонию «удовлетворением мстящей справедливости и водворением мира и счастья». Поэтическая справедливость, однако, выводит нас за пределы Э., в какую-то суровую мораль. Попытку строго эстетического обоснования трагического и комического находим мы только у Липпса. Подобно Гюйо, Липпс смотрит на эстетическое удовольствие как на распространение или расширение духовной жизни человека через симпатию и, согласно установленной в современной Э. замене понятия красота понятием эстетический, видит действие симпатии во всех сферах художественного восприятия: симпатия заставляет нас следить с удовольствием за изогнутой линией, симпатия возбуждается и трагическим, и комическим. Это последнее объясняется тем, что, по основному закону нашей психики, всякое эмоциональное возбуждение, если оно прервано, развивается далее с увеличенной силой. Такой перерыв и видит Липпс в трагической или комической катастрофе. Под ее влиянием усиливается в нас симпатия к герою, каков бы он ни был. Эта теория, однако, самым введением симпатии также уже выводит нас за пределы формально-сенсуалистической Э. в строгом смысле.
Несколько поодаль от лежащих в основании формально-сенсуалистической Э. воззрений Канта стоит и его собственное учение об эстетической ценности трагического и комического. Здесь мы касаемся того отсутствия полной стройности в эстетике Канта, которое так метко охарактеризовал его недавний критик Баш и ради которого еще Гартман признал Канта основателем одновременно и формального, и идеалистического направления в нашей науке. Учение Канта о смешном и комическом заключается в примечании к «Дедукции эстетической способности суждения», причем и смешное, и комическое признаются разновидностями приятного, а не красивого. Иначе обстоит дело относительно возвышенного, изучаемого в «Аналитике эстетической способности суждения» и входящего, стало быть, в общую систему Э. Однако Кант самым старательным образом отделил красивое от возвышенного и не признал даже за последним наименование формы красоты, что вошло в употребление уже после Канта. Возвышенное, во-первых, вовсе не вызывает удовольствие, а напротив – страдание; оно подавляет нас, а тут нет места удовольствию. Во-вторых, если красота мыслится как нечто доставляемое природой, то возвышенное основано исключительно на идее рассудка, в свою очередь возникшей из сравнения чего-то огромного и могучего с нашим ничтожеством. Если Кант все-таки ввел возвышенное в свою Э., то лишь в силу морально-идеалистических, а отнюдь не строго эстетических соображений. Он признал, что разум наш, заставляющий мыслить созерцаемое как нечто целое и подчиненное ему, дал нам возможность возвыситься над страхом и подавленностью от чувственного восприятия, «возбуждая в нас чувство нашего сверхчувственного назначения», и вот это-то чувство возвращает нас к удовольствию, которое и должно занять место рядом с эстетическим. Сообразно с таким рассуждением, по мнению Канта, все страшное как бы «бросает вызов нашим силам» и дает нам радость борьбы и проявления храбрости. Это понимание возвышенного по отношению к трагическому было развито Шиллером и, заставив его на время расстаться с теорией поэтической справедливости, дало ему возможность сформулировать одну из наиболее благородных теорий трагизма. Смысл трагедии для Шиллера заключается в изображении духовного величия героя, противопоставляющего гордо и смело свою грудь всем опасностям и превратностям счастья и жизни (см. его «Замечания по эстетическим вопросам», «О возвышенном», «О патетическом»). Что тут Шиллер также откровенно покидает эстетический формализм – это очевидно. Удовольствие трагического здесь уже прямо удовольствие идейно-моральное. При рассмотрении трагического и комического совершенно ясно обнаружилась, таким образом, невозможность оставаться исключительно на формальной точке зрения. Но раньше чем перейти к другой завещанной древностью эстетической теории, необходимо оглянуться назад. Основное различие формальной и идеалистической Э. сводится к тому, что первая стремится выделить эстетическое сознание в особую отрасль, ограничив ее пределы, а другая увлекает его в сторону слияния с познанием, нравственностью и даже верой. При возникновении нашей науки, как особой части философии, Кант, как критицист, установил данные для окончательного обоснования Э. обработкой эстетического формализма. Формальная точка зрения есть основная в нашей науке. Без нее она немыслима как таковая. Только ей и может быть выделено эстетическое сознание из той сложной массы чувств, мыслей и поступков, которая называется жизнью. Оттого и самое расширение Э. за пределы красоты было необходимо провести на почве эстетического формализма. Однако выделение это тем самым неминуемо должно было оказаться чисто искусственным.
Мы определили до сих пор лишь то, чем отличается сфера художества от сферы жизни: в дальнейшем нам придется ответить на вопрос о том, чем оно с жизнью связано – и только тогда мы подойдем к самому искусству. Выделить из жизни удалось только художественное восприятие, и то далеко не целиком. Обособившись от жизни, можно созерцать искусство и природу и наслаждаться этим, но ни творить, ни окончательно осмыслить искусство, уйдя от самой жизни, немыслимо. Отторгнутость от жизни художника всегда только кажущаяся; в процессе творчества он весь в жизни и с жизнью.
VIII. Идеалистическая эстетика
В 1800 г. вышла «Кализона» Гердера, набросившаяся в страстной полемике на Канта. Гердер требовал, чтобы вопросы Э. были разрешаемы не иначе как с полным признанием «неразрывности истины, добра и красоты», и называл влияние «Критики силы суждения» «воцарением нескончаемых хитросплетений, слепых взглядов, фантазий, схематизма, пустого буквоедства и пресловутых трансцендентальных идей и построений». Однако та плеяда блестящих немецких философов, которым предстояло осуществить попытку возвращения к «неразрывности истины, добра и красоты» и влияние которых было непоколебимо, господствовали целых 50 лет после выхода «Кализоны» и в один голос называют Канта своим учителем. Гартман совершенно правильно замечает, что Кант, основатель формальной Э., может с одинаковым правом быть назван и основателем Э. идеалистической. Элементы идеализма содержатся в тех главах «Критики силы суждения», где Кант говорит о гении. Гений, по мнению Канта, – творец не одних чарующих образов: он создает еще эстетические идеи, и в этом его основное значение. Эстетическая идея у Канта, это – «нечто соответствующее идее разума» и в то же время «то представление воображения, которое дает повод много думать, хотя никакое понятие не может быть вполне адекватным ему, и, следовательно, никакой язык не в состоянии выразить его во всей полноте и совершенно понятно». Равным образом и воображение, главная сила гения, хотя и получает материал от природы, но «перерабатывает его для чего-то совершенно другого, что стоит уже выше природы». Идеалистическое толкование легко могли вызвать и «Письма об эстетическом воспитании» Шиллера, по которым искусство должно разрешить антиномию необходимости и долженствования или – выражаясь уже языком идеализма, а не критицизма – истины и добра. Когда, отчасти под влиянием Винкельмана, возбудившего вновь интерес к Платону, Шеллинг – этот истинный основатель идеализма в Э., – в своей блестящей речи «Бруно» (1802) провозгласил впервые идеалистическое понимание искусства, он только как бы констатировал осуществление самим духом – этим субъектом-объектом всего сущего – того, что Шиллер представил лишь как желательное в жизни. Так вновь встал перед человечеством образ Платоновского «мира истинного существования», где обретаются в полном согласии истина, добро и красота. Искусство важно нам как стремление к этому горнему миру, и чем выше искусство, тем ближе оно к нему приближается. Наш бренный, преходящий мир познания – лишь сколок с мира идей. Настоящее явление есть идея его. Но только через явление восходит ум человеческий до идеи. Художник как бы освобождает идею из тех форм, в которые она облечена в природе, и воспроизводит ее в том виде, в каком она должна была бы представиться. Художественные образы, поэтому, – идеи в совершеннейшей объективации. Этим идеи могут быть действительно познаны и одновременно образы становятся прекрасными. Таким воззрениям на художество вторило в то время в Германии и искусство, в лице романтиков. Другой идеалист того времени, Фихте, стоял близко ко всему этому кружку Шлегелей, Вакенродера, Новалиса и Тика. Для увлеченных мистицизмом романтиков был чужд культ формы, в котором воспитывали себя Шиллер и Гёте; с другой стороны, искусство им казалось все более и более проникновенным и таинственным. Если «Вильгельм Мейстер» прошел школу искусства, чтобы вернуться к жизни и оценить ее, то романтики, напротив, стремились к искусству как к отрешению от трезвенности и низменности жизни, ожидая от искусства высших откровений. Вот эти-то откровения и обещала им идеалистическая эстетика Шеллинга и Фихте.
В позднейшее время Гартман различает школу абстрактного идеализма и школу идеализма конкретного. К первой он относит, вслед за Шеллингом, Шопенгауэра, Сольгера, Краузе, Вейссе и Лотце, ко второй – Гегеля, Тарнгофа, Шлейермахера и более поздних гегельянцев, Фишера, Каррьера, Шеллера. Отвлеченный идеализм стоит ближе к Платону; для него мир идей есть мир отвлеченного знания. Шопенгауэр несколько раз настойчиво заявляет, что «идею» он понимает в строго-платоновском духе. Подобно Канту, и шопенгауэровская Э. художественное восприятие и художественное творчество прежде всего отмежевывает от полезности, хотя, отбросив формализм, она уже не стоит более на точке зрения бесцельной целесообразности. То, что Кант называл «вещью в себе», Шопенгауэр назвал представлением. Этим он присоединился к Кантовскому пессимизму познания. Но мир как представление есть одновременно и мир как воля. Воля это – стремление жить, общее движение всего сущего, которое уносит и нас, нами владеет и над нами властвует. Мы заняты нашими делами и всей нашей деятельностью, т. е. проявлением через нас воли. Только отрешившись от воли, впадаем мы в то состояние, которое Чернышевский называет «ожиданием на станции», и тогда мы уже становимся способны к более глубокому познанию представления. Вместо обыденного познания, служащего через нас воле, наступает состояние чистого познания, уже не заинтересованного и не стремящегося ни к какой полезности. Вот на это-то чистое познание способен только гений – философ или художник. Отрешившийся от воли гений силится проникнуть в мир идей: если он философ, он стремится к чистым идеям, а если он художник – умеет овладеть ими в формах. Художественное восприятие есть, таким образом, особое познание идеи в форме, наиболее ей соответствующей и наиболее совершенно объектированной в художественном произведении или в прекрасных явлениях природы. Совершенно тождественно с этим понимает художественное сознание и Гегель. И для него восприятие художника есть проникновение до идеи через формы, а искусство есть облечение идеи в соответствующую ей форму. При этом сходстве сказывается, однако, и различие между абстрактной точкой зрения Шопенгауэра и конкретной Гегеля. Идея у Гегеля – не только создание нашего разума; она – нечто конкретное. Мир идей и мир земной слились и пришли во взаимодействие. Оба они оказались фазисами одного и того же великого развития. Основа всех основ, абсолютный субъект-объект – это Дух, но Дух этот, хотя он и вечен, сам не знал о своем существовании и только через материю, находясь в вечном движении, стремится к познанию самого себя, т. е. к самосознанию. Достигает этого Дух не в чистой материи, где он еще чуть сказывается, и не в растениях, и не в животных, где он уже начинает побеждать своего непокорного раба – материю. Только в нас, в людях, достигает Дух сознания, и мы, как его орган, познаем его через идею. Идея у Гегеля, таким образом, уже не то ясное представление, которое так убаюкивает воображение у Платона: идея здесь, с одной стороны, «осуществление Духа», и потому она сама субъект-объект. «Все существующее, – говорит Гегель, – только в том смысле истинно, что оно есть существование идеи; идея есть единственное истинно существующее». Поскольку идея возникает в нас, она либо идея логическая, либо эстетическая. Логическая идея, доступная философу, познающему чистого Духа в себе, уже отрешена от формы, в которую она была заключена. Но идея сама по себе ведь конкретна, потому что она вне нас сама по себе существует не иначе как в формах, и соответствие ее с формой есть красота, появляющаяся в искусстве, этом чувственном познании или познании в форме, доступной лишь гению художника. Эстетическая идея есть, таким образом, идея в соответственной форме. Искусство есть одновременно и познание эстетической идеи, т. е. красоты, и создание ее. «Красота искусства, – говорит Гегель, – это не логическая идея, т. е. абсолютная мысль, развивающаяся в чистом элементе мышления, и не природная идея; она принадлежит к области Духа, но не сопряжена ни с опытом, ни с деяниями конечного Духа. Царство изящных искусств – это царство абсолютного Духа». Одна из особенностей идеалистической Э., как это отчасти видно уже из этого краткого очерка сущности гегелевского взгляда, заключается в том, что именно идеалисты впервые стали на эволюционную точку зрения в эстетических изысканиях. Искусство у них уже не рассматривается статически, как нечто данное. Напротив, мы входим в такой период человеческого мышления, когда с рационалистической статикой сведены все счеты и в полную силу входит завещанная Монтескье идея развития. Ей отдали дань в области понимания искусства братья Шлегели и г-жа Сталь, Шатобриан и Кольридж. Философы-идеалисты целиком отдавались ей. Шеллинг в 1802–1805 гг. в Йене и Вюрцбурге читал лекции по «Философии искусств», напечатанные только после его смерти. Гегель также создал свою Э. лишь в форме лекций, увидевших свет, в незаконченном виде, лишь после его смерти. Лекции Гегеля уже построены строго исторически; ту же попытку всемирной истории искусств, как законченного эстетического учения, повторил гораздо позднее и гегельянец Каррьер. И это вполне понятно. Историческая или, вернее, эволюционная точка зрения коренится у Гегеля в самом существе его учения о Духе. Дух вечно находится в движении; он проходит множество фазисов «опыта и поступков». Вот среди этих-то фазисов и появляется, в самой тесной связи с развитием искусств, учение о формах или моментах красоты, составляющих основу всего эстетического эволюционизма. Трагическое и комическое, возвышенное и юмористическое – это в буквальном смысле моменты красоты, т. е. те стадии, через который проходит воплощение Духа или идеи в формы. Одна из стадий – это красота, т. е. полное соответствие идеи и формы (или формы и содержания, как говорили позднее). Но возможно и не полное соответствие, и это еще не есть уродливое, как это можно было бы предположить. Уродливое, для Гегеля, – вовсе не эстетическое представление; уродливое – это все материальное, низкое, реальное, то, где вовсе нет идеи и потому нет и эстетической ценности, основанной на идее. Если идеалистическая Э. представлялась иногда – например, Чернышевскому, знавшему в подлиннике, по-видимому, одного только Фишера – изгоняющей все повседневное и реальное ради красоты, то это не более как недоразумение. Повседневное и реальное идеалисты презирали и называли пошлым ради него самого. Само выражение: «идея красоты», которое им часто приписывается, только один раз промелькнуло у Вейссе, стремившегося примирить абстрактный идеализм Шеллинга с конкретным идеализмом Гегеля. Это понятие вводит и Рёскин, также идеалист, но непоследовательный, слишком увлеченный формами и практическим применением красоты, чтобы мыслить отвлеченно. Итак, красота, как соответствие формы и идеи, только изменяется, когда нарушено это соответствие. Если преобладает идея, еще не нашедшая себе выражения, тогда появляется возвышенное; если преобладает форма, тогда мы имеем дело с юмористическим. Моментам красоты у Гегеля соответствуют моменты развития искусств. Древняя Индия и Египет – это период архитектуры, т. е. возвышенного, потому что идея (Дух) не нашла себе формы и не достигла самосознания. Идею только символически изображает величие построек. Непосредственно вслед за архитектурой следует период пластики и пластической поэзии; это – древняя Греция, с её антропоморфными богами. Тут Дух сопряжен с формой и вне ее и не мыслится. Это и есть период красоты, когда Дух еще не стал выше природы, потому что он и в самой религии представляет собой олицетворение природы. Этому Духу соответствовала совершенная пластическая форма в скульптуре, изображающей богов. Когда настало время христианства и Дух поднялся на неизмеримую высь, гармония была опять нарушена; искусство могло только отчасти вместить его. Романтическая поэзия и живопись, отказавшаяся от пластики периода скульптуры, стремится к этому горнему Духу, одухотворяя самую форму. Красота недостижима; мы опять в мире возвышенного. Красота представляется, следовательно, таким периодом в эволюции Духа, которую он неминуемо должен был превзойти. Иначе с идеалистической точки зрения и не может представиться дело. Представление об особой эстетической «целесообразности без цели» для нее невозможно; на почве чистого идеализма уже давно могло бы состояться «расширение» Э. за пределы красоты. Случилось, однако, скорее обратное; например, у Фишера, Э. которого в середине истекшего столетия считалась классической, замечается скорее скрытое стремление формализовать мысли Гегеля. Циммерман, сам откровенный формалист, справедливо замечает, что Фишер в своей «Метафизике красоты» как бы тяготится своим гегельянством; для него красота гораздо важнее в произведениях искусств, чем идея, но в сущности он все время думает о чувственном, а вовсе не интеллектуальном наслаждении красотой. Фишер, стоя, так сказать, на рубеже двух эстетических воззрений, оттого так отчетливо и формулировал простую, но часто забываемую мысль, что «чем большее внимание обращается на форму, тем большее значение приобретает содержание; великая форма возможна только при великом содержании, законченность формы при ничтожном содержании граничит с не имеющим вовсе никакого значения».
Мы до сих пор все время рассматривали сближение эстетической ценности с истиной, т. е. с познавательной ценностью. Художник представлялся нам каким-то проникновенным мудрецом, достигающим, вместе с философом, глубочайшего знания. На почве идеалистической теории трагедии, занимающей у Шопенгауэра чуть не центральное место и широко развитой как Гегелем, так и всей плеядой гегельянских критиков и историков литературы, мы подходим к сближению Э. и этики. Уже при разборе трагического с формально-сенсуалистической точки зрения мы видели, что в объяснении этой формы красоты существенно важную роль играет старинная теория поэтической справедливости. Именно идеалистическая Э. и заставила совершенно забыть возвышенное толкование трагизма Канта и Шиллера и вновь окружила ореолом – на этот раз ореолом философского глубокомыслия – поэтическую справедливость, в сущности, не только не объясняющую эстетику трагизма, но доводящую трагизм до полного абсурда. Шопенгауэр стоит совершенно в стороне от фальшивого пути, на который встал эстетический идеализм в погоне за Гердеровской «неразрывностью истины, добра и красоты». Толкуя трагизм все-таки с моральной точки зрения, Шопенгауэр видел в нем не справедливость, а, наоборот, «беспредельное страдание, вопль человечества, триумф зла, царство случая и безнадежное падение справедливого и невинного». Трагедия казалась Шопенгауэру таким видом проникновенного образного познания, который обнаруживает несогласие необходимости и долженствования. Шопенгауэру казалось, что трагическое искусство – высший моральный приговор мирозданию; познав его, человеку остается лишь совершенно отрешиться от власти воли, привязывающей его к жизни, чтобы признать, вместе с самим Шопенгауэром, что жизнь есть зло. На диаметрально противоположной точке зрения стоял Гегель; Циглер недавно совершенно верно заметил, что Гегель не только не различал необходимость и долженствование, но даже представлял их себе совершенно тождественными. Считая трагедию высочайшим видом поэтического творчества, обнаруживающим законы мироздания первостепенной важности, Гегель в оценке трагического самым коренным образом расходился с Шопенгауэром. Если Шопенгауэр имел в виду преимущественно Шекспира, то для Гегеля величайшая трагедия – «Антигона» Софокла. В этом произведении изображено «безнадежное падение справедливого и невинного» – и тем не менее Гегель видит здесь «вечную справедливость, которая, как абсолютная сила судьбы, восстановляет главенство нравственной субстанции, пошатнувшееся от столкновения отдельных, ставших самостоятельными нравственных сил». В подобном взгляде, правда, нельзя еще видеть приложение поэтической справедливости. Гегель имеет в виду нечто более глубокое. И Клеон, и Антигона кажутся ему правыми, и оба они наказаны: Антигона – в самой себе, а Клеон – в сыне. Гегель подчеркивает в «Антигоне» лишь столкновение двух одинаково значащих моральных законов: семейного в Антигоне и государственного в Клеоне. Но эта твердая уверенность в главенстве единой нравственной субстанции, сливающейся с судьбой, т. е. с необходимостью, самим своим несколько идиллическим оптимизмом все-таки разрушает весь смысл трагизма и дает повод объяснять его в духе теории поэтической справедливости. Самое уродливое развитие этой теории мы видим именно у гегельянствовавших критиков: Ульрици, Ротшера и даже Гервинуса. Усилия этих критиков были преимущественно направлены на толкование трагедий Шекспира, причем вина была найдена даже за беззащитной Дездемоной, и этим на некоторое время было запутано истинное понимание шекспировских произведений. Теория поэтической справедливости распространилась и вообще на теорию драмы. Морализирующее направление в теории драмы, постепенно вырождаясь, как это часто бывает, привело и к прямо безнравственным требованиям от драматурга. Так, Фрейтаг настаивает на том, чтобы драматический писатель давал удовлетворение зрителю, изображая ему жизнь такой, как хотелось бы самому зрителю. Это уже требование насилия над правдой и потворства общественным предрассудкам. Разрушила теорию поэтической справедливости только новейшая драма, главным образом под влиянием Ибсена, теория которого возвращается к Канту и Шиллеру как кантианцу. Влияние идеалистической Э. далеко пережило влияние самого идеализма. Оно долго сказывалось и не в одной драме. По мере того как устои идеализма в осмыслении художественного творчества забывались, укреплялся тот взгляд, по которому произведение искусства изображает идею в образе; последнее воззрение легло в основу того, что можно было бы назвать эстетическим рационализмом. Такое направление сказывается, например, в «Философии искусства» Тэна. Тэн представляет себе художественное творчество в виде чисто интеллектуального подбора человеческих свойств и столь же интеллектуально понимает и художественное восприятие. Отсюда предпочтение живому индивиду холодного типа, вызвавшее справедливые упреки Золя. Эстетический рационализм, сказывающийся и в нашей теории «обобщения в образе», не вылился, однако, в более или менее законченную эстетическую теорию.
Идеалистическая Э., таким образом, сразу восполнила пробелы формально-сенсуалистической Э. Не только объясненными оказались так называемые моменты красоты, но ясно и просто представилась и сущность эстетической целесообразности без цели. Ее надо видеть либо в чистом познании, либо в высшем нравственном удовлетворении. Однако тут сказывается и опасность идеалистической точки зрения в Э. Действительно, если художник, и более всех других поэт, был поднят до философа, и искусство оказалось как бы в услужении у философии, то форма, этот центр всех стремлений, всей внутренней работы художника, без которой с точки зрения эстетического формализма не может быть и речи о красоте, теперь оказалась какой-то тяготеющей над художником обузой. Краски, линии, освещение – все это только средства, которые надо превозмочь, превзойти, которыми надо достигнуть того, чего нет в природе, т. е. идеи предмета. Здесь сказывается слабость исключительно идеалистического воззрения на искусство. Оно легко может привести к самой антиартистической рассудочности, не понимающей влюбленности в форму и не замечающей, что одухотворенность, например, Гвидо Рени в сущности есть очень часто отрицание искусства. Встав на точку зрения эстетического идеализма, мы должны теперь спросить себя, каким образом достигается чистое познание через посредство образа, что значит особое образное мышление и образное разрешение нравственных задач?
IX. Эмоциональные эстетические теории
Что произведения искусства вызывают известные эмоциональные состояния – радость, грусть, восторг и проч., – это несомненно, особенно если дело идет о музыке и поэзии. Всем памятен рассказ Паоло Римини в «Аду» Данте, о том, какое неотвратимое любовное влечение было для него и для Франчески следствием чтения романа о Ланцелоте. Подобное влияние поэзии и отмечалось часто: юристы неоднократно констатировали пагубное действие криминальных романов, педагоги не без основания следят за чтением своих воспитанников. Аристотелевская «Поэтика» положила начало признанию, что трагедия вызывает ужас и сострадание. Но Э. касалась лишь отрицательно подобного значения искусства: она считала его антиэстетическим. Искусство – прежде всего фикция, образ: оно отнюдь не должно оказывать непосредственного воздействия. Сам Аристотель именно для того и ввел понятие о катарсисе, чтобы оттенить различие истинных и изображаемых страстей. Во Франции Жуффруа, Сюлли-Прюдом, Гюйо обратили внимание на эти общеизвестные факты и привлекли их к эстетическому осмыслению. Особое значение было приписано при этом симпатии. В ней увидели основание эстетического наслаждения. Гюйо должен быть признан основателем эмоциональной теории в Э., получающей все большее значение в развитии нашей науки. Через Гюйо эмоциональная точка зрения самым тесным образом связана с временной теорией Э. Симпатия, как основа эстетического сознания, привела Гюйо к формулировке такого чисто реалистического требования от искусства, которое, хотя и высказывалось критиками, никогда не было объяснено как необходимый вывод из какого-нибудь основного эстетического принципа. «Назначение искусства, – говорит Гюйо, – вызывать симпатические эмоции; вследствие этого оно должно изображать не объекты чистых ощущений или мыслей при помощи каких-нибудь условных знаков, а предметы, могущие возбудить сочувствие, живые существа, с которыми мы могли бы войти в общение… Первое условие для возникновения симпатии к какой-либо личности заключается в том, чтобы она представлялась живой». Тут в эстетический закон вводится такое условие художественного восприятия, которое прямо требует возможно близкого к действительности воспроизведения. Знаменитое определение Л. Толстого относится именно к этому направлению в нашей науке. Это определение почти слово в слово повторяет и гельсингфорский профессор Ирьо Хирн: «Произведение искусства, – пишет он, – представляет собой одно из наиболее действительных средств общения индивида с ему подобными, при помощи которого он может привести в испытываемое им состояние эмоционального возбуждения все большие и большие круги симпатизирующих». Теория симпатии оказывается гораздо более подходящей для понимания психологии эстетического сознания, чем ранее выдвигаемые психологами простые чувства. Чувства – говорят Липпс и Гроос – дают нам лишь самые бедные и жалкие эстетические впечатления; напротив, перенеся интерес на эмоции, мы получим представление о сочувственном или симпатическом переживании (das Miterleben), которое, с одной стороны, объясняет более сложные и совершенные эстетические наслаждения, а с другой – вполне гармонирует с теорией творческого восприятия видимости. Сущность художественного наслаждения заключается во внутреннем подражании; вызвать это внутреннее подражание и есть задача, которую ставит себе художник. В искусстве не так важны, поэтому, прямые восприятия, как воспроизводящие и ассоциативные факторы.
При такой постановке вопроса не только раз и навсегда превзойденным оказывается старый кантовский формализм, с его теорией чистой формы или свободной красоты, но интерес наш заходит и за пределы, поставленные представлением о целесообразности без цели. Чтобы исчерпать все огромное богатство эстетического сознания, эмоциональная теория старается дознаться не того, что воспринимается, а как воспринимается и воспроизводится. Отсюда ясно, насколько эмоциональная Э. близка к Э. идеалистической. Воспринявшие точку зрения Гюйо – Липпс, Гроос, Хирн, – правда, еще как будто не чувствуют, насколько они отдалились от Э. формально-сенсуалистической. Они еще называют искусство игрой внутреннего подражания и основную цель его видят в удовольствии, доставляющем отдохновение от жизненной страды. Целесообразность без цели для них имеет еще строго кантовское значение, без введения в нее идеалистической теории гения. Однако сам Гюйо, основатель этого направления, стоит уже одной ногой в чистейшем гегельянстве. Идеалистический характер носят особенно те главы его «Искусства с социологической точки зрения», в которых он разбирает современных поэтов. Чем более противополагает себя эмоционализм рационализму, тем более он оттеняет живое и важное в идеализме. Пшибышевский в короткой, но меткой статье об искусстве говорит, что оно должно идти «дорогой души», а не «дорогой мозга», как этого хотел Тэн. Он, очевидно, разумеет здесь то же, что выразил Гюйо, когда писал: «Преимущество искусства заключается именно в том, что оно ничего не показывает и не доказывает и тем не менее вводит в наше сознание нечто неотвратимое». Роль в искусстве внушения или суггестивизма, впервые указанная в книгах Бергсона и Cypиo, в настоящее время может считаться уже общепризнанной. Рибо отводит ей место в своей «Психологии чувств», да и вообще на каждом шагу попадаются ссылки на эту особенность художественного восприятия. Нормальное внушение всегда бывает лишь косвенным – и вот примерами подобного внушения и изобилует поэзия. С тех пор как психология разработала факты подсознательной психической жизни, объяснилось многое в сокровенных и давно испытанных приемах искусства. Внушением объясняется сочувствие не верующего в сверхъестественное зрителя такой сцене, как появление тени отца Гамлета или явление царевича Дмитрия Борису Годунову в драме Алексея Толстого. Внушением и его особенной силой объясняется и значение стихотворной и вообще ритмической речи. Эмоциональная Э. обнаружила, таким образом, ту силу искусства, которая и прежде чувствовалась и превозносилась, но объяснения которой не могли дать, например, какие-нибудь наблюдения над чувственно-приятным, при всей их точности. Эту силу поэзии метко и зло охарактеризовал Ницше, когда он назвал поклонников поэзии «дураками ритма». Ритм именно одурачивает нас; он заставляет нас испытывать ненужные нам эмоции и верить в то, что мы отрицаем всей силой нашей убежденности. Такая власть искусства заставляет в высшей степени серьезно отнестись к тому, что же оно внушает. Тут, естественно, и возникает вопрос о том, дурачат ли нас только для потехи эти кудесники ритма – художники, или же они – мудрецы и наставники. Ницше, разочаровавшийся в Вагнере и Шопенгауэре, ответил на это презрительным замечанием, что художник владеет только средствами выражения и заимствует мысли «у нас, знающих», т. е. у философов. На самом деле, однако, художник в сфере отвлеченного мышления может, так сказать, превзойти самого себя. Не имеем ли мы здесь дело с бессознательной, по Фихте, проникновенностью гения-художника, заставлявшей Шопенгауэра приписывать ему чистое познание, а Гегеля – ставить поэта чуть ли не выше философа? Теория суггестивизма как будто бросает луч света на эту загадку, заданную впервые Шеллингом и позже столько раз повторенную очень часто даже ради простой риторики. Может быть, эту таинственную познавательную способность гения лучше всего определил Кант, когда охарактеризовал эстетическую идею как «такое представление воображения, которое дает повод много думать, хотя никакое понятие не может быть ему вполне адекватным, и, следовательно, никакой язык не в состоянии его выразить во всей полноте и совершенно ясно». Художник, мысля смутно или, вернее, полубессознательно предчувствуя, куда ведет его известная мысль, хотя бы он либо не хотел, либо не мог проследить ее до конца, именно путем особенных способов художественного внушения и суггестивизма как бы пускает ее в оборот. Современный символизм дает ему в руки сильное оружие, вместе с ритмом способное возбудить наши эмоциональные силы настолько, что и мы как бы превзойдем себя.
Рассмотрение эмоционального значения искусства помогло нам ответить на вопрос о том, что такое «мышление образом» и «познание в образе», о которых говорит идеалистическая Э. начала ХХ века. Образ или художественная видимость оказались имеющими идейно-эмоциональное значение. Это и есть та «resplendentia formae», о которой говорил еще Фома Аквинский и которую художественно осуществил Данте. Теперь мы естественно пришли как бы к синтезу идеалистической и формальной точек зрения. Этот долго не дававшийся нашей науке синтез и есть ее главнейшее современное приобретение. Первым его праздновал Ницше в своей книге о происхождении трагедии. Следует заметить еще, что интенсивное созерцание возможно либо при сильном возбуждении, либо при напряженном спокойствии. Рядом с трагическим и комическим существует еще особое напряженное состояние покоя, именно этим покоем способствующее известному эмоциональному волнению. Такую психическую деятельность мы называем обыкновенно чистым созерцанием красоты.
X. Художественное творчество
Стоя, как это теперь считается необходимым, на психологической точке зрения, мы должны были бы определить то неуловимое душевное состояние, которое зовется вдохновением. Для этого нам пришлось бы рассмотреть порознь отношение художника к различным искусствам; а это, в свою очередь, привело бы нас к вопросу о системе искусств, т. е. о том, чем представляется современное художественное творчество, взятое в целом. Слабую попытку решения первой задачи мы находим в Э. Гартмана, а второй – в сочинении Авта. Но ни то ни другое в сущности еще неосуществимо; можно только указать на главнейшие этапы, через которые прошло художественное творчество в своем эволюционном развитии. Первобытное искусство распадается на два больших отдела: с одной стороны, песня-пляска – зародыш музыки, поэзии, танцев и мимики; с другой стороны – татуировка и прочее убранство своего тела, своего жилища и предметов употребления – зародыш архитектуры, зодчества и живописи. Еще недавно первый отдел искусств толковался как искомая игра, основание художества, а второй представлялся лишь отвечающим потребности к украшению, поддерживаемой стремлением к знакам отличия общественного или полового характера. Целый ряд последующих работ в этой области – Гроссе, Стольпе, Рида, Грооса, Бюхера, Хирна, а также автора настоящей статьи (о весенних песнях европейских народов) – показал воочию, что игры тут почти не доискаться. Социологи высказывали не раз удивление, каким образом игра может быть основой искусства, без того чтобы народы, с увлечением отдающиеся художествам, не стали страдать несогласуемой с борьбой за существование расслабленностью и таким образом не исчезли вместе со своим искусством. Принимая это возражение, Гроссе указал на социальное значение искусства-игры как источника солидарности между членами общины или племени. Это как бы первая брешь в теорию игры; за ней последовали и другие. Гроос, когда-то более других увлеченный теорией игры, показал, что сами игры – упражнение, a вовсе не разрядка свободных сил. Если песня-пляска воспроизводит работу, охоту, рыбную ловлю, войну или любовные искания, то она этим скорее приучает, чем подражает. Еще гораздо дальше пошел Бюхнер, показав, что песня-пляска выработалась из работы, была рабочей песней и у работы заимствовала даже свой ритм. Столь же непосредственно возникшей, как и рабочая песня, оказалась и песня-заклинание, т. е. магическая песня, например шаманская при исцелении болезней или обрядовая перед началом охоты, войны, рыбной ловли, сельскохозяйственных работ. Первобытная песня-пляска есть, таким образом, необходимый, инстинктивно найденный способ ритмического возбуждения и заклинания, т. е. воздействия как на человека, так и на саму природу. По словам Ницше, «ничего более полезного, чем ритм, не могло быть для первобытного человека», потому что «без ритма человек был ничто, а с ритмом он становился почти богом». Такое понимание первобытной музыки и поэзии подтверждают и работы Стольпе и Рида, показавшие, что магическое значение имеют и первобытные украшения, также стремящиеся увеличить силы и уберечь от опасностей. Вестермарк показал в своей «Истории брака», что одежда первоначально имела в виду не что иное, как возбуждение любовной страсти. Что воинское убранство преследует цели возбуждения страха в одних, ярости и отваги у других – это бросается в глаза при посещении любого этнографического музея. Ирьо Хирн, прекрасно сгруппировавший подобные факты, говорит, что основная дилемма при изучении эволюции искусства сводится теперь к тому, что на первых ступенях своего развития художественное творчество отвечает исключительно жизненным целям, т. е. вполне целесообразно с точки зрения первобытного мировоззрения, а позднее оно становится какой-то особой целью в себе или бесцельной целесообразностью. Эта дилемма не может быть разрешена умозрительно; на нее надо смотреть как на закон эволюции художественной деятельности человека, соответствующий афоризму Спенсера, что полезное переходит в красивое или, как скажем мы, полезное, утрачивая свою целесообразность, приобретает новую особую целесообразность без цели, т. е. эстетическую ценность. Через нечто подобное несомненно прошло искусство. Вначале оно – homo additus naturae в самом широком смысле, т. е. распространение человеческого «я» на «не-я» ради удовлетворения определенных потребностей. Первобытное художественное искусство, поэтому, нельзя отделить от искусства вообще. Как метко выразился недавно профессор Мечников, оно создает новые формы. Позже эти новые формы, более ненужные, тем не менее продолжают существовать, воспитывая в человеке особую, совершенно новую потребность – наслаждение видимостью и расширение сознания при помощи эмоционально-интеллектуального возбуждения. Когда же и при каких условиях происходит этот перебой в искусстве? В своей книге о весенних песнях автор настоящей статьи старался показать, что это совершается на почве праздников. В праздничном обиходе, как в фокусе, сосредоточивается целиком все первобытное искусство. Тут место и песне-пляске, и убранству, тут кроме песни-заклинания таким же сакральным действом становятся все остальные формы поэтического творчества; все они воспроизводят, подражают, совершают не самое действие, а лишь его подобие. Военная, любовная, рабочая, охотничья или иная песня-пляска – все это становится уже не действием, а действом. С этим первым переходом из действия в действо сопряжен целый ряд в высшей степени важных моментов. Прежде всего в праздничном экстазе впервые возникает художественная видимость. На празднестве происходит дифференциация между исполнителями и публикой (например, в древней Греции отделение хора от зрителей самым устройством театра); зритель приобщается к эмоциональному возбуждению лишь через посредство изображаемого, и это изображаемое требует развития и распространения. Зрителю надо объяснить, воспроизвести, рассказать (например, на празднике в Ронсевальском монастыре – подвиги Роланда, людям, шедшим поклониться Иакову Компостельскому). Лирико-эпический замысел становится чисто эпическим. Развитие художественной видимости объясняется и культом праздников; первобытный человек вообще менее занят и празднует ежедневно, как это часто отмечают путешественники. Художественное творчество стремится всецело захватить внимание. Чем более превращается празднество из обрядового акта, непосредственно отвечающего жизненным потребностям, в ритуал культа, только по традиции сохраняющий обрядовое действо, тем более усиливается значение именно видимости, именно воспроизведения. На почве празднества совершается и другой существенно важный момент: выделение художника, актера, певца, поэта. Оно следует непосредственно за дифференциацией зрителей и хора, а может быть, даже и предшествует ей. Происходит подбор наиболее способных. На это указывают те призы за художественное творчество, о которых мы слышим и на Олимпийских играх, и на состязаниях тенцонами между средневековыми поэтами. Появление художника, актера-поэта есть последний этап выделения видимости и создания особой художественной потребности. Для праздничного человека художественная выразительность становится уже единственной целью жизни. Как средневековые поэты, он живет от праздника до праздника и к нему готовит новые произведения, ищущие более сильного выражения видимости. Пока искусство развивается на почве праздников, оно находится еще в тесном взаимодействии с религией и таким образом не составляет цели в себе. Только отделившись от религии, оно становится самодовлеющим. Разрыв искусства с религией сопряжен, однако, с тяжким кризисом его. В этом отношении книга Толстого «Что такое искусство» отправляется от совершенно правильной постановки вопроса. Оторвавшись от религиозного сознания, художественная деятельность долго и тревожно мятется, пока не обретает вновь того утраченного ей смысла, который делал ее родственным религии. Смысл этот коренится в эмоционально-идеалистическом значении восприятия и создания видимости. Кризис оторванности от религии искусство переживает опять-таки на почве того же культа праздников. Религиозное сознание обыкновенно перерастает свой древний ритуал, не соответствующий более его содержанию. Празднества спускаются на уровень переживания и смысл их почти вовсе забывается. Еще резче совершается это самозабвение празднества, когда новые формы религиозного сознания не возникают органически из старых, а приходят со стороны, путем распространения чужеземного учения. Тогда – как это случилось в первые века христианства, а через 1500 лет и в пуританский период английской истории – старые празднества подвергаются гонениям; искусство должно найти себе новое осмысление, либо совсем самостоятельно, либо в связи с новыми верованиями. Дифференциация искусства и религии, может быть, впервые имела место в древней Греции, когда Аристотель объяснил значение трагедии помимо ее отношения к культу Диониса, а Платон изгонял ее из своей республики, основанной на восточном идеализме, а не на олимпийских верованиях. Средневековое искусство уже не имело ничего общего с религией; поэт уже стал скоморохом, истинно праздничным человеком, не только ненужным – кроме тех случаев, когда церковь вздумает им воспользоваться, – но и прямо вредным. Тут особенно настоятельно праздничному человеку надо было осмыслить самого себя. Надо было осмыслить искусство и светскому люду, влюбленному в зрелища. Искусство и тут не стало игрой; художник смутно чувствовал, что если его дело превратится в игру, ему нет уважения в настоящем и развития в будущем. Не бесцельным должно было остаться искусство, а приобрести утраченную целесообразность. Игра также выделилась из забытого ритуала и переживала, идя прямо к исчезновению, как, например, какие-нибудь похороны Костромы, когда-то полные смысла, а теперь ставшие детской забавой. Искусство не осталось также одним только наслаждением видимостью, упоением выхода из жизни в золотой мир красоты. Эта бесцельная целесообразность не спасла бы искусства. Даже искусство-утешение, искусство, приводящее в сильнейшее эмоциональное возбуждение и тем самым дающее, как реакцию, душевное спокойствие, не могло бы расти и крепнуть, захватывая все шире и глубже. Такое утешение дает народная песня, а разве не вымерла она почти бесследно на Западе, не вымирает быстро у нас? Какое значение имеет для искусства стремление художников как-нибудь вновь приблизиться к заветному божественному своему назначению – это видно на судьбе средневековой лирической поэзии. Пока она признавала себя лишь «веселой наукой», она вырождалась в немецком мейстерзанге и в тулузских «jeux floraux»; поскольку она создала идеал куртуазности и любви, она была предтечей Петрарки и Данте. Позже, в Возрождение и в классическую пору, поэты также продолжают стремиться к самосознанию, отвечая «Защитами поэзии» на нападки то католичества, то пуританства, но долго не идут дальше горациевского соединения приятного с полезным. Вновь подходит к дантовскому пониманию разве один Мильтон, и своим «Потерянным Раем», и своей «Ареопагитикой». Эта борьба искусства за свое самоопределение, за истинное понимание выражается и трагически в судьбе Тассо, Камоэнса, Роберта Грина, молодого Шиллера. Художникам не сразу, а только упорной и трудной работой поэтического проникновения удается провести в жизнь созданную их смутным предвидением свою собственную целесообразность без цели. Эстетическое воспитание человечества стоило множества усилий и не может считаться достигнутым и до сих пор. Вполне оно, конечно, и не закончится никогда, пока будут нарождаться гении, создатели новых «эстетических идей». Гюйо совершенно справедливо назвал гения создателем общественной среды. Ничего не может быть неправильнее, как считать его лишь ее выразителем. Выражает среду лишь упадочный художник, бьющий на вкус публики, доставляющий ей удовольствие и в этом ненастоящем искусстве видящий свое назначение. Истинный гений всегда творит новую эстетическую ценность, новое возбуждение смутного мышления. Шекспир, конечно, знал, что те prentices, которые будут шуметь в партере, и та разодетая знать, которая развалится на сцене, будут только хохотать над сценами безумия Гамлета; но это не мешало ему углублять своего любимого героя, работать не для людей своего времени. Вдохновение истинного гения есть всегда прозрение, чистое познание. Такой же кризис пережили, а в значительной степени переживают еще и до сих пор архитектура, живопись и скульптура. Если не принимать в соображение движения иконоборства, лишь временного и скоро пережитого, трепетное искание самосознания началось в этой сфере искусства лишь значительно позднее. Христианство привело к уничтожению многих памятников старого языческого мастерства, к гибели многих храмов и множества созданий скульптуры; тем не менее оно не только не внесло разложения в жизнь художества, но очень рано вдохнуло в него новую жизнь. Новая вера потребовала нового искусства. С IV в. после Р. Х., когда возникла Святая София, начинается одно из самых блестящих тысячелетий архитектуры, идущее до построения храма святого Петра в Риме. Символическая живопись и символическое зодчество развиваются с новой силой, первая на Востоке, второе на Западе, украшая и храмы, и частные дома. Когда на рубеже Возрождения художники вновь заглядываются на создания греческого зодчества и идут на выучку к его неизвестным и долго остававшимся забытыми творцам, искусство, в своем новом экстатическом увлечении, становится еще совершеннее. В Донателло, Джотто и Фра-Анжелико, Перуджино, Фра Филиппо Липпи и Боттичелли оно достигает того же проникновенного самосознания, какое празднует поэзия в лице Данте. После того как Гёте заставил понять прелесть и совершенство готики, Вакенродер и Тик останавливаются в восторженном преклонении перед Альбрехтом Дюрером и Лукой Кранахом, а старых мастеров Италии еще полнее оценивают и красноречивее прославляют Рёскин и члены прерафаэлитского братства. С другой стороны, уже в эпоху Возрождения начинается утрата целостного самосознания и долгие, часто неумелые искания нового смысла искусства. Они проявляются то в раздумье художника-ученого Леонардо да Винчи, то в увлеченном мощностью форм Микеланджело, то в законченности Рафаэля, то в восторге красок у венецианцев, то в своеобразном реализме фламандцев, то во вдумчивости Рембрандта, то в импрессионизме Веласкеса и Риберы. Рисунок и краска, с одной стороны, содержание, понимаемое уже чуть ли не как басня у какого-нибудь Грёза – с другой: вот как представляется дилемма целесообразности и бесцельности в живописи. В XIX в. широкая публика склонна смотреть на живопись и на скульптуру именно как на способ выражения известного содержания, занимательного и интересного; художники, напротив, воспитывают публику в оценке создаваемых ими форм видимости. Осуществляя синтез целесообразности и бесцельности, они стремятся для самих себя осмыслить прежде всего свои средства, т. е. краски и рисунок. Как реалисты, все более отдаляясь от учения Давида и Энгра о законченности рисунка и продолжая дело Делакруа, они все силы свои сосредоточивают на освещении и красках, почерпаемых их воображением в природе. Самосознание бесцельной целесообразности художественной видимости проявляется в принципах: «пейзаж – это состояние души» и «сущность художества в настроении», сопутствующих образованию эмоциональной Э. Что в конце истекшего века роковой кризис утратившего свой заветный смысл искусства оказывается пережитым и новый смысл довольно ясно сознается самими художниками – это выразилось особенно характерно в том неожиданном направлении, какое приняло зодчество в Родене и молодом Бегасе. Среди указанных перипетий художественного творчества в нем произошел и происходит еще один важный процесс, последствия и эволюционный смысл которого еще не поддаются определению. Процесс этот – дифференциация и интеграция искусств – должен вызвать их совершенно новую классификацию. При возникновении нашей науки перед ней стояли уже вполне самостоятельные искусства: читаемая поэзия, живопись на полотне, а не фрески, связанные с строением, инструментальная музыка и пение, даже в опере независимое от текста, чистое, не принимающее красок зодчество, архитектура, не заботящаяся вовсе об убранстве, танцы, считающие для себя унизительной мимику, целиком отданную специальному и только комическому миму. При характеристике художественного восприятия со времени Лессинговского «Лаокоона», ополчившегося на «ut pictura poesis» Горация, обращалось внимание на средства выражения, соответствующие каждому искусству порознь. Еще недавно Гроос и Фолькельт отозвались отрицательно о раскрашивании статуй, хотя и античная, и средневековая (деревянная) скульптура не обходились без красок. Этому вторят как будто и все усиливающиеся требования техники, делающие специализацию художников, по-видимому, неизбежной. Однако уже Новалису мерещилась хорошо знакомая артисту-монаху золотой поры византийского искусства и понятная только первобытному художнику прелесть сочетания искусств. Во второй половине XIX в. мы совершенно неожиданно видим вновь появление поэта-музыканта, в лице Вагнера, и присутствуем в театре при замене условной бутафории истинным художеством в декорациях и в убранстве; работая вместе, В. Моррис и Бёрн Джонс сочетают, чего не было уже столько веков, декоративность и живопись. Моррис смотрит на живопись и скульптуру как архитектор; живопись для него – не самостоятельный способ воспроизведения, а лишь особая отделка, причем, например, на крашенных стеклах и краска, и рисунок должны зависеть не только от материала и формы, вмещающей рисунок, но и еще от практического назначения украшаемого предмета (окна, двери) и самого здания. Вновь возникает интерес к низшим прикладным искусствам (lesser arts). Сочетания музыки и поэзии, краски и чистой формы, поэзии и живописи – все это еще не изменяет установленного осмысления эстетической целесообразности без цели; но затем искусство вновь становится украшением жилища и предметов употребления. Моррис начинает задумываться и об эстетизме носильного платья, и даже о возрождении поваренного искусства, чтобы и его из ремесла превратить в своего рода художественное творчество. Вызывая из забвения Э. каждодневности, ежечасную праздничность, основанную на убранстве, Моррис мечтал и о праздничности самого труда, свойственной отдаленным и, казалось, навеки исчезнувшим временам. Когда-нибудь обладатель орудий производства должен вновь захотеть взяться за тот труд, к которому он теперь принуждает тех, кто не обладает ничем, кроме своих рук. Рядом с ним в том же восхищении должен начать работать увлеченный эстетикой работы и теперешний подневольный рабочий. Так сочетался у Морриса фурьеризм с художественными исканиями. Спорным остается вопрос, возможно ли такое благодетельное вторжение художества в давнюю распрю производства и обладания?
Рядом с вдохновением – психическим основанием художества – существует инстинктивное побуждение к творчеству (Kunsttrieb, art-impulse). Сила его непреоборима. Путешественники заметили, что первобытный человек, совершенно неспособный к работе по принуждению, даже когда она составляет его благо, до изнеможения готов трудиться, когда это праздничный труд художества. Психологически это совершенно то же явление, как и усидчивость современного художника, очень часто не имеющая ничего общего с достижением какого-либо блага. Художник творит, несомненно, прежде всего для себя; чем дальше момент выделения поэта-художника-актера от народного певца-артиста, тем более индивидуализируется художник. Что его работа доставляет ему самому одно из высших наслаждений, какое знает человечество, – это теперь установленная истина. Это наслаждение – не простое удовольствие напряжения здоровых сил; ведь напряжение художника может быть сопряжено с болезненными явлениями, помимо простого переутомления. Наслаждение может быть сопряжено и со страданием. На этом положении построена переоценка жизненных ценностей, покончившая с гедонизмом и утилитаризмом. Если основной ценностью мы признаем, вместе с Гюйо и Ницше, этими союзниками-антиподами, самую жизнь, воздавая этим честь и Чернышевскому, мы, кажется, получим разгадку. Искусство есть высшее возбуждение жизненной энергии; эстетическое восприятие есть высшее возбуждение духовных сил, при напряженном волнении или напряженном спокойствии. Психология его не может быть тождественной с психологией творчества. Не дает ли это нам право формулировать сущность художественного творчества в следующих выражениях: художественное творчество есть деятельность, вызываемая присущей теперь лишь немногим, но некогда больше распространенной, инстинктивной потребностью выразить возникшую при сильнейшем умственно-эмоциональном возбуждении внутреннюю видимость, с тем чтобы она, в свою очередь, произвела то же или схожее впечатление и на других людей. При этом находящийся в состоянии творчества человек так же, как и воспринимающий его создание, испытывает сильнейшее наслаждение от этого возбуждения или, что то же, расширение своих духовных сил и способностей. Это наслаждение и есть искомая целесообразность без цели, примиряющая с жизненной страдой и способствующая лучшему развитию жизни в будущем.
Литература
Gayley и Scot, «A Guide to the Literature of Aesthetics» (1891); E. Zimmermann, «Geschichte der Aesth.» (В., 1858); Schasler, «Kritische Geschichte der Aesth.» (1872); W. Knight, «The Philosophy of the Beautiful» (Л., 1891); B. Bosanquet, «A History of Aesth.» (Л., 1892); E. v. Hartmann, «Die deutsche Aesth. seit Kant.» (Лейпциг). Остальные сочинения указаны сообразно отделам очерка. Переведенные по-русски в подлинниках не указаны.
I. О первобытном искусстве см. в отделе X. Платон, «Сочинения» (перевод профессора Карпова, СПб., 1863); Аристотель, «Об искусстве поэзии» (перевод Аппельрода, М., 1893); E. Müller, «Gesch. der Theorie d. Kunst bei den Alten» (1834); A. Ruge, «Die Platonische Aesth.» (1832); Bernays, «Zwei Abhandlungen über die Aristotelische Theorie des Dramas» (1857 и 1880); Berger, в «A.'s Pœtik uebers. v. Gomperz» (Лейпциг, 1897); A. Biese, «Die Entwickelung des Naturgefühls bei den Griechen und Römern» (Киль, 1882-84); Longinus (английский перевод, с предисловием Ланга, Лондон, 1890).
II.Abbé Р. Vallet, «L'Idée du Beau dans la philosophie de St. Thomas d'Aquin» (П., 1883); Paten, «Renaissance, Studies in Art a. Poetry» (Л., 1877; см. также «I trecentesti», серия изд. во Флоренции, 1890). О Рёскине и Моррисе см. отд. X. Leon Battista Alberti, «De pictura», «De reeedificatoria» и Leonardo da Vinci, «Trattato della Pittura», оба в «Quellenschriften», изд. Edelburg (B., 1877, т. XI); Philip Sidney, «Defense of Poesy» (в «Cassel's Libr.»); Ф. Д. Батюшков, «Гомеровский вопрос» («Сборник в честь И. Помяловского», СПб.); Wölflin, «Renaissance und Barock» (1888); Кранц, «Эстетика Декарта» (СПб., 1903; французское изд., 1882).
III. H. v. Stein, «Die Entstehung der neueren Aesth.» (1886); Lotze, «Geschichte der Aesth. in Deutschland» (1868); Baumgarten, «Aesthetica» (Франкфурт-на-Одере, 1750–1758); Eberhard, «Theorie der sch. Wissenschaft» (1786); его же, «Handbuch der Aesth.» (1803–1805); Sulzer, «Theorie der sch. Künste» (1771); Mendelssohn, «Sämmtl. Werke» (I); H. Home, «Elements of criticism» (1762); E. Burke, «Essay on the sublime a. beautiful» (1756; новое изд., Л., 1889); Hume, «Of the standart of taste» («Essays», 1757); Shaftesbury, «Characteristics» (5 изд., 1732); И. Кант, «Критика чистого разума» (перевод Н. Соколова, СПб., 1898); Шиллер, «Сочинения», изд. под ред. С. Венгерова; там же предисловие Э. Радлова (СПб., 1901); Cohen, «Kant's Begründung der Aesth.» (Марбург, 1889); Basch, «L'esthétique de Kant» (П., 1899); его же, «L'esthétique de Schiller» (П., 1901); Zimmermann, «Versuch einer Schillerschen Aesth.» (1889); Bode, «Gö the's Aesth.» (1900); сюда относится последователь Шиллера W. v. Humboldt, «Aesth. Versuche» («S ämmtl. W.», IV).
IV. Herbart, «Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie» (1813 и сл.); Oersted, «Naturlehre des Schönen» (перевод с датского, Гамбург, 1852); Zeising, «Neue Proportionslehre des menschl. K ö rpers» (1852); его же, «Aesthetische Forschungen» (1855); Zimmermann, «Allgemeine Aesthetik als Formwissenschaft» (1865); K östlin, «Aesthetik» (1869); Siebeck, «Das Wesen der ästh. Anschauung» (1875); Lazarus, «Das Leben der Seele» (3 изд., 1883); Lotze, «Microcosmus» (1876); Fechner, «Vorschule der Aesthet.» (1876); Helmholtz, «Die Lehre von der Tonempfindungen» (1863); Вундт, «Психология»; Stumpf, «Tonpsychologie» (2 т., 1890); Герберт Спенсер, «Основание психологии» и особенно «Научные, политические и философские опыты» (СПб., 1866); James Sully, «Sensations a. Intuition» (1874; см. также его статью «Aesthetics» в «Encycl. Brit.»); Grant Allen, «Physiological Aesth.» (1877); его же, «The Color sense» (1879); Henry E. Marschal, «Pain, Pleasure a. Aesth.» (1894); его же, «Aesth. Principles» (1895); сюда же относится целый ряд самостоятельных русских исследований: Ю. Ф. В., «Золотое деление» (М., 1876); Оболенский, «Физиологическое объяснение некоторых элементов красоты» (СПб., 1878); Вилямович, «Психофизиологические основания эстетики» (СПб., 1879); А. Смирнов, «Эстетика как наука о прекрасном в природе и искусстве» (Казань, 1894–1900); Саккетти, «Из области эстетики и музыки» (СПб., 1896); его же, «Задачи эстетики» («Вестник Европы», 1894, февраль); Сыркин, «Пластические искусства» (СПб., 1900).
V и VI. Тэн, «Чтения об искусстве» (перевод Н. Чудинова, 4-е изд., СПб., 1896); Zola, «Le roman expérimental» (1822) и о его художественной теории E. Аничков, «Э. Золя» («Мир Божий», 1903); Flaubert, «Correspondence»; Чернышевский, «Эстетические отношения искусства к действительности» (СПб., 1856; «Эстетика и поэзия», 1895); Гюйо, «Задачи современной Э. и искусство с социологической точки зрения» (из «Знания», 1 900-1901); Гроос, «Введение в Э.» (Киев-Харьков, 1899); его же, «Der æ sth. Genuss» (Гиссен, 1902); Lipps, «Aesth. Einfühlung» («Ztschr. f. Psych u. Phys. d. Sinnesorg.», XXII).
VII. Фолькельт, «Э. трагизма» (1897; перевод с немецкого в «Педагогическом Сборнике», 1899); Бергсон, «Смех в жизни и на сцене» (перевод с французского, СПб., 1900); E. Аничков, «Э. трагизма» («Научное Обозрение», 1902, декабрь); Jean-Paul Richter, «Vorschule der Aesth.» (1803); Hecker, «Die Phys. und Psych. des Lachens und Komischen» (Б., 1873); Bahnsen, «Das Tragische als Weltgesetz und das Komische als aesth. Gestalt des Metaphysischen» (Лауенбург, 1877); Lazarus, «Das Leben der Seele» (см. отд. IV); Michaels, «Le monde du comique et du rire» (1886); Duboc, «Die Tragik vom Standp. des Optimismus» (1886); K. Fischer «Ueber den Witz» (1888); Müller, «Das Wesen des Humors» (1896); Backhaus, «Das Wesen des Humors» (1894); Heinzel «Beschreib. des geistl. Schauspiels im d. Mittelalter»; Lipps, «Der Streit über die Tragödie u. Komik und Humor» («Beiträ ge z. Aesth.», Гамбург, 1896–1898); Ziegler, «Zur Metaphysik des Tragischen» (1902); Шерер – см. отд. X; Robert Vischer, «Ueber das optische Forgmefühl» (1873).
VIII. Schelling, «Werke» (III, V и VII тома); Шопенгауэр, «Мир как воля и представление» (перевод Айхенвальда, М., 1900-01); Гегель, «Курс Э. или науки изящного» (изд. 2, 1869, перевод с немецкого); об отношениях идеал. Э. и романтизма см. Гайм, «Романтическая школа»; Solger, «Erwin, vier Gesprächeüber das Schöne» (Б., 1815); его же, «Vorlesungenüber Aesth.» (Лейпциг, 1829); Krause, «Abriss der Aesth.» (1837); его же, «Vorlesungen über Aesth.» (1882); Weisse, «System der Aesth. als Wissenschaft von der Idee des Schönen» (1830 и 1872); Лотце – см. отд. IV; Tarnhoff, «Aesth.» (Берлин, 1827); Schleier macher, «Vorlesungen über Aesth.» (1842); Th. Vischer, «Aesth. oder Wissenschaft des Schö nen» (1846–1851); его же, «Aesth.» (1882); Rosenkranz, «Aesth. des Hässlichen» (1853); Каррьер, «Искусство в связи с культурно-историческим развитием» (1-е немецкое издание, 1859; 4-е изд., 1885; русский перевод, Москва, 1890–1895); V. Cousin, «Le beau, le vrai et le bien» (1820 и сл.); Фолькельт, «Современные вопросы Э.» (СПб., 1899; остальные сочинения того же автора см. русское пред.); о гегельянской критике, преимущественно Шекспира, см. у Н. Стороженко, «Статьи и исследования» (М., 1902).
IX. Jouffroy, «Cours d'Esth.» (1875); Vé ron, «L'esth.» (1878); Sully Prudhomme, «De l'expression dans les beaux arts» (1889); Гюйо и Гроос – см. отд. V и VI; Липпс – см. отд. VII и его же, «Raum æsth. und geometrisch-optische Täuschungen» (1897, «Schriften der Ges. f. ps. Vorsch.», II); H. Bergson, «Essai sur les données immédiates de la conscience» (1889); Souriau, «La suggestion dans l'art» (1893); Рибо, «Психология чувств»; Ницше, «Происхождение трагедии» (2-е изд., 1903); «Веселая наука» (русский перевод, Москва, 1901); Ziesing, «Die Aesth. k Nietszches» (1902); Лев Толстой, «Что такое искусство» (Москва, 1899; см. рецензии Ф. Батюшкова в «Вопросах Философии и Психологии» и Н. Михайловского в «Русском Богатстве»).
X. Hartmann, «Aesth. Werke» (IV т.); Alt, «System der Künste» (1889); Scherer, «Poetik» (Б., 1888); Grosse, «Die Anfänge der Kunst» (1894); Groos, «Die Spiele der Tiere» и «Die Spiele des Menschen» (1899); Бюхер, «Работа и Ритм» (русский перевод с 1-го изд., СПб., 1899; 2-ое немецкое значительно расширенное изд., 1899); E. Аничков, «Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян» (СПб., 1903, изд. академии наук, I ч.; II ч. печатается там же); Stolpe, «Utvecklingsföreteelser i naturfolkens ornamentik» (1890–1891); его же, «Ueber die Tätowirung» («Abh. des Museum zu Dresden», 1899); Read, «On the origine and sacred character of certain Ornaments of the S. E. Pacific» («Journal of the Antrop. Inst.», XXI); Y. Hirn, «The origins of art» (Л., 1900); Рескин, «Лекции об искусстве» (1870; перевод П. Кагана, М., 1900), его же, «Современные художники» (М., 1901); о нем см. Milsand, «R.» (П., 1869); Сизеран, «Английская эстетика» (русский перевод, СПб.) и особенно «R.'s art teaching» (1892); В. Моррис, «Лекции об искусстве» (перевод с предисловием Е. Дегена, СПб., 1903, «Знание»); Е. Деген, «Всенародное искусство» («Мир Божий», 1904).

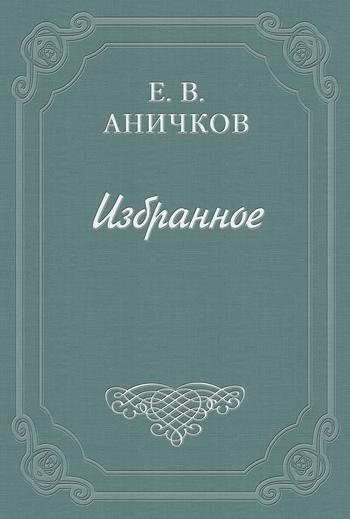


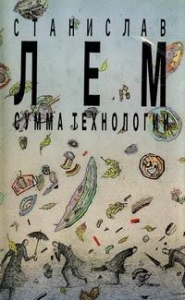
Комментарии к книге «Эстетика», Евгений Васильевич Аничков
Всего 0 комментариев