Горан Бэклунд
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИДЕИ О СУЩЕСТВОВАНИИ ВНЕШНЕГО МИРА
Глава 1. Две стороны реальности
— Разве тебя всё время не мучает вопрос, — начинаю я спрашивать Уолта, — существуют ли вещи, когда мы их не видим?
— Не сказать, что мучает, — отвечает он, — но я вполне уверен, что существуют.
Мы в игривом настроении, но это серьёзный разговор, и он это знает. Уолт пришёл ко мне, желая узнать истину. Но к подобным вопросам он относится как к базирующимся на магическом образе мышления и нью-эйджевском мумбо-юмбо — нерациональном, ненаучном мышлении — и очень гордится, что он рациональный, научный человек.
— Вот возьмём, к примеру, эту чашку, — говорю я. — Откуда мы знаем, что она по прежнему существует, когда мы закрываем глаза?
— Ну, в общем…
— А ещё лучше, — говорю я, прежде чем он смог ответить, — откуда мы знаем, что она существует прямо сейчас?
Он выглядит озадаченным.
— Что ты имеешь в виду? — говорит он, указывая на чашку. — Она явно здесь.
Моей первой задачей всегда является развеять этот здравый реализм, который, когда до него доходит дело, оказывается ничем иным как непродуманными мыслями. Для большинства людей очевидно, что мы напрямую осознаём внешний мир, но существует несомненное противоречие в том, что находясь якобы в прямом контакте с самими вещами, мы в то же время проводим различие между тем, какими они нам кажутся, и тем, какими они являются в реальности — однако все, похоже, всё время используют это оруэллское двоемыслие.
— Смотри, когда мы приближаемся к предмету и кажется, что он растёт в размере, мы ведь не думаем, что это на самом деле происходит, не правда ли? — так я объясняю это Уолту.
— Наверное, нет, — говорит он.
— А когда мы видим тарелку под углом, мы же не думаем, что она на самом деле принимает форму эллипса, верно?
— Нет, так нам только кажется.
Такой способ мышления — проводить различие между видимостью вещи и самой вещью — явно несовместим с любой идеей, что мы находимся в прямом контакте с реальным миром. Удерживать в уме оба этих противоречащих взгляда, значит настаивать, что мы как видим вещи, какие они есть в реальности, так и не видим их — что является типичным видом непродуманного мышления, которое мы стремимся устранить.
— Мы должны осознать, что если мы думаем, что мир не такой, каким он нам кажется, мы в сущности допускаем, что не видим вещи напрямую.
— А так как мы именно так и думаем, — продолжаю я, — так как мы проводим различие между миром и тем, каким он нам кажется, мы вынуждены признать, что не находимся в прямом контакте с самими вещами, что мы не видим мира напрямую — что всё это, — я взмахнул руками, — всего лишь изображение мира.
Уолт выглядит немного растерянным. Это ново для него. Оно так сразу не усвоится. Но он записывает наши разговоры, так что может вернуться к ним позже. Ему не обязательно понимать каждый аспект каждой детали прямо сейчас.
Я встаю и начинаю ходить вокруг.
— Ещё один способ увидеть это — рассмотреть иллюзии восприятия, — говорю я. — Они, вероятно, лучше всего иллюстрируют, почему мы не видим мира напрямую.
— Как это?
— Ну, если мы находимся в прямом контакте с самими вещами, как получается, что прямая палка кажется изогнутой, когда наполовину погружена в воду? Палка действительно изгибается?
— Нет, конечно нет. Так только кажется, — отвечает Уолт.
— Это именно то, о чём я говорю. И если мы признаем эти иллюзии — то есть, если будем думать о них именно как об иллюзиях — тогда мы вынуждены будем признать различие между реальным миром и нашим его восприятием, поскольку слово иллюзия подразумевает ситуацию, когда наш субъективный опыт неверно интерпретирует объективную реальность.
— Достаточно справедливо, — говорит Уолт. — Это понятно.
— Вот ещё пример: скажем, кто-то ещё смотрит на эту палку с другого угла. Он будет совершенно по-другому её воспринимать, не так ли? Его восприятие будет радикально отличаться от нашего, хотя мы оба смотрим на один и тот же объект.
— Ага.
— Но, стал бы ты спорить с тем, что палка каким-то образом трансформируется в соответствии с тем, кто на неё смотрит? Она что, решает принять другой вид в зависимости от того, кто на неё смотрит?
— Нет, конечно нет.
— Тогда мы должны заключить, что её вид в каждом из наших относительных взглядов должен обязательно быть отделён и отличен от палки, как она есть в действительности — что в таком случае остаётся от нас скрытым.
***
— Скрытым от нас? — спрашивает он. — Что ты имеешь в виду?
Я снова сажусь.
— Вот смотри, — говорю я, откидываясь назад и закидывая руки за голову. — Мы имеем две стороны реальности, так? С одной стороны у нас то, как мир выглядит для нас, — я делаю жест, показывая всё, что составляет наш настоящий опыт: комната, мебель, разные вещи вокруг.
Уолт оглядывается по сторонам.
— Давай назовём это мир явлений, — говорю я. — Это то, что появляется в нашем восприятии.
— И это "изображение", о котором ты говорил раньше? — спрашивает он.
— Верно. Это то, как мир выглядит для нас.
Он кивает.
— А с другой стороны, — продолжаю я, — мы имеем мир, как он есть в действительности — объективная реальность. Это тот мир, который есть, смотрим мы или нет — так называемый реальный мир.
— И ты говоришь, что он каким-то образом от нас скрыт?
— Да. Естественно, мы не можем его видеть.
— Почему?
Секунду я колеблюсь. Здесь я мог бы сказать ему, куда всё это ведёт — как его ввели в заблуждение, и почему мы вообще говорим обо всём этом. Но ещё не пришло время подвергать сомнению основную небылицу. Если я буду двигаться слишком быстро, он просто захлопнет створки и перестанет слушать.
Уолт, как и почти 99,9 процента всех остальных, думает, что этот, так называемый реальный мир фактичен, а не выдуман. Сейчас мы закладываем основу, чтобы я смог показать ему обратное, показать ему, как полностью понять, как и почему мир нереален — чтобы в результате ему не было нужды этому верить, но чтобы он попросту видел это, напрямую и без усилий, не опираясь ни на какие внешние авторитеты, верования, догмы или теории — он просто будет знать.
Но учитывая, что Уолт довольно прочно укоренён в современной договорной модели реальности, это будет пошаговое исследование — сперва необходимо сделать наиболее важную уступку в его образе мышления — всё для того, чтобы потом иметь возможность выбить почву у него из-под ног и одновременно дать понять, что на самом деле происходит.
Итак, пока мы двигаемся медленно.
— Почему мы не видим этого? — спрашивает он опять, напоминая мне, что у нас с ним идёт разговор.
— О, — я быстро возвращаюсь туда, где мы остановились, — если бы мы могли видеть это, это было бы нашим опытом — мир явлений. Но так как мы определяем объективную реальность как то, что существует, когда мы не смотрим, то неотъемлемый по своей логичности факт состоит в том, что мы не можем её видеть.
— Не уверен, что догоняю, — говорит Уолт.
— Это нормально. Мы вернёмся к этому через минуту. А пока просто признаем, что мы мыслим с точки зрения этих двух сторон реальности.
Уолт кивает.
— Конечно, — говорит он.
— Теперь, вспоминая о тарелке, мы можем подумать, что нет такой уж большой разницы между этими двумя сторонами — вероятно, мы думаем, что разница лишь в перспективе. Но когда мы всерьёз об этом задумаемся, мы поймём, что с помощью размышления о реальности можно раскрыть гораздо более фундаментальную разницу. То есть, когда мы действительно тщательно всё обдумаем, мы осознаем, что разница между тем, каким мир нам кажется, и тем, какой мир есть в действительности, гораздо более значительна, чем просто разница в перспективе.
— И в чём же тогда разница? — спрашивает Уолт.
— Ну, из чего состоит реальный мир?
Минуту он думает, прежде чем ответить.
— Атомы, молекулы и так далее, — говорит он.
— Однако, это не то, что мы видим в прямом переживании, не так ли? Хотя учёные и философы продолжают говорить нам, что всё состоит из частиц и сил, когда мы смотрим сами, мы находим нечто совершенно другое.
Он начинает озираться по сторонам. Я решаю прийти ему на подмогу.
— Мы не видим мир, какой он есть в действительности — мы не видим сил, или фотонов, или субатомных частиц — но когда мы смотрим сами, мы видим мир, каким он нам кажется с позиции чувств. Если мы взглянем на наше прямое переживание, то мир будет состоять из ощущений цвета, звука и прикосновений, а не из атомов, молекул и так далее.
Он сосредотачивается ещё сильнее. Это разворачивание человека к собственному восприятию, самостоятельному исследованию, является первостепенно важным — и наблюдая за Уолтом, я вдруг вспоминаю своё собственное исследование. Я смотрю на то время с несравнимой благодарностью — как и Уолт будет когда-нибудь смотреть, вспоминая об этих днях, когда он только начинал тянуть нить этой материи.
— Ты прав, — говорит он, — с точки зрения моего прямого переживания — цвета, звуки и прикосновения — это то, из чего состоит мир. Я никогда не думал об этом с такой точки зрения.
Я киваю.
— Эти ощущения — визуальные, слуховые и тактильные — составляют наше восприятие мира. И не важно насколько близко ты смотришь, не важно насколько велико приближение, субатомные частицы, из которых мы думаем состоит мир, никогда в действительности не появятся в нашем восприятии. Всё, с чем мы можем встретиться, это эти ощущения.
— Значит, всё это, — Уолт обводит взглядом комнату, — просто… мысли?
— Верно. Визуальные ощущения. Цвета. И ещё: мы никогда не сможем заглянуть на другую сторону этих ощущений, чтобы увидеть, что там в реальности. Мы никогда не увидим, точно ли отражает видимый нами образ реальный мир — являются ли субатомные частицы, из которых, как мы думаем, состоит мир, тем, что на самом деле существует.
— Но…
— И учёные тоже не могут, кстати. Единственный мир, который они могут изучить — вот этот, — я снова развёл руками, — а именно, мир, который видится нам через наш аппарат восприятия, который состоит из этих ощущений. В лучшем случае учёные могут изучать эти образы в тщетной попытке угадать, что находится на другой их стороне.
Конечно, с их точки зрения они познают реальность. Но даже если сами эти образы соответствовали бы тому, что на самом деле существует, всё, что они могут познать, это ощущения — а соответствуют эти образы реальности или нет, мы никогда не узнаем.
— Это как если бы мы жили в собственном виртуальном описании мира, от которого мы навсегда отгорожены, — так я объясняю это Уолту. — Фантастический ландшафт без выхода, лишь отображающий реальность, которую навечно делает непознаваемой один простой факт…
Он глядит на меня.
— Какой?
— У тебя нет никакой возможности переживать что-либо, кроме своего собственного сознания, — отвечаю я.
***
— Дай-ка я хорошенько запомню, — говорит Уолт. — С одной стороны у нас реальный мир: в общем куча субатомных частиц, которых мы никогда в действительности не видим. С другой — наш непосредственный опыт, который категорически отличается от объективного мира в каждом аспекте — просто визуальные, слуховые и тактильные ощущения, которые составляют мир, как мы его знаем, и за пределы которого мы никогда не сможем заглянуть.
— Да, хорошее обобщение, — говорю я. — Но что лежит между ними?
На секунду Уолт задумывается.
— Что ты имеешь в виду? — спрашивает он.
— Что вообще разделяет эти две стороны?
Он задумывается надолго, и потом удивляет меня правильным ответом.
— Я, — говорит он.
— Правильно. Ты стоишь одной ногой в объективной реальности — там, где ты существуешь — а другой в своём непосредственном опыте. И разделением этих двух частей является твой аппарат восприятия, в котором физическая реальность на одной стороне становится явной как чувственные переживания на другой.
Уолт какое-то время размышляет.
— А под "аппаратом восприятия", я полагаю, ты подразумеваешь мозг? — спрашивает он.
— Или что-то, из чего возникает наше восприятие, — отвечаю я.
— Уже довольно точно установлено, что наше восприятие происходит в мозгу, — говорит Уолт.
— Ты называешь это " мозг", но ничто не указывает на то, что этот чувственный аппарат не может быть компьютером, генерирующим эмпирическое содержание в хитроумной симуляции или что-то вроде того.
— Ты хочешь сказать, что мы можем находиться в Матрице?
— Или может быть всё это, — я оглядываюсь вокруг, — просто сон в космическом сознании. Или ещё что-то. Я хочу сказать, что что бы ни было источником нашего восприятия, само оно не является его частью, так же, как видео камеру нельзя найти в снятом ею фильме. Таким образом, исследование картинок ничего не скажет о том, какое устройство использовалось в их производстве, в какой реальности это устройство существует, или даже вообще существует ли за ними объективная реальность. Всё, что мы знаем, это что есть картинки — наш непосредственный опыт — и любая идея, что есть что-то за их пределами, навсегда останется непроверяемым предположением.
— Но ведь согласно этой логике, так же может не существовать и "аппарата восприятия"?
— Верно. Может быть, нет ничего, кроме этого поля переживаний, — говорю я, оглядываясь вокруг. — Но коль скоро мы утверждаем идею об "объективной реальности", так называемый "аппарат восприятия" обязательно должен существовать для того, чтобы отвечать за наше субъективное восприятия этой реальности. Они идут в одной упаковке, так сказать.
С минуту он думает.
— Поправь меня, если я ошибаюсь, — говорит он, — но наш привычный повседневный мир это просто мираж на экране нашего чувственного аппарата — природа которого неизвестна — и когда мы думаем, что видим мир, на самом деле мы смотрим на мираж?
— Мне кажется, "мираж" — неверное слово, — говорю я.
Уолт несколько секунд думает.
— Тогда как насчёт "чувственная копия"?
— Может быть. Но это подразумевает, что наше восприятие действительно передаёт объективную реальность. Это только тогда "копия", когда она похожа на оригинал.
— Ты имеешь в виду, что наше восприятие может не соответствовать тому, что есть в реальности?
— Откуда нам знать? — говорю я. — Всё, что мы можем вообще знать, это собственные ощущения. Действительный мир — то есть, если таковой вообще существует — остаётся от нас скрытым.
— О, верно, — вспоминает он. — Я в ловушке собственного восприятия.
— "В ловушке" — сильно сказано, я думаю. Ты не можешь выйти из своего восприятия и увидеть, что за его пределами, вот и всё.
— Я живу в собственном виртуальном описании мира, от которого навсегда закрыт, — говорит Уолт. — В каком же смысле я не в ловушке?
Я пожимаю плечами.
— Ты хочешь выйти?
— А я могу? — спрашивает он.
— Что если там ничего нет? — отвечаю я.
***
И, разумеется, мы движемся к опровержению идеи об объективной реальности.
Опровергнуть — не просто заметить, что мы не можем знать, существует реальность или нет, как это сделали бесчисленные люди до меня — нет; я говорю совсем о другом.
Я говорю опровергнуть её безо всяких сомнений.
Я говорю кромсать её неопровержимой логикой, пока она не разобьётся вдребезги.
Пора сдавать экзамены, люди.
До сих пор мы лишь заостряли внимание, стоя на месте. Мы только начали распутывать, что есть что, и наметили общие черты консенсусной реальности, но теперь пора двигаться дальше; вниз по кроличьей норе, освещая сияющей честностью все образцы неверного мышления, затаившиеся там.
И всё, о чём я прошу — обычная честность разума. Уолт, похоже, открыт, но большинство людей — нет. Они не хотят видеть — им не нравится находиться там, где они находятся, но они слишком боятся двигаться.
Генри Дэвид Торо однажды написал: "Я ушёл жить в лес, потому что хотел пожить неспеша, обдуманно, встречаясь лишь с неотъемлемыми фактами жизни, и увидеть, смогу ли я научиться тому, чему жизнь хочет меня научить, и когда придётся умирать, не обнаружить, что я и не жил вовсе".
Вот, что требуется — готовность жить обдуманно, встречать лицом к лицу неотъемлемые факты жизни. После такого исследования Уолт не сможет ясно увидеть только путём прямого отрицания, надев свои шоры, как ведут себя люди всегда, когда сталкиваются с новыми и нарушающими их устои идеями о реальности; люди, на которых теперь мы оглядываемся и качаем головой в изумлении, как они вообще могли в такое верить.
Выбор не жить в отрицании в теории может показаться лёгким, но только тщеславие заставляет нас думать, что мы развились дальше своих предков, сжигавших ведьм на кострах. Мы всё ещё верующие, даже сегодня. Но если мы сможем осознать, что именно из наших верований выстроены стены нашей тюрьмы, мы сможем также осознать, что освободить нас может только честность.
Глава 2. Наш аппарат восприятия.
— Теперь позволь тебя спросить, — говорю я Уолту, который пришёл ко мне для следующего разговора. — Почему небо синее?
Он смотрит на меня, подозревая, что вопрос с подвохом, что так и есть.
— Так, посмотрим, — говорит он. — Небо отражает свет только определённой длины волны, — начинает он, загибая пальцы, — который затем достигает наших глаз, — продолжает он, — и потом посредством некоего замысловатого процесса в мозге, каким-то образом мы видим голубой цвет, — говорит он в заключении. — Что-то вроде того, наверное.
— Но почему это событие производит специфическое ощущение голубизны? Почему не красноты, или другого ощущения — звука, например?
Он этого не ожидал. Он улыбается и задумывается на несколько секунд.
— Хороший вопрос, — говорит он.
— Есть идеи?
— Скажи ты.
— Должно быть потому, что природа нашего аппарата восприятия делает его таким, — говорю я.
Это заставляет его задуматься. Меня впечатляет серьёзность, с которой он относится к этому, вдумчиво, не форсируя.
— Что бы ни было на выходе любой системы, — продолжаю я, — оно неизбежно имеет форму и структуру, определяемые природой этой системы.
Это прозвучало намного более неуклюже, чем я ожидал. Но сейчас это важный пункт. Независимо от события в объективном мире, которое вызывает появление ощущения в нас, как это ощущение выглядит должно в конечном счёте определяться природой нашего аппарата восприятия.
Ощущение, которое мы испытываем, дотрагиваясь до объекта, имеет свою особую природу и уникальные характеристики именно потому, что наш аппарат восприятия делает его таким. И когда мы видим цвета, они видятся нам такими, какие есть, потому что наш аппарат сгенерировал их таким образом.
Я делаю ещё одну попытку объяснить это Уолту.
— Наше восприятие неизбежно формируется в соответствии с нашим аппаратом восприятия, который является его источником, и поэтому в конечном счёте он определяет форму, вид и характеристики ощущений, которые исходят из него, — так я это излагаю.
— Иными словами, — я продолжаю, — небо голубое — не мокрое, жёсткое или шумное — только потому, что наш аппарат восприятия делает его таким!
Он молча перемалывает это в своей голове. Здравый смысл говорит нам, что наше восприятие соответствует тому, что существует в реальности, что мы видим точное отражение реального мира, что объекты существуют более или менее такими, какими мы их воспринимаем. Разве можно говорить о том, что наш сенсорный аппарат ответственен за форму нашего восприятия? Чушь! Но как может быть иначе? Если предположить, что наше представление о вещах не имеет посредника, так сказать, что мы видим их такими, какие они есть, мы будем вынуждены признать, что действительный мир на самом деле состоит из цветов, которые мы видим, звуков, которые мы слышим, ощущений, которые мы чувствуем. Нам бы пришлось поверить, что объекты действительно растут при приближении, и что тарелка видимая с угла действительно принимает форму эллипса — но мы в это не верим. Нет, именно потому, что нам кажется, что объекты растут, тогда как на самом деле это не так, мы должны заключить, что их вид должен определяться не тем, какие вещи есть сами по себе, но в конечном счёте аппаратом, посредством которого они становятся явными для нас.
Уолт оживает.
— Погоди, ты говоришь, что нет соответствия между тем, какими объекты нам кажутся, и тем, какие они в действительности? — говорит он.
Пока что я хочу, чтобы Уолт ухватил только эту концепцию.
— Я говорю, что то, какими они нам кажутся, может соответствовать действительным объектам или нет — но так ли это, зависит не от самих объектов, но от природы промежуточного аппарата, посредством которого они появляются.
Но, разумеется, сами объекты ни коим образом не могут быть "похожи" на то, какими они нам кажутся.
Наше восприятие неизбежно должно принять форму, определённую природой аппарата, посредством которого оно возникает, в результате чего кажущиеся нам формы объектов должны обязательно быть отличными от форм самих объектов. Иначе говоря, объект сам по себе никак не может иметь форму, принятую соответствующим явлением в восприятии, так как форма это ничто иное, как способ, которым наш аппарат восприятия делает этот объект явным. И таким образом, мы можем быть уверены, что объекты, какие они есть в реальности, в точности не такие, какими они нам кажутся.
То есть, разумеется, если бы они вообще существовали. Но их нет. А Уолт твёрдо верит, что существуют, что объективный мир реален, и разобраться с этим значит не просто ткнуть его носом в истину, но осторожно подвести к тому, что он сам сможет обнаружить, как и где его предположения насчёт реальности зашли не туда.
Мы двигаемся медленно, но верно. Непростое это дело — возиться людскими предположениями и убеждениями, и я не хочу вызывать хаоса, используя все возможные средства — больше, чем предоставляет обычная беседа. Если я допущу, что мы с ним единомышленники, когда это не так, Уолт решит, что я просто чокнутый из духовной страны грёз, который проповедует свою новую доктрину для неразумных и недостаточно чувствительных, чтобы увидеть ложь. Но всё наоборот. Мы взрезаем ложь медленно, начиная с необоснованных предположений в самом низу этой груды.
Уолт выглядит растерянным.
— Окей, давай посмотрим, сможем ли мы взглянуть на это с другого угла, — говорю я.
— Конечно, — отзывается Уолт.
— Подумай немного о нашем сенсорном аппарате, — говорю я. — Если бы его природа была иной, разве не было бы так же иным наше восприятие?
— Думаю, да.
— К примеру, абсолютно возможно, что гипотетический аппарат мог бы произвести переживание, которое для других казалось бы круглым, но для него было бы квадратом.
— Конечно, — кивает Уолт.
— Или что-то совсем другое, некое переживание, которое предстаёт в категориях ощущений, которые нам не доступны, и поэтому непостижимое для нас.
— Как летучие мыши? Предположительно они используют некую форму биологического сонара для восприятия окружающего мира. Мы не можем себе представить, на что это похоже, — сказал он.
— Да, а как насчёт аппарата, который производит абсолютно одномерные переживания, такие маленькие связки чувственных впечатлений, появляющихся по одному?
— Вероятно, это возможно в теории, — говорит Уолт, — но мне кажется, трудно поверить, что такое существо смогло бы долго прожить.
— Но разве форма чьего-то восприятия определяет его способности к выживанию? Разве эта связь непременна? Не мог бы, например, робот с супер продвинутым искусственным интеллектом отлично выжить в этом мире? Конечно, он смог бы функционировать, имея лишь необходимые сенсоры, чтобы взаимодействовать с окружающей средой — в то же время не производя вообще никаких чувственных переживаний! Прямо как марсоход!
— Полагаю, ты прав.
— Так вот, это существо с одномерным восприятием могло бы отлично устроиться в сложной среде, если бы его реальное тело — не то, которое кажется ему в его одномерном восприятии, но то, которое объективно существует в реальном мире — было бы оснащено лишь правильными способностями, которые могли бы реагировать на такую среду, и в то же время оно верило бы, что, так сказать, "живёт" в одномерном мире своего восприятия. Очень похоже на фильм "Матрица", где герой находится в спячке в инкубаторе, всё время думая, что ходит по реальному миру. В обоих примерах ситуация персонажа в реальном мире намного отличается от его опыта.
— Да, конечно. Но зачем мы говорим об одномерно воспринимающих существах?
— Затем, что я хочу обратить внимание, что форма нашего восприятия не обязательно имеет что-то общее с тем, что существует на самом деле.
Уолт кивает. Он понял.
— Хорошо, — говорит он.
Глава 3. Наше восприятия нераздельно.
— Итак, мы установили, что форма, вид и устройство наших чувств должны полностью определяться нашим аппаратом восприятия, — говорю я Уолту.
Он кивает.
— Вещи являются нам такими, какими являются, потому что так делает наш аппарат, — говорит он.
— Верно. Вот, представь яблоко. Обычное красное сочное яблоко. Представь на секунду, что оно сейчас здесь, в твоей руке.
Уолт на секунду закрывает глаза.
— Окей, — говорит он.
— Чувствуя его форму, согласен ли ты, что округлость этого яблока это ощущение?
— Да.
— Но тогда, если округлость данного яблока это просто ощущение, созданное твоим сенсорным аппаратом, может ли реальное яблоко быть круглым по своей сути?
Теперь мы подходим к чему-то хорошему — к настоящим вопросам о самóй объективной реальности. Уолт сейчас находится в позиции, где мы можем начать пристально рассматривать его предположения насчёт реальности, поместить их под тщательное исследование и посмотреть, будут ли они по-прежнему иметь смысл. Если не будут, их можно одно за другим отбросить — и таким образом обнаружить, подобно очищению слоёв с лука, что в самом центре абсолютно ничего нет.
— Ну, конечно, мы не можем быть уверены, — говорит он. — Мы уже установили, что не можем выйти за пределы нашего восприятия, не можем проверить, чтó существует. Но я не вижу причин, почему по крайней мере не может быть возможным, если не вероятным, что яблоко и вправду само по себе круглое.
— Пожалуйста, подумай, что мы в действительности имеем в виду под словом "круглый".
По-видимому, это слишком очевидно, чтобы размышлять, потому что он ответил сразу же.
— Для меня это совершенно ясно, — говорит он.
— Но откуда у нас взялась эта концепция? Каков источник этого слова?
Он воображает, что я на самом деле хочу, чтобы он подумал над этим, и на самом деле думает.
— Мы видели всякие круглые вещи и придумали специальное слово для их особой формы, — говорит он после паузы. — Мы назвали это "круглый".
Это важное прозрение. Мы образуем концепции путём перегонки наших переживаний в слова — мы обобщаем их содержание, создаём символы, чтобы представлять их в их отсутствие — чтобы использовать в разуме и общаться с другими. Концепции не возникают ниоткуда, они извлекаются из формируются из нашего непосредственного опыта — и значение, которое они имеют, следовательно, должно быть основано на ощущениях, из которых они были добыты. Отследи возникновение концепции, найдя её определение — определение определения и так далее — и ты в конце концов уткнёшься в некое ощущение. Если нет, то в твоём уме не концепция, а пустое слово.
Я пытаюсь выразить это Уолту.
— Всё верно, — говорю я. — Мы формируем концепции путём абстрагирования, и то, от чего мы абстрагируемся, является или происходит из прямого переживания. Имеем ли мы конкретную концепцию, как "яблоко", или что-то более абстрактное как "еда", в корне её иерархической структуры лежит, в качестве элементарного референта, ни что иное, как непосредственное переживание.
— И что? — Уолту интересно, куда я клоню.
— И концепция "круглый" происходит из ощущений. Слово берёт своё значение из ощущения круглости!
— И? — спрашивает он.
— И как может быть яблоко круглым по своей сути, когда мы под словом "круглый" понимаем ощущение округлости? Может ли реальное яблоко быть похожим на ощущение? Может ли яблоко быть "похожим" на восприятие — чья природа и вид определяются нашим аппаратом восприятия? Может ли быть такое?
Уолт выглядит озадаченным. Он не отвечает.
— Другими словами может ли яблоко, какое оно есть по своей сути, быть "похожим" на яблоко, каким оно нам кажется?
Ещё какое-то время он думает.
— В этом вопрос, да, — говорит он, — но он кажется неразрешимым, так как мы не можем знать яблоко, как оно есть по своей сути. Это выходит за пределы нашего восприятия.
— Могу тебя заверить, решение есть, — говорю я. — Нужно только внимательно посмотреть.
— На что?
— На то, как мышление и язык искажают то, что прямо перед нами.
***
— Что ты имеешь в виду? — говорит Уолт.
— Что, если есть способ узнать о том, каковы вещи в своей сути, даже если мы не можем наблюдать их напрямую?
— Как?
— Можно подумать, что у того, что, возможно, существует за пределами нашего восприятия, нет границ, но факт в том, что границы есть. И хотя у нас нет доступа к объективной реальности, чтобы самим на неё посмотреть, мы можем знать с уверенностью, что некоторые вещи просто не могут там существовать.
— Но как можно это узнать? — спрашивает Уолт.
— Потому что их там обязательно нет, по определению. Различие между нашим переживанием и объективной реальностью имеет ту неотъемлемую логику, что что бы ни существовало на одной стороне, не может существовать на другой. Другими словами, мы можем знать благодаря только анализу, что например "радость" или "боль" там существовать не могут. Субъективное переживание не может существовать в объективной реальности, также как вымышленные вещи не могут существовать в реальном мире, или реальные вещи в вымышленном мире.
Я делаю паузу, чтобы удостовериться, что Уолт следит за мной.
— Вымышленные вещи не существуют в реальном мире, потому что если бы они существовали, они не были бы вымышленными, но реальными, — объясняю я. — Точно также переживание не может быть частью объективной реальности, поскольку объективная реальность это именно то, что не является переживанием.
Уолт думает.
— Но может быть "радость" или "боль" каким-то образом могут существовать там, — говорит он. — Откуда мы можем знать?
— Говорить, что могут — бессмысленное заявление. Переживание ни коим разумным образом не может существовать отдельно от переживания. Любой, кто говорит, что может, утверждает очевидное противоречие. Радость только потому радость, что она переживается — в противном случае это не радость.
— Окей. Но это не очень-то полезно. Никто и не думает, что радость или боль вообще где-то существуют.
— Согласен. Но что если мы сможем обнаружить, что "круглое" в точности как "радость"? Что это просто форма нашей собственной субъективности.
— Неужели? — спрашивает он.
— Единственная вещь, мешающая нам увидеть это как самоочевидную истину, это мышление и язык, — отвечаю я.
***
— Наше понятие "восприятие" включает три элемента, — говорю я Уолту. — Воспринимающий, то есть я, затем акт восприятия, то есть моя способность, и наконец, воспринимаемый объект.
— Окей, — отзывается Уолт.
— Мы говорим "Я вижу яблоко" или "Я слышу шум", но факт в том, что это разделение на "я", "вижу" и "яблоко" исключительно концептуальное.
— Эти три элемента, — продолжаю я, — "я", "вижу" и "яблоко" — не являются частью нашего непосредственного опыта. Они не отражают то, что происходит.
— Тогда что же происходит? — спрашивает он.
— Небольшой анализ, который мы только что вкратце проделали, показывает, что элемент "я", воспринимающий, должен обязательно находиться вне восприятия. Наше восприятие появляется через аппарат, который сам не является объектом восприятия.
— Как камеры нет на фото, и художника на картине, — говорит Уолт.
Я киваю.
— Что оставляет нам два оставшихся элемента: акт восприятия и воспринимаемый объект.
— И как же можно устранить эти два? — недоумевает он. — Я уверен, что есть видение объектов. Смотри, вот пример, — Уолт поднимает свою чашку. — Вот кофейная чашка, — говорит он, артикулируя так, будто говорит с полуглухим стариком.
Мы оба рассмеялись, вновь возвращаясь к игривому настроению, столь подходящему для маленького весёлого эксперимента.
— Окей, — говорю я. — Эта чашка, которую ты предположительно видишь, из чего она создана?
— Керамика, я полагаю.
— Я имею в виду прямое зрительное переживание.
— Да, я и говорю о своём переживании, — говорит Уолт.
— Не будет ли более верным сказать, что в твоём непосредственном переживании чашка создана из цвета? В действительности видишь ли ты что-либо ещё, кроме цвета? Не является ли керамика лишь идеей, концепцией, взятой из переживания цвета, прикосновения и звука?
Он снова бросает взгляд на чашку.
— Ну, да, наверно, — говорит он.
— Значит, ты согласен, что в прямом зрительном переживании ничего больше нет, кроме цвета?
Теперь он изучает чашку внимательно.
— Ну, я вижу форму, свет и цвет.
— Но форма это лишь особый узор цвета, не так ли?
— Верно.
— И я уверен, что под "светом" ты понимаешь различные оттенки, которые являются лишь различными цветами. Не является яркий свет просто оттенком белого? — спрашиваю я.
— Хорошо. В моём восприятии чашки нет ничего, кроме цвета.
— А есть ли "чашка" и "цвета чашки"?
— Что ты хочешь сказать?
— Воспринимаешь ли ты как объект, так и его цвет? Или есть только цвет?
— Да, ты прав, — говорит Уолт. — Есть только цвет!
— Значит, нет чашки, а только определённый узор цвета, который потом назовёшь "чашкой"?
Теперь он улыбается.
— Я вижу только цвета.
— А что если я скажу, что не видишь? — отвечаю я.
***
— По правде говоря, меня бы это не удивило. Ты говоришь, я не вижу цветов?
— Вот что я говорю: Мы не видим цветов, потому что цвет и его видение это в точности одно и то же. Говорить, что мы видим цвет подразумевает разделение между "видением" и "видимым", чего просто нет в нашем переживании.
— Продолжай, пожалуйста, — Уолт заинтригован.
— Давай сначала поговорим о видении, — начинаю я. — Каков единственный критерий, чтобы сказать "Я вижу"?
Уолт несколько секунд думает.
— Что у меня в порядке глаза? — говорит он.
— Значит, это имеет отношение к твоим глазам?
— Разве нет?
— Но ты видишь во сне, не так ли? — спрашиваю я.
— Не знаю, стал бы я называть это "видением", — говорит Уолт.
— Почему нет?
— Потому что когда мы видим что-то во сне, после мы не думаем, что видели это, ну, в реальности.
— Ты имеешь в виду, что то, что появляется во сне не отображает ничего существующего объективно? Что всё это было в твоей голове?
Он кивает.
— Именно.
— Но откуда ты знаешь, что то же самое не происходит прямо сейчас?
Он снова несколько секунд размышляет.
— Ты прав, — говорит он, — не знаю.
— Тем не менее, что-то во сне появлялось. И появлялось визуально — и этот факт является тем, что я называю "видением", вне зависимости от того, что это появление означало, отображало или на что указывало.
Уолт молча кивает. Я продолжаю говорить.
— Если под "видением" я имею в виду что-то вроде "правильное представление внешних объектов", тогда конечно, мы не видим в снах. Но поскольку мы не можем быть уверены, что правильно воспринимаем внешние объекты, даже когда бодрствуем, мы должны оставить открытой логическую возможность, что мы здесь тоже не "видим" — что похоже на абсурд, так как факт, что мы видим, обусловлен просто тем, как мы его определяем. Поэтому "видение" может означать лишь то, что нечто появляется визуально, является ли это точным отражением реальных вещей или нет.
Он размышляет несколько минут.
— Хорошо, достаточно справедливо, — говорит он.
— Теперь, что означает "визуальное появление"? — спрашиваю я. — Что составляет визуальный опыт, в отличие от слухового или тактильного?
Прежде чем ответить, Уолт думает.
— Это должен быть цвет, — отвечает он.
— Верно. Когда что-то "появляется визуально", мы имеем в виду, что в нашем восприятии присутствует цвет. А так как мы уже установили, что "визуальное появление" это эквивалент видения — неизбежным выводом должно следовать, что присутствие цвета это то, что мы имеем в виду под видением.
Уолт выглядит скептически. Я пытаюсь зайти с другого угла.
— Представь на секунду, что какой-то злой учёный хирург удалил тебе глаза, — говорю я, — и что твой доктор не оставляет тебе надежды на возвращение зрения.
— Окей, — сказал он, хихикнув.
— Но затем, каким-то чудесным образом, цвета мира появляются перед тобой в точности как тогда, когда у тебя ещё было зрение.
— Окей.
— Всё выглядит в точности так же, как раньше, кроме, конечно, двух зияющих дыр, где когда-то были твои глаза.
Уолт снова хихикает.
— Теперь, несмотря на то, что у тебя нет глаз, кто-либо сможет убедить тебя, что ты не видишь? Что ты наверно воображаешь и так далее?
— Наверное, нет.
— Почему? — спрашиваю я.
— Потому что факт, что я вижу, будет каким-то самоочевидным.
— Правильно, потому что присутствие цвета мы обозначаем как "видение", — говорю я. — И опять, как ты определяешь, что видишь? Если появляется цвет, значит ты видишь! Если есть краснота, или синева, или желтизна или любой другой цвет или их комбинация, их присутствие в нашем восприятии мы называем видением!
— Хорошо, когда цвет присутствует в нашем восприятии, мы называем это "видением". Я согласен.
— Отлично! А теперь, что такое цвет?
***
— Давай возьмём к примеру, красный, — говорю я. — Концепция красный, как и все другие концепции, взята из нашего непосредственного опыта. То есть, мы видели красноту и придумали для неё слово. Так?
— Конечно. Продолжай, пожалуйста.
— Концепция красный, таким образом, берёт своё значение из этого опыта. Когда мы говорим об этом, мы знаем, что мы имеем в виду благодаря переживанию этого. Звучит примерно правильно?
— Да, — говорит Уолт.
— Теперь, когда мы говорим о красном, или о любом другом качестве или свойстве объектов, мы можем попасть под впечатление, что эти качества существуют объективно, то есть, вне нашего поля восприятия. Мы думаем, что вещи могут быть красными, или круглыми, или жёсткими, воспринимаем мы их или нет. Верно?
— Конечно.
— Но концепции, представляющие эти качества, извлечены не из каких-то внешних по отношению к нам вещей, но из визуальных и тактильных ощущений, исходящих из нашего аппарата восприятия. И таким образом, красный, круглый и жёсткий должны иметь значение, основанное на этих ощущениях.
Уолт кивает.
— Но даже если красный, круглый и жёсткий относятся к ощущениям, — говорит он, — что не даёт им так же существовать объективно вне нашего восприятия?
Хороший вопрос.
— Ощущения, из которых получены наши концепции, не приходят к нам извне — они порождаются сенсорным аппаратом, а его природа определяет то, какими они нам кажутся. Как ощущения выглядят, как они чувствуются, их форма и вид являются ни чем иным как способами, которыми они становятся для нас видимыми. Другими словами, поскольку именно наш сенсорный аппарат определяет то, какими вещи нам кажутся, то концепции, которые у нас есть, должны ссылаться именно на то, каким образом наш сенсорный аппарат решает сделать отдельный кусок явления явным — потому что это всё, чем являются ощущения — их структура целиком является продуктом того, какой вид наш сенсорный аппарат решает им придать.
— Иначе говоря, — продолжаю я, — получается, что наши ощущения и то, как они выглядят, это не две разные вещи — я мог создать такое впечатление: что есть как ощущения, так и то, какими они нам видятся; что есть восприятие и способ его отображения в нашем сознании. Но нет — то, какими ощущения нам кажутся, это всё, что они из себя представляют как таковые.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Например, в нашем восприятии нет цвета и того, каким он нам кажется — но то, каким он нам кажется, это всё что есть в существовании цвета. То, как он выглядит для нас, это то, что мы имеем в виду, когда ссылаемся на цвет.
Уолт кивает.
— Думаю, это верно, — говорит он.
— Итак, ещё раз: что не даёт цвету существовать вне нашего восприятия? Цвет это ни что иное, как то, как он выглядит для нас. И почему вещи не могут быть жёсткими сами по себе? Жёсткость это не что иное, как то, как она чувствуется для нас.
— Думаю, я понял, — произносит Уолт.
— Это природа всех ощущений — нет ощущения и того, каким оно нам кажется, но есть только то, каким оно нам кажется.
— Итак, ещё раз, — продолжаю я, — концепции, которые у нас есть, абстрагированы от, и поэтому относятся именно к тому, какими ощущения кажутся нам, ибо они делаются явными нашим сенсорным аппаратом. И таким образом, "красный", "круглый" и "жёсткий" ни коим образом не могут существовать вне нашего восприятия — то, чем они являются, это просто ощущения, и они не могут ни быть, ни напоминать, ни быть как-то похожими на что-то вне восприятия — так как то, каким ощущение нам кажется, и делает его ощущением, и никаким мыслимым образом что-либо вне восприятия не может быть чем-то "вроде" этого.
— Хмм, почему оно не может быть "вроде" этого? Можешь привести пример?
— Конечно, — говорю я. — Так как говоря о "красном", мы имеем в виду то, как это выглядит для нас, оно никаким образом не может существовать вне нашего восприятия. Заявление, что "красный" может существовать вне восприятия, в сущности означает, что то, как это выглядит для нас, может существовать вне восприятия, что очевидная чепуха.
Это сделало своё дело. Уолт внезапно ожил.
— Дай-ка посмотрю, всё ли я правильно понял, — говорит он, затем несколько секунд сидит молча, прежде чем снова заговорить. — Цвет не может существовать вне нашего восприятия, так как то, как он нам видится через наш сенсорный аппарат, это неотъемлемая часть того, что значит вообще быть цветом!
— Бинго.
— Да, довольно трудно уложить это в свой ум.
— Это может стать более очевидным, когда ты осознаешь, что тот же самый феномен относится и к другой концепции. Теперь ты должен угадать, к какой.
На секунду задумавшись, Уолт улыбается.
— Видение, — сказал он.
— Правильно — цвет и его видение это в точности одно и то же.
— Вот это да, — сказал Уолт.
— В более общем смысле: восприятие и его вид — одно и то же. Звук и то, как он нам слышится, в точности одно и то же — что также является тем, что мы называем слышанием. То же про цвет. Мы объективируем эти ощущения и воображаем, что они существуют независимо от нашего восприятия, но именно их присутствие в нашем восприятии в первую очередь делает их тем, чем они являются. То есть, то, какими ощущения нам кажутся, есть эквивалент их сути.
Уолт кивает. Он внимательно слушает.
— Цвет не может существовать независимо от восприятия, потому что чтобы представить его таким образом, мы должны в мышлении отделить видение от цвета — но это означает отделить цвет от самой своей сути. Любая мысль, в которой цвет рассматривается объективно, подразумевает эту ловкость рук, которая в конечном итоге оканчивается ситуацией, где мы должны вообразить видение независимое от восприятия.
Это довольно интенсивная тема, и Уолту предстоит много переварить, но я завёлся и не хочу останавливаться.
— Мы не воспринимаем цвет и его видение, — продолжаю я, — это просто разные слова для одной и той же вещи. Фактически, цвет на самом деле вообще не "цвет" в том смысле, в каком мы привыкли о нём думать. То есть, приклеенный к объектам вне нашего восприятия, в ожидании, чтобы его увидели. Скорее всего правильно было бы думать о цвете как об отдельном случае, или о проявлении, видения. Теперь, поскольку цвет и видение концептуально эквивалентны — так как обе концепции относятся к одному явлению, а именно присутствию красноты, синевы, желтизны и так далее — фраза "видеть цвет" предполагает разделение, которого просто нет в нашем опыте. Никогда нет видения и видимого — есть просто видение! Никогда нет видения чего-то — но то, что мы видим, и видение это одна и та же вещь. Это одно и то же событие. Есть только краснение, синение, желтение* — всевозможные манифестации видения.
—-----
*rednessing, bluenessing, coffee mug-ing, yellownessing
–------
Я сделал паузу, чтобы убедиться, что Уолт внимает, потом продолжил.
— А теперь мы можем начать понимать, почему вещи сами по себе не могут иметь цвета, и почему они не могут быть круглыми или жёсткими — цвет это ни что иное, как видение; форма, текстура и мягкость это ни что иное, как чувства. Объект не может быть жёстким сам по себе, так как мы словом "жёсткий" ссылаемся на манифестацию чувства. Он также не может быть ни красным, ни круглым, если под этими словами мы подразумеваем манифестации видения — а так оно и есть, поскольку в первую очередь эти концепции произошли именно из видения.
Я даю этому впитаться, прежде чем продолжить.
— И никаким мыслимым способом видение или чувствование не могут существовать независимо от восприятия, ибо видение и чувствование как таковые являются ни чем иным, как восприятием!
— Значит, мы не "слышим" "звук" и не "чувствуем" "ощущение"? — спрашивает Уолт.
— Нет, есть только слышание или чувствование. Мы не ощущаем ощущение — есть только ощущение! Это неделимая единая природа всего восприятия!
— Окей, — говорит Уолт, — я понимаю, что сама вещь не может иметь цвета, и что она не может быть "жёсткой", но мне всё ещё кажется, что она может быть "круглой". Ты не мог бы разъяснить?
— Есть два способа, которыми мы можем постичь круглость, — говорю я, — визуально и тактильно, так?
— Да. Мы можем видеть круглые вещи и мы можем ощупать круглые вещи.
— Итак, можешь ли ты увидеть что-то круглое, независимо от цвета?
— Что ты хочешь сказать?
— Если убрать весь цвет из восприятия, в каком смысле объект будет круглым?
— Хм. Думаю, ни в каком. Фактически, не будет возможности вообще что-либо в нём различить.
— Правильно. Объекты это "объекты" лишь потому, что имеют явные границы, которые в визуальном смысле являются просто цветом. А концепция "круглый" это ни что иное, как определённый цветовой рисунок, который, как я продемонстрировал, есть ни что иное, как видение. "Круглый" не может означать ничего, кроме частного случая видения.
— Я понял.
— Теперь проделай тот же мысленный эксперимент, но с тактильным ощущением. Убери из объекта все тактильные ощущения, которые как я продемонстрировал, есть ни что иное, как чувствование — и не останется больше смысла, в котором мы можем назвать это круглым.
Уолт кивает.
— Полагаю, ты прав, — говорит он.
***
Уолт сейчас стоит на пороге следующей двери — ведущей туда, где мы нанесём решающий удар по той концепции, которая удерживает всё это вместе. Теперь, когда он понял, что формы, характеристики и видимость мира являются ни чем иным, как самим восприятием — что есть только чувствование, только видение, только слышание и так далее — у него есть всё, что требуется, чтобы проплыть последнюю милю путешествия, в которое он пустился. Знает ли он где оно заканчивается? Конечно, нет, но стоя перед этой дверью, он непременно должен был заметить табличку над ней, на которой тщательно выгравировано несколько слов:
"Смотри, в том, как мы думаем о реальности, есть ошибка.
Эта ошибка системная общесистемная.
Вещи не такие, как кажется".
Глава 4. Пространство.
— Я тут думал над тем нашим разговором, — говорит мне Уолт.
— И? — спрашиваю я.
— Теперь я всё понял, — отвечает он. — Допускаю, что ты был прав. Качества, которые мы воспринимаем в объектах, не принадлежат самим объектам, они существуют лишь как ощущения в человеке, который их воспринимает. Но, что существует — что входит в состав самих объектов — это физическая материя, которая, взаимодействуя с нами, вызывает в нас ощущения, в нашем аппарате восприятия.
О, боже.
Он двинулся дальше.
— Реальность как она есть в действительности не имеет формы или цвета. Скорее это что-то пространственно-временное, где существуют субатомные частицы, и эти частицы взаимодействуют с нашим телом, вызывая процессы в нашем мозге, что делает возможным все переживания. И всё это управляется законами квантовой механики.
Уолт смотрит на меня в ожидании подтверждения своей сказки. Но я вижу, что в глубине души он знает, что этот корабль идёт ко дну.
— Я понимаю, что ты имеешь в виду, — говорю я. — Но всё это — теоретические частицы, стринги, энергии и квантовые механики — зависит от независимого физического пространства, в котором всё это существует. А его нет.
Уолт неподвижно смотрит на меня. Проходит несколько мгновений.
— То есть ты говоришь, что внешнего мира нет? Что ничего не существует? — спрашивает он.
До сих пор отсутствие объективной реальности было идеей, которая не поднималась над уровнем занятных рассуждений. Она никогда не была реальной угрозой взглядам Уолта на то, как на самом деле обстоят дела. Но теперь он сам — само его тело из плоти и костей — под вопросом.
— Верно, — говорю я. — Есть только эти ощущения, — я поднял руки.
— Мы в Матрице?
Я улыбнулся, вспомнив о фильме.
— Да, но выхода нет.
Уолт не может в это поверить.
— Ты же шутишь, да? — говорит он, тряся головой. — Это безумие.
До сих пор мы просто жонглировали интересными идеями. Но сейчас над ним нависла угроза, и будет только хуже. Одна из этих идей должна сейчас затронуть нечто жизненно важное, и когда это случится, Уолт не будет просто довольным от успешно проведённых нескольких раундов интеллектуального спарринга. Нет, когда из нас вынимают стержень, за счёт которого держится вся наша жизнь, лежать на полу — полностью разрушенными — гораздо более типичная реакция.
Мир, каким мы его знаем, похож на карточный домик, который держится на одной единственной коренной секции, без которой он рухнет. И когда мы демонтируем эту секцию, когда человек разбирает по частям идею объективности, и становится ясно, что понимание мира с этой точки зрения перестаёт быть справедливой формой мышления, то фундамент, на котором зиждется мир, неизбежно разрушается — оставляя карточный домик в свободном падении.
Уолт ходит взад-вперёд.
— Понимаешь, я думал об этом после нашего последнего разговора, — говорит он. — Ты должен знать, что я рассматривал-таки возможность, что этого мира может не существовать, но я не понимаю, как ты можешь быть так уверен в этом! Насколько я понимаю, здесь возможен любой из вариантов.
— Вспомни о том, что идея о внешнем мире — всего лишь идея, — говорю я. — Непроверяемое предположение, на котором выстроено всё остальное.
— И что? Предположение могут быть правильными, знаешь ли, — говорит он. — Что заставляет тебя думать, что это — неверно?
— Потому что в самом предположении я обнаружил изъян.
— Как так? — спрашивает Уолт.
— Сперва я приведу одно сравнение, чтобы ты смог точно понять, что я имею в виду.
— Прошу тебя, — говорит он.
— Ты слышал когда-нибудь о квадратных кругах?
— Никогда не видел.
— Как ты думаешь, они существуют?
— Не знаю, вероятно нет.
— Так вот, некоторые люди думают, что существуют, другие, что нет, но есть третья позиция, — объясняю я.
— Какая?
— Есть те, кто осознал, что квадратные круги не могут ни существовать, ни не существовать, просто потому, что разговор о них включает в себя логическое противоречие.
— Противоречие? — спрашивает Уолт.
— Нечто не может как иметь четыре стороны, так и не иметь четыре стороны. По определению круг не квадратный, и поэтому квадратный круг это противоречие в определении.
— Хорошо, это я понимаю, — говорит он после минутного размышления. — То есть, заявляя, что квадратный круг существует или не существует, логически мы говорим ерунду?
— Точно.
— И какое это имеет отношение к внешнему миру?
— Предположение о его существовании, или даже возможность его существования, это логическое противоречие — точно как квадратные круги. Заявляя о нём, мы говорим ерунду, — говорю я.
— То есть ты имеешь в виду, что атомы, радиоактивность, электричество не существуют? Что нет никакой вселенной?
— Идея о том, что есть, абсурдна, — я пожимаю плечами.
— Дружище, это бред, — произносит Уолт.
— Возможно. Но это правда.
***
— Хорошо, и как именно предположение о внешнем мире включает в себя противоречие? — спрашивает Уолт.
— Сперва давай признаем, что идее существования внешнего мира предшествует идея объективного физического пространства. Объективное означает, что оно существует независимо от нас, — говорю я. — Мы верим в то, что существует внешняя вселенная, смотрим мы или нет, существуем мы или нет. Согласен?
— Конечно. Это основная предпосылка.
— А согласишься ли ты, что предполагая существование объективного пространства, мы сначала должны были бы представить его себе?
— Что ты имеешь в виду? — спрашивает Уолт.
— Ну, если мы заявляем о возможности существования независимого физического пространства, мы должны сперва вообразить, что это такое, о чём мы думаем, как о существующем.
— Наверное.
— Никаких наверное. Это важно. Заявление о существовании должно быть постижимо, в противном случае это только пустые слова.
— Не понимаю.
— Окей. Позволь проиллюстрировать это примером, — говорю я, делая паузу, чтобы подобрать пример. — Сим я провозглашаю, что где-то существует шапокрафилиат.
Уолта это развеселило.
— Что это? — спрашивает он.
— Вот именно! — восклицаю я. — Не знаю, я только что это придумал. А если я даже не знаю, что означает слово, о чём тогда я могу заявлять, как о существующем? Что мы подразумеваем, когда говорим о существовании чего-либо? Слова должны иметь референта — то, с чем они соотносятся — в противном случае это просто бессмысленные звуки. Чтобы заявить о существовании чего-то, мы должны сначала это представить — если нет, разве наше заявление не пустое? Мы заявляем о существовании референта, а не слова.
— Понимаю, — говорит Уолт.
— Вот почему любое заявление о квадратных кругах обязательно должно быть липовым. Квадратные круги непостижимы, они буквально немыслимы, так что любое заявление об "их" существовании должно быть просто словами без значения.
— Я понял, — говорит Уолт. — Если мы даже не можем себе это представить, тогда по-нашему что вообще существует или не существует?
— Именно, — говорю я.
Несколько секунд мы оба просто наслаждаемся тишиной, затем я снова возвращаюсь к пространству.
— Итак, ещё раз, если мы заявляем, или даже думаем о возможности независимого физического пространства, мы сначала должны представлять его. Другими словами, мы должны сформировать представление в своей голове о том, что, как мы предполагаем, существует.
— Это понятно.
— Итак, образ пространства это своего рода картинка того, что, как мы думаем, существует вне нашего восприятия. Но откуда мы взяли это представление о пространстве?
— Из нашего опыта? — предлагает Уолт.
— Да, конечно! — говорю я. — Но теперь, что если наше представление о пространстве это просто как любое другое наше представление, которое мы можем себе представить — что если пространство это просто элемент нашей собственной субъективности? Что если пространство это как цвет? Что если оно не является чем-то, что воспринимается, но его природой является исключительно само восприятие? Что из этого следует?
— Ну, не знаю, — произносит он после тяжкого раздумья.
— Вернёмся к этому вопросу позже, а сейчас посмотрим, откуда же именно возникает это представление о пространстве, окей?
— Окей, — откликается он.
***
Я делаю паузу, чтобы собраться с мыслями. Это очень не просто передать в словах, и мне нужно время, чтобы понять, как лучше это сделать. Проходит несколько секунд, и я, прочистив горло, начинаю объяснять.
— Нельзя не заметить, как явления, или то, что появляется в нашем восприятии, имеют пространственную протяжённость — то есть растянуты по всему полю нашего сознания в трёх направлениях, — говорю я Уолту.
— Разумеется, — отвечает он.
— Но дело вот в чём: мы можем знать заранее, что явление будет растянуто, даже ещё не видя его.
— Как так? — говорит Уолт, явно заинтригованный, куда это я клоню.
— А вот как, — говорю я. — Как можно сказать о чём-то, что оно появилось, если оно не имеет протяжённости?
Он немного думает.
— Хмм, полагаю, нельзя, — говорит он.
— А это должно означать, что протяжённость является неотъемлемой частью того, что значит появляться, верно?
Он думает ещё.
— Полагаю, это верно.
— Итак, объект должен как-то появиться, чтобы мы вообще могли говорить о появлении — и способ его появления растянут в трёх направлениях, образуя объём или "пространство".
— И это означает…
— …что кружка перед тобой не появляется в пространстве — но мы извлекаем нашу концепцию "пространства" из направлений, вдоль которых она растянута.
Уолт не спеша внимательно изучает кружку на столе перед ним.
— Значит, ты говоришь, что нет "пространства" и вещей, появляющихся в нём — но эта протяжённость явлений образует "пространство" как таковое? — спрашивает он.
— Всё верно.
После недолгого молчания Уолт заговаривает снова.
— Ты говоришь, что кружка и есть пространство? — спрашивает он.
Я произношу кульминационную фразу.
— Это именно то, о чём я говорю.
***
— "Пространство" не существует независимо от явлений, так же как женская фигура не существует независимо от её тела, — объясняю я Уолту. — Двойственность между пространством и вещами в нём чисто концептуальна. Пространство и явления никогда не бывают отдельно — это не две разные вещи — но пространственная протяжённость это составная часть явления как такового и должна служить отличительным признаком, характеризующим явление как явление. Ибо как можно говорить о появлении чего-то, если это не имеет протяжённости? Иметь протяжённость это суть того, что означает вообще появиться.
Я даю этому усвоиться, прежде чем продолжить.
— И пространство никогда не бывает одним, без явлений. Мы даже не можем помыслить о пространстве, не вообразив что-либо в нём, даже если это всего лишь чернота. Когда мы пытаемся представить себе абсолютно пустое пространство, на самом деле мы думаем о какой-то части явления, обычно об обрывке черноты, который, естественно, имеет протяжённость — так как в противном случае это вообще не было бы явлением.
Проходит несколько секунд, пока Уолт собирает всё воедино.
— И из протяжённости явлений мы извлекаем наше представление о пространстве? — спрашивает он.
Моя улыбка говорит обо всём. Молодец, парень.
***
— Итак, теперь мы можем увидеть здесь логику, — говорю я. — Так как явления и их протяжённость нераздельны — протяжённость является фундаментальным качеством для того, чтобы явления вообще были явлениями — и кроме того, явления есть ни что иное, как их восприятие, теперь мы можем раскрыть единственную реальность, которую имеет "пространство".
— И это? — спрашивает Уолт.
— Это просто элемент самого восприятия, — говорю я.
Уолт выглядит сбитым с толку.
— Не уверен, что понял, — говорит он.
Это меня в общем-то не удивляет. Я не ждал, что он тут же всё ухватит. Никто не понимает это с первого раза.
— Хочешь пройтись ещё разок?
— Да, пожалуйста.
— Хорошо, — говорю я. — Ранее я уже показал, что явления — цвета, звуки, ощущения и т. д. — это не то, что воспринимается, но являются самим восприятием, помнишь?
— Да, нет видения и видимого, — отвечает Уолт, — есть только видение, только чувствование, только слышание и так далее.
Я киваю.
— Отлично. Теперь, мы не видим "пространство", так же как мы не видим "цвет". Пространство это не то, что мы воспринимаем — но это форма, которую принимает восприятие, та самая форма, которая в первую очередь образует восприятие.
Уолт всё ещё выглядит смущённым.
— Давай я скажу по-другому, — говорю я, делая паузу на пару секунд, прежде чем начать снова объяснять. — Пространственная протяжённость это не просто то, без чего не может быть восприятия, оно является таким внутренним сущностным элементом того, что значит быть восприятием вообще, что без него восприятие не может больше рассматриваться как таковое. Без этого пространственного аспекта восприятие больше не будет восприятием.
Похоже, теперь до него дошло.
— Другими словами, — говорит он, — эта протяжённость в трёх направлениях и делает восприятие тем, чем оно является.
— Правильно. Протяжённость ощущения образует то, что позволяет ощущению вообще быть ощущением. И благодаря этой протяжённости видение является тем, что оно есть — ибо мы ни коим образом не можем вообразить видение без представления о его протяжённости — и по-прежнему считать его видением.
— Значит, ты говоришь, пространство и восприятие это в сущности одно и то же? — спрашивает Уолт.
— Да! Тот факт, что "пространство" это просто форма, которую принимает наше восприятие, и эта самая форма позволяет восприятию считаться восприятием как таковым, показывает, что пространство и восприятие это одно и то же. Любое разделение между ними чисто концептуально, и к тому же вызывает риск, что мы можем забыть об их единстве. Но если мы всё-таки настаиваем на разделении их в языке, давайте по крайней мере признаем, что "пространство" в лучшем случае не может быть ничем иным, кроме формы проявления восприятия.
Несколько секунд я даю словам повисеть в воздухе, прежде чем выразить мораль сей истории.
— Таким образом, всё, что подразумевает, что пространство может существовать независимо от восприятия, должно нести в себе явное противоречие — ибо "пространство" и восприятие это неразделимые стороны одной монеты. Нет "пространства", которое может существовать где-то там, потому что "пространство", это всего лишь форма, которую принимает наше восприятие. Иными словами, любой, кто заявляет о существовании независимого пространства, по сути утверждает, что "пространственный аспект нашего восприятия" может каким-то образом существовать независимо от восприятия — что является очевидным противоречием.
Я гляжу на Уолта. Для него это не очевидно, но ничего страшного. Мы не привыкли думать о подобных вещах. Иногда неплохо, когда кто-то просто проговаривает это для вас.
— Смотри, — говорю я, — ни один аспект восприятия не может существовать отдельно от восприятия, потому что именно эти аспекты образуют то, что вообще является восприятием. То есть, все элементы восприятия являются ни чем иным, как самим восприятием, — говорю я Уолту.
Он выглядит немного бледно. В нём идёт борьба. Я решаю идти до победного конца.
— Только подумай! Эта протяжённость в трёх направлениях — просто форма того, как мир, или явь, становится явным — эта форма обязательно должна быть неотъемлемой и единственной частью самого процесса проявления и ни коим мыслимым способом не может существовать независимо от него.
— Да? — только и смог выговорить он.
— Говорить, что может, подразумевает абсурдность заявления, что форма проявления восприятия может существовать независимо от восприятия — бессмысленное утверждение, явное противоречие, почти то же самое, что сказать, что мелодия может существовать независимо от музыки. Мелодия и есть музыка.
— И что всё это значит?
— Это значит, что всё, что остаётся от "независимого физического пространства", это просто непостижимое понятие. Всего лишь пустые слова.
Проходит несколько мгновений, и Уолт сдаётся.
— Квадратный круг? — шепчет он.
И вновь моя улыбка говорит обо всём.
***
— Окей, подведём итог. Давай пройдём по всему, о чём мы с тобой говорили, чтобы сложить все части вместе, — говорю я Уолту.
— Хорошо.
— Во-первых, идея объективной реальности основана на предпосылке, что пространство существует независимо от нас, то есть независимо от нашего восприятия.
— Да.
— Во-вторых, существование реальности за пределами нашего восприятия ни в коме случае не является очевидным — всё, с чем мы можем контактировать, это восприятие как таковое, и идея, что есть что-то за его пределами, есть просто идея.
— Конечно.
— В-третьих, для того, чтобы вообразить эту идею, даже если мы просто рассматриваем её возможность — что может существовать мир за пределами восприятия — мы должны представлять себе то, что, как мы думаем, может существовать.
— Стоп.
— Что такое? — спрашиваю я.
— Я не понимаю, как то, что я могу или не могу представить, имеет какое-то отношение к тому, что существует где-то там, — говорит он. — Что бы там ни существовало, оно не может зависеть от того, что я думаю. Очень даже может существовать нечто, что для нас непостижимо, то, что нам предстоит ещё открыть, или то, что наши ограниченные когнитивные способности не в состоянии постичь.
Хороший и типичный вопрос.
— Утверждать, что существует нечто "там", где вещи могут существовать или нет, это то же самое, что допускать существование независимого физического пространства, — отвечаю я. — Мы не можем привлекать идею о "там", об "объективности", без изначального воображения пространства, существующего независимо от восприятия. Понятие объективности само зависит от существования независимого физического пространства.
— Правда?
— Говорить, что что-то существует "объективно", значит представлять это в контексте пространства, то есть, верить в то, что оно существует в независимом физическом пространстве. Другими словами, мы не можем говорить о "там" без допущения независимого физического пространства, то есть, представляя его как таковое.
— Достаточно справедливо, — говорит Уолт.
— Но поскольку мы распознали, что пространство есть форма нашего восприятия, теперь логика нас обязует не рассматривать его больше как существующее отдельно — так как это повлекло бы за собой, чтобы мы воображали, что форма проявления восприятия может каким-то образом существовать отдельно от восприятия.
— …что является противоречием, — добавляет Уолт.
— И делает понятие о независимом физическом пространстве…
— …непостижимым, — Уолт завершает предложение.
— Прямо как квадратный круг.
— Боже, — произносит он.
— А так как независимое физическое пространство всегда было не более чем идеей, его существование теперь абсолютно упразднено невозможностью его представления.
— Боже, — повторяет он.
***
— Значит, ничего не существует? — спрашивает Уолт.
— Только это, — я развожу руки, показывая великолепие.
— И нас тоже нет?
— Конечно. Мы всего лишь видимости.
— Но видимости существуют?
— Не объективно, что есть единственный способ существования чего-либо. "Существовать" значит существовать объективно, а только что мы обнаружили, что это просто фантазия. Существования нет.
Уолт качает головой.
— Но ведь что-то же есть! — говорит он, указывая вокруг. — Что всё это?
Несколько восхитительных мгновений я наслаждаюсь этим великолепием, и наконец, отвечаю:
— Это называли многими именами, но, думаю, "Дао" — самое древнее.
Приложение
Даже если мы окажемся неспособными принять фиктивную природу объективной реальности, по крайней мере мы можем понять, что наш опыт в конечном счёте должен быть продуктом нашего аппарата восприятия. А если мы это поймём, мы можем также осознать, что элементы трёхмерности должны быть тоже продуктом этого аппарата. То есть, способность воспроизводить явления в категориях длины, ширины и высоты должна быть функциональным аспектом самого нашего аппарата — ибо нет мыслимого способа, которым пространство "где-то там" каким-то образом появляется "где-то здесь", только для того, чтобы быть заполненным объектами нашего восприятия.
Но поскольку существование самого аппарата зависит от того, что пространство это вещь независимая, а не просто производная самого себя, вся идея рушится под собственным весом, когда мы осознаем вышесказанное. Другими словами, когда мы действительно тщательно всё продумаем, мы поймём, что предположение о существовании объективной реальности влечёт за собой абсурдность, что аппарат восприятия существует внутри продукта собственного производства.
— Но, — можете возразить Вы, — что если есть другое пространство, которое также существует? Что если есть что-то, "похожее" на пространство нашего восприятия?
Ответ прост. Не может быть другого "пространства", потому что "пространство" это просто то, как явления видятся в категориях длины, ширины и высоты — и спрашивать себя, может ли это существовать независимо от нашего аппарата восприятия, так же бессмысленно, как спрашивать, может ли быть что-то "похожее" на это.
Любой, кто говорит, что "пространство" может существовать, просто неверно понял, что это: Это не нечто независимое, а просто способ, каким всё это становится явным.
Несколько заключительных слов
Если вам понравилась эта работа, прошу вас, подумайте над тем, чтобы оказать мне любезность и написать отзыв на Amazon.com. Успех этой книги и возможность дойти до многих читателей в основном зависит от как можно большего количества содержательных и честных отзывов, написанных о ней. Это займёт всего несколько минут вашего времени. Я безусловно буду вам очень признателен.
И наконец, огромное вам спасибо, что купили эту книгу! За дополнительной информацией обо мне и моей работе, пожалуйста заходите на мой вебсайт
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



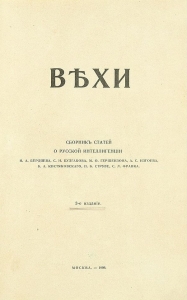
Комментарии к книге «Опровержение идеи о существовании внешнего мира», Горан Бэклунд
Всего 0 комментариев