Сергей Лишаев. Эстетика пространства
Предисловие
Может ли восприятие пространства быть источником особенного переживания? Думаю, что большинство читателей ответят на этот вопрос утвердительно. О волнующих встречах с пространством мы знаем из собственного опыта. Длинная витая нить с нанизанными на нее бусинами воспоминаний… Каждая из разноцветных бусинок напоминает об одной из манифестаций пространства, встреча с которым когда-то (памятным весенним утром или прохладным осенним вечером) поразила нас и вывела из невнятности повседневного среднечувствия. Трудно представить себе человека, который, оказавшись на краю скального выступа, нависшего над глубоким ущельем, или на узкой тропе, вьющейся над обрывом, остался бы равнодушным при виде открывшегося перед ним пространства. Какому горожанину, истомленному скитаниями по каменным лабиринтам, не знакома радость от соприкосновения с простором? И много ли тех, кто хотя бы однажды не поддался очарованию голубоватой дали, не внял ее зову?
Однако если читатель пожелает (а вдруг?) прояснить свои впечатления от рандеву с пространством («что это было? что меня взволновало?») и отправится на поиски литературы, которая могла бы удовлетворить его любопытство, он рискует вернуться с пустыми руками. Серьезных философских (эстетических, философско-антропологических) исследований по данному вопросу он не обнаружит.
Впрочем, тот, кто заинтересован в прояснении собственного опыта, и в такой ситуации в одиночестве не останется. У него будет возможность опереться на описания эстетической действенности пространства, оставленные другими людьми. Имеется множество текстов (в эпистолярном, мемуарном и дневниковом жанрах, а также в художественной прозе и в поэзии), свидетельствующих о впечатлении, которое пространство производит на человека. Однако все эти описания и рефлексии располагаются за пределами дисциплинарной философии, соответственно, не дают философско-эстетической дескрипции таких впечатлений.
На протяжении своей жизни человек встречается с различными эстетическими феноменами, однако для эстетики они остаются неопознанными, немыми… Их или определяют по ведомству классической эстетики (рассматривают в терминах красивого или величественного), или не замечают, или оставляют на усмотрение коллег с психологического, культурологического, филологического (и др.) факультетов. Если классическая философия интересовалась преимущественно прекрасным, то следует ли отсюда, что и современная мысль должна ограничить себя предметностью такого рода? Ответ напрашивается сам собой: делать этого не следует. Жизнь за последние два столетия заметно изменилась. Другими стали общество и культура, искусство и философия. Современная гуманитарная мысль осознает себя как «неклассическая» («постклассическая») или даже как постнеклассическая. Новая культурная и экзистенциальная ситуация (как и наш опыт) побуждает обратить внимание на феномены, связанные с восприятием пространства и времени.
Интерес к рассмотрению пространства в эстетическом горизонте стал пробуждаться около ста лет назад. Причем его эстетическая действенность рассматривалась не напрямую, а через преломление в художественном творчестве (репрезентация пространства в живописи, литературе, в пространственной организации архитектурных ансамблей, садов и парков, etc.). Речь идет о так называемом «художественном пространстве». В XX веке усилия исследователей фокусировались на пространственной (а также временной) организации художественных произведений[1]. Однако в последнее время появились работы, свидетельствующие о тенденции к превращению пространства в самостоятельный предмет эстетической рефлексии[2].
Полагаем, что все условия для построения эстетики пространства сегодня имеются, и пришло время наметить ее концептуальные координаты. Наша книга как раз и представляет собой попытку реализовать эту задачу В ней мы, во-первых, приложим усилия к осмыслению причин уклонения европейских мыслителей от анализа эстетического восприятия пространства, во-вторых, произведем концептуальную разметку феноменального поля эстетики пространства и, в-третьих, дадим аналитическое описание некоторых из ее феноменов в методологической перспективе феноменологии эстетических расположений (эстетики Другого).
Эстетика пространства в концептуальном поле эстетики Другого. Обычное состояние человека – быть занятым. Его сознание всегда чем-то наполнено: мыслями, представлениями, образами, символами[3]… Чаще всего оно загружено (занято) предметами повседневной озабоченности, однако бывает и так, что его внимание привлекают странные (метафизические) «объекты»: Бог, свобода, добро, время, бытие, ничто, мир… Они – давний предмет философского вопрошания. Но не только они. Не меньший интерес для философа представляют особенные, метафизически углубленные чувства и состояния. Причем иногда метафизический «элемент» углубляет восприятие пространства. Исследование метафизически особенных состояний, возникающих по ходу созерцания пространства, продолжает многолетнюю работу по концептуальному профилированию эстетики Другого (эстетики как феноменологии эстетических расположений). И прежде чем приступить к разметке феноменального поля эстетики пространства, следует напомнить о методологических принципах эстетики Другого[4].
Без артикуляции основных понятий этой эстетики многое в книге осталось бы для читателя «подвешенным в воздухе» и привело бы к неправильному пониманию ее содержания. Поэтому мы, работая над «Эстетикой пространства», посчитали необходимым подготовить ее к автономному плаванию, оснастив «корабль» навигационным оборудованием. Для этого нам придется время от времени совершать экскурсы в эстетику Другого. Ниже мы попытаемся кратко сформулировать основные, наиболее общие ее положения.
Замысел эстетики Другого предполагает сохранение связи с классической эстетикой и одновременно радикальное переосмысление ее категорий с новых методологических позиций. Такой подход позволяет инсталлировать в предметное поле эстетического познания те формы чувственного опыта, которые до настоящего времени в нем не рассматривались. Возможность расширения тематического горизонта эстетического анализа объясняется тем, что в границах феноменологии эстетических расположений эстетическое не связывается (на первом шаге) ни с какой-либо определенной предметностью, ни с какими-то особенными способностями субъекта, ни с какой-то его специализированной деятельностью. Феноменология (онтология) эстетических расположений исходит из того, что эстетическое разворачивается в точке события чувственной данности особенного, Другого. Эстетическое событийно, непроизвольно, автономно. Оно не производится специфическими свойствами предмета. Доступ к нему не гарантируется эстетической деятельностью. И предмет с его особенными свойствами, и деятельный субъект с его способностями создают лишь условия для свершения эстетического события, но сами по себе произвести его не могут. Лишь постфактум, уже после того, как событие свершилось, предмет и субъект, вовлеченные в его силовое поле, обретают эстетическую определенность (эстетическую качественность).
Открытие Другого для чувства – это событие, которое концептуализируется апостериори, через типологизацию сходных событий и их фиксацию в качестве эстетических расположений. Нашу расположенность, выделенную из повседневного средне-чувствия данностью Другого, мы определяем как эстетическое (как эстетический опыт)[5]. Эстетические расположения представляют собой ситуативно-событийную со-расположенность человека и того, что им воспринято, когда вещь (или конфигурация пространства) и воспринимающий ее субъект становятся чем-то одним, чем-то единым.
Апостериорность эстетического ориентирует исследователя не на заранее данную (априорную) категоризацию эстетической предметности и эстетического чувства, а на рассмотрение переживаний, выделенных из потока обыденных состояний своей метафизической углубленностью. Апостериорный подход к вычленению эстетических феноменов оставляет поле эстетического усмотрения открытым для неведомых эстетической теории модусов чувственной данности Другого. Совершенствование теории мыслится в этом случае не как построение законченного сооружения, а как составление карты эстетических расположений, всегда открытой для уточнений и расширений.
Ее концептуальный инструментарий включает в себя такие понятия, как «чувственное», «эстетическое», «особенное», «Другое», «событие», «эстетическое расположение», «преэстетическая расположенность», «эстетика утверждения», «эстетика отвержения», «эстетика пространства», «эстетика времени» и др. Эти понятия формировались нами по ходу осмысления эстетического опыта и использовались как инструменты его экзистенциально-онтологического и типологического анализа.
«Эстетика утверждения» и «эстетика отвержения» – базовые понятия эстетики Другого. Они ориентируют исследователя на выявление онтологического фундамента разнонаправленной реакции человека на чувственную данность условно или безусловно особенного (Другого). Опираясь на эти понятия, мы получаем возможность артикулировать онтологическую конституцию эстетических расположений. В точке эстетического события чувственно данная предметность или притягивает нас к себе, или от себя отталкивает. Другое в нем открывается или в модусе Бытия, или в модусах Небытия и Ничто. В безусловных эстетических расположениях нам дана (переживается нами) онтологическая дистанция (наша инаковость по отношению ко всему сущему). В силовом поле данности Другого эта дистанция или явным образом утверждается (Бытие) или разрушается (Небытие, Ничто).
Помимо этого основополагающего деления эстетические расположения отличаются друг от друга по предметности, с которой мы связываем особенные переживания. Эстетический опыт получает закрепление в сознании субъекта (а иногда и в сознании культурной традиции) в качестве особой предметности, с одной стороны, и в качестве особенного чувства-состояния – с другой стороны. Предметы, побывавшие в точке эстетического события, становятся преэстетически ценными (значимыми) в индивидуальном и культурном опыте. От встреч с ними ожидают определенных чувств (от красивого предмета ждут одного, от страшного – другого). Однако такое ожидание возможно в том случае, если предмет и соответствующее переживание уже осмыслены культурой (или отдельным человеком) как имеющие эстетическую ценность (то есть если имеется их опыт и этот опыт закреплен в языке, в искусстве, в теоретическом дискурсе).
Эстетический опыт – это со-расположенность субъекта и предмета, вовлеченных в событие Другого. Помимо различения утверждающих и отвергающих расположений нами были выделены (в качестве особых областей опыта) расположения эстетики времени[6] (ветхое, старое, юное, молодое, мимолетное и др.) и эстетики пространства (прекрасное, безобразное, большое, возвышенное, маленькое, затерянное, страшное, ужасное, беспричинно радостное и др.). В эстетике пространства мы проводили разграничение между восприятием пространственных форм и восприятием пространства. В эстетику пространства были включены, с одной стороны, феномены, акцентирующие форму вещей (красивое, прекрасное, безобразное, уродливое) и их величину (большое, маленькое), а с другой, расположения, предметным референтом которых пространство не является (страшное, ужасное, беспричинно радостное, тоскливое) или играет в них вспомогательную роль (возвышенное, затерянное).
Объединение под рубрикой «эстетика пространства» феноменов беспричинно радостного, прекрасного, безобразного, красивого, уродливого, большого, возвышенного, затерянного, маленького, ужасного, страшного было побочным результатом стремления отделить эстетику времени как эстетику существования (эстетику восприятия сущего в горизонте возможности/невозможности присутствия) от старой, эссенциалистской эстетики (от эстетики прекрасного). В результате понятие «эстетика пространства» не получило в то время (в начале 2000-х) должной конкретизации. Его содержание не было раскрыто. На том этапе работы над неклассической эстетикой все эстетические феномены, которые не удалось отнести к эстетике времени, были приписаны к эстетике пространства. Так мы рассуждали в 2000-м году. Но дальнейшая работа в концептуальном горизонте эстетики Другого показала, что между эстетикой тела (эстетикой формы) и эстетикой пространства различий не меньше, чем между эстетикой пространственной формы (эстетикой прекрасного/безобразного) и эстетикой времени. Внимательное рассмотрение данного фрагмента карты эстетических расположений[7] привело нас к выводу, что область феноменов, определявшихся как «эстетика пространства», распадается на ряд отличных друг от друга регионов эстетического опыта и включает в себя, в частности, эстетику тела (эстетику пространственной формы) и эстетику пространства.
Задача этой книги состоит в том, чтобы попытаться конституировать эстетику пространства как особую область эстетического опыта и описать некоторые из принадлежащих ей феноменов (расположений).
* * *
Любая книга – это результат длительных усилий. Монография, посвященная эстетике пространства, не является исключением. Мы упомянули о том, что первый подступ к эстетике пространства относится к периоду первоначального продумывания принципов постклассической эстетики («Эстетика Другого», Самара, 2000). В то время она мыслилась как другое по отношению к «эстетике времени». Начало осмыслению пространства как особой области эстетического опыта было положено позднее, в 2004–2005 годах, в статьях, посвященных феномену уюта (см. сноску 7). В 2007–2008 годах был исследован феномен простора (см. там же). Эстетическая аналитика уюта и простора привела нас к мысли о необходимости включения эстетики пространства в феноменоменологию эстетического опыта в качестве особой области эстетической рефлексии. Осуществить этот замысел удалось благодаря поддержке РГНФ (2010–2012, «Эстетика пространства в горизонте экзистенциальной аналитики»)[8]. Итогом трехгодичной работы стала книга по эстетике пространства, работа над которой была продолжена в последующие годы.
Представляя собой итог многолетних размышлений над эстетикой пространства, эта книга остается, тем не менее, ее предварительным наброском. И не только потому, что не все ее феномены были нами описаны, а еще и потому, что в зависимости от трансформации опыта и методов, используемых в его истолковании, область дескриптивных усилий феноменолога может и должна (со временем) менять свою конфигурацию. Книгу, которую мы предлагаем вниманию читателя, следует рассматривать как первый этап долговременной программы экзистенциально-эстетического анализа пространства.
Глава 1. Данность и возможность в эстетическом опыте
1.1. Эстетика пространства: культурно-историческое и экзистенциальное измерения
Эстетический опыт многообразен, и эстетические переживания, соотносимые с теми или иными формами пространства, знакомы людям издавна. Однако далеко не всё из того, что есть в опыте, закрепляется в языке, становится данностью общественного сознания. В свою очередь не весь метафизически отмеченный опыт (в том числе опыт, уже артикулированный в языке) попадает в поле зрения философа, становится предметом эстетического анализа. Закрепление за переживаниями и их предметами особых терминов, осмысление этих переживаний в искусстве, науке и философии, присвоение им особого ценностного статуса (их «валоризация») зависит от морфологии культуры, которой принадлежат ее носители.
Каждая культура наделяет человека специфической языковой оптикой, корректирующей восприятие мира через ускользающую от внимания субъекта «работу» языка. Семантические фильтры препятствуют фиксации внимания на опыте не релевантном культуре. Носителями традиции опознается и признается (в частности, признается ценным эстетически) только опыт, легитимированный на культурно-языковом уровне. Чаще всего представителями той или иной культуры опознается тот опыт, который закреплен терминологически, и, соответственно, именно он вызывает интерес и у субъектов специализированных рефлексивных практик, и у людей искусства. Итак, одни наши переживания и влечения снабжены языковым (культурно-семантическим) «пропуском», дающим доступ к персональному сознанию в качестве такого-то-вот чувства, влечения, переживания, а другие пребывают в лимбе безъязыкости, ускользая от нашего внимания. Однако эстетические феномены, которые таятся от сознания, в какой-то момент (в момент, когда для этого созреют благоприятные условия) способны выйти на свет и, став предметом внимания и интереса, получить общественное признание, присоединиться к феноменам, включенным в эстетический тезаурус культуры[9].
Впрочем, даже поименованные переживания предметами собственно эстетической рефлексии становятся далеко не сразу Чтобы невидимое стало видимым, чтобы новый феномен получил имя, а затем вошел в предметное поле эстетической теории, должны произойти сдвиги «на глубине» (в миросозерцании человека, в основах общественной жизни, в самом его существовании). Отвечая на вопрос, почему такой мощный эстетический аттрактор, как пространство, столетиями не привлекал к себе философского внимания, стоит рассмотреть влияние фундаментальных установок (настроек) культуры на эстетическую восприимчивость европейцев в исторической ретроспективе.
Эстетика пространства и новая чувствительность (к постановке вопроса). Минувшее столетие оказалось богатым на открытия, кризисы и катаклизмы. Мировые войны и революции, рождение и гибель империй, становление потребительского общества, возникновение новых медиа и распространение сетевых форм коммуникации преобразили мир. Едва ли не первой в череде потрясений стала революция в искусстве. Но в центре нашего внимания находится не экспериментальная эстетика творцов нового искусства, а тот тип чувствительности, который сформировался в европейской культуре к началу XX столетия, и те культурно-исторические и экзистенциальные условия, которые его подготовили[10].
Для того чтобы запеленговать чувствительность нового типа, нужно выйти за границы философии искусства и попытаться осмыслить изменения в мироощущении европейцев за те несколько веков, которые отделяют рождение постсредневекового искусства от его решительной деструкции в начале XX столетия.
Одна из задач философской эстетики как раз и состоит в том, чтобы исследовать, в каком направлении происходит трансформация эстетической восприимчивости, и описать те ее формы, которые определяют нашу чувствительность сегодня. Дело в том, что далеко не все эстетические феномены современности можно удержать с помощью категориальных приёмников классической эстетики. Современная культура и теоретическая эстетика нуждаются в разработке такой концептуальной оптики, которая, с одной стороны, была бы способна расширить пространство эстетической рефлексии в соответствии с трансформацией эстетического опыта, а с другой – сохранить связь с традицией, удерживая (и переосмысливая) опыт, от которого отправлялась классическая эстетика.
Исходные принципы эстетики, которая была бы адекватна современным задачам, были сформулированы нами в рамках «феноменологии эстетических расположений»[11], фокусирующей исследовательское внимание не столько на прекрасном и безобразном, сколько на феноменах пространства и времени.
В первом разделе первой главы мы сосредоточим внимание на условиях, которые делают возможной и необходимой эстетическую концептуализацию пространства. Их выявление предполагает постановку ряда общих вопросов. Вот некоторые из них.
Что привело классическую эстетику к кризису и почему принципы старой эстетики утрачивали свою убедительность? Как можно охарактеризовать новую чувствительность, в чем состоит ее специфика? Как новая чувствительность связана с восприятием пространства?
Традиционное общество и эстетика прекрасного (прекрасное тело как образ целого). И для мифологической архаики, и для античности, и для Средних веков, и для Европы Нового времени (вплоть до романтической революции конца XVIII – начала XIX века) характерно представление о мире как о завершенном целом. Мир дан, он как-то устроен, структурирован, в нем (от века) установлен незыблемый порядок, и человеку надлежит этому порядку следовать, со-ответствовать. Да и как иначе, если человек занимает в нем определенное, заранее отведенное ему место? Человек, мыслительный горизонт которого определяется представлением о мире как о завершенном целом, ориентирован на познание не изменчивого, не становящегося, не того, что возможно, а того, что есть, а лучше всего есть то, что есть вечно. Представление о структуре мироздания использовалось как камертон, с помощью которого жизнь отдельного человека должна быть приведена в соответствие с «музыкой сфер». Сверяя свою жизнь и жизнь ближних с музыкой Целого, человек должен был выправлять кривду своего уклоняющегося от прямого пути существования по правде ее гармоничных созвучий.
Люди, смотревшие на мир сквозь категориальную оптику европейской (сначала античной, потом – христианской) культуры, в своем эстетическом отношении к нему исходили из понятия прекрасного (отправлялись от прекрасной, гармоничной формы). Доминирование идеи прекрасного имело под собой серьезные основания. И для архаики, и для традиционного общества мир – это хорошо упорядоченное и иерархически выстроенное мега-тело. Мир здесь осмысливался по модели, задаваемой человеческим телом, а тела человека и других сущих рассматривались как составные части мироздания (тела внутри мира). Поскольку мир мыслился как завершенное целое (мега-тело), внимание фокусировалось на том, что отвечало представлению о мире как о хорошо структурированном теле. В таком смысловом контексте привилегированным предметом чувственного восприятия оказывалась прекрасная телесность, прекрасная форма.
Акцент делался на данном, на порядке (порядке космическом, локальном, социальном), который необходимо неустанно поддерживать[12]. Мир чувственно воспринимаемых вещей и тел связывался с божественным, высшим миром (с миром идей, форм, сущностей). В сознании античных мыслителей (платоников, перипатетиков) мир, воспринимаемый с помощью органов чувств, удерживается от падения в хаос совершенством смысловых форм, подшивающих непрестанно отклоняющиеся от них земные тела к небу смысловой определенности. Идеи, смысловые формы придают мирозданию величавую устойчивость, обеспечивают его непрерывно воссоздаваемую упорядоченность.
При такой модели миропонимания особую ценность приобретают тела, которые отличаются определенностью формы и совершенством пропорций. Их созерцание подтверждает (причем непосредственно, на уровне переживания) веру в упорядоченность, космичность мира, в его пригодность для человеческого существования. За текучей повседневностью такое созерцание открывало устойчивость, определенность, поддерживая уверенность в том, что у «текучих» вещей есть вечное основание, что жизненный порядок надежно обеспечен. Уверенность в упорядоченности мироздания помогала выстроить определенный этос и сохранять (хотя бы относительный) порядок в умах и человеческих отношениях.
Однако тот, кто исходит из мира как космоса, должен вновь и вновь убеждаться в том, что мир космичен, поскольку порядку все время угрожает беспорядок, хаос. Созерцание прекрасного удостоверяло, что локальный порядок (в доме, в общине, в государстве) основывается на порядке космическом. Вторжение в жизнь беспорядка не нарушает общей гармонии: беспорядок на периферии мироздания может разрушить чье-то благоденствие, но он не может поколебать устои мироздания.
Представление о совершенном, прекрасном теле не оставалось неизменным. От эпохи к эпохе оно трансформировалось. Совершенным телом античности было тело бога (богини). Божественные (совершенные) тела были той меркой, которой «измеряли» (оценивали) тела богоподобных героев, мудрецов, воинов, атлетов.
В христианской традиции совершенное тело – это тело одухотворенное, пронизанное нездешним светом. Совершенная телесность предстает здесь как телесность преображенная (именно к такой телесности отсылали изображения Христа, Богородицы, апостолов и святых на иконах, фресках, на страницах иллюминированных манускриптов)[13].
Если исходить из мировой данности, из того, что Истина – вечное основание вселенной (в данном случае не важно, именуем ли мы ее Единым, Умом, Богом, Субстанцией, Духом или Абсолютом), то принцип тождества получит приоритет над принципом различия, общее – над индивидуальным, сущность – над существованием, повторение того же самого – над неповторимым, покой – над становлением, классическая метафизика – над метафизикой ad hoc (по случаю). В перспективе философской аналитики эстетического опыта это означает, что до наступления романтической эпохи (до конца XVIII века) центром эстетической рефлексии могло быть (и было) тело: тело человека, а также тела животных, растений и «тела вещей». Эти тела представали перед рефлексирующим разумом как формы, чей чувственный образ обнаруживал их чтойностъ. Тело было тем привлекательнее, чем лучше его внешняя форма выражала первообраз (идею, сущность, первоформу).
Прекрасное тело находилось в центре внимания народов и духовных элит очень долго: от мифологической архаики до раннего Нового времени включительно[14]. Только с эпохи Просвещения и романтической революции в культуре внимание к чтойности, к совершенству и законченности формы вещей стало ослабевать. Взоры европейцев, начиная с эпохи Возрождения (и чем дальше, тем больше), обращаются к пространству и времени. Время оказывается тем, что утрачивается, накапливается, планируется, тем, что необходимо искать, сохранять и рационально использовать. Однако нас в этой книге интересует не время, а пространство. Пространство в эту эпоху становится «проблемой», которую надо решать, в том числе – решать эстетически. История изобразительного искусства позволяет в буквальном смысле увидеть, как внимание европейцев постепенно смещалось с телесной формы на форму пространства.
Начиная с эпохи Возрождения, художники возвращаются к культивированию образа земного, непреображенного тела. Самое яркое выражение поворот к чувственной красоте нашел в изобразительном искусстве. В изображение человека вошло то, чего не было в античных образцах: горизонт, перспектива, светотень, поворот в три четверти. Иначе говоря, в него вошла изменчивость посюсторонней жизни, подвижность и волнующая переходность ее форм[15]. Образы этой и позднейших эпох – это образы прекрасного, красивого или интересного («причудливого») по своей форме тела, тела не безличного, эйдетического, индивидуализированного, психологизированного, изменчивого.
История пейзажа как жанра станковой живописи начинается с XVI века, но расцвета достигает позднее. Параллельно с развитием пейзажной живописи развивается и садовопарковое искусство. Планировщик парка работает с природным ландшафтом и создает пейзажи, способные особым образом настраивать человеческие сердца на созерцание разных модусов пространства (обзорные площадки, открытые места, перспективы и т. д.) и времени (садовая руина).
С того момента, когда в образе Христа на первый план вышла Его человеческая природа, в потомках ветхого Адама, в их земном облике стали искать отблесков «небесной красоты». Вместе с реабилитацией смертного тела росли и надежды на то, что и земную жизнь человека можно, если постараться, улучшить, усовершенствовать и – когда-нибудь в будущем – построить общество, где жизнь будет счастливой и гармоничной. Взгляд, направленный ввысь, в небо, заскользил по земной поверхности, устремился вдаль, в будущее. Эпоха великих географических открытий и эпоха социальных утопий – одна и та же – гуманистическая – эпоха, открывшая эстетическую ценность пространства и времени как двух форм движения к новому.
Долгое время движение вдаль тормозили социальные и ментальные структуры традиционного общества. И хотя с XV–XVI веков в Европе начинают складываться новые формы социальной, экономической и политической активности, а привычные цели и ценности медленно, но неуклонно меняются, жизнь общества в целом (жизнь «безмолвствующего большинства») по-прежнему определяется традицией. В эти столетия (примерно до середины XVIII века) в Европе продолжала доминировать ориентация на данное, а не заданное, на прошлое, а не будущее (будущее здесь – не тот мир, который когда-то будет построен, это или воспроизведение великого прошлого (античность, раннее христианство), или эсхатологическое будущее, «конец света»). И до тех пор, пока религиозные и социально-политические устои старой Европы составляли фундамент европейской культуры, человек Нового времени представлял себе мир как иерархию духовных и физических форм.
Как видим, философы античности и Средневековья, а также мыслители XVIII–XIX столетий (а в значительной мере и XX века) в своих размышлениях над «тонкими» (не выводимыми ни из сферы сакрального опыта, ни из человеческой сексуальности, ни из того, что приятно или полезно) чувствами отправлялись от образа прекрасной телесности, от ее гармоничной формы. Именно тело, вещь, форма были привилегированным предметом их исследовательского интереса.
Смещение внимания с очарованности гармоничным телом на переживания, не связанные с эстетикой прекрасного, можно обнаружить уже в XVIII веке (особенно во второй его половине) одновременно с легитимацией дисциплинарной эстетики.
Демонтаж представлений о мире как завершенном целом и кризис эстетики прекрасного. Кризис эстетики прекрасного глубинным образом связан с разрушением образа завершенного (закрытого для нового) мира. Происходившие в сознании культурой элиты изменения постепенно накапливались, суммировались и готовили почву для более радикального поворота в представлениях о Боге, мире и человеке, чем тот, который принесла с собой духовная атмосфера XV–XVI веков. Примерно с середины восемнадцатого столетия христианский мир вступил в фазу быстрых и радикальных перемен в политической, социально-экономической и духовной жизни. Эти перемены выразились в стремительном по историческим меркам разрушении религиозно-метафизических оснований европейской культуры. Этому процессу сопутствовала деструкция несущих опор монархического, органически – сословного устройства общества и государства[16]. Важнейшим результатом перемен в социальной и духовной жизни как раз и стала утрата интуиции целостного, завершенного мира как фундамента традиционного миропонимания.
С падением представлений о мире и о государстве как неизменном, иерархически выстроенном порядке связано смещение внимания с вечного на временное, на то, что «по природе своей» допускает вторжение рационально действующего и планирующего будущее человека. С этого момента люди начинают исходить из того, что у них есть право на вмешательство в привычное течение жизни, если только это вмешательство направлено на ее улучшение. Такая установка постепенно меняла отношение человека к своей жизни. Он больше не готов был проживать жизнь, принимая ее содержание как данность (как свой удел, свою долю), и чем дальше, тем больше склонялся к тому, чтобы делать ее, то есть проектировать, переводить собственный замысел о себе в действие, в действительность. В традиционном обществе такая установка, конечно, тоже была возможна, но не в виде общего правила, а как исключение из него. (Только одна возможность переменить место и жизнь была открыта для всех – это путь подвижника, монаха[17]).
В традиционном обществе будущее определено заранее, оно мыслится как повторение того, что было. Будущее воспроизводит данное по правилу бывшего. Это заранее известное будущее. Такое будущее вполне органично для общества, в котором люди не ищут истину(ы), но сознают себя стоящими перед Истиной. Каждый, кто верует, должен принять существующий порядок вещей и следовать проверенными путями, стремясь приблизиться к Богу и обрести (милостью Божией) спасение. Нежданное, небывалое, если и может прийти, то от Бога, от людей небывалого ждать не приходится[18]. Когда случается что-то необычное, новое, оно рассматривается или как чудо[19], или как отклонение от должного, как грех, как проступок. Если у человека традиции и есть будущее, не воспроизводящее бывшее, то его определяют святость, чудо или отклоняющаяся от должного преступная воля…
Будущее дохристианского общества (античность) нацелено на воспроизводство прошлого-настоящего. Христианство это циклическое время размыкает. Творение мира, грехопадение человека, апокалипсис и Страшный Суд выпрямили кольцо времени, дали ему направление. Вечность теперь – это не мир в его идеальном (умном) средоточии, вечность – это Бог. Стрела времени запущена вверх, в Небо[20].
В конце XVIII века разомкнутое по направлению к вечности время переориентируется в горизонтальном измерении и служит осмыслению и структурированию частной и общественной жизни. Время теперь не связано с Богом-Творцом, Искупителем и Спасителем, хотя и не сворачивается, как встарь, золотыми кольцами вокруг неизменного Центра (вокруг Блага, Единого или Ума-перводвигателя). Вера в Творца разрушила чары, наброшенные на сознание чередованием сезонов, а секуляризация общественной и частной жизни открыла будущее уже не в образе Страшного Суда и Царства Небесного, а в образе возможности, которую может реализовать человек в соответствии с тем, что он сам считает разумным, справедливым и полезным для себя, для других, для человечества в целом.
Утрата перспективы духовного восхождения и обретения вечной жизни в лучах превозмогающей время Господней Любви сопровождалась переакцентировкой внимания, сосредоточившегося на восходящем движении человека и человечества («развитие», «прогресс», грядущее «царство свободы и разума»), на их самоутверждении во времени. Делегируя полноту и цельность присутствия в «прекрасное далёко», человек придавал своему кратковременному существованию осмысленность; его внутренний взор был устремлен к магическому шару грядущего совершенства в круге мира сего. Человек, устремленный в будущее, покидает неустроенность/несовершенство повседневности и вписывает свои действия (и свою жизнь как совокупность действий во времени) в виртуальный горизонт искомой цельности. Пусть мир еще далек от совершенства, но он развивается, меняется, поддается целенаправленному воздействию разумной воли, следовательно, там, в будущем, жизнь будет лучше, возможно даже, что она будет прекрасной, совершенной. Жизнь обретает цельность и полноту в утопии. Мечта и революция – это то, чем одаряет человека молодость, но не зрелость или старость. От индивида в эпоху зрелого Нового времени ожидают готовности активно трансформировать природную и социальную реальность, изменять себя и мир в соответствии с гуманистическим проектом (понимаемым так или иначе).
Начиная с Просвещения и особенно с эпохи романтизма, в Европе доминирует идея восходящего движения к будущему. Будущее берет верх над прошлым, а новое – над старым уже не по тенденции только (земное будущее человечества лучше его настоящего), но и по факту (повседневная жизнь строится исходя из того, что будет). Однако даже в начале девятнадцатого века Целое было для европейца тем, чего ему недоставало, что манило его к себе. В философии Гегеля мир как Целое оказывается имманентной Целью логического и исторического развития, а субъективный и объективный дух достигают в ней – в конечном итоге – искомой полноты и конкретности, что и дает основание историкам философии относить этого мыслителя к философам классического типа. Но именно завершенность мирового развития была воспринята современниками Гегеля как «фальшивая нота», поскольку она диссонировала с открытым в будущее сознанием его молодых современников. Вскоре после смерти мыслителя его система была отброшена, а диалектический метод, понятый как логика отрицания, самодвижения и развития, нашел применение и в философии, и в социальной теории, и в истории, и в гуманитарном знании в целом[21].
Таким образом, примерно с начала XIX столетия[22] вниманием европейцев владеет уже не только данность, но и возможность, его интересуют теперь не только вещи, тела, но также и пространство и время как свобода движения, как условие самореализации индивидуальности и исторического строительства. Важно кем-то быть, занимать в обществе достойное положение, но еще важнее возможность сменить место. Возможность начинают ценить больше, чем данность, усматривая в ней источник обновления и совершенствования мира и человека.
От вечного к временному (эстетическое переживание времени и пространства). Распад традиционной культуры сопровождался секуляризацией сознания, кризисом классической философии, инструментализацией и специализацией мышления, etc.
Какими же были последствия смещения внимания от завершенных форм к постоянному обновлению жизни для эстетического сознания и философской эстетики? Ведь совершенно очевидно, что эти перемены не могли не коснуться эстетической восприимчивости человека.
Уже на уровне зрительного восприятия фокусировка сознания на возможности иного предполагает перенос внимания с тел и вещей на возможность/невозможность движения, на смену местоположения (эстетика пространства), на переживание возможности/невозможности быть иным, существовать иначе (эстетика времени).
Внимание человека, который еще не знает (не знает заранее)[23], «кто он» и «что он», и который мало-помалу утрачивает уверенность в том, что он знает, как устроен мир, смещается с вещей и мест на 1) временные характеристики сущего и на 2) пространство как возможность движения, перемещения. В «обществе возможностей» и «перспектив» восприимчивость к формам пространства и времени[24] естественным образом возрастает. Эстетическое восприятие пространства – это переживание данности Другого не через особую форму тела, а через особенную форму пространства.
В чем же выразилась смена эстетических приоритетов человека эпохи позднего модерна? Во-первых, в смещении внимания с прекрасной формы (символизировавшей завершенность и упорядоченность мира) на то, что ее отрицает (эстетика безобразного, уродливого, страшного, ужасного). Во-вторых, в росте чувствительности к эстетическим феноменам, в которых на первый план выходит не чтойностъ вещей, а переживание различных модусов возможности/невозможности.
Новая чувствительность и революция в искусстве. Возможность иного как особое эстетическое переживание. Отпадение от прекрасной данности проще всего проследить на материале изобразительного искусства конца XIX – начала XX веков. Сначала тела и вещи растворяются (раскрываются) в интенсивном свете и цвете (импрессионистическая атмосфера), потом анатомируются (кубистические исследования формы), после чего теряют свою фигурность, так что созерцатель холста оказывается в царстве линий, точек, геометрических фигур и цветовых пятен (абстракционизм). В конце концов, логика последовательного отрицания «миметической эстетики» и живописной традиции должна была привести художников к отказу от создания произведения как предмета-для-созерцания. Что и было продемонстрировано Дюшаном, революционный жест которого был закреплен в экспериментах сторонников поп-арта, в концептуализме и акционизме.
Отрицание фигуративности – логический итог эволюции культуры, утратившей веру в отнесенность сущего к безусловному Началу (к абсолюту). Если сущее не прикреплено к безусловному (будь то платоническое Единое-Благо или Творец, Создатель мира), то мимесис утрачивает онтологический фундамент и внимание субъекта смещается от подражания данному к изобретению/изображению возможных миров.
Процессы, аналогичные тем, что наглядно прослеживаются в истории европейской живописи, можно наблюдать и в других видах искусства. В литературе, например, в фокусе внимания все чаще оказывается не то, что было или могло быть в прошлом (в прошлом персональной памяти или в историческом прошлом), не то, что есть, не то, что может быть в будущем, если исходить из условий, которые есть теперь, а то, что можно вообразить (возможные, воображаемые миры). Именно на воздушном фундаменте возможности выстроены волшебные миры фэнтези (от Толкиена и Льюиса до множества их продолжателей) или научной фантастики. Помещая своих героев в заведомо несуществующий (и никогда не существовавший) воображаемый мир, авторы наполняют его богами, людьми, магами, героями, народами, животными, растениями, ландшафтами, языками, etc.
Фундамент «религии прогресса» (принявший после двух мировых войн усеченную форму религии технического прогресса) – непреклонная (и наивная) вера в спасающую силу новизны нового. В культуре, основанной на сакрализации новизны, на ее превращении в предмет квазирелигиозного культа[25], десакрализация авторитетного, образцового, классического – не более, чем оборотная сторона «новолюбия» (или «кайнэрастии», по выражению А. И. Сосланда). Но если на первый план выходит новое, то прошлое не воспринимается больше как то, что заслуживает воспроизведения (лучшее, что может предложить прошлому культурная и политическая элита последних двух столетий, – это уважение и понимание)[26]. Прошлое больше не свято, оно исторично. Прошлое можно использовать как ресурс обновления: бросая в топку перемен доставшиеся от прошлого различия, запреты, традиции, нормы и моральные установления, можно получить высвобождающуюся от сгорания различий энергию для ускоренного движения в неведомое (но, как многим хотелось бы думать, счастливое) будущее.
Аналитическое разложение и дискредитация безусловных ценностей классической культуры в искусстве раньше и ярче всего заявило о себе в живописи. Авангард начала XX века с увлечением занимался аналитическим развинчиванием (развенчиванием) традиционных эстетических установлений, символическим перечеркиванием того, что прежде рассматривалось как навсегда установленное, завершенное, вечное. Поклонение новизне нового неизбежно вело к демаршу против устоявшихся норм. Ведь скорость изменения-обновления жизненных форм напрямую зависела от способности отказаться от доставшихся по наследству религиозных, моральных, художественных и иных принципов. Чем больше свободы от наследия прошлых веков, тем выше скорость обновления. Чтобы темп движения «вперед» не снижался, а увеличивался, необходимо «поднимать якоря» безусловных ценностей, освобождать человечество от предрассудков и суеверий. (Нельзя не отметить, что девиз Михаила Бакунина – «страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть» – в среде художников-авангардистов был подхвачен с подлинно революционным энтузиазмом).
Надо признать, в первой половине XX века еще было что разрушать, от чего отталкиваться. Моральные, эстетические и бытовые устои старого мира сохраняли в эту эпоху заметное влияние. Об этом говорит хотя бы бурная реакция публики на экспериментальное искусство. В начале XX века революция в искусстве – еще была революцией. Реакция публики на эпатирующие жесты художников высвечивала имена нарушителей устоев и приносила им сначала скандальную известность, а потом и славу творцов нового искусства, «классиков авангарда». Но во второй половине прошлого века эксперимент утратил новизну и превратился в повседневную арт-практику, стал чем-то обыденным, рутинным.
Несущие конструкции изобразительного искусства, опиравшиеся на классическую традицию, удалось демонтировать за несколько десятилетий. Развенчивание ценностей прошлого довольно быстро стало обыденностью и перестало задевать почтенную публику. Порог чувствительности снизился. Задеть за живое апатичную, утратившую определенность эстетических ожиданий аудиторию стало трудно, почти невозможно («Не все ли равно? Тара-ра-ра-бумбия, сижу на тумбе я»).
В эстетических расположениях, замкнутых на прекрасное тело, мы имеем дело с событием, в котором мир или утверждается как прекрасная данность, или же, как в переживании безобразного, цельность, красота и осмысленность мира ставится под вопрос. Если вещь прекрасна, это свидетельствует (на уровне переживания) о наличии в мире гармонии и смысла. Если на первый план выходит нонсенс, а вопрос о конечном смысле воспринимается как наивный или даже неприличный («дикий»), это означает, что в центре внимания находится становление, а не данность, возможность, а не действительность.
Очевидно, что за новым искусством стоит новое мироощущение, новый способ воспроизводства человеческого. В его основе – обостренное переживание фальши дальнейшего (но уже механического, формального) продолжения старого искусства. В какой-то момент создание произведений, ориентированных на классическую традицию, начинает восприниматься как деятельность, лишенная содержания, как пустая имитация. В мире, поставленном на возможность, возникает необходимость в дескрипции пространства как особого предмета восприятия.
Новая чувствительность и эстетическая теория. Социально-культурные и экзистенциальные сдвиги последних десятилетий оказали весьма заметное воздействие на искусство, на литературную и художественную критику, на искусствознание и литературоведение, но на эстетике они сказались мало. Концептуальный горизонт философской эстетики, если говорить о ее базовых категориях, по-прежнему определяется оппозицией прекрасное/безобразное[27].
Здесь, правда, следует отметить, что пространство эстетического опыта расширилось еще в восемнадцатом столетии, когда (в дополнение к прекрасному) в философии появилась категория возвышенного.
Сегодня, с дистанции более чем двухсот лет, можно уверенно сказать, что аналитика возвышенного была результатом и выражением кризиса классической философии и эстетики. Бёрк и Кант отделили эстетику возвышенного от эстетики прекрасного в качестве новой, «другой» эстетики. Возвышенное стало своеобразным испытательным полигоном для неклассических подходов к анализу эстетического опыта. Описание предметных референтов возвышенного и анализ возвышенного чувства способствовали включению в сферу эстетической рефлексии новых, непривычных для классической эстетики объектов восприятия. В частности, в их число вошло то, что велико по размеру по протяженности, по ощутимой (явленной) мощи и силе.
Однако пространство интересовало Бёрка и Канта (а вслед за ними – Шиллера, Шеллинга и др.) не само по себе (не как особая область эстетического восприятия), а в ряду явлений, способных пробудить в человеке возвышенное чувство (быть предметными поводами для такого чувства)[28], и не стало предметом самостоятельного интереса. Пространство в трудах этих мыслителей – всего лишь один из множества референтов возвышенного переживания и эстетического суждения.
Несмотря на то, что в XIX–XX веках художники активно экспериментировали с пространством (а не только с фигурой[29]), особого продвижения в его философско-эстетическом анализе в этот период мы не наблюдаем. XX век дал много содержательных исследований того, как работают с пространством в живописи, архитектуре и литературе, но модусы пространства по ту сторону художественной практики в концептуальном плане остались непрорабатанными[30].
Ближе всего проблематика эстетики пространства подходит к тематическим полям, возделываемым философами экзистенциально-феноменологической традиции и постструктуралистами. Однако ни феноменологи, ни представители экзистенциализма интереса к ней не проявляли. Они интересовались лишь пространством в произведениях искусства[31]. Это, конечно, не может не удивлять, потому что пространство как феномен восприятия (но не как особый эстетический опыт) исследовали многие выдающиеся феноменологи[32].
Не стали исключением и постструктуралисты. Рассматривая эстетическую действенность пространства, они не выходят за границы философии искусства. Исследуя арт-практику XX столетия, они обращаются к понятиям возвышенного, ужасного и отвратительного (аналитика возвышенного в работах Ж. Лиотара, отвратительного и ужасного у Ю. Кристевой[33]), но не к эстетике пространства.
Категория «возвышенного», занимавшая второе по значению место в эстетической теории в переходный к новой чувствительности период (во второй половине XVIII – первой половине XIX столетий), несла в себе такие возможности для расширения поля эстетической рефлексии, которые Выходят за границы, очерченные классической философией. Это позволило Ж. Лиотару использовать возвышенного для характеристики художественных авангардов XX столетия[34]. Такой мыслительный ход вполне оправдан, хотя и представляется нам недостаточно радикальным[35]. Полагаем, что одного только понятия возвышенного для анализа новой чувствительности мало.
Ни эстетика безобразного, ни эстетика возвышенного не позволяют выявить положительное содержание новой эстетической чувствительности. Это содержание мы – в общем плане – уже определили. Остается конкретизировать его на материале эстетического опыта.
От тела – к месту. Концептуальная проработка новой чувствительности (переживание возможности, становления, существования) может развиваться по – как минимум – двум направлениям. Одно из них – это эстетика времени, другое – эстетика пространства. Ниже речь пойдет об эстетике пространства. Эта эстетика распадается на две феноменальные области: эстетику места и эстетику направлений (измерений) пространства.
В центре внимания первой находится замкнутое пространство как место действительного или возможного пребывания (уютное, торжественное, священное, etc. место). В центре внимания второй – направления возможного движения (простор, даль, высь, пропасть).
В классических культурах мир воспринимался как мегатело, как место для множества малых тел. При этом интерес вызвали именно тела, формы, а место и местность в поле эстетически ориентированного внимания и рефлексии не попадали. Для того чтобы место стало самостоятельным предметом восприятия, необходимо было выйти за рамки обычного для архаического, античного и средневекового миросозерцания представления о мире как о мега-теле. Социальные, культурные и духовные преобразования в эпоху Возрождения и Нового времени, позволившие открыть пространство и воспринять его как поле возможных перемещений, открыли вмещающее пространство (место) для эстетического восприятия и оценки. Мир стал восприниматься не как тело, а как поле возможностей. Перемены (и чем дальше, тем больше) стали восприниматься как ведущие «к лучшему». Возможность изменить сложившийся «порядок вещей» приобретает в этой ситуации принципиальное значение. Новая культура поставила на возможность (и право) человека изменить свое местонахождение или… оставаться на месте. Местность и место стали тем, что заслуживает внимания само по себе.
В традиционном обществе место, занимаемое человеком (место жительства, связанное с место-положением в социуме), (пред)определяло его жизнь от рождения до смерти («где родился, там и пригодился»). В Новое время ситуация изменилась. Человек модерна осмысливает себя и свое существование не через занимаемое им («по традиции») место, не через соответствие/несоответствие ему, а через личные желания и цели, через то, в какой мере удается реализовать их «на деле». Мир для человека модерна – это совокупность возможностей-проектов, один из которых ему надлежит избрать. На первый план выдвинулся человек как свободный деятель, ориентированный на поиск своего места в жизни. Если общество не предоставляет искателю подходящего места, то он, в идеале, должен сделать усилие и создать его для себя (под себя), расширив спектр жизненных возможностей и облегчив поиски своего места для других людей. Культурный герой Нового времени – тот, кто создает (или открывает) новые места, новые возможности. Творцы новых проектов, новых жизненных маршрутов героизируются и получают широкую известность, «входят в историю». Перспектива определяется целью, а упорный труд и преодоление препятствий мыслятся как необходимые условия ее достижения[36].
Перенос внимания с подражания на становление в горизонте неизвестного будущего первоначально (примерно до середины XX века) предполагал достижение через какое-то время конечной цели, реализация которой связывалась с обретением человеком самого себя.
Осуществляемое на свой страх и риск жизнестроительство было опасным странствием к туманным берегам «мечты» (к желанному представлению о себе и своем месте). Странник относится к «родным местам» по-новому, с определенной (определенной пространственно и временно) дистанции (эффект остранения). Поиски места открывали местность как предмет созерцания, как нечто особенное, влекущее, пленительное.
Проводя жизнь в стенах своего дома и срастаясь с ландшафтом, человек (понятное дело) и в этом случае сохранял возможность эстетической встречи с пространством, но ее вероятность была невелика. Выход на историческую сцену «человека пути» отделил его от родной ему местности и тем самым сделал более вероятным ее эстетическое восприятие. Отрываясь от родных мест, человек открывается ландшафту и открывает его для себя. Новый пейзаж для путешественника – это предмет созерцания, любования и поэтического описания; новым в этом случае становится и то старое, что он оставил дома, и то, что он встретил в пути.
В поле зрения путешественника попадают не только новые «города и веси», но и места хорошо ему знакомые (родные дом, деревня, город, пейзаж). Когда мы дистанцируемся от привычного, мы получаем возможность воспринять давно знакомое как особенное[37].
История пейзажного жанра в Новое время показывает, что предметом эстетического любования становятся не только необычные (исторические, романтические, экзотические) пейзажи, но и виды, хорошо знакомые художнику и его заказчику. То же можно сказать и о жанре интерьера, который век от века смещался от торжественных или роскошных интерьеров к лирическим интерьерам гостиных, кабинетов и детских (эстетика уюта). Валоризация интимного интерьера происходит в те столетия (XVII–XVIII века), на протяжении которых пейзаж утверждался как самостоятельный живописный жанр. Именно тогда формируется чувствительность европейцев к эстетике закрытых пространств, предназначенных для частной жизни[38].
Человек пути и эстетика пространственных направлений (социально-культурный и экзистенциальный контекст).
«Человек пути» открыт для воздействия пейзажа и интерьера как особенных форм пространства (открыт для местности и места). Но не только для них. Доступ к его душе получает и пространство как простирание, как тот или иной модус возможности занять (другое) место. Дело, конечно, не только в том, что человек Нового времени стал больше и быстрее передвигаться по миру. Фигура странника – будь то паломник, купец, рыцарь – была привычной и в эпоху Средневековья. Но для средневековой культуры пространство не становилось предметом художественного и теоретического интереса. В пределах этой культуры события земной жизни человека получали значение и оказывались в фокусе внимания в той мере, в какой их можно было символически соотнести с горизонтом Божественного. Эстетическое переживание дали, простора, выси или бездны привлекает внимание человека, для которого земная жизнь становится значительной, ценной сама по себе. Поиски своего «места в жизни» мало-помалу становятся главным экзистенциальным интересом человека модерна. Даже спасение души попадает в зависимость от посюсторонней деятельности человека и от социальной и экономической ее успешности (парадоксы протестантской этики, идея божественного призвания и профессия).
Если до того момента, когда поиски «места в жизни» завладели вниманием европейца, разнообразные формы пространства хотя и воспринимались человеком, но не становились предметом заинтересованного внимания, то после этого поворота к земному успеху различные направления пространства (даль, простор, высь, пропасть) стали привлекать его внимание. Люди этой эпохи испытывают на себе воздействие новых мировоззренческих установок, в то же время и сами они становятся активными проводниками модерного мировосприятия и миро-чувствия. Не последнее место среди них занимали профессиональные художники, воплощавшие на полотне то, что другие (чуткие) только видели и переживали.
Такой жанр новоевропейской живописи, как пейзаж, давал возможность художественной репрезентации направлений движения (взгляда и/или тела). Хотя акцент в жанре пейзаже делается на местности, для того, чтобы человек, созерцающий пейзаж-на-картине, воспринял (если пейзаж дает такую возможность) направление пространства (даль, ширь или, скажем, высь) нет никаких препятствий. История пейзажа как жанра изобразительного искусства являет множество попыток донести до зрителя эстетическую потенцию пространственных направлений (а не только местности) и пробудить в его душе особенное переживание. Пейзажная живопись воспитывала чувствительность к разным направлениям пространства. Однако ни пейзаж, ни интерьер в терминах эстетики пространства не рассматривались по причине отсутствия подходящего концептуально-теоретического инструментария.
Те явления в искусстве, которые сегодня мы квалифицируем как первые проблески новой чувствительности, в момент их возникновения и последующего развития рассматривались и оценивались в привычных терминах прекрасного и красивого, величественного и гармоничного, уродливого или живописного. Образы пространства-как-возможности-движения присутствовали в пейзажах латентно, не артикулировались, не осмыслялись. Использование привычных терминов в оценке пейзажной живописи вполне удовлетворяло ее созерцателей, поскольку они имели дело с картиной как вещью. Картину как вещь (то есть как холст, покрытый разноцветными красками, как подрамник и раму) всегда можно оценить в категориальном горизонте прекрасного/безобразного. Что же касается восприятия того, что изображено (а именно в этом обнаруживает себя новая чувствительность в живописи), то отсутствие концептуального языка эстетики пространства не позволяло фокусировать внимание на репрезентации его направлений.
Для того чтобы пространство стало предметом эстетической рефлексии, его формы должны восприниматься как эстетически значимые, ценные. Если это произошло, тогда их не сложно обнаружить и в произведениях изобразительного искусства. Решительный поворот от формы к пространству произошел сравнительно недавно, в последние десятилетия XX века, когда конечная цель (а стало быть – целостная форма) была дискредитирована и перестала отвлекать внимание от переживания форм пространства как модусов возможности движения. Долгое время картина как вещь «утаивала» от реципиента имплицитно присутствовавшую в ней новую чувствительность точно так же, как представление о конечной цели движения оставляло в тени само движение. Но чем ближе к нашему столетию, тем чаще мы встречаемся с представлением о человеческой жизни как о становлении без цели, как о не знающем предела переборе возможностей («все надо в этой жизни попробовать!»). Центр тяжести в таком представлении о жизни лежит не в завершении движения, не в его цели, а в самом становлении, в том, что происходит (переживается) «по ходу движения», в самом переходе от одного к другому.
Переход от модерна к постмодерну[39] ознаменован вытеснением представления о «человеке-ставящем-цели-и-достигающем-желаемого» представлением о «человеке-в-бесконечном-движении» (прежняя модель все еще работает, но ее активно вытесняет новая). На исторической сцене появился человек, стремящийся ускользнуть от любых определений, любых идентификаций (в том числе от самоидентификации как обязывающей меня стать тем, кем я хочу стать), рассматривающий любую обязывающую определенность как утонченную форму рабства, закрепощения, подавления. Его представление об успехе не связывается с какой-то определенной областью деятельности, а профессия не воспринимается как призвание. Человек постмодерна получает удовлетворение от самого процесса становления иным, от смены позиций, ролей и мест, от тех переживаний, которые возникают при переходе от привычного к непривычному, особенному, иному[40].
Его восприимчивость к процессуальности, становлению, к метаморфозам и перемещениям обостряется; первостепенную значимость приобретают не вещи и даже не аура места, а восприятие и переживание направлений возможного движения. Пространство в его направлениях (пространство как форма возможности) – один из самых актуальных сегодня предметов философско-эстетической рефлексии.
В классическую эпоху совершенство мыслилось как гармония целого и переживалось в созерцании совершенства прекрасной формы. В наши дни человек все чаще обретает чувство полноты не через созерцание совершенного тела (некоторой замкнутой структуры, композиции…), а через переживание освя(е)щенных присутствием безусловно особенного, Другого феноменов пространства и времени.
Классическая эстетика отправлялась от восприятия тел и вещей, занимавших в мире определенное место (хотя при этом не была эстетикой места и на местах-ландшафтах и местах-интерьерах внимания не акцентировала). Современный человек опирается на возможность, на то, что есть, он смотрит на окружающий его мир через то, что может быть. Наша чувствительность ориентирована не только на тела и вещи, но и на возможность (или невозможность) пребывания (в каком-либо месте) или движения (в том или ином направлении). Когда такая возможность становится предметом восприятия и переживается как что-то особенное, мы оказываемся в силовом поле одного из расположений эстетики пространства.
Для концептуализации эстетики пространства и времени сегодня есть все условия. Эстетика «хороших форм» должна быть дополнена эстетической аналитикой пространства (и времени).
Реализовать этот исследовательский проект можно в рамках феноменологии эстетических расположений (эстетики Другого), которая позволяет исследовать жизнь-в-потоке-становления и в то же время сохранить преемственность с философско-эстетической традицией. Программа этой эстетики не отрицательная (она не строится как деструкция эстетики прекрасного), а положительная, конструктивная, направленная на описание и анализ встреч с Другим и не в последнюю очередь – в его пространственной и временной расположенности.
1.2. От тела к пространству (концептуальная разметка феноменального поля эстетики пространства)
Эстетика пространства: места и направления. В ходе исследования путей и этапов формирования новой (по сравнению с традиционной, ориентированной на совершенство телесной формы) чувствительности мы говорили о чувствительности к возможности. Когда возможность воспринята через созерцание того или иного временного модуса существования вещи, она переживается и на стороне вещи (как ее возможность/невозможность быть иной), и на стороне созерцателя (переживание возможности/невозможности его собственного существования). Когда она воспринята через ту или иную форму пространства, то это возможность быть в каком-то месте для созерцателя (касается его существования). Пространство не воспринимается как то, что имеет возможности, поскольку оно само и есть возможность быть, присутствовать, трансцендировать. Именно пространство как возможность созерцателя (для того, кто находит себя в мире) – это то, «что» переживается в эстетическом опыте пространства. В центре внимания, таким образом, находится существование созерцателя. Особенное воспринятой здесь формы пространства – это особенный модус нашего присутствия в мире, нашей расположенности в нем.
Анализ формирования чувствительности к пространству как форме переживания существования человека (Dasein) привел нас (в конце первого раздела) к необходимости говорить о чувствительности к местам и направлениям. Следовательно, в концептуальном домене эстетики пространства можно выделить как минимум две области: эстетику направлений (эстетику пространства как простирания) и эстетику места.
В границах последней мы, в свою очередь, будем различать две модификации: первая включает в себя переживание ландшафта, пейзажа, вида (местности), вторая – переживание ограниченного пространства (места), воспринятого с позиции человека, находящегося внутри городских (двор, площадь, улица) или внутри домовых (имеющих разное, например, сакральное, государственное, общественное, частное предназначение) пространств (помещений, вместилищ).
Пространственная конфигурация места (или местности) и ее эстетическое восприятие – это одно, а эстетический эффект, сопутствующий восприятию направления, – другое. Объединяет два этих региона то обстоятельство, что в центре внимания находится пространство, а не вещи, возможность, а не чтойность. Однако в первом случае пространство – это открытость взгляда в том или ином направлении, а во втором – внутреннее пространство площади (помещения) или доступная созерцанию местность (вид) перед нами. Мы имеем дело или с пространством как возможностью перемещения по направлениям, заданным человеческим телом и условиями его земного существования, или с местом как возможностью/невозможностью пребывания (интерьер, ландшафт).
Местность (ландшафт) и помещение – это пространство-в-пространстве (локальное пространство), это пространство, которое представляет собой как бы «мир в миниатюре». Это пространство в его завершенности, цельности: это или видимый мной мир (местность, вид, пейзаж), или окружающее меня с разных сторон замкнутое пространство («я» внутри помещения, интерьера). В случае с пространством-как-протяженностью нашим вниманием овладевает не пространство как вмещающее сущее (не вид, не местность, не интерьер), а та или иная возможность сменить место.
Несложно заметить, что между восприятием местности (ландшафта) и восприятием внутреннего пространства (комнаты, тронного зала, площади, поляны) есть нечто общее: и в том, и в другом случае речь идет о восприятии пространства как места, в котором кто-то или что-то находится или может находиться. И интерьер, и местность – территории пребывания, вмещающие пространства. Их переживают не через движение, а через возможность пребывания. Местность – это пространство, данное как предмет зрительного созерцания, представляющий собой определенную целостность. Местность имеет рельеф и нечто вмещает в себя, она воспринимается созерцателем как одно из мест возможного пребывания. В интерьере пространство в этом случае не «расстилается» передо мной, а окружает меня (это объемлющее и ограниченное пространство).
От пространства пребывания следует отличать пространство-для-движения. В эстетике направлений пространство – то, что «расстилается», простирается, это зримая возможность перемещения в определенном (определенном формой пространства) направлении. В ее расположениях мы получаем ощутимый (данный в самом восприятии) ответ на вопрос: «Куда? В каком направлении?» Причем направление не просто осознается, фиксируется нами, а переживается как что-то особенное. В центре внимания оказывается направление, в котором взгляд (а стало быть, потенциально, и человек) может двигаться, не наталкиваясь на преграды. В одном случае предметом переживания будет возможность движения в глубину пространства (даль), в другом – возможность двигаться по горизонтали (простор), в третьем – возможность подъема (высь), в четвертом – падения (феномен бездны, пропасти).
Эстетика места (местность и помещение). Эстетика места – та область теоретически неосмысленного эстетического опыта, с которой люди давно уже работают на практике (в живописи, в создании садов и парков, в организации интерьерного пространства и т. д.). Этот опыт закреплен в таких, например, терминах, как «интерьер» и «пейзаж» (последний используется в двух значениях: «природный вид» и «картина, изображающая природный, сельский или городской ландшафт»). В расположениях эстетики места предметом кристаллизации эстетического чувства становится вмещающее пространство. Говоря о месте, мы отвечаем на вопрос «где?». Мы говорим о том, что вмещает (нас и вещи), и о том, где находится тот, кого (что) вмещает место. Мы не только перемещаемся, мы всегда где-то находимся (пребываем) и как-то себя в этом «где-то» чувствуем.
Иногда чувство сопряженное с местом бывает из ряда вон выходящим, особенным, запоминающимся, не поддающимся исчерпывающему объяснению. В этом (и только в этом!) случае появляется основание говорить о его эстетическом переживании. Не стоит забывать, что простое осознание того, в каком месте я нахожусь, что за местность я вижу (мое ориентационно-прагматическое «где»), отлично от эстетического переживания. В случае эстетического переживания я не просто сознаю, где именно я нахожусь или могу находиться, но я вовлечен в переживание того, как оно – быть в данном месте, я очарован, удивлен, восхищен этим местом.
Спрашивается, что же делает то или иное место особенным в эстетическом отношении? Предварительный ответ звучит так: в данном типе эстетического восприятия перед нами раскрывается (на уровне переживания) его «как». Это пространство, воспринятое как вмещающая данность, как место пребывания[41]. Каково мне быть (находиться) в нем? Хочется ли в нем остаться? Если да, то что побуждает нас продлить свое пребывание? Пространство в эстетике места – это не данность возможности движения, а данность определенным образом организованных топосов (вмещающих пространств).
Но если мы отличаем эстетику места от эстетики пространственных направлений, то логично будет провести разграничение уже внутри этой эстетики, отделив восприятие места как закрытого, внутреннего пространства от восприятия местности.
В расположениях эстетики места мы узнаём-переживаем или его «как-оно-здесь?» (интерьер), или его (места) «как-оно-там?» (местность, пейзаж). Внимание человека, созерцающего местность, направлено на строение (рельеф, форму) ограниченного участка земной поверхности как на данность видимого пространства. В фокусе внимания того, кто воспринимает местность, находится не направление возможного движения, а открытая взгляду совокупность так-то и так-то соотнесенных в нашем восприятии складок земной поверхности, покрывающей ее растительности и тех сооружений, которые «вписаны» в ландшафт человеком. Созерцаемый им вид воспринимается как нечто целое, вмещающее, то, в чем что-то и кто-то находится, то есть воспринимается как место возможного пребывания созерцателя.
Душу того, кто созерцает закрытое пространство (интерьер), захватывает чувство, которое возникает (если возникает) во время его пребывания «внутри», в той атмосфере, которая царит в интерьере. Место здесь – это окружающее нас и закрытое от «внешнего мира» пространство. Когда мы воспринимаем пейзаж, то находимся вне созерцаемой местности (в «другом месте»), так что фрагмент пространства (пейзаж) расположен перед нами, а мы смотрим на него извне. Если местность – особый предмет созерцания, то интерьер – это место, в котором человек себя находит. Это место с особым настроением, с особой атмосферой.
Очевидно, что эстетика места ближе к традиционной эстетике, чем эстетика направлений. Восприятие места изнутри (восприятие внутреннего пространства комнаты, двора, площади, улицы) или извне (местность как место-созерцаемое-со-стороны) строится по логике завершенной цельности (и ландшафт, и помещение воспринимаются как места, имеющие границы). Место как цельное, замкнутое пространство воспринимается (подобно прекрасной/красивой вещи) как мир в миниатюре, как маленькое подобие вмещающего Целого. Местность и интерьер – не тела, но это нечто, обладающее цельностью.
Если место воспринимается и переживается как самостоятельная, хорошо структурированная данность-целостность (безотносительно к возможности нашего пребывания в нем), значит оно воспринимается и оценивается в горизонте эстетических настроек классической эпохи (как форма тела). В отличие от феноменов эстетики направлений, места вполне могут восприниматься, переживаться и толковаться в терминах красивого, прекрасного, безобразного (красивая гостиная, красивый вид, прекрасный ландшафт)[42].
Но если внутреннее пространство дома, церкви или вид на горную долину с вершины окрестного холма воспринимаются не как направления возможного движения, не как подобие тела (не как совокупность вещей), а как место-для-пребывания – тогда мы имеем дело с эстетикой пространства.
Фигура, фон, место. Эстетика места сближается с эстетикой тела не только потому, что место может восприниматься как тело (как квази-тело, как завершенная данность). Дело в том, что место связано в нашем сознании с представлением о телах и вещах. Нет вещи без места и нет места без вещей, которые его занимают или могут занять. Воспринимая вещь, мы имеем дело с чем-то в каком-то месте. Однако когда наше внимание акцентировано на вещи, место не воспринимается нами как самостоятельный предмет созерцания. Когда мы воспринимаем вещь (тело), то место, в котором она находится, оказывается уже не местом как предметом созерцания, а фоном нашего восприятия. Как только мы перестаём фиксировать внимание на определенном предмете (группе предметов), в фокусе внимания оказывается уже не вещь, а место (будь то интерьер дома, площади, двора или местность).
Место, как и тело, в отличие от фона, имеет границы. У места как самостоятельного предмета восприятия имеется собственная структура. Тело отлично от места, вмещаемое – от вмещающего. Место – это каждый раз особая форма, но не тела, а пространства. Это конфигурация пространства, которая в акте его восприятия не исчезает за фигурой (за телом), оставаясь предметом созерцания[43]. Какую бы конфигурацию не имело место, оно, в отличие от занимающего его тела, остается тем, что вмещает (способно вместить) тела (вещи)[44].
В паре «фигура-фон» восприятие фигуры вводит в поле сознания «чтойность» вещи, а фон – ее «где» (ее местонахождение). Находясь в комнате, мы можем остановить наше внимание на вазе с цветами («посмотрите, какие красивые цветы!»), а можем, перемещаясь по комнате или скользя по ней взглядом, воспринять и оценить ее как место («какая уютная комната!»), почувствовав нечто относительно помещения, а не относительно той или другой вещи.
Когда мы воспринимаем тело, глаза как бы ощупывают предмет, совершая движения в контуре его формы, в том же случае, когда речь идет о восприятии места, они перемещаются по всей его площади, давая материал для его переживания как определенной пространственной данности («каково оно, это место, каково в нем находиться?»). Воспринимая тело, мы фиксируем на нем взгляд, так что всё находящееся вне тела оказывается «не в фокусе». Воспринимая место, мы не фиксирует внимание на вещах, мы скользим по ним взглядом, ощупывая глазами помещение или местность.
Итак, в паре «фигура-фон» внимание занимает или фигура, или фон. Причем, когда то, что было фоном, выступает на первый план, оно становится видом или интерьером. Фигура, когда дистанция до нее увеличивается, а внимание на ней не фиксируется, погружается в пространство, наполненное множеством вещей, и превращается в деталь пейзажа или интерьера. Это обстоятельство наглядно демонстрирует история европейской живописи. Смена акцентов в эстетическом созерцании закрепилась в жанровых дифференциалах портрета и пейзажа, портрета и интерьера, натюрморта и интерьера. В этих жанровых парах легко читается инверсия фигуры и фона[45].
Если зафиксировать отличие эстетики места от эстетики вещи как прекрасной/красивой со стороны формы, то все сказанное можно резюмировать следующим образом: в эстетике тела гармония целого обнаруживает себя в форме того или иного сущего, в эстетике места в фокусе внимания находится не тело, а ограниченное пространство, воспринимаемое как вместилище (место для сущего). Если в рамках эстетики прекрасного форма была образом мира-как-тела (как целого), то в эстетике места форма места предстает как образ вмещающего мира (мира как дома), как того мега-места, в котором можно находиться, существовать.
Эстетика направлений. В отличие от восприятия мест, восприятие направлений (измерений) не связано с пребыванием человека или вещей в каком-либо пространстве. Здесь в сферу чувственно данного входит возможность иного в образе пространства-для-движения (в образе мира как пути-дороги)[46]. Но что, собственно, означает на предметном уровне восприятие возможности/невозможности иного, если речь о пространстве, а не об эстетической данности овеществленных модусов времени? Ответ прост: восприятие возможности пере-мещения, возможности сменить место.
У человека как деятельного существа пространственные представления формируются по ходу предметной деятельности. Различные направления пространства – это направления нашего действительного или гипотетического движения, это возможность/невозможность перемещения. Наш глаз непроизвольно промеривает-прощупывает пространство, поскольку мы имеем телесный опыт движения как по горизонтали (вправо/влево), так и по вертикали (вверх/вниз). (В своем истоке пространство в основных его направлениях формируется по ходу движения, в процессе тактильного и визуального прощупывания окружающего мира.) Простор, даль, бездна и высь воспринимаются как направления движения. В опыте простора, например, возможность, которая нам открывается, – это возможность свободного движения в любом направлении по горизонтали, в то время как в опыте дали мы воспринимаем возможность перемещения по горизонтали в глубину пространства. Главное – это не вид (хотя на просторе нам, конечно, может быть открыт вид на прекрасный ландшафт), а возможность иных видов, иных пейзажей, иного бытия[47].
Пространство в его особенных направлениях (измерениях) предстает здесь не как образ предмета (не как некоторое «что»), а как определенная конфигурация поля возможностей самого созерцателя. Это не ограниченная возможность передвижения внутри какого-то пространства (место и местность как пространства пребывания), а открытые возможности для движения взгляда. Когда наш глаз не встречает препятствий и наше внимание захвачено переживанием направления как условно или безусловно особенного, мы находимся в одном из расположений эстетики направлений. В ситуации встречи с измерением выси перед нами открывается (открывается для зрительного восприятия и, если повезет, для эстетического переживания) возможность/невозможность движения по вертикали. Но если нам дана вертикаль-вверх, значит, нам не даны даль, простор (ширь) и пропасть (как возможность падения вниз, в бездну). Каждое из направлений (измерений) пространства, вовлеченное в силовое поле эстетического события, – это опыт возможности Иного, Другого, по-особенному данного в разных формах пространства как простирания. Задача эстетического исследования – выяснить специфику каждого из расположений эстетики направлений, прояснить их онтологическую конституцию и эмоционально-чувственный рельеф.
В первой главе мы постарались осмыслить те изменения в духовных основаниях европейской традиции, которые, нравится нам это или нет, уже свершились и изменили конфигурацию эстетического опыта современного человека. Развитие европейского общества и культуры в Новое время привело, среди множества иных последствий, к перестановке акцентов в эстетической чувствительности европейца. Чем ближе к современности, тем ощутимее переориентация эстетической восприимчивости с чувственного обнаружения сущности (форма вещи) на возможность, на то, что возможно, на обостренную чувствительность к условиям, определяющим существование (смещение от «что» к «как»). Если классическая эстетика была эстетикой восприятия тел и вещей (эстетикой формы) и соответствовала пониманию мира как завершенного целого, то в Новое время человек руководствуется интуицией становящегося, незавершенного, открытого мира. Внимание нового человека (человека модерна) привлекают уже не только формы тел, но и модусы пространства и времени как условия возможности/невозможности движения (становления, обновления) субъекта и место его пребывания. Фактически чувствительность человека модерна изменилась уже давно, хотя в философской эстетике эта трансформация продумана не была, не получили философского осмысления чувствительность к пространству и феномены, в которых она себя обнаруживает. Одна из задач современной эстетики – анализ эстетических событий, в фокусе которых находится восприятие пространства и времени, поскольку они задевают человека, находящегося в поисках самого себя (своей сущности, своих целей).
Мы дали набросок общих контуров эстетики пространства как особой области эстетического опыта и описали положение, занимаемое эстетикой пространства на карте эстетических расположений, отграничив ее от сопредельных областей, от эстетики предметной формы и эстетики времени. В пределах эстетики пространства были выделены два региона: эстетика пространственных направлений и эстетика места. В последней мы различили эстетику интерьера и эстетику местности (ландшафта).
Эстетика места осмысливается нами как область эстетического опыта, в которой внимание сосредоточено на пространстве как данности, как вмещающем пространстве, а эстетика измерений – как эстетическое переживание возможности/ невозможности движения к иному пространству Если возможность движения или пребывания не только воспринимается нами, но и целиком захватывает внимание в качестве чего-то особенного и его созерцание сопровождается особенным переживанием, мы имеем дело с одним из феноменов эстетики пространства. Проведенные в первой главе различения и введенные в ней концепты следует опробовать в ходе описания и анализа конкретных эстетических расположений, выделенных благодаря концептуализации эстетики пространства из неопределенного множества особенных переживаний.
Глава 2. Эстетика направлений
Приступая к конкретизации феноменов эстетики пространства, мы начнем с исследования направлений, а в заключительной, третьей главе сосредоточим внимание на эстетике места. Такая последовательность обусловлена тем, что именно чувствительность к направлениям, а не наоборот, создала условия для открытия эстетики места[48].
Феномены эстетики направлений[49] будут рассматриваться в следующем порядке: сначала мы сосредоточим внимание на описании и анализе простора (а также просторного[50]) и дали (первая часть второй главы). Здесь будут исследованы расположения, эстетический характер которых определяется горизонтальным измерением пространства. Во второй части мы рассмотрим направления, чья форма определена вертикалью. Здесь наше внимание будет сосредоточено на феноменах пропасти, выси и высоты.
2.1. Эстетика направлений в горизонтальном измерении
Вид был очень хорош, но вид сверху вниз, с надстройки дома на отдаленья, был еще лучше. Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость и посетитель. От изумленья у него захватывало в груди дух, и он только вскрикивал: «Господи, как здесь просторно!» Без конца, без пределов открывались пространства.
Н. В. Гоголь. Мертвые души. Том второй (поздняя редакция)
Возможность занять в жизни достойное место коррелирует с возможностью движения, перехода из одного места в другое. Именно направления пространства по горизонтали раньше всего обратили на себя внимание художников, градостроителей, поэтов Нового времени. Даль и простор соответствуют мироощущению человека, устремленного к самореализации в пространстве «посюстороннего», земного мира; тот факт, что эти направления осознанно вводились в городские и парковые ландшафты, репрезентировались в изобразительном искусстве и поэзии, красноречиво об этом свидетельствует.
2.1.1. Эстетика шири (простор как эстетический феномен)
Простор и пространство: семантическое введение в эстетический анализ. Языковая концептуализация мира предшествует его описанию и анализу. Опыт существует для нас постольку, поскольку он получает вербальное выражение. Специальное исследование (в частности, исследование эстетического феномена) не может абстрагироваться от смыслового горизонта, который задается словом, используемым для его именования. Его наличие может и должно быть осознано, отрефлексировано. Рефлексия над тем, что осмыслено на языковом уровне, представляет собой углубление его исходного (для говорящего на данном языке человека) понимания.
Отправляясь от предварительного (языкового) понимания того или иного феномена (в данном случае – простора), исследователь в конечном итоге возвращает его «туда, откуда взял» – в родную речь, в родную культуру, но возвращает переосмысленным, рефлексивно проработанным, обогащенным в смысловом отношении. Рассматривая феномен «простора», мы, во-первых, проясняем и, во-вторых, обогащаем смысловое содержание соответствующего концепта. В то же время, когда мы углубляемся в исследование семантического потенциала слова, мы артикулируем наш собственный опыт (в данном случае – опыт простора), поскольку такое исследование не обходится без постоянного соотнесения с ним языковых данных.
Таким образом, в исследовании эстетического феномена (в данном случае – простора) мы имеем дело с герменевтическим кругом (понимаемым по Хайдеггеру, а не по Шлейермахеру): нечто выделяется и удерживается в сознании благодаря его вербализации. Приступая к анализу феномена, мы его (предварительно) уже понимаем. В ходе анализа интересующего нас опыта мы уточняем и углубляем соответствующее понятие и обогащает семантический спектр соответствующего термина. Отправляясь от уточненного смысла слова, мы вновь обращаемся к опыту, анализируем его и вносим коррективы в осмысляющее этот опыт понятие (и переосмысливаем семантику соответствующего термина). Познание эстетического феномена осуществляется в контуре герменевтического круга, а точнее, спирали.
Перейдем к обследованию семантики «простора». В отличие от «пространства», которое указывает на протяженность как таковую и у которого имеются близкие аналоги на других европейских языках, слово «простор» лингвоспецифично и имеет ярко выраженную эмоциональную окраску, оно указывает не только на определенную форму пространства, но и на ее экзистенциально-эстетическую ценность[51]. Когда-то «простор» и «пространство» были почти синонимами, однако к XIX–XX векам различие их семантических конфигураций стало более значительным.
Когда мы говорим о пространстве, то вступаем в область познавательных суждений (термин «пространство» часто используют философы, математики, физики, биологи, историки, etc.). Кроме того, оно востребовано в специализированных дискурсивных практиках за пределами языков теоретического познания: в политике, экономике, технике. Но в повседневной жизни и в художественной литературе к нему прибегают редко.
Со словом «простор» ситуация обратная: оно редко используется в специализированных языках, но к нему часто обращаются в повседневной речи и в художественной литературе, особенно – в поэзии[52].
Хорошо интегрированный в тезаурус специализированных языков познания, техники, политики, экономики термин «пространство» используется в газетах, журналах и на разнообразных электронно-сетевых площадках. В этих языках он применяется для указания 1) на протяженность, которую мы не можем охватить взглядом, но которую мы, тем не менее, отличаем от другого пространства (пространство степи отлично от пространства воздушного, космическое – от морского или от охваченного стихийным бедствием и т. д.), и для указания 2) на чем-либо занятое или от чего-либо свободное («все пространство перед домом правительства было занято народом») место. В последнем значении слово «пространство» используется также в обыденной речи: «между письменным столом и книжными стеллажами оставалось свободное пространство, и хозяйка квартиры решила поместить туда разросшийся фикус»[53].
Как видим, слово «пространство» используют как там, где дается характеристика тем или иным направлениям возможного движения, так и там, где указывают на место и вместимость[54]. В эмоциональном же плане оно нейтрально, в него не инкорпорировано чувство.
Обратимся теперь к простору. Простор указывает на чувственно конкретную, видимую картину пространства и эмоционально заряжен. Термин «пространство» всегда предполагает уточнение, о каком именно пространстве идет речь (если, конечно, перед нами не философский дискурс, оперирующий «пространством как таковым»), то «простор» прямо указывает на определенную конфигурацию пространства, на то, что мы можем представить, вообразить, увидеть внутренним взором, пережить, на то, что вызывает эмоциональный отклик.
(Что такое пространство – мы понимаем, а что такое простор – видим, представляем, переживаем.)
Простор влечет к себе человека. Это пространство, которое можно любить. Простор удерживает эмоциональное состояние, сопровождающее созерцание открытости по горизонтали. С ним связано представление о переживании, утверждающем нас в нашем присутствии. Говоря о просторе, мы сознательно или бессознательно выражаем отношение к форме пространства, встреча с которой приносит покой и радость[55].
Уже семантика слова «простор» позволяет выделить те моменты, которые нельзя миновать в ходе анализа феномена простора. Простор раскрывается как открытое и широкое пространство. Это первое, основное его значение. Второе значение простора в современном русском языке – свобода, раздолье, приволье[56]…
Как видим, семантика простора имеет два смысловых центра. Первый связан с тем, что человек видит, оказавшись на открытом месте, второй – с тем, как он переживает увиденное. Зрительную составляющую восприятия простора (его физику) можно отделить от ее метафизики только постфактум: оба значения указывают на то, что происходит в одно и то же время в одном месте (происходит в-месте). Если мы говорим о расстилающемся перед нами обширном пространстве, то у нас непроизвольно возникает представление о свободе и воле, и, наоборот, когда мы говорим: «воля», «на волю», «приволье», то перед нашим внутренним взором разворачивается широкое пространство с голубеющими у горизонта лесами, или мы представляем себе мерцающее в лучах солнечного света море, или видим бесконечный горизонт великих степей Причерноморья.
Таким образом, именно определенность (вообразимость) и эмоциональная нагруженностъ отделяют простор от пространства. Семантическая двойственность простора указывает на то, что в русской культуре под простором понимается такая данность открытого пространства, в которую включен сверхчувственный («духовный») опыт.
Если «пространство вообще» на протяжении веков было предметом пристального внимания как со стороны философов, так и со стороны ученых, то простор как феномен экзистенциально-эстетического порядка и сегодня остается по ту сторону эстетической рефлексии. Вопрос об онтолого-эстетической конституции простора не решен. Впрочем, всерьез он еще и не ставился. Попробуем придать ему следующую форму: что вызывает в нас радость и душевный подъем, когда мы созерцаем открытое, свободное пространство? С чем мы встречаемся на просторе и что встречает на просторе нас?
Пространство простора (простор как возможность простирания)
Открытое пространство – пространство простое, бедное. Линия горизонта, «краешек земли» и никаких дополнительных преград, мешающих свободному движению взгляда. Отделенность земли (воды) от неба в сочетании с отсутствием того, что закрывает собой разделительную линию. На просторе ничто не нарушает чистоты зрительного поля, по которому слева направо и справа налево гуляет вольноотпущенный взгляд. Ушедшая в зрение душа насыщается раздольем. Не «что-то» «где-то» «в чем-то» обнаруживает себя в этом созерцании, но само пространство как простирание, как свободное раскрытие света по его сторонам.
На просторе доминирует горизонталь в образе широкого и глубокого пространства. Вертикаль задействована в этом расположении на второстепенных ролях[57]. Созерцающий взгляд прикован к линии горизонта как к единственной визуальной определенности: магический «край земли» хорошо «читается» взглядом благодаря световому контрасту между землей и небом.
Горизонталь почти всегда[58] присутствует в нашем восприятии, но добавление каких-либо фигур (объемов, плоскостей, линий), возвышающихся над земной поверхностью (особенно если предмет размещается на переднем или среднем планах), усложняет структуру видимого пространства, и оно не достигает необходимой для встречи с простором простоты. Как только на ближнем плане оказывается «нечто», мы невольно обращаем на него внимание: фиксируем, что именно находится перед нами, оцениваем величину и высоту предмета и т. д. Даже сравнительно небольшой предмет на переднем плане или крупный на среднем привлекают внимание и служат препятствием для скользящего вдоль линии горизонта взгляда. Предмет на среднем плане, который не разрывает линии горизонта и не мешает взгляду скользить вдоль нее, также мешает восприятию простора как чистого, простого пространства, поскольку оттягивает на себя внимание созерцателя. Предметы восприятия, расположенные на дальнем плане, воспринимаются как неровности линии горизонта: это уже не предметы, имеющие особую форму, это всего лишь «нечто на горизонте», нечто, не препятствующее встрече с простором.
Итак, простор, если описывать его с внешней стороны, – это относительно ровная поверхность, граничащая с небом и дающая предельно простой образ пространства. Простое пространство – это и есть простор [59], образ пространственности как таковой.
Простота, безыскусность – это (в пределе) пустота, не-заполненность[60]. Пустота простора впускает. Простор воспринимается как пространство, дающее место и возможность для присутствия. Впускает то, что не занято, пусто. Впускает пустота (ни-что). Любое «что» в мире материальных вещей не пускает, оказывает сопротивление тому, что попытается занять уже занятое чем-то место. Что же впускает простор? Пустота простора впускает возможность. Онтически – это возможность для кого-то или чего-то (и в первую очередь – для созерцателя) занять любое место на открытой взору (простой и чистой) земной поверхности. Онтологически эстетику простора следует толковать как переживание простой возможности. Простая (чистая) возможность (для чувства) открывается данностью Другого в модусе Бытия. Ведь именно Другое дает возможность присутствовать в мире, находить себя в нем.
Простор – пространство впускающей пустоты. Здесь мы имеем дело не с местами и телами, не с тем, «что» простирается, а с самим простиранием, с «просто пространством», с рас-про-стертостью земли как возможности существования «в чем-то» и «где-то», «с чем-то» и «с кем-то».
Внимание толкователя простора привлекает также одно из значений слова «чистый»: свободный, открытый, ничем не занятый («чистое поле», «ледокол идет чистой водой», «чистый путь»)[61]. Кроме того, чистый (в философском тезаурусе) – это совершенный, абсолютный. Простое пространство – это чистое пространство как в смысле простоты-пустоты, так и в смысле зримой выполненности (в акте восприятия) простирания. Существенно, что в силовом поле эстетического расположения чистое пространство удерживается не умозрительно, а в акте чувственного созерцания (созерцание простора).
Чистота созерцаемого пространства – не результат дискурсивной возгонки пространственного представления в умозрительность философского понятия, а непроизвольный (эстетически-событийный) переход от чувственного восприятия определенного пространства к созерцанию чистого пространства как Другого пространству, данному в акте чувственного созерцания.
Пространство (а не форма тела) в его чистоте-простоте – вот истинный (метафизический) предмет созерцания при встрече с простором. Здесь важно обратить внимание на то, что «чистое пространство» может быть не только предметом мышления, но и предметом влечения, предметом чувства. Восприятие простора – это восприятие чувственного образа чистого пространства. Такое созерцание парадоксально. Созерцая определенное по своей структуре и «текстуре» пространство, мы в то же время переживаем в нем (через него) возможность простирания, чистую пространственность[62].
Событийность простора. О просторе как эстетическом феномене можно говорить тогда, когда «имеется» событие восприятия открытого пространства в качестве пространства не-объятного. Для науки и здравого смысла ни одно из окружающих нас пространств не является «без-граничным» («бес-конечным»), но для нашего эстетического восприятия оно, благодаря неохватности линии горизонта «от края до края», может явить безграничность. В просторном расположении пространство переживается как чистая распростертостъ, как безусловная возможность занять место. Необъятность, отсылающая к ограниченным возможностям зрительного восприятия, переживается как возможность бесконечного движения и в конечном счете как чистая возможность иного.
Окружающее человека (всегда конечное) пространство может быть воспринято как актуально бесконечное только в том случае, если Другое во-образится или, лучше сказать, расположится – одновременно – в пространстве и в созерцающем его человеке. В опыте простора, в опыте простоты-чистоты имеет место событие эстетического перехода, в котором барьер относительности (релятивности) пространства оказывается преодоленным.
Переживание простора как без-мерного свидетельствует об этом переходе, о том, что Другое дано (дано в модусе положительного Ничто, в модусе Бытия) эстетически. Встречу с простором мы относим к безусловным эстетическим расположениям[63].
Восприятие простора как чистого пространства, как чувственной данности того, из чего сущее «имеет место», мы определяем как чувство чистой возможности: возможности двигаться в любом направлении (по горизонтали). Сама данность пространства в разнообразии его форм указывает на внеположность (трансцендентность) человека по отношению к местам и направлениям. Когда мы через восприятие определенного пространства встречаемся с началом, из которого пространство разворачивается перед нами, мы имеем дело (эстетически) с возможностью самих себя, с тем, благодаря чему мы присутствуем, но «что» лишь в очень редких случаях оказывается предметом восприятия и переживания.
Первым, лежащим на поверхности объяснением притягательности простора будет утверждение, что простор радует просто потому, что здесь есть, где глазу разгуляться. Такое суждение верно, но в нем упущена событийность простора как эстетического феномена[64]. Данности открытого пространства (степь, море, открытая вершина холма, доминирующего над окрестностями) недостаточно для эстетической встречи с простором. Можно регулярно выходить «на брег морской» и оставаться совершенно равнодушным к тому, что видишь. Созерцание бескрайнего пространства по горизонтали может сопровождаться радостью и покоем, но его могут сопровождать и другие чувства (в том числе отвергающие присутствие неприкаянность, томительная скука, безысходная тоска[65]).
Встречи с простором данность открытого пространства по горизонтали сама по себе не гарантирует. Чтобы открытое и обширное пространство стало простором эстетически, необходимо присутствие того, что, открывая себя, превращает воспринимаемое пространство в видимую предметность эстетического события. Сбывающееся, действующее начало не есть ни предмет восприятия (не есть видимая конфигурация пространства), ни особым образом настроенный субъект восприятия, но нечто Иное, Другое. В конечном счете все зависит от Другого. Простором нас окликает Другое в его утверждающем Присутствие (Dasein) модусе (в модусе Бытия). Открывая простор как нечто безусловно особенное, мы открываем свою причастность Другому, «прикасаемся» к нему.
Значит ли это, что объективные и субъективные предпосылки эстетической встречи с простором не заслуживают нашего внимания? Ни в коей мере. Хотя сами по себе они события простора не гарантируют, но если их нет, то встреча точно не состоится. Эстетический потенциал открытого пространства – необходимое условие встречи с Другим в расположении простора.
Преэстетические условия простора. Конкретизация простора как расположения требует исследовать внешние и внутренние условия (мы называем их преэстетическими условиями), в которых простор имеет и, следовательно, может иметь место как эстетический феномен. Мы говорим «имеет» потому, что об условиях, благоприятствующих эстетическому событию, мы узнаём после того, как эстетическое событие свершилось. Определенная форма пространства тогда только может быть предметом, который нужен нам для созерцания, когда эстетическая встреча с ней уже состоялась и сохранена в персональной (знакомы с ней лично) или культурной (знакомы с ней «понаслышке») памяти. В этом случае мы сознательно (или полусознательно) стремимся к воспроизведению внешних и внутренних условий, при которых утверждающий присутствие опыт уже имел место. Состояние субъекта и свойства объекта созерцания создают предпосылки для того, чтобы эстетическое событие состоялось: открытое пространство стало простором, а субъект – эстетическим субъектом, созерцающим простор.
Начнем с настроения, благоприятствующего эстетической встрече с простором. Здесь (в отличие от предметных предпосылок различных расположений) вариативность невелика. «Подходящее настроение» будет таким же, как и для других расположений эстетики утверждения. Эстетическое восприятие простора имеет шансы состояться в том случае, если человек находится в спокойном расположении духа и его не поглощают посторонние видимому мысли и чувства, если он открыт тому, что его окружает. Обобщенно это настроение можно назвать сосредоточенным, созерцательным настроением. Обычно оно сопровождается молчанием[66]. Вероятность эстетического события значительно возрастает, если человек открыт для окружающего и руководствуется тем, что М. М. Пришвин определил как «родственное внимание к миру». В отрицательном плане условием эстетической восприимчивости будет свобода от отягощающих душу забот, от мыслей о долгах, о болезнях, о радостных или печальных новостях, о необходимых покупках или о письме из налоговой инспекции… Как видим, на стороне субъекта можно выделить и отрицательные, и положительные условия, благоприятствующие эстетическому событию.
К сказанному следует добавить еще и ментальную настроенность на встречу с открытым пространством. Такую настроенность обеспечивает культура, которая ценит открытое поле возможностей и благосклонна к неопределенности будущего. В европейской культуре чуткость к открытому пространству (к простиранию) формируется с эпохи Возрождения (подробнее об этом см. первую главу этой книги).
Перейдем к анализу предметных предпосылок эстетической встречи с простором и попытаемся прояснить, какое пространство обладает соответствующим эстетическим потенциалом?
Первое, что приходит на ум, это образ пространства, открытого по горизонтали; открытого в ширь, потом – в даль и только затем – в высь[67]. Низкое, облачное небо не препятствует встрече с простором. Чтобы восприятие простора стало возможным, взгляд должен погрузиться в пространство до линии горизонта, и иметь возможность беспрепятственно скользить по этой линии в любом направлении. Простор предполагает широту и глубину обзора пространства по горизонтали.
Для простора необходима ровная, открытая и обширная поверхность и тело созерцателя, сориентированное перпендикулярно поверхности земли. А такое положение человек занимает тогда, когда он стоит, идет, едет или сидит[68]. В этом случае его взгляд свободно скользит по земной поверхности в измерениях глубины и шири.
Если человек, плывущий под водой и разглядывающий проплывающих мимо него рыб, будет потом делиться впечатлениями об увиденном, то слово «простор» он не употребит: подводная среда простор исключает. Не станет говорить о нем и тот, кто обозревает вселенную из иллюминатора космической станции. Здесь речь пойдет о мировом (космическом) пространстве. И это потому, что и взгляд из иллюминатора космической станции, и взгляд космонавта, вышедшего в открытый космос в скафандре, не дает линии горизонта как геоантропологического условия ориентации в пространстве, и, соответственно не дает переживания простора.
Впрочем, и в обычных (земных) условиях предметные предпосылки для такой формы пространства, как простор, имеются не всегда. Например, переживание простора недоступно для людей, которые живут в горах, где горизонтальное измерение пространства ограничено и в ширину, и в глубину (если только мы не находимся в широкой долине). Соединение глубины и шири – не для горцев. Вербализация этой формы пространства возможна там, где жизненная среда включает в себя как закрытые участки (горные ущелья, леса) ландшафта, так и места, открытые для панорамного обзора (побережье, степь, лесостепь, плоскогорье).
Исконная среда обитания русских людей такова, что здесь имеются и закрытые, и открытые пространства. Степные ландшафты, долины больших рек и озер соседствуют с лесными массивами и холмами. Это та среда, которая располагает к осознанию открытого пространства как особой, эмоционально маркированной данности и экзистенциальной ценности[69].
Так было в Киевской и Московской Руси, так было и позднее. Выход к южным морям (к приазовским и причерноморским степям), освоение Сибири и Дальнего Востока создали еще больше ландшафтных поводов для переживания открытого (по горизонтали) пространства как эстетической ценности.
Преэстетическое значение имеет и то, какое пространство предваряет созерцание шири, предшествуя «выходу на простор». Эстетической встрече с простором благоприятствует контраст, возникающий в момент перехода от закрытого пространства к открытому[70].
Бескрайнее и родное (покой на просторе). Занимаясь аналитическим описанием простора как особого эстетического расположения, стоит обратить внимание на словарную сочетаемость «простора». Именно в устойчивых словосочетаниях сконденсирован эстетический опыт поколений, в них он обретает форму вербальных кристаллов, связывающих разные, порой весьма отдаленные друг от друга языковые образования. В частности, в устойчивых фигурах речи находит выражение непосредственная (и много раз повторенная) реакция человека на предмет или ситуацию. Наличие устойчивых лексических фигур – свидетельство распространенности определенного рода опыта, его культурной проработанности и, следовательно, значимости для представителей языкового сообщества. Исследователь эстетических расположений не может пренебречь вербально засвидетельствованной реакцией людей на исследуемый им опыт. Следует обратить внимание на лексемы, в которых артикулируется народное мировосприятие. В данном случае нас интересует восприятие простора.
Простор в русском языке часто сопровождается эпитетами «бескрайний» (бесконечный, безграничный, необъятный) и «родной»; широко используется и форма множественного числа («родные просторы», «бескрайние просторы»). О чем эта сочетаемость свидетельствует? Не только о переживании пространства, открытого в ширину и глубину по горизонтали, но и о ее рецепции в культуре (в данном случае – культуре русской).
В выражении «бескрайний простор» присутствует указание на «действующее начало» простора, на то, что делает его ценным в эстетическом отношении. Простор (эстетически) – это событие перехода от восприятия какого-то пространства, пространства в относительных координатах (нечто переживается и оценивается как более или менее просторное) к восприятию безграничной шири. Бескрайность в сжатой форме предъявляет то, что делает простор простором: потенцированность шири до бесконечности. Созерцатель не может удержать в едином поле зрения всю линию горизонта, и ширь кажется ему беспредельной (и в ее эстетическом переживании она беспредельна). Бескрайность несет в себе ощутимое носителями языка экзистенциально утверждающее начало: бесконечный простор не опустошает, он, напротив, дает переживание полноты присутствия.
Смысл второго, еще более нагруженного в эмоциональном плане словосочетания (родной простор, родные просторы) также заслуживает пристального внимания и анализа. Может вызвать недоумение, почему простор, соотносимый с бескрайностью, с тем, что не может быть освоено, что несоразмерно человеку и должно оставаться чужим, характеризуется эпитетом, указывающим на близость, интимность, свойскость[71]? Каким образом простор, определяемый через безграничность, исключающую мысли о домашнем, обжитом, очеловеченном, хорошо знакомом (о своем), воспринимается как «родной»?
Простой ответ мог бы выглядеть так: если человек вырос на просторе, если в месте его проживания много свободных (открытых) равнинных ландшафтов, то простор становится для него чем-то близким, тем, с чем он сроднился с детства (привычное, близкое, знакомое). Когда после долгого пребывания в закрытых пространствах города (поселка) он попадает на открытое место, простор воспринимается им как что-то очень близкое, как то, чего ждала его душа, по чему она тосковала.
С таким ответом согласиться можно. Но остановиться на нем нельзя. Ближе к сути дела мы подойдем в том случае, если обратим внимание на эмоции, которые вызывает «родное». Родное (то, с чем человек связан «органически») успокаивает, дает чувство уверенности. Родное поддерживает как «надежное», как связанное с нашим существованием. Это непроизвольно сформировавшаяся связь, а потому она устойчивее тех связей, в которые субъект вступает осознанно, в режиме целерациональной деятельности. Если на кого-то и можно положиться, так это, конечно, на родных, на родное. Среди родных мы чувствуем себя уверенно. Дома «и стены помогают»[72].
Определять простор как «родной» – значит понимать его как расположение, дающее чувство внутренней уверенности и покоя в сочетании с производной от бескрайности приподнятостью. Казалось бы: беззащитность вышедшего на простор человека перед вторжением неожиданного и непредвиденного (чужого, далекого) покою способствовать не может… На просторе человек открыт, он лишен внешних ориентиров, ему негде спрятаться от непредвиденного: мир дан ему в своей пугающей огромности и пустынности[73]. И все же язык нас не обманывает. На просторе мы (бывает) успокаиваемся и обретаем гармонию: гармонию с собой и с миром. Причем успокоение, покой не исключает эмоциональной приподнятости.
Она возникает за счет освобождения от ограничений, которые накладывают на человека город, работа, теснота и сутолока повседневности…[74]Простор эту суету отбрасывает: несущественные детали бледнеют в голубой дымке у далекого горизонта, а предметы озабоченности на просторе сжимаются в точку и исчезают. Наше «эмпирическое я» сопрягается с тем, что поднимает нас «над» повседневностью и помещает в ситуацию, когда «можно сделать новый шаг». Эта ситуация знакома нам, в частности, по воспоминаниям юности[75]. Возможность начать все сначала и есть ближайшее, прирожденное человеку, она ближе близкого (ближе родителей, родных, друзей…). На просторе человек открывает Другое как чистую возможность. Нет никого (и ничего) ближе Другого.
Феномен простора и феномен юного (чувство чистой возможности иного) тождественны на экзистенциально-онтологическом уровне, но отличаются на уровне воспринимаемой предметности (отличаются друг от друга онтически), что и делает их разными эстетическими расположениями, одно из которых относится к эстетике пространства, а другое – к эстетике времени (Подробнее см. Приложение 1).
Простор и просторное (просторное как эстетическое расположение). Выше мы говорили о просторе как о безусловном расположении эстетики пространства. Но особенным может быть не только простор, но и просторное. Переживание возможности движения в просторном пространстве ограничено: возможность занять другое место воспринимается как определенная возможность, а не как чистая возможность иного (не как возможность занять любое место). Просторное пространство воспринимается не как место пребывания, а как пространство-для-движения. Просторной может быть и городская площадь, и улица, и дорога, и комната, и поляна в лесу, и горная долина.
Говоря о просторном, имеют в виду хотя и обширное (широкое), но ограниченное пространство: «банкетный зал был просторным и светлым», «комната была почти пустой и казалась просторной» и т. д. Просторное – это простор, введенный в рамки. Просторным будет то, что относительно широко (эта улица широкая, а та – еще шире). Просторному противостоит тесное и узкое пространство. Просторно пространство, которое вводит движение в рамки, но сохраняет за субъектом восприятия возможность маневра, выбора траектории перемещения. Просторное – это переживание возможности движения по нескольким направлениям.
Из сказанного следует, что эстетика широкого и глубокого пространства неоднородна и скрывает два родственных расположения. Соответственно, можно и нужно различать между «чувством просторного» и «чувством простора» и мыслить простор как пространственный образ воли, а просторное – как пространственный образ свободы. Просторному соответствует концепт «свобода», а безграничному простору – «воля». (Подробнее о соотношении простора и воли см. Приложение 2.)
Просторное следует квалифицировать как условное расположение эстетики направлений. Испытывая удовольствие от его созерцания, мы можем сравнивать просторное с просторным по шкале «больше/меньше». В том случае, когда человек переживает простор (безусловно широкое), никакие сравнения невозможны.
В конечном счете просторное отсылает – также, как и простор, – к Другому, но это – «в конечном счете», а чувству просторное «говорит» об относительно другом, оно вещает о широком круге возможностей перемещения, из которых можно выбрать то или другое направление и быть деятельным, активным.
Если простор можно сопоставить с феноменом юного (чистая возможность иного как неопределенное будущее), то просторное – с феноменом молодого (определенное будущее, «будущее в рамках возможного»)[76].
Различие между простором и просторным может быть полезным в анализе эстетической действенности природных и городских ландшафтов (продуктивность использования понятий «простор», «просторное» и «порядок» в анализе эстетического потенциала городского пространства показать на примере Санкт-Петербурга: см. Приложение 3).
Опыт простора и современность. Завершая анализ простора и его эстетического потенциала (его преэстетических условий), остановимся на том, в какой мере опыт простора востребован сегодня, и имеются ли условия для его эстетической актуализации. Радикальная деструкция традиционных форм и способов человеческого существования на протяжении XIX–XX веков, проявившаяся, в частности, в дискредитации художественными авангардами эстетики прекрасного, выдвинула на первый план формы восприятия, созвучные новому переживанию мира (мира-в-становлении-без-цели). Крушение коммунистической утопии (совершенное общество как близкая и достижимая цель) нанесло удар по идее Целого (по идее завершенности и совершенства). Отсутствие больших утопий Целого (если говорить о людях секулярной культуры) равнозначно утрате надежды и признанию того, что наше движение – это движение из ниоткуда в никуда. Мир открыт, не завершен, и жизнь – это возможность иной жизни, возможность, которая все время осуществляется, но «до конца» (до цели, до Целого) осуществиться не может (смерть – внешнее, принудительное ее завершение).
В обществе, базирующемся на отсутствующем (на будущем), на авансцену общественного внимания выходит не «чтойность», а возможность, не сущность, а открытый горизонт неизвестного будущего.
В то же время чувствительность к пространству и времени как к предметам эстетического восприятия не может сегодня обнаружить себя в полной мере. На пути эстетики пространства имеются препятствия. Потребность в эстетическом опыте, отвечающем настроенности современного человека на новизну, открытость и самоценность движения, репрессируется обстоятельствами его повседневной жизни. Что же препятствует актуализации чувствительности к феноменам эстетики пространства? Как обстоят дела с преэстетическими условиями встречи с простором сегодня?
Условия эстетического события носят двойственный характер. С одной стороны, это конфигурация среды (объект восприятия), с другой – внутренняя настроенность, готовность субъекта к встрече с особенным. Остановимся сначала на первом, потом – на втором условии встречи с простором.
1. Скученность населения в больших городах и городских агломерациях возрастает. В мире все больше людей, которые не видят линии горизонта, не видят открытого пространства. Выходя из дома, они наталкиваются взглядом на дома, заборы, машины, рекламные щиты, перетяги, строительные конструкции… Дело не исчерпывается тем, что горожане редко соприкасаются с открытым горизонтом. Сам по себе контраст закрытого и открытого пространства встрече с простором скорее способствует, чем мешает, поскольку усиливает восприимчивость к отсутствию ограничений. Но контраст предполагает переход от закрытого к отрытому пространству, а возможность такого перехода все время уменьшается. За городом, конечно, просторнее, чем в городе, но степень открытости пространства часто не достигает того уровня, который необходим для перехода от переживания просторного к переживанию простора. Большие города утратили границу, отделявшую их от того, что находится за ней. Давно нет городских стен, отсутствуют рвы, и за «чертой города» редко открывается вид на «чистое поле». За городом сегодня «не чисто». Города зарастают густым «подлеском» пригородов, коттеджных и дачных поселков, промышленных объектов, etc. Само понятие «пригород» сегодня размыто. Трудно определить «на глаз», где кончается город и начинается пригород. Это не очевидно. Еще труднее нащупать (визуально) линию, за которой начинается полностью открытое, пустое, чистое пространство. Даже в России, с ее громадными пространствами и равнинным ландшафтом, тому, кто желает покинуть урбанизированную зону пригородов, с каждым годом приходится тратить все больше времени на то, чтобы соприкоснуться с полностью открытым горизонтом[77]. Горизонт заслоняет ближайшее. Загроможденность поля зрения всевозможными сооружениями у одних вызывает смутную неудовлетворенность, у других – осознанное желание вырваться «на простор».
2. Чтобы воспринять простор, мало оказаться в чистом поле, надо быть внутренне готовым к такой встрече. Сложность в том, что у лишенной опыта взаимодействия с открытым пространством души восприимчивость к простору не формируется, а там, где она сформировалась, не всегда удается подпитать ее новыми встречами с ширью и далью. Тонкий механизм настроенности на созерцание пребывает ныне в расстроенном состоянии; все меньше людей способны к тому, чтобы хранить сосредоточенную открытость миру. Нерасположенность к созерцанию очень мешает свершению простора как эстетического события.
Напротив, осознанная или неосознанная (бессознательная) настроенность на встречу — та предпосылка, которая делает эстетическое событие (в том числе – событие простора) вероятным, предрасполагает к нему.
Мы говорим лишь о «вероятности» события, так как эстетические расположения могут случиться с нами и без такой настроенности. Простор может войти в нас и потрясти нашу душу вопреки настроению. Однако это не обесценивает усилий, направленных на поддержание способствующей встрече настроенности, которая делает эстетическое событие вероятным.
Что же происходит сегодня с открытостью миру, с настроенностью на встречу? Повседневная жизнь человека XXI века опосредована медиареальностью, работающей и на захват, и на удержание внимания. Пространство медиа играет нашими желаниями, нашей тоской по Целому, по Другому, по полноте присутствия. Подставляя себя вместо (на место) первичного мира, масс-медийная (ныне еще и интерактивная) и – шире – симулятивная среда почти не оставляет времени и пространства для того, чтобы что-то из того, что принадлежит первой реальности, смогло остановить на себе наше внимание.
Конечно, и до наступления масс-медийной (информационной, пост-современной) эпохи эстетический опыт имел своим предварительным (необходимым, хотя и недостаточным) условием сосредоточенность и свободу от власти повседневных забот (работа, отношения с близкими, с друзьями и соседями, бытовые хлопоты) и от того, что нас развлекает (сплетни, разговоры о новинках, чтение газет, карточные игры, выпивка и т. д.). В наши дни ситуация усложнилась: загружать внимание и изолировать себя от окружающего мира стало значительно проще. Где бы человек ни находился, у него, благодаря развитию цифровых технологий, всегда есть возможность занять себя. Миниатюризированная умная техника существенно облегчила (само)изоляцию человека от первичной реальности (реальности рождений и смертей). Возьмем, к примеру, человека, который движется по улице. В какой мере он на ней присутствует и, соответственно, воспринимает то, что его окружает? Мера присутствия может быть разной. Если человек идет по улице с «отсутствующим видом», отгородившись от звуков улицы с помощью наушников, он присутствует только отчасти[78].
Приходится признать, что в том, что касается субъективных предпосылок эстетического переживания простора, ситуация противоречива. С одной стороны, простор отвечает внутреннему запросу современного человека на встречу с возможностью, с другой – у этого запроса мало шансов реализоваться: его реализации мешают усовершенствованная техника изоляции от первичной реальности и деградация способности к созерцанию.
Стороны света открываются Постороннему Их открытость лежит в основе восприятия возможности перемещения. О просторе говорят тогда, когда он становится самостоятельным (выделенным из потока мыслей и чувствований) предметом созерцания. Явленность Другого в расположении простора – это типологически особенная данность, отличная от форм, в которых Другое обнаруживает себя в ветхом, юном, мимолетном, затерянном, прекрасном, возвышенном, ужасном, etc. расположениях. На просторе Другое открывает себя в виде широко (бесконечно широко) распахнутого пространства. Переход от созерцания открытого вширь и вдаль пространства к созерцанию простора – это эстетический переход от переживания какого-то пространства к переживанию пространства в его чистоте.
Простор как расположение – это данность чистой возможности иного, которая опознается через видимую беспрепятственность передвижения (опыт простора как начала возможности движения). Возможность перемещения открывает человеку его у-местность. Быть уместным – привилегия того, кто свободен от места. В опыте простора человек находит в себе Странника, того, кто волен сменить место. Человек – это место-имения-места. Куда он направит свои стопы – там и будет пролегать его путь, его дорога.
2.1.2. Эстетика дали
Дом стоит, свет горит.
Из окна видна даль
Так откуда взялась – печаль?
В. Цой. Печаль
Любовь к дальнему: даль как эстетический феномен. В этом разделе мы рассмотрим феномен дали. Его дескрипцию удобнее всего провести через сопоставление с простором (и простор, и даль ориентируют нас по горизонтали). Если особенное простора определяется как чувственная данность возможности перемещения, то даль связана с переживанием возможности направленного движения. Линия горизонта, играющая столь важную роль в пространственной конфигурации дали, воспринимается в этом расположении не как граница видимого в глубину, а как символ бесконечного движения. Наше исследование нацелено на выяснение ее эстетической конституции и описание преэстетических условий ее свершения.
Что же это такое – даль? В эстетике она исследована не больше, чем другие феномены эстетики пространства, то есть остается, подобно простору, бездне, выси и уюту, не возделанной концептуально[79]. Зато даль вызывает интерес у разведчиков будущего, художников, реализованный, в частности, на одном из музейных биеннале в Красноярске (куратор – Сергей Ковалевский[80]). Обращение к работе с пространством представителей художественного авангарда еще раз убеждает нас: время для философского осмысления дали наступило.
Семантика дали. Начнем наше исследование, следуя установленному порядку, с семантического анализа, соотнося «даль» с близкими ей терминами (с «перспективой» и «горизонтом»).
Существительное «даль» производно от прилагательного «далекий»[81]. Если слово «далекий» указывает на дистанцированность того или иного предмета или места на значительное (от кого-то или чего-то) расстояние, то производная от него «даль» самодостаточна. Даль – это то, что имеет значение само по себе, что может быть самостоятельным предметом созерцания: «из окна видна даль…»[82]. Как особый предмет созерцания (особенный образ пространства) даль окутана эпитетами: она может быть и «голубой», и «таинственной», и «туманной», и «бесконечной», и «манящей».
Несмотря на свою производность от прилагательного «далекий» существительное «даль» впервые упоминается в «Повести временных лет» под 6496 годом[83], что свидетельствует о его укорененности в историческом прошлом славянских народов. В современных толковых словарях выделяют два значения «дали»: 1) далекое пространство, видимое глазом, и 2) отдаленное, далеко расположенное место (в словаре Т. Ф. Ефремовой в качестве самостоятельного значения выделяется, кроме того, темпоральная составляющая дали: 3) даль – «отдаленное от настоящего времени, отдаленность по времени»)[84]. Второе значение, как и третье, не имеет прямого отношения к теме нашего исследования (видимость далекого места с необходимостью этими значениями не предполагается), зато первое свидетельствует о том, что даль на языковом уровне давно уже фиксируется как особый предмет чувственного восприятия, и о том, что ее семантическое поле изначально включало в себя эмоциональную составляющую.
Перечень эпитетов, сопровождающих даль, свидетельствует о том, что даль (подобно простору, уюту, пропасти, выси) – это, во-первых, слово разговорного языка и, во-вторых, слово из языка поэзии, художественной литературы и публицистики. В концептуальном лексиконе философии, науки и техники слово «даль» встречается редко. Какой может быть даль, если посмотреть на нее через ее эпитеты? Даль может быть манящей, бирюзовой, томительной, звенящей, etc. Другие слова, используемые для указания на глубину по горизонтали, не наделены такой экспрессивной силой, как даль, и не притягивают к себе эмоционально насыщенных эпитетов. Например, когда мы говорим о большом расстоянии, о значительной дистанции, о глубокой перспективе, то заметного эмоционального отклика такие словосочетания не вызывают. Все дело в том, что даль не просто указывает на конфигурацию пространства, но передает впечатление от глубины пространства.
Наиболее близкий к дали концепт – «перспектива». Перспектива в словаре Ожегова-Шведовой раскрывается следующим образом:
«1. Искусство изображать на плоскости трёхмерное пространство в соответствии с тем кажущимся изменением величины, очертаний, чёткости предметов, которое обусловлено степенью отдалённости их от точки наблюдения. Законы перспективы.
2. Вид, картина природы с какого-нибудь отдалённого пункта наблюдения, видимая даль. Морская перспектива.
3. перен., обычно мн. ч. Будущее, ожидаемое, виды на будущее. Хорошие перспективы на урожай. В перспективе (в будущем, впереди).
| прил. перспективный, – ая, -ое (к 1 и 3 знач.; спец.). Перспективная аэрофотосъёмка. Перспективный план работ»[85].
Как видим, второе значение слова «перспектива» по Ожегову-Шведовой практически совпадает с первым значением «дали». Однако «даль» предпочтительнее, поскольку включена в универсум русской речи более органично, чем «перспектива» (мы исходим из того, что задача актуализации смыслопорождающих возможностей русской речи – одна из самых насущных задач отечественной философии). В пользу термина «даль» свидетельствует и его эмоциональная нагруженность. По сравнению с далью «перспектива» воспринимается как отстраненное от переживания именование глубокого пространства. Кроме того, «перспектива» отсылает к технике построения глубины пространства (в частности, построения трехмерного изображения вещи) на плоскости и равно применима как к передаче глубины помещения (комнаты, залы, площади), так и к построению пейзажа. Термин «перспектива» незаменим (если говорить о русской речи) при обсуждении способов построения объемного изображения, когда изображаются предметы, архитектурные сооружения и ограниченные пространства (интерьеры, площади, улицы), но если предметом внимания оказывается открытый в глубину вид на местность, то предпочтение отдают «дали». Даль – и это существенно – выражает определенную конфигурацию видимого пространства и впечатление от ее восприятия, вбирая в себя эмоциональную реакцию на глубину пространства по горизонтали. Поскольку мы ставим перед собой задачу исследовать восприятие глубины, выделенное из ряда подобных восприятий как эстетическое событие, то у дали здесь имеется явное преимущество.
Все сказанное нисколько не мешает осмыслению дали в том направлении, которое задается термином «перспектива», то есть рассмотрению ее как «вида вдаль, вперед, на расстоянье, с обстановкой по пути разными предметами» (толкование «перспективы» В. И. Далем).
Необходимость подчеркнуть в толковании дали перспективу обусловлена тем, что если этого не сделать, то даль («то, что видно (пространство, пейзаж) на большом расстоянии»[86], «далекое пространство, видимое глазом»[87]) будет трудно отделить от простора как «свободного, обширного пространства» по словарю Ожегова-Шведовой. И в обыденной речи, и в художественном языке эти слова нередко используются как родственные понятия[88]: «в голубой дали, на просторе великой равнины было заметно какое-то движение…» Но поскольку мы исходим из того, что восприятие пространства в глубину по горизонтали и его восприятие по ширине и глубине – это разные эстетические феномены, нам важно акцентировать внимание на моментах, требующих отделить даль от простора.
Теперь сопоставим термин «даль» с «горизонтом». Хотя горизонт и входит в один синонимический ряд с далью, но эта синонимия далека от полноты. Первый термин указывает на «далекое пространство, видимое глазом», а горизонт, если отправляться от греческого «horizon», «horizontos» (разграничивающий), указывает, прежде всего, на видимую границу неба и земли или на линию, разграничивающую небо и водную поверхность, то есть акцентирует внимание на последнем пределе видимого. Даль, в отличие от горизонта, указывает не только на «край земли», но и на пространство, от него отделяющее. Правда, словари указывают и на близкое «дали» значение слова «горизонт» («все видимое вокруг наблюдателя пространство»), но и оно ближе к «простору», чем к «дали», поскольку акцентирует не глубину пространства, а его широту («все видимое вокруг»). Не случайно ближайшие синонимы «горизонта» – это «ширь», «кругозор» и «окоем»[89].
Соображения, побудившие нас выбрать термин «даль», а не «горизонт», те же, что и в случае с перспективой. Слово «горизонт» – заимствование, оно заметно уступает «дали» по эмоциональной насыщенности и укорененности в русской языковой стихии.
Завершив разведку семантического поля глубокого пространства по горизонтали, приступим к анализу его эстетического своеобразия и сопоставим даль с простором.
Даль и простор
Простая, как Божье прощенье,
прозрачная ширится даль.
Ах, осень, мое упоенье,
моя золотая печаль!
В. Набоков
«Даль ширится…» Читая такое, понимаешь: речь идет не о дали. Речь о просторе, которого осенью становится больше. Широкая даль – это простор[91]. Возможность погрузить взгляд в глубину пространства растет по мере того, как деревья освобождаются от листьев, а воздух становится прохладным и прозрачным. Природа освобождается от частностей, сложное уступает место простому, изначальному: пространству, миру, воле. Без открытия пространства в глубину – нет шири. От сентября к ноябрю пространство расширяется вперед и в стороны. «Даль ширится».
Когда мы говорим о широкой дали, то за этим словосочетанием может стоять как опыт простора, так и опыт дали. Характеристика опыта зависит от того, что находится в фокусе восприятия: ширь или даль. И в том, и в другом случае мы имеем дело с пространством, открытым по горизонтали, но на просторе в центре внимания находится ширь (предполагающая отдаленность линии горизонта), а в направлении дали – глубина. Простор поражает нас широтой обзора (глубина подчинена шири, служит ее восприятию), даль – глубиной проникновения взгляда в пространство, возможностью созерцать самую «дальнюю даль».
Данность простора не предрасполагает к движению (взгляда и – потенциально – тела) в определенном направлении, она дает опыт возможности движения, не привязанного к определенной локализованной в пространстве (зримой) цели. Цель может быть любой именно потому, что она визуально не акцентирована; «цель» остается плавающей, иррациональной. Это даже не цель, а возможность избрания цели. Переживание простора можно определить как переживание покоящейся в себе (нерастраченной) полноты возможностей. Простор не провоцирует созерцателя к движению как раз потому, что в нем удержана возможность перемещения в любом направлении. Можно оставаться в неподвижности и целиком уйти в созерцание.
Полнота возможности перемещения успокаивает, умиротворяет. Тяга к простору – это тяга к полноте возможностей, которой в повседневной жизни нам недостает. Полнота дается, как проблеск солнца в тучах, как событие. Например, как эстетическое событие. Если проводить параллель с расположениями эстетики времени, то простор сближается с опытом юного (ведь чувство юного – это тоже переживание возможности иного в ее чистоте).
Простор – это образ бесконечности, в которой не выделено какое-либо особое направление. Именно направленность к тому, что впереди, как к цели созерцающего мир взгляда отделяет даль от простора. В восприятии отдаленного человек не погружается в переживание чистой возможности иного, а набрасывает себя на возможность достижения определенной цели.
Даль – пространственное инобытие будущего. То, что во времени представляется будущим, в пространстве дано как место, отдаленное от созерцателя. То, что виднеется в дали, выступает как возможная цель для всматривающегося в глубину пространства человека. Если проводить аналогию между далью и феноменами эстетики времени, то даль можно соотнести с эстетикой молодого как чувственной данностью определенного будущего.
Пространство, открытое по горизонтали (простор), предполагает глубину, даль, а даль простора – с необходимостью – не предполагает, даль возможна и без него. В этом легко убедиться, если представить себе, что мы находимся в не слишком широкой долине между двух горных хребтов; у нас имеются условия для восприятия дали, но не простора. Так бывает и в тех случаях, когда планировщик парка (или градостроитель) предусмотрел для дальнозоркого взгляда смотровую площадку: возвышающееся над окружающим ландшафтом и открывающее вид в глубину место.
Даль сближается с простором, поскольку предполагает открытость горизонта и возможность беспрепятственно продвинуться взглядом в глубину пространства. Но главное в созерцании дали – отделяющая от линии горизонта дистанция. Взгляд в даль предполагает не движение слева направо и справа налево вдоль линии горизонта, а движение «туда» (вперед) и «обратно» (назад, к тому, что на переднем плане).
Созерцание одного и того же пейзажа может сопровождаться и переживанием дали, и чувством простора (а может не сопровождаться никаким чувством). Когда в нашем восприятии актуализировано измерение шири, мы имеем дело с простором, когда в фокусе внимания находится глубина пространства, мы говорим о дали. Все дело в том, чем мы захвачены: дальностью далекого или бескрайностью горизонта (кругозора, овиди, если воспользоваться подсказкой В. Даля). Бесконечный простор – не просто яркий эпитет, это точное выражение того, с чем мы имеем дело в восприятии. Но если мы находимся на возвышении и наш взгляд погружается в глубину и растворяется в неясной, туманной области на границе земли и неба, то Другое, Иное открывается нам в образе дали.
Онтолого-эстетическая конституция дали
Мой финиш – горизонт,
а лента – край земли, —
Я должен первым быть на горизонте!
В. С. Высоцкий. Горизонт
Как было показано выше, даль – это эстетическое расположение, в котором пространство воспринимается как возможность перемещения в глубину по горизонтали. Если простор дает переживание пространства как не определившейся возможности (чистой возможности), то в переживании дали мы встречаемся с возможностью, ограниченной видимой перспективой. Расстояние между созерцателем и «краем земли» в этом опыте – уже не просто «расстояние», это путь, преодолеваемый взглядом (путь, который человек может пройти, чтобы в итоге достичь…). Последняя грань видимого (дальняя даль) воспринимается как предел зримого и, одновременно, как энтелехия созерцающего взгляда. Край земли как бы стягивает пространство, распростертое между дальней далью и созерцающим ее человеком, и позволяет – зрительно – «забежать» вперед, к тому, что (пока) доступно только взгляду
Даль – это пространственная символизация человеческой (пред)назначенности Другому, это пространственный эквивалент его вечной устремленности «к чему-то» (или «к кому-то»): к какому-то смыслу, к какому-то предмету, к какому-то лицу, это возможность, отнесенная к цели. В фокусе внимания крайняя точка видимого, предел возможного движения. Можно сказать, что даль – это пространственный образ судьбы, образ человеческого удела (удела общества и удела человеческого). Человек новоевропейской культуры устремлен в будущее и грезит далью.
То, что расположено поблизости, воспринимается как «еще не все, что есть», «не все, что возможно». Такое восприятие обусловлено данностью отдаленного, того, что не здесь. В переживании дали мы захвачены перспективой возможного движения (видимая даль резонирует с внутренней далью – с будущим, с надеждой[92]) к тому, от чего мы отделены, дистанцированы. То, что находится на горизонте (или сам горизонт), воспринимается и как цель возможного движения, и как предмет желания.
Способность к эстетической реакции на даль как на другое место свидетельствует о нашей уже-отнесенности к Другому. Именно эта исходная отнесенность и позволяет откликаться на то, что находится на пределе доступного взгляду и овладевает вниманием как самое отдаленное.
Что же созерцает созерцающий? Край земли как предел (и гипотетическую цель) возможного перемещения или само движение от «здесь» к «там», от знакомого к незнакомому?
Анализ показывает, что даль следует понимать как расположение, в котором мы переживаем возможность бесконечного движения в бесконечном пространстве. В центре внимания находится само движение, сама возможность перехода от «здесь» к «там». Что касается возможности созерцать отдаленнейшее и воспринимать его как предел видимого, то эстетическим знаменателем дали признать ее, пожалуй, было бы ошибкой. Восприятие горизонта как границы видимого вступает в игру с другими моментами нашего жизненного опыта, так что последнее из видимого не переживается как граница пространства, как предел возможности движения. Ведь созерцающий даль знает: за видимой точкой на линии горизонта находятся другие, пока неизвестные, невидимые горизонты.
Но, быть может, в акте созерцания дали мы забываем об этом и смотрим вдаль взглядом ребенка, который еще не покидал пределов родного дома, двора, улицы и для которого самое дальнее – это край земли? Нет, такое знание не забывается. Умный глаз, нечто узнавший, не может отказаться от того, что он уже знает. И наш собственный опыт, и известные нам описания дали не дают оснований для восприятия крайней точки видимого как последнего предела того, что можно видеть в этом мире.
Конечно, дело не только в опытном и отвлеченно-рациональном знании об условности горизонта как границы. Дело в том, что в самой дали как предмете созерцания содержатся чувственные даты, актуализирующие имеющееся у нас опытное знание ее относительности, условности. При попытке приблизить даль она неизменно ускользает, расслаивается, растягиваясь по мере движения. Убегающая в глубину последовательность планов подталкивает нас к восприятию линии горизонта как последнего из них, как условной границы, допускающей (и предполагающей) дальнейшее движение в том же направлении.
Дальняя даль (то, что на горизонте) – это граница видимого, которая прочитывается взглядом как образ потенциальной бесконечности пространства, как символ не знающего предела движения от одного к другому, от горизонта к горизонту. Даль туманна, она подобна будущему в воображении того, кто молод, движение вперед обещает прояснить то, что вдали, приблизить его, но оно не исчерпывает возможности двигаться дальше[93].
Даль динамична. В ней есть что-то, что толкает взгляд к бегству от «здесь» к «там». Убегающее убегает в даль. И это убегание дает – в силовом поле эстетического созерцания – ощущение, что там, за видимым краем земли, есть другая даль (и другая, быть может, лучшая жизнь!). К этому предположению нас склоняет внутренний динамизм воспринимаемого пространства.
В созерцании дали акцентируется не столько граница видения, сколько сам переход от одного к другому, поддерживаемый зримым расслоением впереди-пространства на множество планов: взгляд скользит от отчетливого и насыщенного цветом переднего плана к более спокойному среднему и, наконец, – к дальнему (разбелённому, холодному). Мы созерцаем последовательность слабеющих от ближнего к дальнему цвето-световых порядков, увлекающих взгляд в голубоватосизую глубину. Белёсая у горизонта земля как бы призывает нас приблизить смутно-видимое, сделать его более ясным и отчетливым, узнать, что находится в самой дальней дали, на краю зримого.
Человек испытывает радостное чувство, когда он видит даль и когда ему удается приблизить и прояснить ее [94]. В переживании того, что здесь, и того, что там, присутствие и отсутствие соединяются. То, что дано на расстоянии, в определенном смысле отсутствует. Впрочем, «нет» далекого можно превратить в «да» близкого (в «здесь»), стоит только отправиться в путь и преодолеть дистанцию между тем, что здесь, и тем, что кажет себя в глубине. В этой опережающей (визуальной, гипотетической) достижимости «нездешнего» скрывается провоцирующее начало, подталкивающее к тому, чтобы бросить привычное и отправиться в путь, чтобы сделать туманное – отчетливым, отсутствующее – присутствующим. Динамика убегающего к горизонту пространства убеждает: горизонт – не край, а всего лишь предел видимого пространства…
Даль, поскольку она воспринята как что-то особенное, – одна из форм явленности Другого. Правда, в этом расположении оно явлено косвенно, относительно, как отличное от того, что рядом, на переднем плане, как другое по отношению к нему, как то, что не здесь. Всякая граница (едва различимые на горизонте горы, контуры города, леса, etc.) провоцирует заглянуть «за» нее, зовет узнать, что находится за гранью видимого: пустота, глухая стена или за далью скрывается другая даль? А если за этой далью есть другая даль, то какая она? Относительность дали (Другое здесь – это лишь условная граница возможного движения) смещает внимание на само движение вперед, в глубину, от пункта к пункту, от цели к цели.
Конечная цель может предполагаться или не предполагаться созерцателем, но если визуально наблюдаемая им дальняя даль не воспринимается как окончательная цель движения, то на первый план (и в сознании, и в переживании) выходит само перемещение, продвижение к незнакомому[95]. Движение в этом случае – нечто постоянное (какие-то возможности всегда открыты), а его цели – нечто условное, относительное, переменное… Остановка связывается не с достижением цели, а с невозможностью продолжить движение. Останавливает не отсутствие нового горизонта, а усталость, старость, болезнь, в конечном счете – смерть.
Нельзя не сказать и о том, что особенное дали – это переживание иного (видимого издалека) места как лучшего, более привлекательного (более интересного и многообещающего), чем то, в котором я нахожусь здесь, теперь. Даль зажигает в созерцающей ее душе огонек надежды: кто знает, быть может, там, в дали, лучше[96]?
Вид вдаль провоцирует атональность, подталкивает к тому, чтобы в своем воображении мы не только пробрасывали себя к горизонту (в том числе, к горизонту собственных возможностей), но и желали бы опередить в этом движении других или хотя бы самих себя, оставив позади лень и немощь. В видимой нами дали свернуто усилие, необходимое для преодоления пространства, разделяющего созерцателя и то, что находится на границе видимого, на пределе возможного. Даль заряжена необходимой для ее прохождения силой, волей, «мочью». Она создает тягу, зовет, увлекает. А усилие, необходимое для движения вперед, для преодоления дистанции, отделяющей человека от линии горизонта, переживается как усилие самопреодоления[97].
Преэстетические предпосылки дали. Рассуждая о конституции дали как эстетического феномена, мы не должны забывать о ее событийности. Но в то же время мы учитываем важность (пре)эстетических предпосылок эстетического события, в частности – события дали. Именно они делают возможным это событие, способствуют его свершению. Если говорить о характеристиках ландшафтов, благоприятствующих общению с далью, то об этом мы уже высказывались и можем лишь еще раз повторить: условие восприятия дали – данность пространства, открытого до горизонта, причем это расстояние должно быть значительным и расслаиваться на несколько планов. И чем этих планов будет больше, тем вероятнее эстетическая актуализация дали.
Если в ситуации с предметными предпосылками дали нужен комментарий, то лишь относительно величины дистанции, отделяющей созерцателя от «последнего, что можно увидеть», поскольку простого наличия в поле зрения линии горизонта для встречи с далью недостаточно. Если поверхность земли перед нами повышается, то линия горизонта может оказаться слишком близко к созерцателю и с далью мы не встретимся (не будет «туманной» и «манящей» глубины). Впрочем, и тогда, когда мы находимся на ровной поверхности, шансы встретиться с далью остаются не слишком высокими, разве только пространство перед нами будет свободным от строений, а мы поднимемся на возвышенность (на высоту небольшого холма, кургана, одинокого дерева в степи или, если мы в море, на высоту корабельной палубы).
В общем случае условия для созерцания дали более благоприятны, когда место, на котором находится человек, приподнято над поверхностью земли или воды (холм, высокий берег реки, озера, моря и т. д.). Тогда небольшие предметы на первом и значительные по величине предметы на среднем и дальнем планах не будут препятствовать восприятию глубины пространства, а линия горизонта отодвинется от созерцателя на достаточно большое расстояние. К преэстетическим условиям дали на стороне субъекта можно отнести его настроенность на созерцание. При этом следует различать персональную настроенность и настроенность культурную.
О персональной настроенности много говорить не приходится: эстетической встрече способствует открытость и сосредоточенность на том, что дано, или, иначе, свобода от озабоченности «злобой дня». Зато многое можно сказать о той настройке, которая определяется культурой. Возникновению любого утверждающего эстетического расположения способствует внутренняя свобода как от бытовой озабоченности, так и от страстной увлеченности чем-либо; важна наша внутренняя готовность к встрече с тем, что не вмещается в плотную сеть повседневных дел и отношений[98].
Если даль как событие случается с нами, тогда первая встреча с ней превращается в персонализированный и ценный образ-переживание, актуализируемый в последующих встречах. Первовпечатление дали, ее персонализированный образ во многом предопределяют дальнейший опыт общения с ней. Новые встречи определяются сознательным и бессознательным стремлением к воспроизведению индивидуального первоопыта (в нашем случае – первоопыта дали). Стремиться к тому, чтобы поместить себя в пространственную среду, похожую на ту, в которой даль была пережита как что-то особенное, – это и значит бессознательно (или сознательно) ее культивировать.
Ситуация в культуре подготавливает человека к восприятию дали, делает его чувствительным к ней разными способами, например, через предустановки языка или через описание дали в произведениях литературы, в изобразительном искусстве (пейзажный жанр в живописи, сложные перспективные построения, отображающие глубину пространства). Чувствительность такого рода воспитывается также градостроительными решениями, архитектурой, садово-парковым искусством, акцентирующим перспективные эффекты пространства и открывающим даль своими собственными средствами. Человек, принадлежащий к «далелюбивой» традиции, имеет значительно больше шансов обратить на нее внимание, чем тот, кто к ней не принадлежит. Нельзя не согласиться со Шпенглером, что, например, античность с ее культом пластически совершенного тела внимания на даль не обращала, избегала ее[99]. Соответственно, античный человек имел гораздо меньше шансов быть задетым образом глубокого пространства, чем человек, принадлежащий к традиции, культивирующей восприимчивость к дали как к предметности, выделенной на языковом уровне и наделенной ценностью.
Значит ли это, что афинянин времен Перикла не мог испытывать радости от созерцания глубины открытого перед ним пространства? Полагаем, что нет. Радость от встречи с далью возможна и в эпоху античности, и в другие эпохи, поскольку чувствительность к тому, что открыто в глубину по горизонтали, опирается на антропологические универсалии, на открытость человека как сущего, на его способность к изменению своего положения в пространстве, к ориентации во времени и к осознанию собственной конечности. Того, кто способен двигаться от чего-то к чему-то и рассчитывать, где он будет (что с ним будет) через час, день, месяц или год движения в выбранном направлении, нельзя отлучить от возможности испытать особенное чувство при встрече с глубоким пространством по горизонтали.
Каждого человека волнует его будущее. Особенно – того, кто молод. Он размышляет, мечтает о будущем, ради его приближения он работает, а значит, вид в даль способен вызвать волнение у представителя любой культуры. Воображаемое забегание в собственное будущее – это экзистенциальная основа восприятия дали как того, что манит, зовет и волнует…
Культура может развивать в людях сознание ценности открытия нового, неизвестного, а может этому препятствовать, предписывая совершенные образцы для подражания (известное будущее). Отличия в реакциях представителей разных культур на ту форму пространства, которая по-русски именуется далью, заключаются в том, что носители одной культуры артикулируют свои переживания дали и воплощают их в литературе, живописи и архитектуре, а представители другой не проявляют к ней сколько-нибудь заметного интереса. Как следствие разной степени востребованности дали в культуре, в одном обществе этот феномен будет встречаться чаще, в другом – реже…
Говоря о культивировании дали в рамках той или иной традиции, не стоит забывать и о значении индивидуальной культуры общения с далью. Восприимчивость к дали не в последнюю очередь определяется персональным опытом, а также индивидуальными особенностями субъекта восприятия, тем, в какой мере он устремлен в будущее, как глубоко он вовлечен в экзистенциальное проектирование.
Даль и современность. Как же обстоит дело с преэстетическими условиями встречи с далью сегодня, в XXI веке? Чувствительность к пространству в его направлениях (и в первую очередь – к дали), актуализированная в культуре Нового времени, и сегодня остается высокой, поскольку соответствует цивилизации, базирующейся на культуре тотального обновления-становления как на условии воспроизводства общества и человека. Парадокс в том, что доступность дали как предмета эстетического созерцания сегодня находится под вопросом.
Уже с середины XIX столетия чувствительность к пространству столкнулась с феноменом скорости, который препятствует ее реализации в созерцании. На высоких скоростях созерцание становится затруднительным, направления пространства как специфические его формы ускользают от нас; они остаются всего лишь предметом абстрактных, количественных измерений: «наш самолет летит на высоте столько-то километров», «протяженность побережья от А до Б составляет столько-то…», «если ехать со скоростью 100 км. в час, то из пункта А в пункт Б можно добраться за 3 часа», etc. На высоких скоростях исчисление расстояний сохраняется, а созерцание пространства затрудняется или становится невозможным. Водитель автомобиля, движущегося с высокой скоростью, не может и не должен отдаваться созерцанию того, что видит. Его задача – внимательно следить за дорогой (постоянно «сканировать» переменчивую дорожную ситуацию). Но, быть может, более выгодную позицию занимают сидящие в салоне пассажиры? Доступно ли им созерцание дали или простора? Скорее «нет», чем «да». Хотя пассажир и не обязан следить за дорогой, но высокая скорость движения автомобиля, быстрая смена появляющихся и исчезающих объектов разной величины и формы не позволяют ему сконцентрировать внимание на дальнем плане; да и план этот все время видоизменяется, трансформируется. Открывшуюся на миг даль тут же закрывают деревья, эстакады, выстроившиеся вдоль дороги строения… Подвижность видимого приводит к фокусировке внимания на движении автомобиля и на его скорости, а не на форме пространства.
Сегодня мы не передвигаемся, а, скорее, переносимся с места на место (автомобиль, скоростной поезд, самолет). В нашем распоряжении все меньше неопосредованных высокоскоростной техникой способов взаимодействия с пространством. Контакт с пространством как формой мира слабеет. Созерцание пространства по горизонтали, в котором – свернуто – заключена возможность перемещения в определенном направлении (например, в направлении дали), перестает отвечать имеющемуся у нас опыту. Возможность как переход к иному месту перестает связываться с передвижением в пространстве и с его формой (с образом дали). Теперь она связывается со временем, необходимым для преодоления расстояния. Открытое пространство перестает связываться с телесным движением, и чувствительность к дали и простору ослабевает.
И все же опыт пространства при той конфигурации тела, которую Бог дал человеку, полностью исчезнуть не может. Пусть человек все меньше передвигается «на собственных ногах», но форма его тела такую возможность предусматривает и к ней предрасполагает. Если сохранит то тело, которое у него есть сейчас, то сохранится и чувствительность к переживанию возможности в модусе простирания. Встрече с далью препятствует (как и встречам с простором и высью, с ветхим и мимолетным) и упадок способности к созерцанию. Об этом уже шла речь, когда мы говорили о преэстетических условиях встречи с простором. И здесь мы можем лишь отослать к соответствующему разделу и ограничиться кратким замечанием.
Человек сегодня многое может делать (эффективно функционировать, работать с информацией, с вещами, управлять разнообразными устройствами), но не готов (не умеет) созерцать. Оперирование картинками (Сеть), пассивное следование за сменой кадров на экране к созерцанию как состоянию внимательной открытости миру отношения не имеют. В первом случае человек оперирует образами (занят ими), во втором его вниманием овладевают с помощью меняющихся по воле режиссера смене кадров и ведут его под ручку «из пункта А в пункт Б». Чтобы даль могла стать эстетическим событием, следует открыть внимание для восприятия. Но в ситуации, когда мы всегда чем-то заняты (что-то делаем, о чем-то думаем, что-то смотрим, слушаем, говорим), между нами и миром возникает незримая преграда.
В заключение еще раз скажем об онтолого-эстетической конституции дали: даль принадлежит к утверждающим расположениям эстетики пространства, в которых Другое (Другое в модусе Бытия) дано условно. Другое дали переживается как возможность направленного движения к иному, как возможность перемены места.
В этом расположении человек «внемлет» немому призыву: оставь то, что привычно, и отправляйся к лучшему, неизведанному. Горизонт в расположении дали – не безусловная граница и не бесконечность простирания (простор), а символ бесконечно разворачивающегося пространства движения.
Даль – феномен эстетический. Видимая даль не является для нас предметом утилитарного интереса, как не является она и предметом интереса религиозного, морально ориентированного или познавательного. Точка на горизонте, задающая направление движению взгляда, дана безотносительно к нашим бытовым заботам и нуждам. В расположении дали заявляет о себе наша готовность к ответу на зов. В конечном итоге, говоря об экзистенциальном основании дали, можно утверждать, что даль как что-то особенное, желанное и манящее заставляет человека ощутить неполноту и незавершенность собственного существования, пережить тягу к единению с Другим, неизбывную жажду Другого, «нездешнего».
2.2. Эстетика вертикали (глубокое и высокое на карте эстетических расположений)
С тропы крутой —
Не оборвись!
Ясна обрывистая
Высь…
Седая, гривистая
Лопасть – стой!..
Чернеет – пропасть.
А. Белый. Брюсов (Сюита)
2.2.1. Сверху-вниз направление
В эстетику направлений (измерений) пространства входят расположения, связанные с модусами пространства, ориентированными по горизонтали и вертикали. Эстетическая конституция направлений в горизонтальном измерении была исследована в первом разделе второй главы. Во втором ее разделе мы рассмотрим направления, ориентированные по вертикали. Очевидно, что пространство-вверх (высь) и пространство-вниз (пропасть) существенно отличаются друг от друга как в эстетическом, так и в ценностно-смысловом отношении. Исследование феноменов пропасти, выси и высоты поможет приблизиться к пониманию их эстетического своеобразия.
Притяжение бездны: пропасть как эстетический феномен
Пространство-вниз в языковом измерении (бездна или пропасть?). Тот факт, что обрывистое и протяженное в направлении глубины-вниз пространство оказывает на нас сильное эмоциональное воздействие, обнаруживается уже на языковом уровне. В русском языке имеется не одно, а целых три слова для обозначения протяженности-вниз: «глубина», «пропасть» и «бездна». Если «глубина» в эмоциональном и пространственном планах нейтральна, то «пропасть» и «бездна», напротив, имеют выраженную аффективную окраску[100]. Поскольку речь идет о пространстве-вниз как об особом объекте эстетического созерцания, мы сосредоточим наше внимание на терминах «пропасть» и «бездна» (в «Словаре русских синонимов» ближайший синоним у «пропасти» – «бездна», а «бездны» – «пропасть»[101]). Именно в семантике этих слов эмоциональная составляющая пространства-вниз обнаруживает себя наиболее отчетливо. Оба термина указывают на резкий изгиб земной поверхности, по которой человек передвигается, на большую глубину вниз. И пропасть, и бездна указывают на пространство, которое, с одной стороны, воспринимается как бесконечное по протяженности (бездонное), а с другой – как устрашающее (в пропастях и безднах пропадают).
Не вдаваясь в подробный анализ семантического поля слова «бездна», остановимся на его пространственных значениях. Из словаря В. И. Даля мы узнаем, что бездна – это «неизмеримая глубина; бездонная пропасть; крутой, глубокий обрыв, яма, круть. Никто не измерил бездны океана. В горах Уральских есть пропасти и бездны, в которые луч солнца не проникает»[102]. Аналогичным образом бездну толкуют и другие словари[103].
Как видим, слово «бездна» указывает на отсутствие пространственной границы по направлению вниз, на отрицание предела на пути взгляда, движущего в этом направлении. Акцент делается на бесконечной глубине пространства-вниз. Впрочем, второй семантический полюс «бездны» (который не входит в число ее словарных толкований, но коннотативно от нее неотделим) напоминает о том, что если про-двигаться-падать в глубину, не имеющую дна, человеку грозит гибель, исчезновение из мира живых. Бездна (как и пропасть) непроизвольно связывается сознанием не со спуском вниз, который находится под контролем, а с бесконтрольным падением.
Аффективная заряженность бездны сходна с аффективной составляющей «пропасти» (бездна, как и пропасть, отсылает к смерти) и вместе с тем отличается от нее. В слове «пропасть» гибель – это не второй, а самый первый его семантический образ, который обнаруживается уже на уровне внутренней формы.
Семантическое ядро пропасти – угроза, исходящая от конфигурации обрывающегося вниз пространства. Пропасть указывает на фатальность движения вертикально-вниз. В пасти пропасти пропадают. Глубоко упасть – пропасть. В пропасть падают, срываются, бросаются. Но, в то же время, в пропасть всматриваются, ее созерцают… Анализ словарной сочетаемости пропасти показывает, что она не только страшит, но и завораживает, вызывает восторг, удивляет, поражает воображение.
В глаголах «пропасть», «пропадать», в прилагательном «пропавший» падение связано с исчезновением чего-либо (кого-либо) и/или с исчезновением-гибелью. Приставка про-указывает на динамическую характеристику пропасти как пространства падения[104]. Пропасть – это пасть земли, в которой сущее исчезает так, как в пасти хищного зверя исчезает добыча. В словаре Даля это слово толкуется следующим образом: «Пропасть, бездна, глубь, ущелье, глубокий и крутой обрыв, горный овраг больших размеров. Горные вертепы и пропасти. Снежный обвал увлек в пропасть много скота. Звери дикие, во дебрях и пропастях. Эту пропасть ничем не наполнишь, жадного, корыстного человека. Хляби морские поглотили челн в пропасти своей. Волчья пропасть (пасть) все жрет»[105].
Если искать термин, который можно было бы использовать для обозначения эстетического эффекта от созерцания пространства-вниз, то выбор следует остановить именно на пропасти, поскольку это слово фиксирует внимание на эмоционально окрашенном отношении человека к видимому пространству и указывает на резкий переход от горизонтали к вертикали по направлению сверху вниз (падать можно только вниз).
Термин «бездна» часто (чаще, чем «пропасть») используют для обозначения заполненных водой впадин (морская, океанская бездна). А годная бездна не предполагает проникновения взгляда в глубину, она предполагает знание о том, что до дна «бесконечно» далеко[106]. В случае с водной бездной (как и в том случае, когда речь идет о космической бездне[107]) отсутствует видимый сгиб горизонтальной поверхности вниз по вертикали. О морской бездне можно говорить, созерцая водную гладь с борта корабля или лодки, если ты знаешь, что под тобой очень большая глубина. Пропасть же предполагает зримый обрыв земной поверхности и возможность что-то за ним видеть: видеть «бесконечную глубину», созерцать то, что находится внизу и/или вдали[108].
Кроме того, слово «бездна» имеет определенные этические и религиозные коннотации. Разумеется, не лишена их и пропасть, но в ней они выражены слабее. Для эстетического анализа восприятия пространства-вниз будет лучше, если семантический пласт бездны, связанный с представлением о преисподней, не будет отвлекать на себя внимание и читатель сосредоточится на собственно эстетических аспектах созерцания глубины-вниз.
Остановив терминологический выбор на термине «пропасть», мы, тем не менее, не отказываемся и от использования, в тех случаях, когда это уместно в смысловом и стилистическом отношениях, слова «бездна».
Пропасть как эстетический феномен. Пропасть – расположение особое. По ряду параметров оно заметно отличается от других феноменов эстетики направлений. Достаточно сказать, что пропасть на всех производит сильное впечатление. Трудно найти человека, который остался бы равнодушным, оказавшись на краю пропасти. А вот тех, кто и «ухом не поведет», соприкоснувшись с далью, простором или высью, найдется немало. В том случае, когда мы заняты чем-то ближайшим, насущным, эти формы пространства легко могут пройти мимо нашего внимания. Но не заметить пропасти – невозможно. Мы или обращаем на нее внимание, или просто… летим в пропасть.
Однако неизбежность эмоциональной реакции может вызывать вполне законное сомнение в уместности отнесения данного опыта к эстетике. Эстетическое – это событие, в эстетическом есть непроницаемость, непостижимость, тайна. Если эмоциональная реакция на восприятие объекта созерцания возникает с такой же необходимостью, с какой рука, коснувшаяся раскаленного металла, отдергивается от него, то ее метафизическое и эстетическое достоинство оказывается под вопросом. За автоматизмом реакции (причина – опасность, реакция – отшатывание, эмоция – страх) просматривается действие инстинкта самосохранения – древнейшего источника аффективных реакций. И в самом деле, во многих случаях пропасть воспринимается только на оптическом уровне (как реакция на опасность, локализованную в виде угрожающей конфигурации пространства). Если бы такой реакцией все и ограничивалось, то ни о каком эстетическом опыте и речи не могло бы идти.
Однако реакция на пропасть не ограничивается естественным для человека страхом перед падением и смертью. Включить пропасть в круг эстетических феноменов позволяет тот факт, что время от времени встреча с ней сопровождается не только страхом, но и такими чувствами, как радость, восторг, отрешенность.
Страх перед пропастью возникает с необходимостью, а удовольствие от ее созерцания – нет. Это значит, что удовольствие, которое человек получает от созерцания пропасти и которое невозможно свести ни к его способностям, ни к качеству открытого вниз пространства, удовольствие эстетическое. Пропасть как эстетический феномен событийна. И исследовательский интерес состоит именно в том, чтобы описать внутреннюю структуру эстетической встречи с пропастью, встречи, которую сопровождают чувства радости и восторга, отрешенности и покоя (и это удивляет: полнота присутствия вместо ожидаемого страха).
Исходный пункт любого философско-эстетического исследования – это невозможный опыт, данность чувству безусловно особенного, того, что нельзя предсказать заранее. Принадлежность пропасти к области эстетического опыта выводится из априорных принципов. «Так есть и имеет место быть», – вот что конституирует пропасть как предмет эстетического анализа, как такую-то-вот расположенность, как экзистенциальный разлом Присутствия (Dasein).
В подтверждение того, что пропасть не только страшит, но и восхищает, приведем описание встречи с пропастью из рассказа Александра Куприна «Гранатовый браслет». Повествуя о встрече двух сестер, Анны и Веры, автор описывает впечатление одной из них, Анны, от пропасти: «…Анна, быстро подойдя к самому краю обрыва, отвесной стеной падавшего глубоко в море, заглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом.
– У, как высоко! – произнесла она ослабевшим и вздрагивающим голосом. – Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди… и пальцы на ногах щемит… И все-таки тянет, тянет… (курсив мой. – С. Л.)
Она хотела еще раз нагнуться над обрывом, но сестра остановила ее.
– Анна, дорогая моя, ради Бога! У меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь.
– Ну хорошо, хорошо, села… Но ты только посмотри, какая красота, какая радость – просто глаз не насытится. Если бы ты знала, как я благодарна Богу за все чудеса, которые он для нас сделал!»[109].
Как видим, Куприн фиксирует два противоположных движения (к пропасти и от пропасти) и два противоположных чувства: страх и влечение, желание заглянуть в пропасть. Что именно притягивает молодую женщину к пропасти – Куприн не поясняет. Вид, который открылся Анне с небольшого (мы не знаем – какого) расстояния от края бездны, наполнил ее сердце радостью и восхищением. Рассматривать ли чувство восторга, испытанного Анной, в понятийном горизонте пропасти или в горизонте простора или дали, зависит от того, на каком расстоянии от края обрыва она находилась и какая форма пространства оказалась на первом плане: морская ширь, глубина пространства по горизонтали или его глубина по вертикали вниз.
Первое приближение к феномену пропасти позволяет нам сделать вывод, что перед нами – сложное образование, в котором восхищение от созерцания пространства-вниз предваряется пульсацией страха перед бездной.
Пропасть и философская эстетика. Если бросить взгляд на историю европейской философии, то ничего похожего на эстетику пропасти мы в ней не обнаружим. И, тем не менее, определенная преемственность между эстетикой пропасти и европейской философской традицией имеется. Аналитика возвышенного в трудах Бёрка и Канта (а позднейший анализ не изменил концептуальных рамок, в которых классики европейской эстетики удерживали феномен возвышенного) вводит в область эстетической рефлексии величину и протяженность как специфическую, отличную от прекрасной данности предметность эстетического восприятия.
Чувство возвышенного рассматривалось ими как весьма своеобразное удовольствие (удовольствие через неудовольствие), как воодушевление, сопряженное со страхом (Бёрк определял его как «восторг» – delight). Протяженность пространства (его размерность и форма, его «бесконечность») включалась в поле зрения Канта и Бёрка в качестве предметности чувственного восприятия, встреча с которой первоначально вызывает страх[110] или ведет к фрустрации желательного для субъекта согласования способностей (на что в аналитике «математически возвышенного» обращает внимание Кант) и только потом, на втором шаге – вызывает восторг, воодушевляет. Угроза, исходящая от предмета восприятия, и сопровождающий ее страх преобразуются в чувство удовольствия (по Канту) или восторга (по Бёрку) только в том случае, если человек сознает, что находится в безопасности.
Стоит отметить, что ни Бёрк, ни Кант не проявляли интереса к восприятию отдельных форм протяженности и к осмыслению специфики их эстетической конституции. Однако миновать аналитику возвышенного, обогатившую европейскую культуру концепцией эстетического переживания, не связанного с восприятием телесной формы, исследователь эстетической конституции пропасти не вправе, поскольку именно ее авторы предложили плодотворный подход к осмыслению восприятия предметов, которые внушают страх, но в конечном счете доставляют эстетическое удовольствие высочайшей пробы[111].
Пропасть как опыт онтологической дистанции. Напомним, что в феноменологии эстетических расположений эстетическое определяется как чувственная данность условно или безусловно особенного, Другого. Через отношение к Другому человек находит, обнаруживает себя в мире. Другое – то, «что» задает онтологическую дистанцию (отделяет от сущего, открывает сущее), но в стертости обыденного среднечувствия и озабоченности остается сокрытым для человека (диалектика сокрытости/ несокрытости Бытия была одной из центральных тем философии Мартина Хайдеггера). Однако в нашем опыте имеются особые, выделенные моменты, в которых обнаруживает себя основополагающая для человеческого присутствия соотнесенность с Другим. Одна из таких привилегированных областей – эстетический опыт. Другое открывается здесь в том, «что» люди могут воспринять, пережить, почувствовать.
Экспликация онтолого-эстетической конституции эстетического расположения дает возможность уяснить, в каком модусе, на каком онтологическом уровне и каким образом (в какой предметности, через какие чувства) открывается Другое. В силовом поле эстетического события Другое дано через типологически разнородные (утверждающие и отвергающие) расположения. Оно обнаруживается (дает о себе знать) в событийно-особенной (но типологически устойчивой) соотнесенности субъекта и предмета восприятия (в эстетическом расположении).
Как Другое обнаруживается в созерцании пропасти? Какова онтолого-эстетическая конституция этого феномена? Созерцание пропасти, как мы выяснили, может сопровождаться радостью и восхищением, и тот, кто имеет этот опыт, будет стремиться повторить его снова. Восторг и радость, сопровождающие созерцание пропасти, свидетельствуют о том, что пропасть принадлежит кругу утверждающих Присутствие (Dasein) эстетических феноменов, что Другое явлено в этом расположении в модусе Бытия.
Нельзя пройти мимо двойственной природы восприятия и переживания пропасти. Структура этого переживания сходна с той, которую Берк и Кант выявили в анализе чувства возвышенного. Удовольствие от созерцания пропасти – это удовольствие, которое предполагает осознание угрозы и сопровождается сигнальными ракетами волнения и страха[112].
Подобно другим феноменам эстетики направлений, пропасть воспринимается как возможность занять иное место. Однако пропасть – это не просто возможность движения вниз; пропасть как форма пространства – это образ движения-к-смерти. Движение в пропасть расценивается нами как угроза возможности движения как таковой, как движение к неподвижности. Для того, кто стоит на краю бездны, возможность перемещения вниз явлена с полной очевидностью, но это возможность-к-невозможности (движения). Это движение, несовместимое с жизнью.
Движение вертикального вниз пугает. Однако страх в эстетической встрече с пропастью сменяется восхищением (восторгом) и отрешенным покоем. Как это возможно? Благодаря какой силе образ бездны внушает чувства воодушевления, радости и отрешенности?
Краткий ответ мог бы выглядеть так: радость и восторг – реакция на данность в переживании онтологической дистанции. В переживании пропасти преодолевается неотделимый от человеческого присутствия в мире страх перед концом. Иначе говоря, за чувствами радости и восторга скрывается определенная драматургия[113].
Представим, что человек стоит перед пропастью. Пропасть внушает ему страх. Но он не просто испытывает страх, он о нем знает, следовательно, у него есть возможность дистанцироваться от собственной устрашенности. Осознание страха указывает на частичную свободу от аффекта. Сознавая страх, можно попытаться совладать с ним также и на уровне состояния, переживания. Осознание и дистанция не освобождают от аффекта, но позволяют иметь с ним дело (противопоставив страху разумную волю). Победить страх как состояние можно только в том случае, если то, благодаря чему человек сознает его (Другое в модусе Бытия), станет тем, что дано в переживании, тем, что он чувствует.
От сущего (в том числе и от себя как сущего) нас дистанцирует не-сущее, Другое. Что позволяет человеку, стоящему на краю бездны, победить страх перед падением? Данность Другого в утверждающем присутствие модусе (в модусе Бытия). Другое – условие данности временного. Соединенная с восторгом отрешенность указывает на данность дистанцирующего, Другого.
Данность Другого (она-то и вносит в стояние над пропастью момент отрешенности) обеспечивает победу над страхом, поскольку на уровне переживания она соединяет нас с тем, что не подвластно времени и смерти. Что может избавить человека от сопряженного с конечностью страха? То, что превосходит конечность человеческого присутствия в его «так оно есть». Страх преображается в восторг и восхищение, когда наша изначальная причастность Бытию как условию трансформируется в переживание причастности Бытию, в переживание полноты присутствия.
При этом в эстетических расположениях (в частности, в расположении пропасти) восторг и восхищение приобретают особый характер. Это не та радость, не тот восторг, не то ликование, которые охватывают нас, когда мы узнаем о чем-то, что для нас важно и желанно (допустим, мы с третьей попытки поступили на факультет, о котором мечтали, или после долгих поисков нашли работу, которая нам по душе, или девушка, в которую мы влюблены, ответила нам взаимностью, или спортивная команда, за которую мы болеем, выиграла решающий матч в чемпионате и т. д.). Здесь радость охватывает нас не потому, что мы нечто получили для себя или достигли того, чего желали. Это радость от Другого как неизмеримо Большего, чем мы сами – смертные. В расположении пропасти мы переживаем восторг, радость и восхищение там, где царил страх, но эти чувства свободны от связности с определенными потребностями и желаниями. Это радость присутствия в отнесенности к Другому. Данность Другого в модусе Бытия – это то, что дает нам ощутить дистанцию, отделяющую нас от сущего.
Попытаемся теперь конкретизировать взаимосвязь между страхом и восторгом в акте созерцания пропасти. Устрашенность указывает на ситуацию придвинутости к границе собственного существования. Если человек сознает, что положение на краю пропасти находится под его контролем, он получает возможность растянуть, зафиксировать на какое-то время свое пребывание в «страшном месте» и отдаться созерцанию того, что внизу. Приближение к границе жизни и смерти освобождает сознание от всего лишнего, от того, что не имеет прямого отношения к тому, что видно с «на-краю-позиции». Бездна овладевает вниманием и ставит человека перед дилеммой бытия/ небытия как нашей собственной возможностью.
Погруженность в созерцание пропасти создает условия, в которых созерцатель может ощутить «дыхание» иной, уже не пространственной, а метафизической бездны. Другое – это бездна, окликающая нас в ситуации, когда мы пребываем в отрешенности от любых предметных содержаний (от того, чем мы обычно живем, что вседневно нас занимает). Метафизическое «без дна» откликается (если откликается) на зов природной бездны в силу нашей изначальной причастности Другому (которое тоже ведь – без дна). Если нам удалось сдержать страх через осознанное волевое усилие (мотивация может быть разной: стыд за собственное «малодушие», сознание долга, интерес к тому, что «видно с самого края», и т. д.) – это будет триумф воли. Но если страх не только удержан под контролем, а еще и преодолен на чувственном уровне, то перед нами эстетическое событие (например, событие пропасти или, скажем, событие возвышенного).
Вернемся теперь к истолкованию эстетики пространства как эстетики возможности, по-разному конкретизируемой и переживаемой в разных расположениях. В акте созерцания пропасти восприятие возможности занять иное место – это восприятие возможности переместиться туда, где для нас нет места, это возможность утраты возможности. Восприятие бездны как бы «взывает» к скрытому от обыденного самочувствия Другому. Этот непроизвольно вырывающийся из «недр и глубин» человеческого существа зов делает Другое насущным, так что его обнаружение становится не только возможным, но вероятным. Именно благодаря Другому человек способен вести игры с образами небытия, в частности, вести эстетическую игру с пропастью. Спросим себя: ради чего он играет в эту игру? Ради трансцендирования за пределы всего сущего (к Другому). Радость возникает как отклик на преодоление собственной конечности (главного генератора страхов) в Другом. Другое-как-Бытие с большей вероятностью являет себя как раз тогда, когда ограниченное в пространстве и времени сущее вплотную придвигается к границе своего существования. Оно преображает пропасть как образ невозможности иного в образ того, что находится по ту сторону любой частной возможности для кого-то или чего-то в координатах пространства и времени.
Как и в случае с чувством возвышенного у Бёрка и Канта, страх, сопровождающий пребывание на краю обрыва, – это важный момент в сложении ситуации, когда пропасть имеет шанс стать предметной составляющей эстетического расположения. Созерцание пропасти предполагает динамическое единство нескольких моментов, представление о которых мы можем получить лишь после того, как событие встречи с пропастью состоялось. Апостериорный анализ показывает, что онтолого-эстетическое событие пропасти предполагает не только встречу с Бытием в ситуации, когда человеческое присутствие, визуально соприкоснувшись с бездной, обнаруживает собственную конечность, но и весьма существенную для анализа данного расположения онтическую игру на предшествующих эстетическому событию фазах приближения к пропасти и стояния над ней.
Как и при каких обстоятельствах? (Преэстетические условия пропасти)
Туманы, пропасти и гроты…
Как в воздух, поднимаюсь я:
Непобедимые высоты —
И надо мной, и вкруг меня…
А. Белый. Брюсов (Сюита)
Пропасть событийна. Ее эстетическое переживание не гарантировано ни конфигурацией пространства, ни субъектом и его настроением, желаниями и способностями. Однако конституирующая эстетическое расположение встреча с Другим, повторим это еще раз, не снимает вопроса об онтических условиях, делающих возможным то или иное эстетическое событие. Напомним, что условия, благоприятствующие эстетическому событию, именуются – в рамках феноменологии эстетических расположений – его преэстетическими условиями (или, иначе, эстетическим потенциалом сущего).
Человек перед лицом пропасти (что зависит от нас?). Исследование условий, благоприятствующих эстетической встрече с пропастью на стороне субъекта, показывает, что дело здесь (так же, как при восприятии дали и простора) не ограничивается одной лишь настроенностью на созерцание и готовностью «смотреть и видеть».
Страх падения и узда воли. Страх подготавливает человека к эстетической встрече с пропастью[114], и он же представляет собой серьезное препятствие на пути к ней. Далеко не всем людям удается преодолеть естественную реакцию отшатывания от края[115].
Снятие страха в силовом поле эстетического события предполагает, что еще до того, как страх будет преодолен эстетически, он должен быть преодолен онтически. Если расстояние до края велико, то пропасть будет не видна. Минимальное условие эстетического события пропасти – близость к обрыву и готовность задержаться (на какое-то время) на его кромке. Речь идет о преодолении естественного для живого существа страха перед тем, что «гибелью грозит». Преодоление страха возможно, и это первое, что приходит на ум, в результате волевого усилия.
Но предположим, что страх обуздан, значит ли это, что он снят? Достаточно ли обуздания страха (контроля над страхом) для того, чтобы пропасть могла захватить наше внимание эстетически? Нет, недостаточно. Что даст нам (в эстетическом плане) стояние над бездной, если мы всецело озабочены тем, чтобы поскорее отойти от нее на безопасное расстояние? Ничего. Тот, кто держит себя в руках, но, пребывая на краю пропасти, продолжает бояться падения, не способен отдаться ее созерцанию.
Волнение перед лицом пространства, воспринимаемого как угрожающее, – естественная реакция. Биологически обусловленное отшатывание от опасного места (сопряженное с чувством страха), как и сознательное усилие по обузданию страха перед пропастью, сопровождают сильные переживания, но эстетическими их не назовешь. Пусть вид бездны пробуждает «сильные чувства» (страх, борьба с ним, удовлетворение от господства над аффектом), но они не обладают эстетическим достоинством. В них нет событийности, в них нет Другого. Отсюда вывод: волевое обуздание страха – необходимое, но недостаточное для эстетической встречи с пропастью условие. Чтобы вид пропасти способствовал эстетическому событию, чувство опасности не должно быть всеобъемлющим, доминирующим. При каких условиях такое возможно?
Можно предположить, что во многих случаях – особенно когда страх действительно силен и требуется много сил для того, чтобы сдержать его, – действует другая сила и что именно она обеспечивает преодоление страха перед бездной не отрицательно, а положительно, за счет удовольствия от пребывания на краю пропасти.
Влечение к высоте и эстетика пропасти. Итак, преодоление страха пропасти предполагает волевое усилие. Важно, чтобы человек, приблизившись к ее краю, был способен, во-первых, сохранять эту позицию какое-то время и, во-вторых, погрузиться в созерцание, получая от этого удовольствие.
В том случае если эстетическая встреча с пропастью состоялось, то память о ней, желание еще раз пережить этот опыт может стать силой, способствующей преодолению страха, и приблизить «того, кто помнит», к краю бездны. Но для того чтобы эта (первая) встреча с пропастью состоялась, влечение к созерцанию на границе разнородных измерений пространства (горизонталь, вертикаль-вниз) должно быть в наличии. И такое влечение действительно имеется. Это влечение к высоте. Люди, которые приближаются к краю пропасти и созерцают ее, ведомы влечением созерцать-с-высокого-места. Вид сверху (наверху-положение) доставляет человеку большое удовольствие. Разные люди чувствительны к этой позиции в разной мере, но удовольствие от высоты-положения знакомо всем. Подбирая площадку под строительство храма, жилого дома, общественного здания, подыскивая место для стоянки во время путешествия, человек – при прочих равных условиях – предпочтет высокое место низкому. Так бывает, когда выбор определяется эстетическими мотивами. Когда в расчет принимаются соображения безопасности, удобства, доступа к ресурсам и т. д., то эти соображения могут пересилить эстетическую мотивацию[116].
И наш личный опыт, и письменные свидетельства других людей свидетельствуют о том, что высота притягивает[117].
В созерцании пропасти сталкиваются два эмоциональных течения, одно из которых связано с чувством высоты[118] (удовольствие от доминирования над окружающим пространством), другое – со страхом падения и смерти. Столкновение разнонаправленных эмоциональных «потоков», их борьба и исход заранее не предопределены. Если чувство страха возобладает над удовольствием от «триумфа воли» (рационально-волевого преодоления страха) и визуального доминирования (удовольствие от высоты положения[119]), то человек отшатнется от бездны и предпочтет держаться подальше от ее края. Если победят силы, влекущие к обрыву, к тому, чтобы постоять на краю, то вероятность эстетической встречи с пропастью возрастет. Встреча с Другим в ситуации стояния-над-пропастью возможна благодаря влечению к высоте. А высота острее всего переживается именно в положении по-над-пропастью, где высота и бездна «вместе живут». Чем ближе человек придвигается к краю пропасти, тем сильнее чувство страха и… тем больше удовольствия от пребывания на высоте.
Пропасть и повседневность. Говоря о преэстетических условиях встречи с пропастью на стороне субъекта, нельзя пройти мимо той роли, которую в ее восприятии играет привычка. Человек, как известно, «ко всему привыкает». Привыкнуть можно и к пропасти, если вид ее стал обыденным, если пропасть включена в круг привычного, хорошо знакомого, а стало быть – не привлекающего к себе особого внимания. Так происходит, когда люди или живут на краю ущелья, или часто пользуются дорогой, идущей по его краю, а также в том случае, когда их профессия связана с высотными работами (монтажники-высотники, мостостроители, горноспасатели, etc.). Превращение пространства-вниз в привычный фон повседневной жизни притупляет чувствительность к образу бездны и препятствует ее эстетическому восприятию. И хотя человек, имеющий дело с глубоким пространством не время от времени, а регулярно, не может с ним не считаться (ведь потеря бдительности угрожает падением[120]), но для эстетического потрясения от вида пропасти этого слишком мало[121].
У того, кто в своей повседневной жизни с пропастью дела не имеет, шансов на эстетическую встречу с попастью значительно больше, чем у того, кто видит ее изо дня в день.
Что зависит от места? Теперь попытаемся прояснить, какие параметры (на стороне предмета восприятия) благоприятствуют эстетике пропасти, если соотнести их с положением, которое занимает созерцатель. Таких условий несколько. Ниже мы рассмотрим наиболее существенные из них.
Без среднего плана (от близкого к далекому). Пространство-вниз обладает максимальным эстетическим потенциалом тогда, когда мы видим не узкую, хотя и глубокую расщелину, но резкий сгиб горизонтальной поверхности, с края которого открывается вид вниз и вперед. Возможность встречи с пропастью определяется доступностью для созерцания дальнего плана (того, что глубоко внизу и вдали), точнее, резкостью перехода от ближнего плана к дальнему. Если, например, противоположная сторона глубокой расщелины находится в нескольких метрах от наблюдателя и наш взгляд уходит вниз на 2–4 метра, то эстетическое свидание с пропастью не состоится.
Для того чтобы пространство-вниз было воспринято как пропасть, важен контраст ближнего и дальнего планов (то есть столкновение того, что находится прямо перед тобой, и того, что виднеется далеко внизу и впереди)[122]. Важно, чтобы взгляд созерцателя мог, не встречая препятствий на ближнем плане и минуя средний план, сразу переходить к дальнему плану– ощутив всю глубину возможного движения-падения. Два плана – ближний и дальний – сталкиваются на линии, разграничивающей скалу (или карниз дома, ограждение смотровой площадки телебашни) и то, что виднеется в глубине. Пропасть – это такое внизу, в котором нет среднего плана. Пропасть сводит воедино близкое и далекое и исключает постепенность перехода от «совсем рядом» к «там, далеко внизу». Преэстетическим потенциалом обладает контрастность планов, демонстрирующая отличие «здесь» от «там». Здесь, рядом со мной, все дано настолько отчетливо, что можно рассмотреть трещины в скале и длинные иглы на ветвях старой сосны, вцепившейся в изглоданный дождями скальный выступ, а там, внизу, крыши домов размером с булавочную головку, деревни размером с брошку и наброшенное на землю лоскутное одеяло из разноцветных прямоугольников, треугольников и квадратов…
Безопасность и феномен «рамы» (о значении границы между «там» и «здесь» для эстетического переживания пропасти). Из сказанного следует, что эстетическому восприятию пропасти способствует ситуация, когда человек находится на таком расстоянии от ее края (от края крыши высотки, от парапета смотровой площадки телебашни и т. д.), которое, с одной стороны, позволяет видеть и сознавать ее «бездонность» (смертельную глубину), а с другой – сознавать безопасность своего положения. Эстетика бездны предполагает соединение восприятия, внушающего страх пространства-вниз с осознанием того, что в «реакции действием» нет необходимости, что опасное – если оставаться на месте – не опасно (глаза боятся, а ноги ощущают под собой твердую опору). Отъединенность ближнего плана (здесь, наверху) от дальнего (там, внизу) можно описать с помощью метафоры рамы.
Конкретные обстоятельства и условия, от которых зависит сознание безопасности «смотрящего в бездну», многообразны, и входить в их подробное исчисление – смысла нет. Ясно, что при отсутствии сильного ветра расстояние до ее края будет одним, а при резких порывах – другим. Если край скального выступа состоит из монолитной плиты – это одна ситуация, а если он представляет собой нагромождение небольших камней и щебня – другая. Возможность ухватиться рукой за ствол растущего на краю пропасти дерева уменьшает расстояние, с которого мы можем отдаться созерцанию бездны, а скошенный книзу край обрыва предполагает его увеличение и т. д.[123]
Рама в искусстве – это граница, отделяющая условное пространство художественного мира произведения (вторичного мира) от первичного мира смертей и рождений. Она дает почувствовать и удерживать в сознании отделенность мира, созданного художником, от пространства нашей повседневной жизни. Есть произведение искусства как вещь и есть особое, художественное пространство, которое открывается через эту вещь. Эта двуплановость художественно-эстетического опыта особенно рельефно обнаруживает себя там и тогда, когда предметом изображения-описания оказываются предметы и виды, которые, казалось бы, должны порождать реакцию отшатывания, но которые, если они явлены в художественном пространстве, ее не вызывают. Чем с большей определенностью «этот» мир отделяется от «иного» (художественного, воображаемого), тем выше допустимая в его границах квота безобразного, страшного или ужасного. В литературе, к примеру, она высока, в садово-парковом искусстве и архитектуре – минимальна.
Мы полагаем, что и в эстетических расположениях первого порядка (в эстетических феноменах, не связанных с художественно-эстетической деятельностью), и в тех случаях, когда мы имеем дело с расположениями, конституируемыми по описанной Бёрком и Кантом схеме возвышенного восприятия, когда удовольствие возникает через преодоление страха, мы сталкиваемся с чем-то, напоминающим «раму», или – шире – с экспозиционным пространством, отделяющим созерцаемое от созерцателя. Мы можем отдаться созерцанию бездны и испытать восторг и восхищение только в том случае, если имеется «рама», если угрожающее «там» отделено от безопасного «здесь». Пропасть, смерть – все это там, за кромкой обрыва.
Чем ближе мы подходим к краю обрыва (два метра, метр, тридцать сантиметров…), тем призрачнее граница между «там» и «здесь». Чем менее она ощутима, тем слабее уверенность в том, что «все под контролем» и «нам ничего не угрожает». В соответствии с мерой «расшатанности» рамы (границы) уменьшается вероятность эстетической встречи с пропастью. Когда встает вопрос о жизни и смерти, места для созерцания не остается.
Пропасть и современность. Из всех направлений пространства, рассматриваемых в этой книге, именно пропасть привлекает к себе наибольшее внимание. Если набрать в поисковике слова «простор», «даль», «пропасть», «бездна», «высь», «высота», то легко убедиться, что больше всего материалов, в которых обсуждающих направления пространства и чувства, которые они вызывают, посвящено восприятию и переживанию «пропасти», «бездны» и «высоты» (последняя чаще всего берется как высота положения над пропастью). Причем тема эта обсуждается как в блогах, на площадках, в группах скалолазов и туристов, так и на молодежных форумах, которые далеки от тематики горных походов. В чем причина такой популярности?
Ответ очевиден. Пропасть никого не оставляет равнодушным. Она вызывает сильные эмоции. Причем эмоции разнонаправленные. Участники групп обсуждают реакцию на вид вниз с большой высоты с двух позиций: пропасть как то, что вызывает восторг, наслаждение, и как то, что сопровождается страхом. Между двумя полюсами находится весь спектр эмоциональных реакций, который также дебатируются в интернет-группах, обсуждающих пропасть (страх и в то же время восторг, влечение к пропасти и отталкивание от нее и т. д.).
Не вызывает удивления и то обстоятельство, что тема пропасти активно обсуждается в молодежной аудитории. Молодым людям, которые стремятся проверить себя на прочность, пережить сильные эмоции, пребывание на высоте, на краю пропасти дает то, чего им недостает в обыденной жизни. Правда, следует учитывать, что этот интерес по большей части обязан аффективной реакции на пропасть (страх перед бездной и влечение к ней) и только в редких случаях связан с эстетическим опытом. Пропасть как источник радости и восторга предметом обсуждения становится нечасто.
Как видим, интерес к пропасти у наших современников (особенно у молодежи) питается – преимущественно – не ее эстетическим потенциалом, а аффективной реакцией на нее. Поскольку молодежь привлекают риск, опасность и сопровождающие их эмоции, это подталкивает какую-то ее часть к фиксации внимания на пропасти и к экспериментам с созерцанием пропасти. В то же время визуальный контакт с пропастью сам по себе создает предпосылки для перехода от связки «пропасть-адреналин» к пропасти как эстетическому феномену, как к предмету созерцания и эстетического переживания и далее к попыткам разобраться в своих чувствах на краю пропасти (что это было?).
Если говорить о ситуации, которая складывается вокруг вниз-направления сегодня, можно утверждать, что чувства-в-связи-с-пропастью вызывают немалый интерес. Наш современник, погруженный в виртуально-сетевые миры, испытывает дефицит ярких эмоций, так что места, с которых можно «заглянуть в пропасть», привлекают к себе его внимание.
Другой важный момент, выделяющий данное направление из прочих, – это, если так можно выразиться, его демократизм. Пропасть не требует созерцательного настроя для того, чтобы человек ее заметил (открытость и внимательность – важное пре-эстетическое условие встречи с простором, далью, высью), она сама заставляет сконцентрировать на себе внимание и забыть обо всем, что не касается вниз-направления.
Если говорить о преэстетических предпосылках встречи с пропастью на стороне предмета восприятия (высокие, резко обрывающиеся вниз места), то современная цивилизация предоставляет их в значительном количестве. Больше, чем в прежние времена. Высокие здания, телебашни, трубы и т. п. в городах делают вид в пропасть (по случаю или в результате эстетического паломничества) вполне доступным. Множество людей получает возможность заглянуть в пропасть благодаря развитию туриндустрии, доставляющей туристов, среди прочего, к местам, которые круто обрываются вниз (башни, видовые площадки в горах, на старинных башнях, колокольнях и т. п.). Нельзя не упомянуть и о горном туризме, о скалолазании, через увлечение которыми проходит часть горожан. Такие туристы имеют многократный опыт созерцания пропасти. Не обходят ее и любители экстремальных ситуаций как таковых, поскольку высота и бездна создают для них много возможностей. И хотя цель экстремального туризма не в созерцании, но контакт с пропастью может привести (и порой приводит) к эстетическому открытию пропасти.
Хотя пропасть и принадлежит к расположениям эстетики направлений, ее восприятие отличается от восприятия других феноменов данного региона эстетического опыта. Ее своеобразие определяется как телесной конституцией человека, так и условиями, в которых протекает его повседневная жизнь. В повседневной жизни взгляд человека перемещается параллельно земной поверхности. Обычно он смотрит на то, что находится прямо перед его глазами. Порой его восприятие захватывают простор или даль, иногда его взор устремляется ввысь, к небу. Восприятие шири, дали и выси позволяет ему пережить возможность/невозможность изменить свое положение в пространстве. Встреча с пропастью явление более редкое. Но дело не в этом. Дело в том, что возможность, которая дана человеку в созерцании пропасти, – это возможность не быть, утратить возможность иметь/занять место. Только в этом расположении эстетики направлений находит себе место чувство страха, преодолеваемое переживанием радости, покоя и отрешенности.
Подводя итоги рассмотрению онтической и онтологической конструкции пропасти как феномена эстетики пространства, необходимо еще раз подчеркнуть, что только чувственная данность Другого превращает пропасть в особое эстетическое расположение, которое следует отнести к безусловным расположениям эстетики утверждения. Другое являет себя здесь через такую конфигурацию пространства, которая исключает возможность движения, но не ограничивает свободы взгляда, проникающего от «здесь, наверху» к «там, в глубине пропасти»[124]. Восприятие невозможности занять другое место оказывается условием для откровения Другого. Отрешенность и свобода побеждают смертный страх.
2.2.2. снизу-вверх направление.
Высь как эстетический феномен
Высь, ширь, глубь. Лишь три координаты.
Мимо них где путь? Засов закрыт.
В. Брюсов. Мир N измерений
К крылам души, парящим над землею,
Не скоро нам телесные найти.
Ф. Тютчев. Из «Фауста» Гёте
Высь всегда влекла к себе человека. Это то, что дано, но недоступно. Созерцание выси связано с особенными чувствами и оно издавна наделялось символическим содержанием. О символической и эстетической ценности вертикали в модусах высоты и выси говорит и история мировой культуры. Устремленность вверх определяет архитектурный облик великих пирамид Египта и Месоамерики, исламских мечетей и дальневосточных пагод, готических соборов и современных высоток. Однако в философско-эстетической мысли высь, подобно другим направлениям пространства, еще не тематизировалась. Попробуем дать ее описание и анализ в концептуальном горизонте феноменологии эстетических расположений.
Семантика выси. Слово «высь» указывает на «пространство, находящееся высоко над землей, в вышине»[125], и в то же время – «на протяженность чего-либо по вертикали снизу вверх»[126]. Нас здесь интересует только первое из двух значений. Иными словами, мы отличаем высь от близкой ей высоты. Протяженности снизу вверх (высоты) мы в этом разделе коснемся в той мере, в какой она связана с высью (отсылает взгляд созерцателя вверх, «в вышину»).
Ближайшие синонимы выси – «небо», «высота поднебесная», «поднебесье»[127]. Когда говорят о высоте, подразумевают или «величину», «протяженность чего-либо от нижней точки до верхней» («высота прибоя»), или пространство наверху («смотреть в высоту», «парить в высоте»), или «расстояние от земли вверх» («лететь на большой высоте»), или «возвышенное место» («занять высоту»)[128]. Хотя высота в значении «высоко расположенной части пространства»[129] синонимична выси, другие ее значения акцентируют внимание на измерении и количественной оценке того, что протянулось снизу вверх или находится на определенном расстоянии от земли. Если высота – это, прежде всего, определенная высота, то высь – открытое и ничем не ограниченное наверху-пространство. Высь может включать в себя движение снизу вверх, от земли к небу, но это лишь предварительная, начальная стадия созерцания выси; внимание в этом расположении фиксируется на том, что «наверху». Взгляд, созерцающий высь, перемещается по ломаной траектории в пределах «небесного купола» и сосредоточен на бесконечности «верха». Именно в этом значении мы и будем использовать этот термин, а термин «высота» зарезервируем для обозначения снизу-вверх направления.
Преэстетические условия выси. Каковы же те предметные условия, которые делают восприятие выси возможным и вероятным? Если сравнивать высь с противоположной по направлению пропастью, то первая доступнее пропасти. Даже в условиях большого города небесная высь открыта для восприятия, стоит только поднять голову и посмотреть в небо. Тем не менее в фокусе нашего внимания она оказывается не часто. Если пропасть (пространство-вниз) сложно не заметить и невозможно на нее не отреагировать (пусть даже соприкосновение с бездной лишь в редких случаях будет носить эстетический характер), то с высью все иначе: 1) хотя мы часто можем видеть открытое небо, но обычно смотрим перед собой, по сторонам или себе под ноги; 2) даже когда мы смотрим вверх, то редко фиксируем внимание на выси, редко делаем ее предметом созерцания (взгляд ввысь чаще всего ориентирован не созерцательно, а прагматически: не будет ли сегодня дождя, брать ли с собой зонтик?).
Небо (если говорить о дневном времени суток) нашего внимания не задерживает. При взгляде перед собой и вдаль в фокусе внимания оказывается более темная горизонтальная поверхность, по отношению к которой оно воспринимается в качестве фона: взор оказывается прикован к линии горизонта.
Высь становится (может стать) предметом эстетического переживания в том случае, если на ней сфокусируется внимание. Что может этому способствовать? Расположение тела, время, погодные условия. Тому, кто лежит на спине, волей-неволей приходится смотреть ввысь: небо находится прямо перед его глазами. Ощущая спиной (но не стопами) землю, он смотрит вверх. В этом случае небо не привязано к линии горизонта. Когда мы лежим на спине, окружающие вещи также ориентированы по вертикали и вытянуты снизу вверх (травы, цветы, устремленные в небо стволы сосен); нашего внимания они не отвлекают; они отсылают взгляд ввысь, в бездонную глубину неба.
Для человека, который находится в обычной позиции (идет, стоит, сидит), высь также может стать предметом эстетического восприятия, но для этого необходимо что-то, что отсылает взгляд вверх. Акцентировать внимание на выси могут высокие, вертикально ориентированные предметы, например, готические соборы, телебашни, маяки, колокольни, но только в том случае, если сами они не превращаются в предмет созерцания, а служат визуальным трамплином для «прыжка в небо». Благодаря вертикальной ориентации и выделенности их контура на фоне сельского или городского ландшафта они забрасывают взгляд в небеса. Аналогичный эффект могут производить (с определенного расстояния) и одиноко стоящие, вырастающие из земли скалы (Метеоры или, скажем, Красноярские Столбы), и резко уходящие вверх горы. Для созерцания выси имеют значение и обстоятельства времени. Например, звездная ночь или вечернее/утреннее небо, окрашенное лучами восходящего или заходящего солнца, когда светящейся оказывается именно высь. Понятно, что если небо закрыто облаками, то это не лучшее время для созерцания выси.
Эстетика выси. Что же происходит с человеком в том момент, когда он встречается с высью как с чем-то безусловно особенным, Другим? Восприятие выси имеет ряд характеристик, отличающих его от восприятия других модусов пространства в эстетике направлений. Для того чтобы привести к сознанию эстетическое (и вместе с тем – экзистенциальное) содержание выси, сопоставим ее с простором, далью и пропастью. Такое сопоставление позволит нам выявить онтолого-эстетическую конституцию выси и акцентировать внимание на том, что отличает ее от иных расположений эстетики направлений.
1. Отсутствие границ (видимая безграничность возможностей). Первое, на что стоит обратить внимание, – это отсутствие в наверху-измерении видимых границ. Мы имеем дело не только с бесконечно глубоким и широким (неохватным) пространством, но и с пространством безграничным.
Высь и простор. Безграничность выси следует отличать от бесконечности простора. С бесконечностью границы мы имеем дело тогда, когда отсутствуют препятствия для взгляда, движущегося параллельно земной поверхности по линии схода неба и земли, замыкающей простор в глубине пространства. Ограничивающую взгляд линию горизонта размыкает ширина пространства («бескрайний простор»). Простор – это ширь, которую созерцатель не способен удержать в своем воображении «от края до края». Это бесконечность по горизонтали. Созерцание простора дает чувство чистой возможности иного. Здесь мы не просто воспринимаем что-то громадное (указанием на величину можно было бы ограничиться, если бы мы размышляли о пространстве в логике кантовской эстетики возвышенного), здесь мы имеем дело с направлением пространства, не препятствующим движению взгляда по сторонам, притом что взгляд не может удержать видимое как целое; ширь кажется нам бесконечной. Однако эта неограниченная возможность (воля) все же ограничена: ограничена горизонтальной плоскостью. Простор неохватен в ширину, по направлению в глубину возможность «упирается» в горизонт. С высью иначе. Когда мы смотрим в небо, то границы здесь отсутствуют. Наш взгляд целиком погружается в высь и не находит в вышине никаких разграничений, никаких стоп-линий.
Высь и даль. В том случае, когда мы созерцаем даль, граница дана нам как видимый предел углубления взора по горизонтали. Причем само наличие границы-как-предела, приковывающего взгляд к самой отдаленной точке на поверхности земли, превращает границу (горизонт) в условную, относительную, преодолимую. Фиксация взгляда на последней черте (на линии горизонта) предполагает возможность углубления за этот рубеж. Даль воспринимается и переживается как возможность потенциально бесконечного движения от рубежа к рубежу, от цели к цели (за далью-даль), она словно бы «призывает» нас оттолкнуться от настоящего (от «здесь») и двинуться в будущее (в «там»). Но когда перед нами высь, мы не наблюдаем ни видимого предела углубления вверх по вертикали, ни многоступенчатого перехода от ближнего плана к дальнему, дающего ощущение глубины пространства.
Высь и пропасть. В том случае, когда мы имеем дело с пропастью, мы можем (хотя и не всегда) видеть дно пропасти как видимую границу пространства-вниз. Однако в экзистенциальном плане это пространство воспринимается как безграничное (как не имеющее дна, как без-дна-направление), поскольку достижение границы в падении – это смерть, а возможность смерти углубляет пространство до бесконечности, превращает его – экзистенциально – в бездну. В отличие от восприятия пропасти в созерцании выси бесконечность-безграничность явлена не как пространство возможного падения, а как отсутствие границ. Верхняя бездна, в отличие от бездны нижней, крайнюю точку которой мы можем видеть, действительно не имеет дна, поскольку высь не ограничена ни в ширину, ни в глубину[130].
Как видим, высь отличается и от простора, и от дали, и от пропасти. Высь – это эстетическое расположение, в котором пространство-наверху воспринято как высокое вне всякого сравнения. Среди предметов, доступных человеку «на земле», выше неба ничего нет[131] Высь – это наверху-пространство в его бесконечности, неохватности и безграничности: «В этот голубой раствор / Погружен земной простор»[132].
Что же видит тот, кто созерцает небо? Облака, время от времени меняющие свою конфигурацию, светила, передвигающиеся по определенной траектории… Все эти объекты не выстраиваются в линию, они, скорее, побуждают блуждать взглядом по небу без цели и направления. Такое бесцельное движение мало-по-малу замирает, и душа успокаивается перед необъятностью выси. Покой и отрешенность, связанные с ее созерцанием, объясняются отсутствием опор для направленного движения взгляда. Следовать взглядом можно повсюду, но для движения нет стимулов, нет цели движения[133]. Высь – не только образ безграничности (вверх и вширь), но и образ вечности (нерасчле-ненность пространства).
2. Неприступность (высь как зримый образ невозможного).
Теперь перейдем к описанию еще одной особенности выси как предмета восприятия: высь – такое направление, которое можно созерцать, но в котором нельзя перемещаться (это «нельзя перемещаться» инкорпорировано в само ее созерцание и определяет собой, как мы увидим ниже, своеобразие ее эстетической конструкции).
Жизненное пространство для человека – это земная поверхность, по которой люди передвигаются в разных направлениях (в том числе вниз и вверх). Высь же (небо, поднебесье) хоть и дана, но недосягаема. Небо не держит тел, лишенных крыльев.
Высь оказывается единственным направлением, которое всегда свободно, не заселено, открыто. Конечно, на небе можно увидеть многое: там, в вышине, светит солнце, плывут облака, ночью из темной глубины являются звезды и луна, но все это происходит далеко от земли, все это можно видеть, но до видимого – не дойти. Иначе говоря, все, что есть на небе, не может закрыть неба. Небесное – вне круга практических действий. Высь можно только созерцать. Созерцающий высь отходит от забот, а его взгляд тонет в бездонной синеве неба. Ведь там, в небесах, нет ничего, что напоминало бы человеку о повседневных заботах, радостях и страданиях.
Небесная высь – образ неприступного пространства. В этом плане высь может быть сближена с пропастью, которая также выпадает (как направление) из сферы практической деятельности. И все же пропасть, в отличие от выси, хотя и воспринимается как нечто угрожающее, гибельное, но в качестве направления пространства остается одной из возможностей движения для тела. В пропасть, если с ней не считаться, можно упасть. А бывает и так, что люди бросаются в пропасть и сводят счеты с жизнью. Небо же неприступно. В этом и состоит главное отличие выси как от горизонтальных направлений (от простора и дали), так и от пропасти.
3. Имманентность и трансцендентность. Теперь у нас появляется возможность конкретизировать экзистенциально-эстетическую специфику выси как расположения. Полагаем, что ее своеобразие определяется противоречивостью производимого ей впечатления.
С одной стороны, высь способна впечатлить нас своей бесконечной широтой и глубиной, своей безграничностью (ничем не ограниченной возможностью для гуляющего по небу взора), с другой, ее созерцание сопровождается чувством недосягаемости, неприступности.
Встреча с громадным, необозримым пространством, если попытаться осмыслить ее в категориальном поле кантовской эстетики возвышенного, обнаруживает «малость» человека как природного существа и способствует актуализации на уровне переживания неприродного, метафизического начала в нем. Данность этого начала на уровне чувства (кантовское «чувство сверхчувственного») Кант определял через понятие возвышенного. Однако, как уже было сказано ранее, кантовская аналитика возвышенного не удерживает феноменов эстетики направлений в их эстетическом своеобразии. Тот, кто приходит к осмыслению особенных переживаний, связанных с восприятием направлений пространства через количество (безграничность, неохватность пространства в том или ином измерении/ направлении), не должен упускать из виду, что каждое направление – это определенный модус воплощенной в пространстве возможности видеть и перемещаться (действовать).
Созерцание форм пространства нельзя свести к спонтанной игре рассудка и воображения, как полагал, рассуждая о математически возвышенном (величественном), Кант. Такое созерцание определяется, помимо количественных характеристик предмета, еще и восприятием возможности/ невозможности занять другое место, а эта возможность имеет прямое отношение к способу, каким человек присутствует в этом мире. Созерцание направления пространства – это созерцание пространства как простирания в его отнесенности к присутствию. Присутствовать – значит мочь. Созерцание вещей в том или ином временном модусе дает – в точке эстетической встречи с ними – переживание возможности быть иным в «перспективе» временной трансформации сущего. Созерцание тех или иных модусов пространства-как-направления дает переживание той или иной возможности перемещения. Чувство Другого, особенного возникает здесь из непроизвольной отнесенности человека к возможности присутствия как возможности перемещения.
В такой концептуальной перспективе высь обнаруживает своеобразную экзистенциально-эстетическую конфигурацию. Ее определяет то обстоятельство, что возможность перемещения взгляда отделяется от возможности телесного перемещения. Субъект зрительного восприятия и сознания обособляется от деятельного субъекта (от субъекта движения). В результате пространство-наверху, доступное ему в качестве видимого, в жизненно-практическом аспекте воспринимается как образ пространства, по(ту)стороннего «всему земному». В этом случае видимое, явленное воспринимается как данность Другого, радикально иного сущему
Опыт выси – событие нечастое. Но если человек встречается с высью, то память об этой встрече сохраняется надолго. Влечение к ней свидетельствует, что Другое, безусловно особенное раскрывается в этом расположении в утверждающем присутствие модусе (в модусе Бытия). Причем Другое в выси дано не условно, а безусловно. Встреча с Другим готовится, с одной стороны, несоизмеримостью эмпирической способности воображения созерцателя с «бесконечной» глубиной и широтой выси (эта несоизмеримость подводит к переживанию того, в отношении к чему все мало); с другой стороны, встречу с ним готовит восприятие неба как неприступного пространства, как пространства-вне-досягаемости.
Возможность и ожидание. В измерениях простора, дали и пропасти мир предстает перед нами как такое пространство-возможного-движения, которое или позволяет пережить чистую возможность иного как дар (чувство простора), или обещает субъекту что-то впереди (даль), или же ставит его перед возможностью утратить возможность перемещения и надежду на «перемену участи», на «изменение своего положения» (переживание пропасти). В созерцании выси взгляд созерцателя сталкивается с безграничностью пространства, которая не связывается с возможностью движения (действия).
Беспредельность и неизменность выси манит к себе человека, и его душа на этот зов откликается. При этом ощущается неприступность, трансцендентность выси. Эмоциональный акцент в переживании пространства смещается с возможности действовать (перемещаться) на модальность ожидания, надежды, упования. Ведь возможность перемены участи (в данности пространства как возможности сменить одно место на другое) может переживаться не только как возможность-для-созерцателя, но и как возиожность-для-встречного-действия (движения другого в моем направлении). Возможность перемен зависит, конечно, от моих действий, но также и от других или от Другого. Простор и даль – это не только возможность сменить местоположение, это возможность приближения (появления) другого (а он, другой, может нести и благо, и зло).
Как видим, через модификацию возможности как ожидания (упования, надежды) можно понять не только высь, но также даль и простор. Ожидание – это отнесенность к возможности, осуществление которой зависит не от нас.
Простор, даль, высь – образы независящего от нас (от наших действий) будущего, которое не может стать предметом подконтрольной нам (рациональной) деятельности (последовательности движений). Однако в направлениях простора и дали пространство воспринимается как возможность не только визуального, но и телесного перемещения: нашего перемещения и встречного движения другого. Именно эта встречная возможность значима в созерцании дали и простора.
Но если наше положение в пространстве воспринимается как зависящее от нашей воли, то именно наши возможности (перемещения) и оказываются в центре внимания. Модальность ожидания остается на периферии восприятия и переживания простора и дали. Она здесь «не в фокусе». Но бывает и так, что она попадает «в фокус». Так происходит тогда, когда иное (пространство как пространство возможной перемены) дано через такую визуализацию возможности, которая может быть реализована только Другим. Так происходит, когда видимая возможность движения не воспринимается ни как наша возможность, ни как возможность другого (другого сущего). Люди с небес не спускаются. Пространство-наверху открыто для созерцания, но закрыто для перемещения. Высь воспринимается как пространство возможности (для движения) кого-то (чего-то) Другого, но не для созерцающего его человека. Возможность перемены, которая не связывается с Другим, становится насущной и ожидаемой тогда, когда я сознаю, что сам я не могу изменить свою участь. Что-то может измениться, если кто-то или что-то приблизится к нам извне. Это возможность, переживаемая в модусе ожидания. Возможное движение как движение сверху вниз оказывается отнесено к безусловно Другому. В модусе ожидания в созерцании верхней бездны возможность предстает как изменение, которое приходит к нам из открытого наверху-пространства.
Сакральность выси. Из сказанного выше следует, что высь – это не только особенное переживание, ускользающее в своей безусловной особенности от фиксации, это традиционный для многих культур символ Другого.
Во всем, что ориентировано по вертикали, особенно в том, что находится наверху (небо над головой), человек ощущает радикальную инаковость. Именно в вертикальном измерении раньше и ярче всего кристаллизуется, обретает свое образно-символическое выражение Другое (Иное). Движение вверх повсюду, во всех культурах означает духовное восхождение. Символика верха и низа связана с морфологией человеческого тела: голова и лицо находятся выше органов «телесного низа», связывающих человека со стихией земли, рождающей и погребающей отжившее, с миром животных и растений.
Горизонталь – это возможности земной жизни человека, это ее пути и цели. Жизнь проходит «на поверхности земли». Трансцендентное, божественное в его сознании ассоциируется с труднодоступным, максимально отличным от земного, знакомого, повседневного. Вертикаль-вверх предполагает усилие: вверх приходится взбираться, карабкаться. Причем движение вверх заканчивается неприступным для человека воздушным пространством. Взобраться на высокую гору можно, хотя порой и трудно, но высота – совсем не высь. Для поднявшегося на вершину высь остается высью – неизмеримым и недостижимым пространством над головой.
Соответственно, измерение выси связывается с небом, солнцем, луной и звездами, с представлением о небе, которое в религиозном сознании отождествляется с областью божественного, священного. Особое место отводится небу и в христианской традиции. Тема неба, его образ проходят через всю Библию. О выси небесной размышляли богословы, ее созерцание верующим человеком имеет религиозный смысл[134].
Днем по небу движутся облака, выше облаков сияет солнце, свет солнца пробивается сквозь тучи. Ночью небо расцветает звездами и становится таинственным, поражающим воображение: «Открылась бездна звезд полна; / Звездам числа нет, бездне дна» (Г. Державин). Вертикаль-вверх отсылает к Другому как отделенному от земли абсолютно Иному, но тем не менее «ощутимому», так или иначе обнаруживающему себя, кристаллизирующемуся в символе и бесконечно притягательному, зовущему
Переживание выси как пространства ожидания Другого неизбежно приобретает сакральный оттенок: небо неприступно, громадно и пустынно, именно с Небом связывается жизнь вечная. Не случайно царство не от мира сего именуется Царством Небесным. Когда Господь снова сойдет в мир, он спустится на землю с бесконечной высоты небес.
Совершенно естественно, что эстетическое сознание европейского средневековья проявляло особую чувствительность именно к высоте и выси. Хотя эти феномены и не стали в эту эпоху предметом теоретического анализа, но на практике именно вертикальное измерение было духовно-эстетической и архитектурной доминантой средневекового сознания. И высь, и высота ставили христианина – эстетически и символически – перед тем, что не от мира сего. Высь была символом близости, действительности и в то же время обособленности Божественного.
Высь и современность. Сегодня эстетика выси переживает не лучшие времена. Как и в случае с простором и далью, ее процветанию препятствует общий упадок способности к активному созерцанию (умению оставаться внимательным там, где «ничего не происходит»). Очевидно и то, что человек секулярной эпохи уже не ориентирован на измерение высоты и выси. Высь выделена для него пространственно и эстетически, но символически она не притягивает взгляды так, как притягивала их в не столь отдаленные времена.
Отвести взор от выси побуждает и техническая революция. Чтобы осведомиться о погоде, нет нужды смотреть в небо, достаточно посмотреть на экран. Мобильный интернет даст прогноз погоды на сегодня, на завтра и на месяц вперед. Путешественнику нет нужды ориентироваться по звездам. Он смотрит в мобильное устройство: там есть подробная карта и надежные помощники-навигаторы (GPS, ГЛОНАСС). Ночью в городах небо так сильно засвечено светом от фонарей, окон и рекламных плакатов, что мало кому приходит в голову полюбоваться звездным небом. Так что в случае с высью можно с уверенностью утверждать что внимание к этому направлению упало значительно больше, чем по отношению к пропасти, простору и дали.
Эстетический анализ восприятия наверху-пространства позволяет сделать вывод, что высь – это расположение, в котором Другое являет себя в утверждающем присутствие модусе, в модусе Бытия, открываясь как безусловно особенное, как высокое и широкое вне всякого сравнения. В выси пространство являет нам свою бесконечность и в глубину, и в ширину, соединяя бесконечность пропасти с бесконечностью простора. Но если высь, с одной стороны, дает повод к восприятию ее как бездонной и неохватной (высь производит впечатление чего-то величественного), то, с другой стороны, она воспринимается как недоступное пространство. В силовом поле эстетического расположения высь дана человеку как ничем не ограниченная возможность для вольного, беспрепятственно скользящего по небесам взгляда, но эта не знающая границ воля наталкивается на сознание невозможности телесного продвижения в пространство наверху. Пространство как модус возможного перемещения приобретает в переживании выси антиномический характер: бесконечная ширь и глубина, ничем не ограниченная возможность движения соединяются с переживанием ее недоступности и отъединенности. Небесная высь рядом, но она «не от мира сего».
Высота как эстетический феномен
Выделив в феноменальном поле эстетики пространства эстетику места и эстетику направлений, исследовав эстетическую конституцию простора и дали, пропасти и выси, мы переходим к рассмотрению феномена высоты.
Свое обоснование необходимость философско-эстетического исследования высоты находит, прежде всего, в самом ее переживании, в том действии, которое она оказывает на человека. Высота волнует. Как направление по вертикали-вверх она близка выси, но не тождественна этому расположению.
Уделить внимание восприятию высоты нас побуждает и еще одно обстоятельство: анализ феноменов пропасти и выси останется незавершенным, если не рассмотреть подробнее то направление, с которым они соприкасаются.
Чувство высоты: высота положения и высота подъема. И в созерцании выси, и в созерцании пропасти высота хотя и воспринимается нами, но его внутренним фокусом, его эстетическим центром она не становится. Чувство высоты по-разному обнаруживает себя в тех случаях, когда мы имеем дело с высотой как наверху-положением (позиция пространственновизуального доминирования), и в ситуации, когда речь идет о восприятии высоты как чего-то, что расположено перед человеком, что увлекает его взгляд по направлению снизу вверх.
Едва ли можно сомневаться в том, что и высота, на которой мы оказались, и высота, перед которой мы находимся, способны произвести на нас впечатление. Не менее очевидно и то, что опыт, полученный созерцателем с этих позиций, не будет одинаковым. Одно дело – переживать высоту, находясь наверху, другое – переживать ее в ситуации, когда взгляд поднимается снизу вверх, от земли – к небу.
Высоту «подо мной», как и высоту «передо мной», объединяет то обстоятельство, что и в том, и другом случае мы имеем дело с восприятием пространства по вертикали, только в одном случае чувство высоты определяется доминированием созерцателя, а в другом – созерцаемого. Однако эстетической самостоятельностью, способностью привлекать внимание безотносительно к таким эстетическим аттракторам, как пропасть и бездна, обладает только высота снизу-вверх (доминирование созерцаемого). Высоту сверху-вниз заслоняет то, что видно с высокого места (даль, простор, пропасть), так что она не является самостоятельным эстетическим феноменом. (Подробнее об ускользающей от фиксации высоте положения см. Приложение 5.)
Снизу вверх: высота перед нами. Высоту, которую мы оцениваем, глядя сверху вниз (пространство под нами), следует отличать от высоты снизу вверх, то есть от высоты перед нами. Но высоту снизу вверх следует отделять не только от высоты положения, но и от выси.
Высота и высь. Когда говорят о высоте, подразумевают: 1) «величину», «протяженность чего-либо от нижней точки до верхней» («высота прибоя»), 2) пространство наверху («смотреть в высоту», «парить в высоте»), 3) «расстояние от земли вверх» («лететь на большой высоте»), 4) «возвышенное место» («занять высоту»)[135]. Когда говорят о выси, имеют в виду: 1) «пространство, находящееся высоко над землей, в вышине»[136], и 2) «протяженность чего-л. по вертикали снизу вверх»[137]. И хотя высота как «высоко расположенная часть пространства»[138] синонимична выси, а высь как «протяженность чего-либо по вертикали снизу вверх» совпадает по значению с высотой, на первый план в семантике высоты, как видим, выдвигаются величина (оценка расстояния от нижней точки чего-либо до его вершины) и направление снизу вверх.
Высота – это протяженность вверх, в то время как высь – ничем не ограниченное пространство наверху. Слово «высь» используют, прежде всего, для того, чтобы указать на верх как особое пространственное измерение и только потом – как на особое направление пространства. Высь – это то, что простирается над нашими головами, что объемлет и созерцателя и то место, с которого он созерцает. Обычно (хотя и не всегда!), прежде чем наш взгляд погрузится в небо, мы визуально ощупываем то, что тянется снизу вверх, от земли к небу, и только потом концентрируем внимание на выси (на том, что над нами). Когда мы созерцаем высоту высокого, в фокусе внимания находится высота как направление, а не ее «завершение», не бездонная глубина небес.
В созерцании выси взгляд созерцателя движется снизу вверх, но его внимание поглощается тем, что наверху, тем, что находится за пределами вертикально ориентированного сущего, от которого отправляется взор. Восприятие выси – это не столько направленность вверх, сколько само верхнее (высь, небо) в качестве особого направления-измерения пространства. В созерцании выси снизу-вверх-направление может играть вспомогательную роль «переводчика» внимания от земли к небу, но собственно высь – это движение взгляда «по тому, что наверху»: движение слева направо, вперед-назад, а также по ломаной линии. Высь – блуждание по небу, но не движение снизу вверх. Термин «измерение» в случае с высью кажется более уместным, чем «направление». Но в случае, когда мы имеем дело с высотой, на первый план выходит направление как вектор возможного движения. В созерцании высоты очень существенна горизонталь. Высокое высоко в соотнесенности с горизонталью, с поверхностью земли или воды. Чаще всего горизонталью оказывается земная поверхность; движение снизу вверх предполагает основание и вершину, то есть, из чего вырастает, и то, к чему возносится высокое.
Величина и высота. Есть еще один момент в эстетике высоты, который необходимо артикулировать, чтобы не оказаться в плену ложных отождествлений. Из расположений, которые не следует смешивать с феноменом высоты-снизу-вверх, следует, прежде всего, остановиться на большом. Большое относится к эстетике величин (к эстетике величин мы относим также величественное и маленькое). Важно отличать большое от высоты, но сделать это, отправляясь от предмета созерцания, непросто. Если один и тот же объект созерцания может восприниматься и как большой, и как высокий, то в чем состоит отличие первого от второго?
Внешним референтом большого как эстетического расположения является не направление пространства, а размерность предмета созерцания[139]. Переживания, возникающие в момент эстетической встречи с большим предметом, когда особенным воспринимаемого оказывается его величина, не следует смешивать с восприятием высоты как направления. Когда в центре внимания находится высота, тогда вопрос о том, что высится, отходит на второй план. Воспринимая предмет в качестве большого, мы имеем дело с его количественной характеристикой, в которой его «чтойность» не утрачивает своего значения, остается привязанной к ней (большая башня в нашем восприятии – это одно, большой дом – другое; большой дом может быть невысоким, а башня – нет: большая башня – это прежде всего высокая башня). В центре внимания здесь – величина предмета. В отличие от высоты предмета по вертикали (величины по вертикали)[140], высота как направление пространства указывает на вектор движения взгляда и (в потенции) тела. Особенное в восприятии большого как предмета эстетического переживания – это заметное отличие размерности предмета от размерности человеческого тела (а не от размерности других вещей этого же рода[141]), это такой предмет, в сравнении с которым мы ощущаем себя маленькими. Но высота как направление соотносится не с предметом, не с вещью, а с возможностью/невозможностью движения (взгляда и тела) снизу вверх. Оценивается здесь не предмет, а перемещение снизу вверх как возможность воспринимающего субъекта.
Условное и безусловное в созерцании пространства (высота как условное эстетическое расположение). Высота принадлежит к условным расположениям[142] эстетики направлений. Предельность, безусловность эстетического чувства указывает на онтологическую глубину переживания, а его условность – на ограниченность горизонтом сущего, на то, что всегда внутри, что всегда относительно. Высота как предмет созерцания относительна. Условность высоты, как и специфика ее референта (вертикально ориентированных предметов), отличает ее от выси.
Близкие или тождественные друг другу по предметному референту эстетические расположения довольно часто, но не всегда[143] образуют (по критерию условности/безусловности) эстетические пары: красивое/прекрасное, большое/возвышенное, скучное /тоскливое, старое /ветхое, молодое / юное, простор / просторное и т. д. И хотя в условных расположениях Другое не дано нам в собственной форме, однако и эти расположения в конечном счете к нему отсылают и косвенно о нем свидетельствуют. Красивое напоминает о прекрасном, старое – о ветхом, просторное – о просторе, высокое – о выси и т. д.
По ходу исследования эстетики направлений наше внимание сосредоточивается или 1) на разворачивании пространства по ходу движения взгляда, на его динамике (тут мы будем иметь дело с условными расположениями эстетики пространства), или 2) на созерцании его до предела развернутой формы (тут мы будем иметь дело с Другим как с возможностью простирания). Во втором случае речь идет о такой форме пространства, в которой простирание не наталкивается на границу, так что оно воспринимается как бесконечность, отсылающая к возможности простирания как таковой. К таким полностью развернутым в нашем восприятии формам пространства мы относим простор, высь и пропасть.
Возьмем для примера простор с его в-ширину-распростертостью. Широта может переживаться или в модусе просторного пространства, то есть пространства, более или менее открытого в глубину по горизонтали, или в своей предельной, до конца – до бесконечности – развернутой форме (простор как необъятная, неохватная ширь). Направление здесь подчиняется измерению шири, фиксирующему внимание на его бесконечности. Когда мы созерцаем просторное, мы созерцаем значительное, но при этом ограниченное по ширине пространство. Здесь наш взгляд переходит от одного края открытой по горизонтали местности (или интерьера) к другому, и мы воспринимаем ее как относительно открытое пространство (пространство, в котором можно двигаться и так, и иначе, но не «как угодно»). В созерцании простора взгляд фиксируется на линии горизонта, которую наше воображение не способно удержать как одно целое, следовательно, не способно измерить ее, оценить размерность пространства. Наш взор погружается в необъятность, в беспредельность пространства по горизонтали и теряется, растворяется в ней, не утрачивая при этом своей подвижности.
Аналогичным образом следует разделять переживание чего-то, что поражает наше воображение в качестве высокого, от созерцания, в котором наш взор, не задерживаясь на высоте высокого, погружается ввысь и теряется в неизмеримой глубине и шири небосвода: субъект созерцания здесь (тот, кто нечто удерживает) стушевывается; он растворяется в бесконечности. В случае с восприятием высоты опыт будет иным. Здесь в центре внимания находится возможность движения в вертикальном направлении в ее отнесенности к субъекту. Пространство-вверх – это его возможность, его (субъекта) перспектива, его будущее. А такая возможность всегда относительна. Высота – условное расположение эстетики направлений.
Эстетика высоты. Что же происходит с нами в момент, когда мы воспринимаем высоту как снизу-вверх-направление? Остановимся на этом вопросе подробнее и попытаемся описать, что мы чувствуем, когда высота для нас что-то особенное, когда встреча с ней – эстетическое событие.
Восприятие любого из направлений пространства – это данность определенного модуса возможности/невозможности иного через направление возможного движения взгляда и свернутого в нем перемещения тела. Восприятие вертикали (как вертикали-вниз, так и вертикали-вверх) амбивалентно: во-первых, вертикаль с позиции повседневно-привычного перемещения по горизонтали – это преграда, во-вторых, преграда условная, преодолимая: вертикаль-вверх допускает возможность перемещения, но эта возможность ограничена и ее реализация на практике (в движении тела) требует большого напряжения. Двигается вверх трудно, это возможность, которую непросто реализовать. Отсюда специфическая реакция на высоту: она воспринимается 1) как пространственное «нет» для продолжения привычного перемещения (глаза и тела) по горизонтали, в то же время высота воспринимается 2) как призыв к движению в трудном для человека направлении: «поднимись, испытай свои возможности!»
Высоту воспринимают или как ограничение возможностей, с которым приходится считаться (высота как то, что надо обойти, обогнуть), или как приглашение к подъему. «Приглашение подняться» может переживаться в двух модификациях: как призыв («вперед, вверх!») и как вызов, как провокация («ну что? сможешь? или слабо?»). Движение вверх – возможность преодолеть себя. Движение взгляда снизу вверх включает (свернуто) усилие и риск трудного и опасного подъема. Отсюда эмоциональная реакция на высоту: высота как направление, которое предполагает усилие, вызывает уважение (почтение возникает по отношению к тому, что дается не всем и/или дается через усилие, риск, труд).
Вместе с восприятием высоты актуализируется понятие препятствия, но препятствия относительного, которое оценивается созерцателем или как одолимое, или неодолимое. В переживании высоты неодолимость относят на свой собственный счет (она не вообще не преодолима, а для меня). Причем неодолимость как оценка имеет созерцательно-эстетический, а не практический характер. Можно ли забраться на эту высоту? Высота может восприниматься и как недостижимая, и как труднодоступная, но достижимая (достижимая при большом желании, на пределе возможностей, «когда-нибудь»). В этом существенное отличие созерцания высоты от созерцания выси. Высота как бы предполагает мое усилие, испытывает мои возможности, обращается к моей силе[144].
Созерцая высоту, мы набрасываем себя на возможность перемещения и, переживая ее, имеем дело с собой как с тем, кто может. Для кого-то созерцание препятствия оказывается переживанием границ возможного, то есть «того, что могу» («это не могу, это – не для меня»), а у кого-то оно вызывает желание испытать себя и, сделав усилие, доказать себе и другим, что «я и это могу». Важно отметить, что эстетически распакованное желание вовсе не предполагает реализации, не предполагает практического осуществления. Созерцая отвесную скалу, мы не заняты решением вопроса: забираться на нее или нет? Практическая сторона дела свернута в свободном от целенаправленного действия созерцании. Важно то, как мы воспринимаем высоту безотносительно к реализации возможности движения снизу вверх на деле.
Преэстетические условия восприятия высоты. Внешним референтом высоты может быть или вздыбленный ландшафт (с ним мы имеем дело в тех случаях, когда земля образует складку в виде горной гряды, скальной стенки, высокого берега реки), или вертикально ориентированный предмет. Если вы не живете в горах, то возможность воспринять высоту как направление пространства даст вам созерцание высоких деревьев, вертикально ориентированных зданий, технических сооружений (телебашен, труб, буровых вышек и т. д.).
Высота, в отличие от выси, всегда относительна. Нашим вниманием она может овладеть только в том случае, если воспринимается как значительная высота. Высота высокого имеет видимое основание (все, что возвышается, отправляется от земной поверхности); до неба она не достает.
Чтобы высота не воспринималась в качестве характеристики большого предмета (эстетика величины), мы должны находиться на определенном расстоянии от него (в том случае, если перед нами, к примеру, колокольня) и не сразу видеть его от основания до верхней точки. Высота может выйти на первый план и в том случае, когда нам не удается удерживать в воображении предмет целиком (от основания до вершины), когда он воспринимается не как преграда, а как нечто высящееся перед нами. В этом случае появляется возможность эстетически прочувствовать высоту как высоту. Если мы будем находиться слишком близко, то увидим всего лишь глухую стену, преграду и небо в вышине. Перед нами просто препятствие. И оцениваться оно будет не созерцательно-эстетически (об эстетическом смысле созерцания высоты как преграды речь пойдет ниже), а практически. Как увидеть то, что находится за преградой? Можно ли ее обойти, перебраться через нее? Высокое, как и большое, видится на расстоянии.
Не только слишком маленькое, но и слишком большое расстояние до предмета мешает восприятию высоты. Если мы находимся далеко от того, что высится, то даже тогда, когда мы знаем (благодаря жизненному опыту, позволяющему оценивать размеры отдаленных от нас вещей «на глаз»), что предмет велик, его высоту мы не воспримем. Не воспримем ни в рамках эстетики большого, ни в рамках эстетики высоты. Представим себе, что мы смотрим на колокольню с расстояния нескольких километров и оцениваем ее высоту (сопоставляя колокольню с окружающими деревьями и домами), допустим, в 70 метров; в этом случае мы, конечно, будем сознавать, что перед нами высокое сооружение, но высота не будет воспринята как направление пространства, поскольку не станет направляющей для взгляда вверх (слишком далеко мы от нее находимся). Колокольня здесь – деталь ландшафта. Перед нами пейзаж с колокольней, а не высота.
Отсюда вывод: высота должна быть достаточно большой для того, чтобы наше воображение было захвачено ей и наш взгляд преодолел «притяжение» предмета (его формы). Не важно, что высится перед нами: гора, колокольня или телебашня, важна сама высота, сама эта устремленность снизу вверх, обеспечивающая визуальный «разгон» и переключение внимания с «чтойности» предмета на снизу-вверх направление.
Подведем итог введению в эстетическую аналитику высоты. В восприятии высоты мы имеем дело с двумя ее типами: с переживанием высоты-положения (высоты собственного положения) и с переживанием высоты как снизу вверх направления. О высоте как особенном феномене эстетики пространства можно говорить лишь по отношению к высоте снизу-вверх. Взгляд, направленный сверху вниз (высота положения) или сверху-вперед-и-вниз, поглощается переживанием других форм пространства: дали, простора, пропасти. Чувство высоты лишь сопровождает такие расположения, но не определяет их эстетического характера. В отличие от высоты-положения, высота-вверх имеет собственную форму (снизу вверх направление) и может быть самостоятельным предметом восприятия, его экзистенциально-эстетическим фокусом. Со-расположенность человека и вертикальной складки пространства как предмета созерцания можно рассматривать как особое эстетическое расположение, отличное и от выси, и от феноменов эстетики величин (прежде всего – от большого). Особенное высоты-вверх – это условная данность Другого в его утверждающем присутствие модусе.
Приложения ко второй главе
Приложение 1. Чувство простора и чувство юного: пространственная и временная экспликация чистой возможности иного
Рассматривая простор как один из интереснейших феноменов эстетики пространства, интересно сопоставить его с расположениями, чьим эстетическим фокусом оказывается тот или иной модус времени.
Когда в центре внимания созерцателя находится временной модус существования сущего, особенным его переживания оказывается, как и в акте созерцания пространства, не его «чтойность», а его существование (его «как» и «где», его «возможно ли?»). С существованием сущего мы имеем дело тогда, когда в фокусе внимания оказывается способность присутствовать и отсутствовать, перемещаться, изменяться. Иметь возможность (для сущего) – значит иметь возможность не быть. Сущее – то, что может (имеет силу, способность) быть или не быть, то, что существует и, существуя, «изживает» себя. Только то, что может не быть, способно присутствовать тем или иным образом, находиться здесь или там. (Поэтому и имеет смысл апофатическое богословие, отрицающее любые предикаты Бога.) Сущее, сказали мы, может не быть, но только такое сущее, как человек, имеет эту возможность, «возвышается» над своим существованием, сознает его конечность как собственную возможность. Иметь возможности – значит находить себя в пространстве и времени, значит быть субъектом. Минерал, растение, животное не имеют возможностей (умирают, но не знают смерти). Человек имеет возможности, и все сущее (включая его самого) обнаруживает себя для него как то, что что-то может и чего-то не может.
Иметь возможности – значит обладать сознанием, быть причастным Другому, отличному от сущего. Человек располагает возможностями, он, соответственно, располагается «в» мире и располагает собой (относится к себе как к другому, свободен по отношению к себе). Это его можество, если перейти от онтологии к онтологической эстетике, и оказывается тем, что переживается в расположениях эстетики пространства (как и в расположениях эстетики времени).
Пространственные и временные расположения по-своему отвечают на вопрос (если такой вопрос возникает) о том, что, собственно, может сущее? Сущее может меняться со временем (от времени) и перемещаться в пространстве. Неизменным может оставаться только то, что меняется («ты совсем не изменился!»), оставаться на месте («как хорошо дома! я никуда не хочу уезжать!») может только тот, кто способен к перемещению. В эстетике времени, и эстетике пространства мы имеем дело с различными модальностями существования, с модальностями возможности как возможности присутствия.
От общих замечаний о связи эстетики пространства и времени с возможностью как характеристикой человеческого присутствия перейдем к параллелям, которые обнаруживаются между эстетикой простора и эстетикой времени.
Некоторые расположения эстетики пространства явно «рифмуются» с расположениями эстетики времени. Другое (Иное) в модусе простора открывается в виде возможности быть в другом месте, точнее, быть в каком угодно месте. Возможность здесь дана и переживается нами как возможность перемещения. В опыте простора мы имеем дело не просто с возможностью перемещения, а с тем, что дает нам эту возможность (возможность быть «в», находить себя в мире), открывая нам мир как наш мир. Иначе говоря, через созерцание определенной формы пространства (простор) мы переживаем Другое как отличное от любой его формы. В событии простора мы «находимся» в той «точке», из которой мы можем мочь. Данность Другого в расположении простора утверждает нас как присутствующих в мире, следовательно, оно открывается перед нами в модусе Бытия.
Чувство простора – чувство возможности иного (не какой-то возможности, не возможности находиться там-то и там-то, а возможности как таковой). Нашу мочь (мощь) мы чувствуем как способность что-то начать (например, начать движение, нечто предпринять). Начинать – значит заглядывать в будущее, в то, чего нет, в то, что только еще, возможно, будет. Начиная, человек заботится о будущем, «приближает» то, чего нет.
Легко заметить, что Другому простора соответствует Другое юного как расположения эстетики времени. Юное – чистая возможность иного, явленная в модусе неопределенного будущего. Расположение юного мы отличаем от восприятия определенных (ограниченных) возможностей в расположениях старого, зрелого или молодого. Юное – это чувственная данность Другого как возможности иного во времени (как Другого любому времени, как Времени). Юное – опыт чистого Времени, открывающего себя как чистая возможность (возможно все!); простор – опыт чистого Пространства через чувственную данность возможности двигаться куда угодно.
С открытым горизонтом, с возможностью ничем не ограниченного передвижения рифмуется юное, в котором переживается неопределенное будущее, надежда, ожидание «перемен вообще». Простор успокаивает, он словно бы «говорит»: горевать нет причин, мир широк, горизонт открыт, «все впереди», все еще будет, жизнь изменится к лучшему, все можно начать заново, нет ничего невозможного.
Просторное и молодое. Если юное коррелирует с простором, то молодое как условное расположение эстетики времени – с просторным. Своеобразие просторного мы усмотрели в том, что это опыт возможности движения, в котором есть вариативность в выборе траектории движения, но есть и то, что ограничивает движение, отсекая часть возможностей (этим путем не пройдешь, этот путь для тебя закрыт). Молодое (новое) как феномен эстетики времени – это переживание, в котором будущее связывается с чтойностью предмета созерцания, которая ограничивает коридор возможного, того, что может быть (что будет) с этим сущим в будущем. Ограниченной (относительной) возможности движения в пространстве в опыте просторного соответствует ограниченная возможность трансформации формы того, что молодо (ново). Это возможность иного, но относительная, обусловленная тем, что уже есть, определенная
Приложение 2. Простор и воля (пространство и желание)
Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами.
А. С. Пушкин. Цыганы
Чувство простора истолковано нами как переживание чистой возможности иного в образе ничем не ограниченной возможности перемещения. Такую возможность принято выражать еще и с помощью терминов «свобода» и «воля».
И хотя в русской речи простор сочетается не только с волей, но и со свободой (свобода – одно из значений простора), мы полагаем, что точнее существо простора можно выразить с помощью термина «воля»[145]. Обращение к устной и письменной речи показывает, что преимущество в сочетаемости (со словом «простор») принадлежит «воле»: «там, за рекой, его ожидали простор и воля», «ветер на просторе гуляет вольно», «каждые выходные, устав от сутолоки и суеты, горожане едут за город, их тянет на простор, на волю» и т. д. К признанию приоритета воли как ближайшего синонима простора склоняет и синонимия простора: на первых позициях мы находим слова «раздолье» и «приволье»[146].
Почему же воля понимается как концепт, едва ли не тождественный простору? Почему в размышлениях о соотношении простора и воли возникает мысль о том, что воля – это простор, определяемый не через пространство (не через визуальный образ), а со стороны субъекта?
В отличие от свободы, воля (а слово это, как и простор, лингвоспецифично[147]) указывает на отсутствие каких-либо ограничений, на возможность делать то, что хочется. Воля может быть разумной, а может быть «глупой» (той волей, о которой говорил подпольный человек Достоевского: «И чтоб нам опять по своей глупой воле пожить!») или даже «дикой» волей «гуляй-поля». Эта «непросветленность» воли отделяет ее от свободы, потому что свобода «глупой», если прислушаться к языку, не бывает. Свобода указывает на выбор, совершаемый в границах добровольно принятых на себя правил (ограничений).
Воля связана с желанием. А желание непроизвольно, спонтанно. Волю можно определить как осознанное желание (вот этого хочу!) и способность реализовать, осуществить желаемое. А реализовать желание, если оперировать зрительными образами, проще всего там, где отсутствуют преграды, то есть на просторе[148]. Сила-способность осуществить желаемое лежит в основе так называемых волевых качеств личности.
Данность простора как возможности занять место – это чувственный коррелят не ограниченной определенным предметом желания (очищенной от желаний) воли. На просторе нам дана воля как возможность желать и осуществлять желаемое.
Жить «по своей (нередко, и правда, – глупой) воле» тем затруднительнее, чем больше мы встречаем природных и социальных преград в виде гор, оврагов, лесных зарослей, домов, улиц, а в особенности – других людей (воль), социальных институций… Добровольно и/или принудительно (волей-неволей) поставленная в определенные рамки воля оказывается (в условиях семьи, деревенской общины, города, государства) или неволей, или свободой как добро-вольно наложенным на свое «хочу/не хочу» ограничением (первыми ограничениями были, как можно предположить, ограничения, наложенные на агрессию по отношению «к своим» и на осуществление сексуального желания)[149]. В поле, в степи, в лесу о свободе говорить не приходится, поскольку носители иной «воли» там просто отсутствуют, а если и встречаются, то редко, эпизодически. Не случайно «свобода» связана со «слободой». Слобода – это место, где живут бок о бок друг с другом совершенно разные (и притом не родные, а чужие) люди; место жизни независимых и равных людей[150]. В ситуации выгодного во многих отношениях соседства чужих друг другу людей единственной альтернативой войне всех против всех может быть добровольное ограничение слобожанами своей воли. Чтобы избежать открытого столкновения разнонаправленных воль и войны с равными, приходится придерживаться порядка, «ряда» (договора), добровольно ограничивать свою волю ради сохранения мира. Иначе говоря, свобода есть там, где наши желания проходят через пропускные пункты моральных и/или правовых норм, через сито обычаев и традиций.
И в Древней Руси, и в России, где всегда было много никем незанятого пространства, смысловое различие между свободой и волей живо и сегодня. На Русской равнине всегда была возможность уйти из столичного города в провинцию (в имперской России из Петербурга в барски-вольную, фрондирующую Москву, в советской – из Москвы в Ленинград), из города – в деревню, из деревни – в дикие (вольные) степи Приазовья и Причерноморья, в северные леса, за Уральские горы, в великую пустыню Сибири. Одни использовали эту возможность на деле, другие относились к ней как к запасному (последнему) выходу из затруднительной ситуации на воображаемом уровне. Те, кто находили в себе достаточно смелости для того, чтобы жить «вне закона», на необжитых землях, уходили за границы государства, на простор, на волю. За несколько столетий русская история выковала из таких неробкого десятка крестьян военно-служилое сословие – казачество[151]. «Казачья вольница» – явление очень русское, и на ассоциативно-образном уровне казаки, казачество ассоциируются в нашем сознании с простором. Степь, простор, сабля, конь. Такой визуальный ряд сам собой встает перед внутренним взором при упоминании о «казачестве».
Тоска по воле сохраняется у русских людей и сегодня. И в этом можно видеть одну из причин любви русских к простору. Если и можно где-то «почувствовать волю» – так это там, на просторе. Если горизонт закрыт, то через какое-то время нам становится «не по себе». Мы жалуемся на то, что нам не хватает пространства, что мы «задыхаемся» в каменном мешке. Встреча с открытым горизонтом сопровождается чувством удовольствия. Мы выбрались «на волю». Созерцание, отсылающее к возможности ничем не ограниченного движения в любую сторону (куда угодно), одаряет чувством покоя от соприкосновения с «непочатой» полнотой возможностей. В каком бы направлении перед собой мы не переводили взгляд, у нас остается возможность двигаться дальше, смещаясь по линии горизонта. Простор чистого поля не требует немедленных действий и не предполагает (не дает оснований) для остановки внимания на одном из множества вариантов движения (взгляда и, потенциально, тела), так что видимая ширь оказывается именно таким образом пространства, в который может «вместиться» не знающая границ воля.
Как сила-способность достигать-получать осознанно желаемое воля дистанцирована от желания (от желающего состояния); человек сознает свою волю и может, в соответствии с религиозными, моральными, правовыми и др. идеями (принципами), направить ее на ограничение-подавление желания, если оно оценивается им как «беззаконное, «нечестивое», «порочное» и т. д. Стало быть, воля отлична от предметно-ориентированного желания. Как сила-способность осуществить желаемое или противостоять желанию воля отделена от него (всегда какого-то, определенного). Воля, взятая в своей чистоте, в своем начале, – это ни-что или, иначе, Другое как чистая возможность. Воля указывает на экзистенциально-онтологическое основание свободы (Ничто), на то, без чего свободы как воли «в границах разума», как воли «добровольно нормированной», руководствующейся принципами, не было бы, а она, мы знаем это по опыту, существует. Уместно вспомнить Николая Бердяева, настаивавшего на необходимости различать «первую», иррациональную свободу, коренящуюся в Ничто, и свободу «вторую», «рациональную». Очевидно, что первая свобода – это и есть воля, выступающая естественным основанием второй, «окультуренной» и «введенной в рамки» свободы[152]. Если исходить из возможностей, предоставляемых русским языком, то, пожалуй, уместнее говорить не об иррациональной свободе, а о воле. А постольку, поскольку воля добро-вольно подчиняет себя принципам (религиозным, моральным, правовым) и руководствуется ими, то уместнее говорить о свободе, понимая под последней волю, поставившую себя под контроль принципов.
У обуздавшей себя воли (у свободы) имеется собственный пространственный эквивалент – пространство улиц и площадей, интерьеров жилищ и общественных зданий, производственных и конторских помещений. Свободе в эстетическом плане соответствует просторное (и, соответственно, эстетика просторного). Когда мы имеем дело с простором (не с просторным), то опыт чистого пространства оказывается одновременно и опытом чистой воли («иррациональной свободы») как возможности и способности (сила, мочь-мощь) само-определения, произвольного расположения в пространстве. Воля в созерцании простора – это не выбор среди нескольких путей-дорог «правильной» дороги (витязь на распутье), а возможность отделить путь от беспутья «первым шагом». Куда пойду, там и пройдет моя дорога.
Простор актуализирует Другое, обеспечивающее способность к само-ограничению, само-организации, к свободе. Другое-как-воля не есть порядок. Это возможность порядка (или беспорядка).
Еще не реализованная (и тем самым еще не закрывшаяся, не о-предел-ившаяся) возможность – вот «что» мы чувствуем, когда захвачены простором, вовлечены в него, увлечены им. Мы чувствуем, что мы можем мочь. Любое ограничение возможности сменить место вопреки желанию человека воспринимается как неволя. Вынужденная привязка к одному месту (к нескольким определенным местам), перемещение по одному и тому же маршруту (обязательства, налагаемые на человека родственными связями, обязанности, связанные с работой, квартира с типовым набором комнат, город, разделенный на улицы и кварталы) – это порядок, необходимый, неизбежный и часто благодетельный. Но этот порядок может и угнетать, как угнетают человека стесненность дыхания, теснота, вынужденное повторение одного и того же (работа, быт, ритуал общественных приличий). Когда человек встречается с открытостью простора, он освобождается (эстетически) от ограничений, накладываемых на него социумом и культурой, размежевывающим жизненное пространство на улицы, площади, дома, комнаты (за которыми стоят семейные, служебные, общественные обязанности-ограничения).
Таким образом, воля как «можество» делает человека другим самому себе, выводит его из замкнутости в привычном, давно сложившемся «миропорядке» повседневности. Когда мы захвачены простором, мы чувствуем волю. Влечение к простору – это влечение к тому, в чем мы утверждаемся как существа, способные быть другими по отношению к самим себе, к своей «природе» и к вещам, нас окружающим (иметь о них представление, сознавать их, принимать их или отвергать). Простор потому и влечет, что мы, созерцая его, вступаем в общение с тем началом, которое делает нас существами с открытыми, а не с жестко (морфологически) предопределенными, как у животных, желаниями. Если вне простора как эстетического расположения мы просто хотим «то» или «это», то влечение к простору обнаруживает то, «что» делает желание человеческим, то есть подконтрольным ему как само-определяющемуся сущему (субъекту, «я»), способному нести ответственность за свои деяния, кто отказывается от «алиби в бытии» (если говорить в терминах М. Бахтина).
Простор может быть истолкован двояко: во-первых, в терминах пространства (возможность иметь/занять место) и, во-вторых, в терминах воли (возможность трансцендирования, способность выходить за границы данного). И хотя второе включает в себя первое (возможность иметь/занять место есть лишь одно из проявлений экстатичности человеческого существования), но в эстетическом анализе на первый план выходит истолкование данного феномена в пространственных терминах, поскольку «чистая возможность» как предмет чувственного восприятия сопрягается с открытым пространством, с ширью.
Приложение 3. К пространственной эстетике санкт-петербурга (метафизика простора и порядка)
Эстетика Петербурга определяется сопряженностью простора и порядка, их напряженной борьбой и возникающей в этой борьбе динамичной гармонии. Гармонии натянутого лука. Эстетическое впечатление от пространственно-предметной среды этого города определяется порядком, простором и их (никогда не полным, частичным) примирением в эстетике просторного пространства. В Приложении мы постараемся показать, как эвристический потенциал понятий «простор» и «просторное» может быть использован в анализе пространственно-градостроительного образа, в осмыслении его эстетического потенциала.
Борьба двух начал. Эстетическое впечатление от Петербурга определяется борьбой двух начал: простора (шири) и порядка (то есть формы, линии, архитектурного силуэта). Их борьба/игра разрешается подвижным, смещающимся от простора к порядку и обратно равновесием.
С открытым пространством мы встречаемся повсюду[153]. Начало порядка заявляет о себе не менее настойчиво.
Общее впечатление от города (от любого города) формируется в зависимости от соотношения открытого пространства и упорядочивающих его градостроительным форм: улиц, площадей, бульваров, проспектов и набережных, высоких строений… Пространственная конституция Петербурга и ее эстетические эффекты определяются тем, как именно простор и порядок сочетаются друг с другом в «урочищах» городского ландшафта.
Восприятие города с пространственно-эстетической точки зрения определяется тем, как сопрягаются в нем противоположности широкого и узкого, вмещающего и вмещаемого. В одном случае у нас может сложиться впечатление, что данное пространство не упорядочено; в другом – чувствуется нехватка вольного воздуха и мы страдаем от того, что «негде глазу разгуляться»; в третьем – мы встречаемся с синтезом простора и порядка в эстетическим феномене просторного; в четвертом – с тем или иным сочетанием (чередованием) в границах города открытости и закрытости, тесноты и свободы. Простор чистого поля имеет аналог в воле. Просторное – в свободе как добровольном самоограничении людей, живущих в одном месте, в тесном соседстве друг с другом. Просторные улицы и площади – это простор в строгих рамках порядка.
Своеобразие Петербурга состоит в том, что оба начала – и простор, и то, что его ограничивает, – явлены с таким размахом и с такой определенностью, которые не часто встречаются в градостроительной практике. Архитектурная форма Петербурга рифмуется с простором.
Простор как градостроительный принцип Петербурга задан самой местностью, в которой развернулось строительство города. Петербург, конечно, город умышленный, но любой градостроительный план наталкивается на топологические характеристики ландшафта, в котором должно осуществляться строительство нового города. Низкие, заболоченные берега речной дельты, плоский рельеф местности, невысокое северное небо и широкая, полноводная Нева – все эти топографические составляющие невской поймы были учтены планировщиками и архитекторами северной столицы. Величие Петра и тех, кто продолжил начатое им градостроительное предприятие, состояло в том, что при закладке города они использовали пространственно-географические особенности невского устья во благо эстетической выразительности Петербурга. Широта невского зеркала и монотонный пейзаж речной поймы требовали строгости и определенности архитектурно-градостроительных линий. Сам ландшафт нуждался в эстетическом противовесе однообразию невской поймы, он «ждал» строгой, продуманной архитектуры. И строители учли пожелание ландшафта.
Петербург – город границ и порогов. Архитектурная графика северной столицы подчиняется логике преодоления, логике движения «поперек». Чтобы сила могла себя обнаружить, ей требуется мощный противовес; чтобы продемонстрировать «имперскую волю», ее надо со всей ясностью и определенностью провести через топи и хляби, через реки и болота. Стягивающая простор имперская форма-правительница отчетливее всего заявляет о себе там, где противодействие неопределенности вширь и вдаль открытого пространства ощутимо даже сквозь наброшенный на него мундир регулярной застройки.
Четкие линии набережных и проспектов, площадей и каналов, ясные, классические контуры дворцов и правительственных зданий открываются взору в таком ландшафте, где все видимое – от извилистых линий рек до причудливых очертаний островов – демонстрирует неправильность, зыбкость, подвижность, неопределенность. Именно в таком месте строгие и четкие градостроительные линии производят особенно сильное впечатление. Регулярный, правильный город, построенный в неправильном, гиблом месте, рождает ощущение призрачности, ирреальности. То ли воды и хляби – это только видимость, то ли город – невиданный по своим масштабам мираж, гигантский фантом, сгустившийся из испарений и туманов заболоченного невского устья…
Застройка по плану (логика пустых мест). Столичный город создавался по заранее разработанному плану и в очень короткие – по историческим меркам – сроки. Воплощенные в камне линии, определенные планировщиком, на столетия вперед предопределили пространственно-эстетический образ Петербурга, стали его топологическим априори. Эстетическое впечатление от города создавалось не столько воздействием отдельных архитектурных памятников, сколько его общим пространственно-градостроительным решением, вписанностью архитектуры в пустоты ландшафта (реки) и свободными пространствами площадей и проспектов.
Как Нева задает масштаб для города в целом, так и намеченные на плане Петербурга «пустоты» главных площадей, улиц и проспектов определяют пространственные параметры обрамляющих их строений. Как верно отмечают исследователи архитектурного облика Петербурга, исходным, базовым элементом его градостроительной структуры были не здания и даже не их комплексы, а площади, проспекты и набережные, спланированные задолго до того, как архитекторы приступили к возведению отдельных строений[154]. Застройку города определили обозначенные на плане пустоты, которые постепенно, со временем обстраивались домами. В Петербурге не улицы складывались из проездов между соседствующими друг с другом домовладениями, а, напротив, дворцы, жилые дома и государственные учреждения постепенно заполняли места, отведенные под застройку вдоль проспектов и вокруг площадей. Дома на Невском проспекте могли со временем меняться, но ширина и длина проспекта – нет.
Петр строил столицу державы. Решая военные, экономические и политические задачи, он стремился к тому, чтобы ее облик производил впечатление силы и величия. Необходимо было наглядно продемонстрировать соотечественникам и скептикам-иностранцам непреклонную волю государя и растущую мощь империи. Петербург должен был служить градостроительным прообразом новой России. Однако ландшафт, в который надлежало «вписать» город, не слишком подходил для решения политико-эстетических задач такого масштаба.
Если что-то и позволяло разрабатывать эстетику имперской мощи, то это Нева. Простор, открываемый неудержимо стремящейся к морю полноводной рекой, был умно, с большим эстетическим тактом задействован в строительстве новой столицы. К Неве обращены соборы и дворцы, государственные учреждения и монументы. Примечательно то обстоятельство, что свою архитектурную оправу река получила в самом широком месте ее поймы, там, где она, перед тем как отдать воды Финскому заливу, разделяется надвое: на Неву большую и малую. Центром Москвы (историческим, географическим, смысловым, архитектурным) были Кремль и Красная площадь. Центром Петербурга стала Нева: «Постановкой Петропавловской крепости и Главного Адмиралтейства было предопределено расположение центра города у того места, где русло Невы разделяется Васильевским островом, образуя широкое водное зеркало…»[155] Нева оказалась центральной площадью северной столицы, определив своим расположением и своими размерами городской ландшафт Петербурга. Гарантией неприкосновенности простора «центральной площади» был подвижный покой ее вод. Воды Невы защитили центр города от застройки надежнее, чем это могли бы сделать самые строгие предписания государей.
Культивирование простора. Именно игра градостроителей с природным ландшафтам сделала Петербург особенным, непохожим на другие города Европы и России местом. Большинство крупных городов Европы рождалось и возрастало на свободных (от болот, оврагов, лесных дебрей) местах; но сохранить открытое пространство в центральной части города в объеме сопоставимом с Петербургом удалось совсем немногим. На невских берегах это получилось благодаря особенностям ландшафта и тому, что простор изначально мыслился как градостроительный принцип, как константа. Простор, как и порядок, можно культивировать. Строители Петербурга видели в его сохранении градостроительную задачу и работали над ее архитектурным решением.
В случае Петербурга культивирование открытых пространств предполагало включение в градостроительный замысел речных акваторий и, прежде всего, акватории Невы. Нева – центр города, все вращается вокруг нее. Перекличка шпилей Петропавловской крепости и Адмиралтейства, молчаливый диалог архитектурных сооружений, выделенных из общего ряда своей высотой, величиной или формой, стягивает протяженное побережье Невы в единое целое. Город охватывает водный простор, вбирает его в себя. Нева и впадающие в нее реки получают двойную оправу из камня. Линии рек и каналов множатся в обводах гранитных набережных и широких лентах величественных сооружений XVIII–XIX столетий, окаймляющих Неву, Мойку, Фонтанку и другие водные артерии города (известно, что дома в Петербурге предписывалось строить «в одну фасаду» и на одной высоте, «по карнизу»). Функцию визуальных скреп, соединяющих берега широкой реки, выполняют разводные мосты: Литейный, Троицкий, Биржевой, Дворцовый. Благодаря архитектурному решению набережных и широте реки градостроителям удалось сохранить простор в самом центре Санкт-Петербурга. Д. С. Лихачев, размышляя над эстетикой Санкт-Петербурга, обращает внимание на то, что Нева обстроена так, чтобы «создать величественные ансамбли и вместе с тем не уничтожить большими размерами впечатления от огромных водных просторов. <…> Архитектурный ландшафт Невы принадлежит… опытнейшему театральному декоратору, создавшему неповторимое сочетание огромного водного зеркала со строго соразмерной ему архитектурой»[156]. В результате все, кто живет или бывает в Петербурге, могут по достоинству оценить этот удивительный вид, этот воплощенный в камне парадокс внутригородского простора.
Линия набережных и искусство панорамных видов (панорамные виды и линия горизонта). Архитектор, а в особенности – градостроитель, должен уметь управлять зрительным восприятием посредством сочетания (композиции) архитектурных форм, открытых и закрытых мест, пространственных направлений. Ширь и простор в центре С.-Петербурга выделены трижды: водным зеркалом, окаймляющей Неву гранитной набережной и низким облачным небом над неровной канвой парадной застройки. Открытое пространство реки овладевает вниманием любого, кто прогуливается по невским набережным. В Петербурге пространство организовано таким образом, что пойманный водной поверхностью взгляд пробегает по речной глади и упирается в противоположный берег, где встречается с рукотворным препятствием – с набережной. На противоположном берегу он может увидеть то, что позволил ему видеть градостроитель – не больше, но и не меньше. Дистанцию изменить не может никто: ни строитель, ни тот, кто созерцает построенное. Недаром силуэт города в его центральной части сравнивают с театральной декорацией: набережная и окна домов (окна первого, второго, третьего этажа…) жестко фиксируют угол обзора с противоположного берега реки; то, что созерцатель может разглядеть на краю «сцены» (по ту сторону сценической площадки Невы), – это декорирующая ее архитектурная линия дворцов и учреждений и – ничего больше.
Любуясь архитектурной декорацией из «партера», с «бельэтажа» или «амфитеатра» (с тротуара, из окон второго или третьего этажа зданий на набережной), зритель видит то, что открыл ему архитектор-сценограф. Из партера видна первая линия выстроенных вдоль набережной зданий, с более высоких уровней («бельэтаж», «амфитеатр») в поле зрения попадает и кое-что из того, что располагается за этой линией: в результате эффект сценической декорации становится менее отчетливым. Получается, как в театре: места в амфитеатре и на балконе хуже, чем те, которые расположены внизу, в партере. Набережная Невы создана, в первую очередь, для пешеходов, для тех, кто гуляет по набережной, и только потом – для тех, кто живет на верхних этажах выстроенных вдоль нее домов.
Обрамляющие Неву «градостроительные единицы» (площади, кварталы, строения) должны быть (по своей величине) такими, чтобы их можно было «прочесть» с противоположного берега. При этом контуры отдельных зданий не должны прерывать ровную и широкую панораму невского побережья[157]. Архитектору, работавшему в центре города, на ее парадных набережных, приходилось учитывать расстояние, с которого прогуливающийся вдоль Невы прохожий может видеть противоположный берег; приходилось считаться с тем, как пешеход-созерцатель будет воспринимать силуэт зданий на другой стороне Невы[158] и как построенное им сооружение впишется в образ береговой линии. Градостроители исходили из возможностей панорамного взгляда[159], охватывающего набережную Невы на большом протяжении. Они должны были учитывать открытость для обзора множества зданий и возможность их визуального сопоставления.
Четкая, но невысокая линия городской застройки, по которой перемещается созерцающий противоположную сторону реки взгляд пешехода, акцентирует на себе внимание фланера: силуэт выявляет обширность пространства, отделяющего созерцателя от противоположного берега. За крыши вплотную примыкающих друг к другу дворцов, особняков и государственных учреждений, вытянувшихся вдоль набережной, его взор проникнуть не может: за линией выстроившихся вдоль набережной домов нет высоких строений, которые приковывали бы к себе взгляд, следовательно, нет ничего, что могло бы оторвать созерцателя от береговой (водно-архитектурной) линии. Отсутствие объектов созерцания за пределами береговой линии оставляет пешехода наедине с простором[160].
Переживание пространства в режиме простирания возможно там, где отдельный предмет (в нашем случае – архитектурное сооружение) отступает перед неизмеримостью шири. Для переживания пространства как распростертости необходим открытый доступ к линии горизонта, по которой созерцающий противоположный берег взгляд беспрепятственно скользит слева направо и справа налево. Существенным моментом переживания простора является опыт безграничности границы (бесконечности линии горизонта). Набережная, линия которой превышает способность воображения к схватыванию и удержанию протяженных предметов, способствует встрече с Другим через безграничное по ширине.
Набережные Петербурга как раз и позволяют созерцать противоположный берег Невы как приближенную к созерцателю линию горизонта. Горизонт здесь – это линия примыкающих друг к другу строений на противоположном берегу реки. Что мы видим? Неохватность береговой линии как внутригородской линии горизонта. Бескрайность простора и острую грань горизонта, сложенного из каменных блоков.
Обуздание воли (простор и просторное). Однако расстояние до линии набережной на противоположном берегу может оказаться (здесь и теперь, для этого вот человека) недостаточно большим для встречи с простором. А для фокусировки внимания на архитектурной форме отдельного здания оно, если это набережная Невы, слишком велико. В фокусе внимания оказывается не горизонт, а пространство, отделяющее созерцателя от домов на противоположном берегу. Оно так просторно, что рассмотреть дома на другой стороне толком не удается. На набережной Невы мы имеем возможность встретиться и с простором, и с просторным. Многое зависит от места, с которого мы обозреваем противоположный берег, и от погоды (противоположный берег может предстать и как сплошная линия, и как собрание отдельных домов, в созерцании которых возможна некоторая детализация их архитектурного облика). Ведь одно дело – Нева до Дворцового моста и другое – после него, там, где река становится менее широкой. Одно дело – пасмурное, туманное утро, совсем другое – ясный, солнечный день.
Восприятие пространства в модальности простирания здесь, на берегах Невы, эстетически конкретизируется в зависимости от того, «кто кого победит»: порядок простор, или наоборот. Пространство на берегах Невы воспринимается то в модусе просторного, то в модусе простора в зависимости от ситуации (то есть конституируется событийно). Но в целом простор сохраняет здесь свою мощь и выступает как начало, не уступающее порядку, хотя и не способное «опрокинуть» его. На набережных Фонтанки и Мойки, на берегах каналов, на основных проспектах и улицах, на площадях – господствует эстетика просторного. Здесь на простор наброшена узда, здесь царит порядок.
Воля державного основателя Петербурга была нацелена на упорядочение (усмирение) простора (на его включение-замыкание в градостроительную форму). Но Впечатляющая победа возможна только над сильным противником.
Для демонстрации обуздания простора необходимо сохранение, культивирование простора внутри города. В Петербурге встречаются и вступают в борьбу иррациональная, неупорядоченная воля-как-чистая-возможность-иного и рациональная, государственная воля – воля монарха. Строгость, масштабность и упорядоченность архитектуры демонстрировала волю и серьезность преобразовательных планов русских императоров. Градостроитель стремился к созданию такого ландшафта, в котором открытое вширь пространство было бы структурировано таким образом, чтобы не уничтожить его, а «оправить» в прекрасную, величественную форму, свидетельствующую о твердости и силе имперской власти. Укрощенный, «связанный» простор представляет собой эстетическую манифестацию воли государя, которая ограничивает народную вольницу и направляет «стихию народной жизни» в полезное для империи русло.
Открытость как градостроительный жест. Эстетика простора, который сдерживается порядком, не только демонстрирует величие государства, инкорпорированность простора в центр северной столицы, но имеет и другой смысл. Петр хотел открыть Россию миру, а мир – России; не случайно эстетический символ открытости в горизонтальной плоскости мира сего (простор) стал пространственной доминантой, определившей облик центральной части столицы. Пространственная открытость Петербурга – символ открытости России навстречу новому, небывалому. Город обращен к реке и морю, открыт свежему ветру Балтики и будущему[161]. Простор и просторность как главные градостроительные принципы Петербурга представляют собой контрапункт к уюту замкнутого на себя (и собирающего вокруг себя «русский мир») пространства Москвы. Петр противопоставил старой России – Россию новую, уютной замкнутости – простор, Москве – Петербург.
В Москве все улицы сходятся к Кремлю и Красной площади, в Петербурге они ведут к Неве. В Петербурге, как и в Москве, все началось с возведения крепости, но Петропавловская крепость расположилась на острове, и город рос вокруг реки, а не вокруг крепости. Каменных стен и земляных валов, которые, как годовые кольца дерева, разрастались вокруг Московского Кремля, Петербург, строившийся в XVIII столетии, никогда не знал. Исходный градостроительный жест северной столицы – раскрытие, выход «на вольный простор». Северная столица России – это город, который открыт реке и морю (присутствие моря в устье Невы всегда ощутимо).
Градообразующий жест Петербурга противоположен жесту, характерному для средневековых городов. Жест средневекового города – огораживание, спасающее жителей от опасности внешнего вторжения. Средневековый город отгораживался от мира прочным поясом каменных стен. Градостроительный замысел Петербурга состоял в том, чтобы открыть мир и открыться миру, обновить Россию и привести русских людей в движение. Вот почему пространственную организацию Петербурга с самого начала определяли не земляные валы и стены, а реки и каналы, проспекты и площади.
Хотя Петербург задумывался как архитектурная и историческая антитеза Москве и во многих отношениях выстраивался в оппозиции к градостроительной традиции Московской Руси, он, тем не менее, был и остается (именно в качестве альтернативного проекта) русским городом. И дело не только в том, что Петербург изначально связан с Москвой через отрицание (в частности, через градостроительное отталкивание от древней столицы). Существеннее то обстоятельство, что его ландшафт несет в себе архетипический для русского сознания образ обширного, не разгороженного человеком пространства, которому – в психологическом и ментальном измерениях национальной жизни – соответствует широкая, с трудом поддающаяся рациональному контролю «русская душа». Пространственный образ России и русского человека – это простор. И именно простор вошел в градостроительное сердце северной столицы.
Город, охвативший текучий и подвижный простор Невы, – это манифестация рационально упорядоченной жизни. В зримых архитектурных формах новой столицы встретились простор и порядок, прошлое и будущее, воля и разум, беспредельное и предел, чувство и рассудок. Они вступили в противоборство, но ни одна из сторон не одержала окончательной победы; противоборствующие начала уравновешивают друг друга, хотя в одних погодно-временных условиях чаша весов склоняется к простору (к эстетике просторного), в других – к порядку. В результате создается удивительный образ как бы «двойного», рационально-иррационального (мерцающего) града.
Ф. М. Достоевский – один из тех русских людей, в чьем характере совмещались страстные душевные порывы со стремлением обуздать душевную стихию незыблемыми скрижалями моральных и религиозных принципов. Именно петербуржец Достоевский, говоря о русском человеке, обронил одну из самых известных своих сентенций: «Широк русский человек – я бы сузил». Петербург являет собой (заявляет архитектоникой городской среды) усилие по сужению шири, он открывает захватывающий «вид» на вековые работы по введению стихии народной и индивидуальной души в определенное разумной волей русло. Привела ли огранка простора к усилению способности к самоограничению воли на индивидуальном уровне? Дала ли она положительные для России и русского человека результаты? Вопрос остается открытым.
Равновесие и борьба (гений места и петербургский этос). В силовом поле игры (борьбы) простора и порядка сложился (вновь и вновь складывается) особый петербургский этос. Город оказывает ощутимое воздействие на нравственный характер людей, которые живут в нем. Петербургский этос обнаруживает удивительную устойчивость и воспроизводится из поколения в поколение, несмотря на все катаклизмы истории. Ни гражданская война, ни массовая высылка коренных петербуржцев в 30-е годы, ни вымирание значительной части горожан в страшные дни блокады, ни стремительный рост населения в 60-е—80-е годы XX столетия не помешали воспроизведению характерных черт, отличающих петербуржцев от жителей других городов. Петербург культивирует (эстетически) порядок, порядочность, прививает вкус к стройности и определенности и в конечном счете формирует у горожан особый этос (слово «петербуржец» и сегодня это не только имя для жителей одного из российских мегаполисов, но и особый стиль поведения, особый нравственный характер). Петербург культивирует свободу (осознанно, рационально ограничившую себя волю), и он же воспитывает бунтарей и подпольных людей, живущих пафосом высвобождения простора из ограничивающих его рамок жестко установленного порядка. Петербург – город рациональный и вместе с тем – загадочный, иррациональный.
Достигнутое в эстетике просторного равновесие двух противоборствующих начал (предела и беспредельного, простора и порядка, Европы и России) не воспринимается в Петербурге как мертвая данность, но снова и снова достигается, осуществляется на наших глазах. Но разве не эта борьба определяла и определяет собой жизнь русского человека? Разве не ей жила русская культура последних столетий? Невский простор делает Петербург (эстетически и символически) очень русским городом, в котором противоположности «сходятся» и «вместе живут».
Невский простор и строгая, четкая линия набережных – это напряженная гармония натянутого лука. Петербург – пространственный образ разума, вмещающего иррациональную волю в строгую градостроительную форму. В центральной части города, на старинных набережных Невы можно – одновременно – ощутить и богатство чистой возможности (эстетика простора), и ограничивающую ее рамку порядка (эстетика формы, предела): предел и беспредельное, простор и порядок соединяются в центре северной столицы. Из противоречивого союза простора и порядка рождается градостроительная гармония Санкт-Петербурга.
Приложение 4. Пропасть и категория возвышенного
Анализ возвышенного у Э. Бёрка: высота и глубина. Хотя Бёрк и не занимался исследованием феномена пропасти специально, но в его кратких рассуждениях о восприятии протяженности в связи с обсуждением характеристик возвышенной предметности мы обнаруживаем несколько наблюдений над горизонтальной и вертикальной ее формами. (Горизонтальное измерение уступает, по мнению Бёрка, вертикальному по своей способности воздействовать на человеческую душу[162].) Английский мыслитель обращает внимание и на отличие восприятия вертикали-вверх от вертикали-вниз по интенсивности сопутствующих ему переживаний (отметим, что подобная дифференциация у Канта отсутствует). Бёрк по этому поводу замечает: «Я склонен в равной мере полагать, что высота менее величественна, чем глубина, и что мы испытываем более сильные эмоции, глядя вниз с обрыва, чем глядя вверх на предмет равной высоты; но я не совсем уверен в правильности своего мнения»[163].
Здесь стоит обратить внимание как на краткость берковского замечания, так и на неуверенность, с которой он проводит разграничение действенности высоты и глубины по критерию интенсивности сопровождающего их восприятие чувства. В данном случае важно отметить сам факт фиксации Бёрком внимания на отличии восприятия протяженности по вертикали от ее восприятия в горизонтальной плоскости, а также на отличии воздействия на человека вертикали-вверх (высоты) в сравнении с вертикалью-вниз (пропастью).
Английский мыслитель явно испытывал затруднение в осмыслении различий в переживании высоты снизу вверх и глубины вниз. Это затруднение обусловлено тем, что у Бёрка отсутствует концептуальная перспектива, которая позволила бы ему провести аналитическое исследование эстетического истолкования обнаруженных им различий в переживании протяженности по горизонтали (по длине) и по вертикали, то есть по высоте и по глубине.
Рассматривая разные направления под углом зрения их способности вызывать страх или ужас и пробуждать в человеческом сердце возвышенные чувства, Бёрк ограничился тем, что указал на отличия между направлениями пространства в плане их способности вызывать страх, а, стало быть, способствовать возвышенному переживанию. Причин, по которым разные формы протяженности по-разному воспринимаются человеком и производят на него неодинаковое впечатление, он не касался. Не останавливается этот мыслитель и на том, что отличает переживания, возникающие в результате восприятия разных направлений пространства.
Пропасть и кантовская аналитика возвышенного. Хотя Кант, в отличие от Берка, на протяженности пространства в глубину специально не останавливается (впрочем, в качестве предметных поводов к возвышенному чувству он упоминает о «глубоких ущельях»[164]), тем не менее его анализ возвышенного имеет значение и для исследователя, интерес которого сфокусирован на дескрипции пропасти. Причем если исходить из эмпирического материала, с помощью которого Кант иллюстрирует возвышенный опыт, может показаться, что пропасть можно связать как с «математическим», так и с «динамическим» его модусами. Если пропасть настолько глубока, что мы не можем схватить и удержать ее в качестве целостного образа (пропасть как неизмеримая для взгляда глубина[165]), если, стало быть, в созерцании пропасти на первый план выходит величина, то речь должна идти, если следовать кантовской логике, о математически возвышенном или величественном. (Величественное понимается Кантом как чувство, возникшее в результате неспособности воображения схватить и удержать видимое в качестве целостной формы, осмысляемой с помощью категорий рассудка; неудача в согласовании способностей воображения и рассудка дает место идее в ее неизмеримости[166].)
Однако пропасть нельзя рассматривать как объект, который можно провести по ведомству «математически возвышенного». Даже в том случае, когда мы имеем дело с пропастью, дно которой нельзя увидеть (а это возможно в тех случаях, когда оно находится настолько далеко-глубоко, что солнечный свет не достигает ее дна, или когда видеть его не позволяет туман), то и в этом случае «прочесть ее», ограничившись рамками аналитики «математически возвышенного», не удается. Очевидно, что в созерцании пропасти наши переживания связаны не столько с восприятием превосходящей эмпирическую способность воображения размерностью бездны, сколько со страхом перед угрозой, которую несет в себе глубокое пространство. Следовательно, в отношении источника неудовольствия, предуготовляющего удовольствие от возвышенного, пропасть может быть сближена с теми предметами восприятия, которые Кант относил к «динамически возвышенному».
Если в случае с «математически возвышенным» пробуждению возвышенного чувства способствует величина созерцаемого предмета (она обнаруживает ограниченность эмпирической способности воображения и тем самым, косвенно, конечность эмпирического субъекта) или его протяженность, то в случае с «динамически возвышенным» таким механизмом оказываются, по Канту, стихийные сила и мощь природы и истории. Воспринимаемая человеком мощь стихии заставляет человека ощутить свою эмпирическую ничтожность, что в конечном итоге актуализирует в нем сверхчувственное начало, чей «масштаб» превосходит масштаб природы (динамически возвышенное как чувство свободы). Чувство свободы поднимает человека над его эмпирической природой и делает предмет созерцания возвышенным. Духовное начало в человеке актуализируется уже не через переживание ограниченности его познавательной способности, а через обнаружение непрочности, хрупкости собственного существования перед лицом несоизмеримых с ним мировых стихий.
Ясно, что пропасть как измерение пространства, вызывающее в человеке представление об угрозе жизни, следует рассматривать, прежде всего, как повод для динамической модификации возвышенного чувства[167]. Однако даже и под понятие «динамически возвышенного» пропасть удовлетворительным образом подвести не получится, поскольку Кант говорил о восприятии стихии в ее силе и мощи, а созерцание пропасти с силой и мощью не связано. Для иллюстрации «динамически возвышенного» (по Канту) вполне годятся такие явления природы, как гроза, ураган, шторм, извержение вулкана, пожар и т. д., но никак не пропасть.
Подводя итог краткому экскурсу в эстетику возвышенного, можно заметить, что если следовать мыслительным маршрутом кантовской эстетики, то восприятие пропасти можно квалифицировать как один из тех предметов, которые способны служить преэстетическим поводом для возникновения чувства возвышенного (что сам Кант и делает, приводя в качестве примера возвышенной предметности глубокие пропасти). Так квалифицировать восприятие пропасти можно, но с натяжкой. Осмыслить переживание пропасти в рамках понятий «математически» или «динамически» возвышенного не удается. Концептуальные рамки кантовской эстетики не позволяют выявить специфику эстетической реакции на нее. О чем это свидетельствует? О том, что категория возвышенного, если смотреть на нее с позиций эстетики
Другого, несет на себе отпечаток своего времени. Кант использовал ее (вслед за другими мыслителями XVIII столетия) для обозначения тех феноменов, которые уже были признаны в качестве имеющих эстетическую ценность, но не вмещались в рамки идеи прекрасного. Категория возвышенного выполняла роль депозитария для множества феноменов, которые только в одном близки друг другу: в том, что они выходят за пределы эстетики прекрасной формы.
Аналитика возвышенного представляла собой заметный шаг в сторону от классической эстетики. Мы даже считаем, что все новации в эстетической теории XIX–XXI веков в конечном счете восходят к эстетике возвышенного. Конечно, в такой форме это суждение не может притязать на историко-философскую обоснованность. Оно нуждается в подкреплении специальным исследованием. Но мы тем не менее предполагаем, что, если такое исследование провести, этот тезис получит аргументированное подтверждение.
Приложение 5. Высокое положение. вид сверху
Начнем с анализа чувства, возникающего в ситуации, когда человек, благодаря наверху-положению, переживаем высоту как нечто особенное.
И обращение к личному опыту, и многочисленные свидетельства людей, испытывающих от пребывания на высоте удовольствие, убеждают, что высота притягивает[168]. Люди испытывают влечение к ней и пользуются любой возможностью для того, чтобы забраться повыше и иметь возможность обозреть окрестности с верхней точки. Однако тягу эту могут сдерживать как внешние причины (жизнь на равнине, физические возможности и т. д.), так и внутренние, поскольку высота не только влечет, но и пугает. Есть даже особое понятие – «акрофобия», которым обозначают патологическую форму страха перед высотой.
Для того чтобы чувство высоты могло появиться, необходимо, во-первых, чтобы перепад высот был видимым и, во-вторых, чтобы он был значительным, привлекающим к себе внимание. Находясь в гористой и лесистой местности, можно сознавать, что сейчас мы поднимаемся, а теперь – спускаемся, но если мы видим на ближнем плане лишь камни, траву, деревья и идущую вверх тропу, а дальний и средний планы скрыты лесом, то эстетически с высотой мы дела не имеем. На открытом же месте, для того чтобы высота стала ощутимой, требуется, чтобы она вышла за рамки обычных, повседневных впечатлений (каким именно должен быть этот перепад – в каждом случае определяется индивидуально). Невозможно пережить высоту как что-то особенное, взобравшись на стул.
С высоты открываются отличные от привычных, хорошо знакомых виды. Даже в том случае, если человек проживает в холмистой или гористой местности, высота непременно обратит на себя внимание, стоит только подняться выше привычного уровня. Данность большего, чем обычно, перепада высот открывает новые горизонты, позволяет по-иному видеть. Вид сверху не только делает значительные по величине предметы маленькими, игрушечными (предметы, погруженные в глубину по горизонтали, также уменьшаются в размерах), но и позволяет обозреть их в новом ракурсе: человек видит вещи другими, не такими, как обычно.
Высокое место над обрывом – это позиция, предполагающая борьбу двух противоположных влечений: жажды высоты и страха падения. Именно здесь, на линии сгиба пространства, с наибольшей отчетливостью обнаруживается следующий закон восприятия: чем глубже, тем выше. Чем глубже открытая созерцанию пропасть, чем резче переход от горизонтали к вертикали, тем значительнее кажется высота, на которой находится созерцатель. С наибольшей определенностью это чувство дает о себе знать именно перед лицом пропасти. Преодоление страха перед бездной на волне внутреннего подъема, вызванного соприкосновением с метафизической глубиной нашего Я, отзывается чувством восторга.
Высоту положения можно рассматривать в качестве предпосылки, способствующей эстетике пропасти как экзистенциальному событию. В момент, когда мы отдаемся созерцанию бездны, чувство высоты отходит на второй план. Так происходит потому, что внимание созерцателя переключается с восприятия положения в мире (в данном случае – пространственного) на возможность присутствия как таковую. Пропасть как эстетическое расположение – это переживание полноты присутствия, актуализированное в ситуации чувственно (визуально) данной «возможности небытия».
В созерцании пропасти, таким образом, сталкиваются два эмоциональных потока: у истоков одного – чувство высоты, переживаемое как отсутствие ограничений (воля), доминирование, уединенность, близость к небу; у истоков другого – страх падения. Исход столкновения разнонаправленных эмоциональных потоков никогда не предопределен заранее: если чувство страха и инстинкт самосохранения окажутся сильнее желания «постоять на краю» и удовольствия, получаемого от визуального доминирования над окружающим пространством, то человек отшатнется от ее края и будет держаться на безопасном расстоянии. Встреча с Другим в ситуации стояния-над-пропастью (бездна как эстетическое событие) может иметь место лишь в том случае, если мы приблизимся к ее краю. Приближение к нему облегчает влечение к высоте и получаемое от пребывания на высоте удовольствие. Для нас важно то, что высокое место привлекает к себе не только из-за вида, который открывается сверху, но и само по себе. Сложность эстетического анализа высоты сверху состоит в том, что вычленить из созерцания пропасти, дали, простора чувство «высоты положения» проблематично, а может быть, и невозможно. Как самостоятельный феномен высота положения от исследования ускользает. Она включена в созерцание вещей и мест, которые находятся вдали и внизу. Чувство высоты входит в восприятие и переживание других направлений (измерений) пространства как их момент, как эстетическая «добавка» к иным расположениям. Если другие направления пространства видимы, то высота растворяется в созерцании пропасти, простора, дали или особой конфигурации расположившегося внизу и вдали ландшафта. Видимое сверху (со смотровой площадки) пространство находится перед нами; оно занимает наше внимание, определяет его содержание и обусловливает (пре)эстетический потенциал видимого. Если спросить человека, что он видит и чувствует, когда стоит на высоком месте, его ответ будет таким: «Я любуюсь простором», или: «Я вижу даль», или: «Я не могу оторвать взгляд от бездонной пропасти»[169].
Если высота передо-мной-высящегося способна стать особым предметом созерцания, то высота положения дана взгляду через другое, например, через далекий вид или вид в глубину – вниз. Высота наверху положения обречена оставаться переживанием, которое питает восприятие направлений, соотнесенных с видимыми формами пространства. Чувство высоты вплетается в аффективный континуум одного из предметно дифференцируемых расположений эстетики пространства, и извлечь его оттуда «в целости и сохранности» практически невозможно. Тем не менее мы полагаем, что аналитическое распутывание нитей эстетических расположений, в которые вплетено чувство высоты, не лишено смысла. Пусть высота положения и не является «титульным чувством» для феноменов эстетики пространства, оно, тем не менее, в них присутствует и способствует раскрытию их онтолого-эстетического профиля; оставаясь в тени базового для данного расположения референта, высота заметно интенсифицирует эстетическое переживание (а в случае с пропастью выступает одним из условий его возникновения).
Если есть расположение, в котором чувство высоты дает о себе знать с наибольшей определенностью, то это, конечно, пропасть. Чем глубже пропасть, тем определеннее чувство высоты («Как здесь высоко!» – восклицаем мы в таких случаях, подразумевая при этом следующее: «Как глубока эта пропасть!»). Вид вниз свидетельствует о высоте, на которой я нахожусь, но переживается и осознается он как вид пропасти. В отличие от ситуации, когда с высокого места открываются даль и простор, высота-над-пропастью не только интенсифицирует переживание протяженности вниз, но и представляет собой эмоциональный противоток переживанию страха падения. Высота – привлекает, пропасть – пугает и отталкивает. Стояние над пропастью – это одновременно и опыт высоты, и опыт бездны, но на первый план выходит именно бездна, она и определяет именование вида и захватившего нас чувства.
Восприятие дали или простора (в отличие от пропасти) необходимым образом с высотой не связано. С этими формами пространства мы можем встретиться и на равнине. Такое, например, случается, когда мы идем полевой дорогой, которая то поднимается вверх, то едва ощутимо спускается вниз… Но значит ли это, что высота не играет в восприятии простора и дали значимой роли? Ни в коей мере. Если подняться на холм, взобраться на колокольню или на крышу дома, то даль и ширь обретут иную – большую – размерность, горизонты раздвинутся, пространство углубится, а эстетический потенциал открывшегося сверху вида возрастет. Но дело не только в этом. Если высота положения будет хоть сколько-нибудь значительной, то к чувству дали или простора может присоединиться еще одно чувство – чувство высоты.
Глава 3. Эстетика места
3.1. Местность и интерьер
Напомним, что в эстетике места были выделены два региона: эстетика местности (пейзажа, ландшафта) и эстетика интерьера. Если в толковых словарях интерьер толкуется как «внутреннее помещение здания», то мы используем этот термин в более широком значении. Интерьер в этой книге – это любое полностью или частично закрытое пространство как место пребывания человека. Такое толкование не идет против исходной семантики интерьера (лат. interior – внутренний), оно лишь расширяет область ее применения. К внутренним пространствам (к интерьерам) мы относим не только помещения архитектурных сооружений, но и небольшую поляну в лесу, окруженное деревьями озеро, грот в скале, «зал» в пещере, «зеленый кабинет» в парке, двор или площадь в старом городе, etc.
Поскольку на данном этапе картографирования эстетики пространства мы можем описать только один феномен эстетики места – уютное расположение, есть смысл предварить его расширенным (по сравнению с первой главой) введением в аналитику места в целом (в эстетику местности и в эстетику интерьера).
Эстетика местности. Пожалуй, нам не найти в истории такой эпохи, в которую человек оставался бы совершенно равнодушен к природным и городским ландшафтам, к тому, что его окружает. Очевидно и то, что эстетическая чувствительность к местности варьируется очень широко: от незначительной и слабодифференцированной на языковом и культурном уровнях до высокой и хорошо проработанной. Истории известны социально-культурные образования, не проявлявшие видимого интереса к пейзажу, о чем можно судить по тому, какое место он занимает в языке, в практике изобразительного искусства, в обустройстве обживаемых человеком ландшафтов. Но знакомы ей и такие эпохи, в которых пейзаж выходит из тени и, получив выражение в языке, занимает свое место в художественном творчестве, в образовательных и воспитательных практиках. Яркий пример «пейзажно-ориентированных» культур – традиционные общества Дальнего Востока (прежде всего, китайская и японская культуры). История пейзажа как жанра изобразительного искусства в Китае насчитывает не одно тысячелетие (первые образцы пейзажной живописи в этой стране относятся к VI веку от Р. X.). В Европе пейзаж как самостоятельный жанр сложился значительно позднее – в середине XVI – начале XVII столетий и получил широкое признание в обществе.
В эпоху Возрождения внимание культурной элиты оказалось обращено к земной жизни и, соответственно, к тому пространству, в котором она разворачивается, где человек осуществляет себя в качестве свободного деятеля и творца. С этого времени ландшафт начинает восприниматься как предмет, заслуживающий описания, размышления и изображения в произведениях искусства. Любование миром перестало быть чем-то безразличным или подозрительным (отвлекающим в сторону от главного) с точки зрения высших духовных ценностей, что и позволило пейзажу выйти из тени. Пейзаж становится предметом внимания в жизни и, как следствие, находит себе место в искусстве.
Самое яркое выражение чувствительность к местности нашла в изобразительном искусстве. Как особый живописный жанр пейзаж сыграл заметную роль в том, чтобы настроить внимание публики на восприятие местности как эстетически ценного объекта созерцания, взаимодействие с которым воспитывало эстетическую восприимчивость к ландшафту в разных слоях городского населения: в кругу аристократии, в городском патрициате, в бюргерской среде в целом.
Именно гуманизация общественного сознания в XIV–XVI веках была основной причиной превращения пейзажа в предмет общественного внимания и культивирования (сады, парки, пейзаж в живописи и литературе). Ведь что такое пейзаж как феномен культуры? Это особое видение мира, особое к нему отношение и особое его переживание. В пейзаже человек встречается с собственным жизненным миром. Прямой взгляд на (в) мир стал возможен после того, как в человеке увидели творца, то есть того, кто в творчестве своем уподобляется Господу, того, кто и сам по себе, как вершина творения (как существо сотворенное и творящее), достоин восхищения и любования. В результате этих перемен предметом созерцания становится не только человек (расцвет портретного жанра, многофигурные композиции на библейские и античные сюжеты), но и все, что окружает его, все, что вызывает в нем отклик, – его жизненный мир. В этом окружении ландшафт занял важное место, превратившись в зеркало миропонимания, в отображение ожиданий, настроений и устремлений человека. Ландшафт предстал как то, что свидетельствует о Боге, что восхищает, печалит, являет гармонию, умиротворяет, внушает тревогу…
Впрочем, в обособлении пейзажа в особый жанр изобразительного искусства сыграли свою роль и другие события. Бурное развитие городов и торговых связей, открытие новых путей по суше и по морю, увенчанное Великими географическими открытиями, отделило человека от родных для него мест, сделало незнакомый ландшафт чем-то особенным, превратило его в предмет стороннего взгляда, в предмет созерцания. Тот же разрыв открыл для созерцания родной ландшафт, малую родину. Остранение от привычного пейзажа было знакомо человеку и прежде, но до наступления Нового времени культура не поощряла эстетического внимания к ландшафту. Стремление к открытию-освоению мира, движение вперед, в неведомую даль, никогда еще не оказывало такого заметного воздействия на целые народы как в Новое время. Перенос экзистенциального центра тяжести с данного на возможное в кругу целей и задач посюсторонней жизни не только привел к эстетическому открытию пространства в его направлениях (измерениях), но и позволил открыть эстетическую ценность местности и интерьера.
Пейзаж как особый жанр живописи (причем вычленение пейзажа как предмета самостоятельного интереса происходило не только в изобразительном искусстве, но и в литературе) воспитывал готовность к встрече с местностью как с предметом-для-неспешного-созерцания. На практике (о чем можно судить по произведениям живописи, а также по тому, как обустраивались сады и парки) эстетика места получила широкое распространение уже в XVI–XVII столетиях, то есть в тот самый момент, когда Европа переходила от эпохи Возрождения к Новому времени, от Джордано Бруно к Декарту.
Примечательно, что внимание к местности стало заметным моментом европейской культуры и искусства примерно в то же время (или несколько раньше), когда пробудилась и чувствительность к эстетическим достоинствам интерьера (к внутригородским и внутри-домовым пространствам). Интерес к эстетике закрытого места был легитимирован в таких жанрах изобразительного искусства, как интерьер и городской пейзаж. Предметом изображения в них стали закрытые пространства города (городской пейзаж иногда отличают от панорамных видов города, именуемых «ведутой», а иногда его с ними отождествляют) и внутреннее пространство архитектурных сооружений (собор, ратуша, жилище).
В качестве первого опыта эстетической аналитики внутридомовых пространств, мы попытаемся исследовать феномены уютного и торжественного интерьеров. Что касается эстетики пейзажа (или местности), – это задача на будущее. В данной работе мы ограничимся лишь указанием на эстетику местности (пейзажа, ландшафта) как на особую область эстетической рефлексии. Выделить и исследовать ее конкретные феномены мы пока не готовы. У такого «откладывания на потом» есть свои причины. Одни из них имеют объективный, другие – субъективный характер. К объективным причинам относится, в частности, обилие и разнообразие материала, требующего осмысления. Пейзажный жанр в искусстве Нового времени получил значительное и разностороннее развитие. Много полезного материала дает и история литературы. Особая область, требующая вдумчивого анализа, – садово-парковое искусство Нового времени, в котором заметную роль играли смотровые площадки, созданные ради открывавшихся с них видов на местность (вид на морской залив, на речную пойму, на озеро, на горную цепь, на долину и т. д.). Весь этот многообразный материал давно и плодотворно исследовался учеными соответствующих профилей, но в концептуальном горизонте эстетической теории не продумывался[170]. А задача эстетики местности в том и состоит, чтобы исследовать не жанр пейзажа, не пейзаж в произведениях искусства, а местность как эстетическое расположение (расположенность). Литературное творчество, изобразительное искусство, разбивка садово-парковых ансамблей при такой постановке задачи должны использоваться (наряду с другими свидетельствами чувствительности к ландшафту) как материал, изучение которого руководствовалось бы задачей выявления и изучения феноменов эстетики местности. Сложность предприятия, таким образом, состоит в том, чтобы, работая с репрезентацией пейзажа в искусстве, не упустить местность как эстетическое расположение в жизни вне искусства[171].
Исследователь пейзажа должен ответить на два ключевых вопроса. В каких расположениях кристаллизуется переживание пейзажа как чего-то особенного для нашего чувства? Какова их онтолого-эстетическая конституция? Получит развернутый ответ на эти вопросы без целой серии специальных исследований невозможно.
Эстетика интерьера. В эстетике интерьера мы имеем дело с переживанием пространства в его «так» («так оно есть»). И его «так», и его «есть» – это не просто констатация «положения дел» на уровне сознания. Это чувство, настроение, расположенность. Эмоциональная окраска «поместной» расположенности определяется экзистенциальной матрицей влечения-отшатывания: все, с чем человек встречается в жизни, или влечет его к себе, или отталкивает, или оставляет равнодушным (не замечается, «принимается к сведению»).
С эстетическим восприятием места мы имеем дело в тех случаях, когда отсутствуют внешние или внутренние (субъективные) причины для того, чтобы в данном топосе нам было по-особенному хорошо или плохо. Соответственно, те места, которые вызывают желание «побыть в них еще», мы включаем в число утверждающих эстетических расположений, а те, которые вызывают желание поскорее оставить их, мы относим к отвергающим расположениям[172]. Закрытые пространства существенно отличаются друг от друга, и пребывание в них может сопровождаться различными по характеру и интенсивности переживаниями. Опыт показывает, что мы встречаемся и с интерьерами, которые нас притягивают, и с теми, которые вызывают желание поскорее их покинуть. Однако интерьеров, вызывающих реакцию отшатывания, мы в этой книге касаться не будем, хотя проблематика эстетики отвержения в таком регионе, как эстетика пространства, сама по себе интересна и требует специального рассмотрения (специфика эстетики времени, например, состоит в том, что среди ее феноменов нет тех, которые принадлежат к эстетике отвержения).
Из неопределенного множества феноменов эстетики интерьера мы остановимся на описании и истолковании уюта. Представить результаты развернутого исследования других феноменов данного региона эстетического опыта мы пока не готовы. (Когда передвигаешься по незнакомой местности без карты, не следует торопиться.) Разработка эстетики интерьера продвигается медленнее, чем исследование феноменов эстетики направлений. Причина в том, что вычленить направления пространства проще, чем типичные эстетические ситуации в нашем восприятии пейзажа и интерьера. Направления пространства заданы (определены) положением, занимаемым человеческим телом в пространстве, его ориентацией относительно земной поверхности. Они обозримы и хорошо «читаются». Направления вертикали и горизонтали, представленные далью, простором, высью и пропастью, заданы антропо-логически и геологически. Предварительную разметку феноменальной карты эстетики направлений облегчает и наличие в языке соответствующих терминов, которые содержат в себе (свернуто) возможность экспликации их эстетического содержания.
Попытавшись разметить феноменальное поле эстетики интерьера мы вскоре обнаружим, что отдельные расположения не читаются здесь с той же определенностью, с какой они читались в эстетике направлений. Отсюда понятно, почему аналитику внутренних пространств мы открываем исследованием уюта. Это тот феномен эстетики интерьера, который давно ожидает внимания аналитиков эстетического опыта. Для начального этапа изучения эстетики закрытых пространств именно уют предоставляет наилучшие возможности[173]. Этот феномен хорошо артикулирован на языковом уровне, в искусстве, и, что еще важнее, он знаком многим людям на их собственном опыте.
Размышляя об эстетике интерьера как таковой, мы не можем уклониться от следующего вопроса: «Существуют ли помимо уюта расположения, внешним референтом которых является внутреннее пространство?» Предполагаем, что они существуют. Однако для того, чтобы это утверждение перешло из области предположений в разряд обоснованных суждений, необходимо провести ряд специальных (поисковых) исследований, нацеленных на выявление тех особенных форм «так оно есть», которые связаны с внутренними пространствами.
Если исходить из вербальной фиксации опыта как критерия зрелости эстетического феномена (слово выделяет переживание из общего потока, обращает на него внимание, удостоверяет его важность, значительность), приходится констатировать, что другие столь же распространенные, эмоционально и эстетически нагруженные термины, имеющих отношение к закрытым пространствам, как уют, в русском языке отсутствуют. (Это, впрочем, совсем не означает, что их нет в других языках.) И если исходить из опыта пребывания в закрытых пространствах как предметных референтах переживаний особенного, то наряду с уютным интерьером можно, пожалуй, говорить о священном (сакральном) и торжественном («парадном») помещениях[174].
Однако священное и тожественное (в отличие от уютного) не замкнуты на «эффект места» и имеют весьма широкую область применения. Священным, в частности, называют все, что относится к жизни богов у язычников и к тому, что так или иначе соотносимо с Богом в авраамических религиях, а торжественным – то, что выходит за рамки повседневности и связывается с чем-то значительным, имеющим высокую ценность. Это могут быть важные события в общественной или частной жизни, вещи, предназначенные для «особых случаев», а также (хотя и не исключительно) интерьеры, подходящие для торжественных собраний, или специально для них построенные (таковы и внутридомовые помещения, и выделенные места в городах: площади, проспекты).
Попытки осмыслить эстетику священного интерьера наталкиваются на затруднение: чувство священного, охватывающее человека в храмовом интерьере, с полным правом может быть истолковано не в эстетических, а в религиозных понятиях. Однако религиозное, мистическое восприятие и переживание священного интерьера не исключает его эстетического восприятия и толкования. Все зависит от того, какое вероисповедание у человека и в каком храме он находится. Само священное пространство, в том случае, когда в него попадает неверующий или когда верующий оказывается в храме, принадлежащем иной вере, может быть пережито как священное, но переживание это будет, скорее, эстетическим, чем религиозным. Этот опыт, как кажется, как раз и можно было бы отнести к эстетике священного интерьера. Но если о священном интерьере как об эстетическом расположении говорить допустимо (хотя эта возможность и требует обсуждения), то вопрос о критериях различения религиозного, эстетического и, возможно, религиозно-эстетического опыта требует времени и усилий для своего разрешения. Мы в этой работе ограничимся рассмотрением феномена уюта и кратким введением в анализ торжественного помещения.
3.2.Уютное место
3.2.1. Феномен уюта в эстетике пространства
Страшно жить на этом свете,
В нем отсутствует уют, —
Ветер воет, на рассвете
Волки зайчика грызут.
Н. М. Олейников
Ведущий вопрос данного раздела можно сформулировать следующим образом: какова эстетическая конституция «уютного» как эстетического расположения и каковы условия, способствующие его возникновению?
Юр и (у)ют: к вопросу о смысловом горизонте уютного (семантика уюта). Исследование уюта мы начнем с проведения семантической разведки его смысловых ресурсов. В русском языке «уют» (как и слова «приют», «ютиться») используется с конца XVIII столетия[175]. Чувствительность к внутреннему пространству (интерьеру) частного лица свойственна не всем культурам, но лишь тем, которые утратили представление о мире как о доме.
Вербализация нового типа чувствительности в России была сопряжена с индивидуализацией дворянского этоса в послепетровскую эпоху. Уют был новым для русского человека понятием-чувством и выражал потребность человека секулярной эпохи в создании соразмерного ему (и его семейному кругу) интерьерного пространства. Внимание в данном случае было переориентировано с соответствия внутреннего пространства структуре мирового порядка (ладный дом) на то, что человек в этом пространстве чувствует: соразмерно ли оно лично ему как частному лицу[176], каково ему в нем находиться. Возникновение частной жизни как особого измерения человеческого существования отозвалось, среди прочего, появлением слова, артикулировавшего переживание интерьера, ценимого за его соразмерность частному лицу
Обратимся к материалам, которые предоставляют нам толковые словари. В словаре Ожегова и Шведовой читаем: «УЮТ, – а, м. Удобный порядок, приятная устроенность быта, обстановки. Создать уют в доме. Домашний уют. УЮТНЫЙ, – ая, -ое; – тен, – тна. Обладающий уютом, удобный и приятный, дающий уют. Уютная квартира. Уютно (нареч.) устроился на диване. В доме уютно (в знач. сказ.)»[177].
Если отправляться от данных словаря Ожегова и Шведовой, можно прийти к выводу, что это толкование уюта, во-первых, отсылает нас к некоторому «порядку», причем к порядку, созданному человеком, во-вторых, к «удобству в быту» и, в-третьих, уют связывается с положительным эмоциональным фоном, сопровождающим «удобный порядок» в домашней обстановке.
Однако приведенная выше семантическая характеристика уюта представляется нам недостаточной, требующей конкретизации. Прежде всего, когда мы говорим об уюте, не стоит толковать его как простое следствие «удобства» и «порядка» в домашней обстановке, кроме того, определение «уютного» через «приятное» представляется нам слишком широким (что только мы не называем приятным!) и бьющим мимо цели. Если поставить вместо слова «уют» («уютный») слово «комфорт» («комфортный»), то в словарной статье Ожегова-Шведовой не возникнет необходимости что-либо изменить. При этом для людей, говорящих по-русски, очевидно, что когда мы говорим: «Эта квартира комфортная», мы имеем в виду что-то другое, чем в том случае, когда отмечаем: «Квартира уютная».
Специфики уюта в его отличии от комфорта Словарь Ожегова-Шведовой не ухватывает. Опыт (в том числе опыт языковой) подсказывает нам, что в доме с удобствами, где поддерживается порядок, уюта может не быть, а там, где удобств немного и вещи находятся не на своих местах, это чувство вполне может возникнуть. Если говорить о «приятном», то слово это годится для описания комфортного интерьера, но мало что может сказать об уютном интерьере. «Приятная квартира» – совсем не обязательно квартира уютная. Испытывать «приятные ощущения» – совсем не то, что переживать чувство уюта[178].
У В. И. Даля мы находим более пространное толкование уюта, которое позволяет взглянуть на его семантическое ядро иначе: «УЮТ м. приют; укромность, поместительность и удобство; тепло в покоях, подручность всего нужного и пр. комфорт. И прочность, и уют, все было в доме том, Крыл. <…> Уютный дом, приютный, приютистый, укромный; небольшой, но удобный, хорошо устроенный, всем снабженный. Одному тесно, а с семьей уютно, добро. На взморье хижины уютной обитатель, Крыл. <…> Уютничать, прибирать, устраивать все в доме, около себя, чтобы было уютно»[179].
Мы видим, что в словаре Даля, как и в современном толковом словаре, уют толкуется через понятие удобства (а удобство, «подручность всего нужного» предполагает определенный порядок «в покоях»), однако центр тяжести данного толкования лежит уже не в удобстве, а в идее укрытия: уют – это для Даля «приют», а уютность связана с «укромностью». Дом будет тем уютнее, чем в большей мере он воспринимается как «приют»[180], как скрытое от посторонних глаз «укромное место».
Удобство, по Далю, – важный момент в толковании уюта, но не его исходная точка. Более того, Владимир Даль (вольно или невольно) дает понять, что удобство, комфорт не есть необходимый момент в определении уютного. Несводимость уюта к удобству и, более того, маргинальность удобства выявляется в приводимой им цитате из басни Крылова: «На взморье хижины уютной обитатель». Если хижина – это то, что лишено удобств и мало, то «поместительность и удобство» в толковании уюта отходят на второй план[181]. Удобства способствуют возникновению чувства уюта, но сами по себе они недостаточны для понимания того, что делает интерьер уютным.
Не случайно в русском языке английский «комфорт»[182], чья семантика в ряде моментов сближается с «уютом», не вытеснил его (пока что?) из повседневного обихода и не стал его синонимом, продолжая существовать рядом с ним примерно так, как поэзия жизни существует рядом с житейской прозой. Если словом «комфорт» в русском языке обозначают удобство и производное от него довольство, то чувство уюта к удобству не свести. Вот почему нельзя согласиться с доминирующим в большинстве толковых и этимологических словарей толкованием уюта через удобство[183]. Такое толкование уводит в сторону от смыслового ядра уюта, определяемое идеей при-юта, убежища, укрытия[184].
Различие семантических полей слов «уют» и «комфорт» обнаружит себя с полной отчетливостью, стоит только попытаться применить их к осмыслению не только домашнего интерьера, но и множества полузакрытых пространств, которые мы встречаем за пределами собственно жилища. Мы вполне можем сказать: «уютный двор», «уютная поляна», «уютная долина», «уютная пещера», но не скажем: «комфортный двор», «комфортная поляна» или «комфортная долина». Уют базируется на идее приюта, убежища (пещера, поляна, двор также дают приют, укрывают, как и дом), а комфорт говорит о том, что делает жизнь более удобной, легкой и приятной благодаря развитию техники. Вопрос об удобствах в смысле комфорта – это вопрос технического (технологического) развития общества (подробнее на отличиях уюта от комфорта мы останавливаемся во второй части этой главы).
Частично ограниченное, замкнутое пространство двора, поляны воспринимается как приют, как «укромное место», которое может послужить для отдыха и где есть возможность укрыться и привести себя в порядок, гармонизировать душу[185].
Такие места также подходят для пребывания человека, как и полностью закрытые пространства. Уютным может быть двор (здесь уместно упомянуть известную картину Поленова «Московский дворик»), площадь, улица или просто закрытое местечко в парке или в лесу. Читатель, конечно, согласится, что скамья, с трех сторон окруженная деревьями, обладает особой притягательностью для прогуливающихся по его аллеям именно своей «уютностью»: это там, под сенью старых лип, даже в жаркий день царит прохлада, там, в мягком полумраке, издавна живут музы покоя, укромности и уединения. Лесная поляна на берегу небольшого, заросшего камышом и окруженного деревьями озера[186] также может служить примером преэстетически уютного места вне домашних стен[187].
Уютные места «на природе», как и уют домашнего пространства могут открываться непроизвольно, но такие места могут намеренно создаваться человеком в расчете на соответствующий эффект. Так, в регулярных парках прошлого создавались специальные «зеленые кабинеты» для отдыха и уединения, а пространство парков в целом планировалось как чередование открытых и закрытых (уютных) пространств.
Применительно к таким местам особенно отчетливо обнаруживается отличие уюта от комфорта. Слово «комфорт», обозначающее в современных европейских языках удобства, предоставляемые человеку цивилизацией, и в том числе удобные жилища, не применимо в описании закрытых мест под открытым небом, которые люди также именуют уютными[188].
Полагаем, что путь к более точному истолкованию уюта лежит через семантику приюта, с которым уют состоит в близком этимологическом (и семантическом) родстве.
В подтверждение сошлемся на авторитет П. Я. Черных, отмечавшего, что «в этимологическом отношении приют (и про-изв.) связаны с уют и ютитъ(ся)… Глаг. ютитъ(ся), возможно, позднее образование, возникшее, как и уют, вследствие пере-изложения слова приют, этимология которого не выяснена в сколько-нибудь удовлетворительной степени»[189]. Если вслед за Далем толковать уют через приют («пристанище», «прибежище», «тихое уютное место»[190]) и «укромность»[191], то на первый план в его семантике выйдут покой, безопасность, тишина, гармония, мир в противоположность войне. Толковать уют через бытовые удобства вполне допустимо, поскольку устроенность быта, его «налаженность» способствуют покою, но сами по себе онтолого-эстетическую конституцию уюта не определяют.
Итак, чувство уюта дает «приютное» («приютистое») место. Найти приют – значит обрести покой, успокоить душу благодаря такому месту, в котором у человек чувствует себя «укрытым» от равнодушия и враждебности «внешнего Mipa». Приют – это укрытие {укромное место), защищающее от опасности, от стихий, бушующих по ту сторону «убежища» с его реальной, а по большей части символической «оградой». В маленьком домашнем Mipe он «свой», а не «чужой», здесь его окружают «родные», здесь ему помогают и вещи, и стены. Языковые данные свидетельствуют о том, что для возникновения чувства уюта важна «у-кромность» жилища, стены которого – кромка, краешек[192] родного, знакомого, безопасного в противоположность чужому, неосвоенному, пугающему своей неизвестностью, необъятностью и непредсказуемостью мира. Все то «/фсшешное»[193], что находится за кромкой укромного места, создает необходимый для возникновения чувства уюта фон: чем сильнее злится непогода за стенами дома, чем тревожней обстановка вовне, тем ярче переживает уют тот, кто находится под защитой домашнего крова.
Покой и внутренняя гармонизация «душевных движений» (мир в душе) – вот к чему тянется человек, стремящийся к уюту У-ютное расположение противоположно бесприютности, неприкаянности, когда человек не находит себе места, слоняется из угла в угол, как потерянный, мается. Онтолого-эстетический смысл уютного можно прояснить через его эстетическую противоположность, через не-у-ют-ное. Здесь, вопреки мнению лингвистов (И. Б. Левонтина и А. Д. Шмелев), следует говорить о юре как о противоположности уюта. Уютному как расположению противостоит не простор, а бесприютность, которая особенно остро переживается именно на «юру».
Антоним к глаголу «ютиться» – глагол «юриться». У Даля мы находим весьма любопытную характеристику слов «юриться» и «юр»: Юрить, метаться, суетиться, соваться во все концы; спешить, торопить и торопиться; кипятить, нудить, нукать, нетерпеливо сдобляться, собираться; // кишеть, заботливо или играя толпиться, суетиться; толкаться туда и сюда. <…> «Юр м. где народ юрит, бойкое, открытое место, где всегдашняя толкотня, и пр. торг, базар, шумный рынок. На мельнице юр-юром, завозно, много народу. Лавка на юру, на самом углу рынка // Лобное, открытое вокруг место, где погода юрит вольно, где нет затишья, особенно от зимних вьюг, метелей. Дом, усадьба на юру <…> На юру, на сквозном ветру, на распутьи, на холму, на тору; в толпе»[194].
Юр, в отличие от простора,[195], не только указывает на открытое пространство, но и акцентирует в открытости беспорядочное, хаотическое движение. Юр – это место, где человеку негде спрятаться от «разгула стихии». На юру холодно, там дуют пронизывающие насквозь ветры, юр – открыт «для чего угодно»; на юру шумно, суетно, беспокойно, там всё непрерывно меняется, там торопятся и толкаются. Открытость пространства на юру – не горизонт того, что возможно, но такая открытость, которая переживается как невозможность покоя, отдыха, безопасности, как невозможность пребывания.
«У-ют-ное» место[196] – это место, защищенное от ветра, это тихая гавань, где «всего в меру»: и людей, и вещей; где человек, работающий в публичных местах, в цехах и конторах, может «передохнуть», «набраться сил», «отрешиться отдел».
«Неогороженность» юра воспринимается и переживается не как отсутствие ограничений и преград (так воспринимается «простор», «приволье»), а как незащищенность перед превосходящими психофизическую размерность человека силами, со всех сторон окружающими его в «продувном» месте. Если простор имеет в русской культурной традиции положительные ценностноэмоциональные коннотации и связывается с волей и покоем («На свете счастья нет, но есть покой и воля…»), то открытое пространство, концептуализированное в слове «юр», имеет негативные ценностно-смысловые коннотации. На юру у человека возникают чувства бесприютности, неприкаянности и тоски.
Хотя концепты «открытость» и «закрытость», вербализованные в словах «простор» (а также «просторное») и «уют», по своему основному смыслу противоположны друг другу, в эстетическом плане они обнаруживают и отличия, и близость: и в первом и во втором случаях речь идет об утверждающем присутствие опыте особенного. И простор, и уют сопряжены в нашем сознании с чувством покоя и умиротворенности. Однако покой «уютной обстановки» и покой, возникающий, когда тебя объемлет открытое пространство, – это разный покой и разные расположения. (О соотношении уюта, простора и просторного см. Приложение 2.)
Множественность языков и границы герменевтической компетенции в анализе уютного. Анализируя феномен персонализированного интерьера, не следует забывать, что слово «уют» раскрывает его понимание в русской культурно-языковой традиции. Дескрипция уюта будет описанием уюта, а не того, что немцы называют словом Gemütlichkeit. Феноменология уютного, если бы она проводилась в горизонте английского или, скажем, немецкого языковых универсумов, скорее всего, привела бы к результатам отчасти сходным, а отчасти отличным от тех, что были получены в ходе нашего анализа. Диалог культур обогащает каждого из его участников и, как можно думать, понимание эстетики интерьера для частного лица, которая на разных языках осмысляется по-разному Такой диалог предполагает выявление и осмысление различий, имеющихся в истолковании интерьера. Осознание возможности иного истолкования того же самого, казалось бы, опыта – самый короткий путь к его уяснению.
Для получения более полного и объемного представления о смысловом поле феномена, который в России именуется «уютом», следовало бы провести сравнительный анализ его ближайших языковых аналогов. Поскольку у нас нет возможности сделать это в этом исследовании, мы ограничимся пространной выдержкой из работы А. Д. Шмелёва: «На французский язык слова уют и уютный едва ли переводимы, а в английском языке есть близкое по смыслу к русскому «уютный», но не очень употребительное прилагательное cozy. Зато в немецком языке слова Gemütlichkeit «уют» и gemütlich «уютный» выражают одно из ключевых понятий немецкой культуры, несколько отличное, впрочем, от своих русских аналогов: если русское слово «уют» наводит на мысль о небольшом по размеру убежище, укрытии, то в основе немецкого Gemütlichkeit лежит идея настроения: gemütlich – это такой, который приводит в приятное, спокойное расположение духа. Голландские слова gezelligheid и gezellig, как и русские уют и уютный, выражают ощущение внутреннего покоя, но не предполагают отгороженности. Это ощущение естественным образом возникает у голландцев, когда они сидят у больших вымытых окон без занавесок, смотрят на улицу и понимают, что им нечего скрывать»[197].
Уют как эстетическое расположение. Определяя закрытое место в терминах уюта/неуюта, мы соотносим его с непространственными координатами своего/чужого, враждебного/ дружественного, опасного/безопасного и сопрягаем их с пространственной организацией места. Когда мы оцениваем закрытое пространство в координатах уюта/неуюта, то оцениваем его с позиций человека, который находится внутри помещения. Хорошо мне в его пределах или плохо? Желал бы я продлить свое пребывание в этом месте, хотел бы я снова в нем оказаться, или, напротив, меня тянет поскорее его покинуть?
Какие же места называют уютными? Как было показано, исходный смысл слова «уют» связан с идеей убежища, укрытия, с таким местом, в котором человек освобождается от тревоги и беспокойства. В нем он остается наедине с собой и ближними. Это место, в котором человек чувствует, что он не чужой, а родной. Уютное место – это пространство антропоморфизированное, одушевленное. Беспокойство в нем сменяется покоем, а неопределенность ничем не ограниченного пространства – упорядоченностью пространства закрытого, камерного.
Открытый всем ветрам мир – это пространство, в котором человеку приходится быть настороже (юр). Выходя в мир из укрытия, можно встретить удачу, любовь, чудо, а можно… столкнуться с чем-то опасным, быть может, даже смертельно опасным. В мире за стенами укрытия необходимо быть готовым к испытаниям и неожиданным «вызовам». Мир-как-юр – это отчужденное от «я» пространство, это такое «положение вещей», изменить которое человек не в состоянии, но с которым ему – по необходимости – приходится иметь дело. Юр как альтернатива (у)юту – это вынужденное взаимодействие с чужими, это рутина стереотипных действий и соприкосновение с людьми и вещами на функционально-прагматическом уровне.
Чувству дистанцированности, даже отчужденности, возникающему при погружении в персонально неосвоенное пространство (жизнь на юру), противостоит чувство, навещающее нас там, где уютно, где царят близость, интимность, очеловеченность. Уютное пространство можно понять как внешнее обнаружение внутреннего (как одушевленное пространство).
Уютное как особенное чувство и расположение оказывается необходимым эмоциональным противовесом чувствам разобщенности и отчужденности. Уютное – это топос уместности. Но уместности не родовой, а персональной, индивидуальной. Уютным называют место, соответствующее физической и психической размерности человека как «частного лица», как индивида, взятого независимо от тех или иных социальных институций. Это место, в котором человек ищет спасения от тревог, сопровождающих его в жизни-на-людях, это место, где он может быть самим собой. Уютным помещением для горожанина (то есть для буржуа, бюргера, мещанина) будет то, которое он ощущает своим, причем своим не юридически, а экзистенциально-эстетически. Вот почему в качестве своего (уютного) может переживаться не только внутреннее пространство собственного дома, но и жилище другого человека, если «заглянувший на огонек» гость чувствует себя в нем, «как дома», «среди своих».
Двигаясь в концептуальном горизонте эстетики Другого, мы определяем уют как утверждающее расположение эстетики места. Онтолого-эстетический статус уютного определяется условной, относительной данностью особенного. И хотя уют и не позволяет ощутить другость Другого во всей ее полноте (это прерогатива безусловных эстетических расположений), это не мешает признать за уютом достоинство эстетического феномена и отнести его к условным расположениям. Уют – это пространство более или менее соразмерное человеку.
Пожалуй, феномен уюта можно поместить в один ряд с феноменами трогательного, маленького и забавного. Эти феномены, культивировавшиеся в Европе начиная с XVII столетия, к XX веку превратились в одну из самых примечательных эстетических характеристик модерной чувствительности.
Как переживание уют можно сопоставить с умилением перед маленьким, забавным, наивным[198]… Эти феномены не потрясают, не изменяют человека, они не проникают «до глубины», и это отделяет их от возвышенного, страшного, ужасного, прекрасного, ветхого или юного, от простора или пропасти.
Не приходится удивляться тому, что романтические критики буржуазного общества и буржуазных ценностей подвергли уют остракизму. Как защитники героического гуманизма романтики видели в этом мещанство, пошлость («канареечный уют» ассоциировался русскими интеллигентами с домоткаными ковриками и занавесками в цветочек). Возведение на пьедестал ценностей семейного благополучия, домашнего очага и довольства однообразно-благополучной жизнью казалось им недопустимым снижением человеческого предназначения, игрой на понижение. Фигуры гения, героя, пророка, мудреца как смыслообразы и регулятивы романтического этоса плохо сочетались с представлениями о маленьком счастье маленького человека. Романтики не хотели (да и не могли) принять за норму тот тип человека, который связывал свои представления о достойной жизни с теплом и уютом домашнего очага, с обеспеченностью и безопасностью, с теплотой непритязательного общения в тесном кругу родных и близких… Впрочем, не стоит забывать о том, что именно в конце XVIII – начале XIX века эстетика уюта широко распространилась в европейском обществе и что некоторые романтики (их консервативное крыло, идеализировавшее прошлое с его патриархальным укладом и уютом родового гнезда) поэтизировали уют, признавая его подчиненной (меньшей, низшей), но положительной ценностью.
В наши дни под вопросом оказались не только эстетика возвышенного и прекрасного, которую пестовали романтики, но и куда более доступные эстетические ценности (те, что мы относим к условной эстетике Другого). Пришло время по достоинству оценить феномен уюта и артикулировать его экзистенциально-эстетическое содержание.
Преэстетические условия уютного. Попытаемся охарактеризовать, хотя бы кратко, преэстетические условия, которые делают встречу с уютом не только возможной, но и вероятной[199]. Сначала скажем несколько слов о предпосылках уютного расположения на стороне субъекта.
В отрицательном плане эти условия состоят в том, что встреча с ним не может состояться, если человек уже находится под властью какого-то сильного чувства или если он погружен в размышления. Встреча с уютом предполагает готовность к восприятию того, что находится рядом, способность расслышать исполняемую местом «мелодию». Восприимчивость к уюту предполагает свободу от озабоченности и открытость миру.
Но этого мало, поскольку восприимчивость к уюту предполагает сформированную культурой и актуализированную в персональным опыте способность откликаться на позывные, передаваемые интерьером как пространством, удовлетворяющим потребность частного лица в своем частном, по себе «обмятом» пространстве. Но и в культуре, подчеркивающей ценность частной жизни и малой семьи (родители и дети), там, где для описания реакции на закрытое пространство давно используется понятие «уют», чувствительность к нему у разных людей будет разной (она будет разниться у мужчин и женщин, у подростков и взрослых и т. д.).
Значительно больше можно сказать о пространственно-предметной составляющей уюта. Встречи с уютом позволяют выделить (апостериори) несколько качественных и количественных характеристик замкнутого пространства, которые располагают к возникновению чувства уюта.
Итак, каковы же предметные условия, без которых уют «не может иметь места»? Какие именно интерьеры мы чаще других воспринимаем в качестве уютных?
Начнем с того, что располагают к нему помещения, соразмерные человеку по объему и площади. Уют предполагает, что человек находится в относительно небольшом, ограниченном со всех (или хотя бы с нескольких) сторон пространстве. Уютное место не должно быть ни слишком тесным, ни слишком просторным. Понятно, что размерность помещения, которое может быть воспринято как уютное, неодинакова для баскетболиста и жокея, для взрослого и ребенка, не вызывает сомнения и то, что она будет разной для представителей разных культур. И хотя отклонения в размерности уютного помещения возможны, но они не слишком значительны, так что параметры такого интерьера вполне поддаются исчислению, хотя, скорее, в отрицательном, чем положительном ключе («не более чем», «не менее чем»).
Помещение площадью в полтора-два квадратных метра и меньше едва ли будет воспринято как уютное. Но и помещение площадью в 40–50 квадратов уютным не назовешь. Слишком большое, не занятое вещами пространство остается отчужденным от человека, у него возникает ощущение, что в этом месте места для него (для него лично) нет. Большую по размерам комнату трудно обжить, трудно освоиться в ней телесно и душевно. Даже давно знакомые, удобные вещи, если между ними и их хозяином большое расстояние, отдаляются и словно начинают жить собственной жизнью. И в самом деле, если вы сидите на диване, а до противоположной стены метров восемь или двенадцать, то предмет на другом конце комнаты отдаляется от вас не только физически (для глаза и тела), но и эмоционально-психологически. Значительное по объему пространство создает оптическую дистанцию между человеком и окружающими его вещами и мешает им превратиться в «свои»[200]. Для того чтобы помещение могло производить впечатление уюта, важно и то, какие вещи его наполняют. Пустая или полупустая комната едва ли покажется кому-то уютной: незаполненность пространства создает ощущение не-обжитости, «холодности», отчуждающей «строгости».
Однако размер помещения не должен быть и слишком маленьким: нагромождение мебели, предметов обихода, сдавленность пространства уюту способствовать не будут. Комната, набитая вещами (когда, как говорится, «некуда ногу поставить»), вызывает раздражение и реакцию отшатывания: того и гляди, что-то упадет на голову или ты сам что-то уронишь или на что-то наступишь. Чувство уюта возникает там, где нет тесноты. Слишком тесное пространство создает впечатление сдавленности, и человек ощущает себя неважно: его движения стеснены, а взгляд то и дело «натыкается» на шкафы, кровати, тумбочки, этажерки и кресла. Пространство в этом случае как бы демонстрирует склонность к сжатию (сужению) и пробуждает смутное чувство угрозы… Не способствуют уюту и разбросанные в беспорядке вещи: они «падают под ноги», образуют «завалы» и т. д., вызывая безотчетное раздражение и тревогу… В небольшом, переполненном вещами пространстве предметы обихода «ведут себя вызывающе»: то они теряются в «хаотических нагромождениях», то «путаются под ногами». Слишком маленькое (как и слишком большое) пространство с трудом «обживается», в нем не просто навести порядок, оно плохо поддается попыткам превратить его в физически и душевно соразмерное человеку место[201].
Впрочем, идеальный порядок и чистота также противопоказаны уютному пространству, как и полное пренебрежение этой добродетелью (пыльное «одеяло» на мебели, мусор, разбросанная одежда…). Стерильность ассоциируется с обжитым, уютным пространством не больше, чем заплеванный семечками пол.
Для создания уютной атмосферы имеет значение не только ширина и глубина интерьера по горизонтали, но и высота помещения (или, шире, любого интерьера как потенциального укрытия для частного лица). Уютная комната не должна быть низкой (низкий потолок давит, он нависает над головой и словно бы угрожает падением). Но она не должен быть и слишком высокой. При небольших размерах помещения высокий потолок делает интерьер несоразмерным в вертикальном измерении. То, что уместно для храма или часовни, не подходит для частной жизни, для частного лица. Для уютного расположения желательно, чтобы пропорции интерьера были квадратными или приближались к квадрату по своей форме. Узкая и длинная комната ассоциируется с коридорами государственных учреждений, офисных центров, учебных заведений, а также с подземными переходами, вагонами трамваев и электричек и т. д., то есть с «местами общего пользования» и с «пространствами для транзита», которые к приватности и интимности уютного не располагают.
И хотя уют – это расположение эстетики пространства, его возникновению способствуют не только определенные пространственно-временные параметры интерьера, но и дополнительные характеристики, связанные с вещами его наполняющими. И хотя сами по себе вещи могут быть названы «уютными» только метафорически, созданию уюта они способствуют. Вот почему мы считаем необходимым сказать о преэстетических характеристиках домашней обстановки и декора, а также о материалах, из которых сделаны вещи, об их форме и фактуре.
Начнем анализ с прояснения роли старых вещей и деталей отделки в создании уютной атмосферы. Уютному расположению способствуют старые и старинные вещи (а также стены, детали отделки), чего не скажешь о новых вещах и отделочных материалах. Старые («постаревшие») вещи и материалы хранят, подобно старцам, память о прошлом, у них есть собственная «биография», которая легко читается по знакам (трещинам, пятнам, потертостям, царапинам), оставленным на них временем. Кроме того, старые вещи производят впечатление надежности и основательности. На них, как на старых, проверенных друзей, можно положиться. Старые вещи – это пятая стена, они совершенны, так как пришли к нам из времени, которое прошло, свершилось. Они являют нам прошлое, а от прошлого можно не ждать подвоха, каверзы, «удара в спину». Укореняя настоящее в минувшем, старые вещи его облагораживают. Новые предметы привлекают нас неизведанными возможностями, но от них можно ждать «чего угодно»: нет уверенности, что они в какой-то момент не развалятся или не окажутся беспокойными «постояльцами» (не будут все время «лезть в глаза», не подведут нас в самый неподходящий момент).
Старые вещи – это вещи очеловеченные, одушевленные, надежные. Когда человек живет бок о бок с вещами многие годы, они превращаются в компанию старых друзей. А со старыми друзьями (как и со старыми вещами) мы чувствует себя спокойно и уверенно. Они, как наши близкие: как жена и дети, родители и друзья. Но если люди не становятся близкими в один день, то и домашние вещи становятся своими не сразу. Для создания атмосферы уюта важна мера врастания домашних вещей в жизнь конкретного человека, и чем она больше – тем выше эстетический потенциал интерьера. Чем дольше вещь находится рядом с вами, у вас под рукой, чем чаще вы ей пользуетесь, тем больше она очеловечивается. Перефразируя известную поговорку о «старом друге», можно сказать, что «старая вещь – лучше новых двух». «Лучше» не в смысле удобств, которые она предоставляет нам, и даже не с точки зрения ее способности доставлять эстетическое удовольствие своей формой (новая вещь может быть красивее старой), а с точки зрения ее способности содействовать уютному расположению[202].
Говоря о материалах, способствующих уюту, стоит упомянуть и о том, что вещи из натуральных материалов предпочтительнее вещей, изготовленных из материалов искусственных, особенно если у последних гладкая поверхность, способная отражать свет (зеркальные поверхности, хромированный металл, металлизированный пластик и т. д.). Изделия из натуральных материалов отсылают к природе как материнскому началу и воспринимаются как близкие нам «по естеству» (как самобытные). То, что дано природой или сделано вручную, не знает повторов: в каждом экземпляре рода всегда можно обнаружить отклонения от воображаемого образца и от другого экземпляра.
Предметы из натуральных материалов (дерево, камень) и материалов, которые не маскируют (под краской, пленкой, бумагой) своего первородного образа (кованый металл, чугунное литье, бумага и фарфор, керамика и т. и.), также годятся для создания уютной атмосферы. Предметы, сделанные из синтетических материалов, ей, напротив, могут препятствовать. Последнее нуждается в пояснении. Недостаток человеческого тепла в вещах серийного производства и в отделочных материалах, изобретенных человеком за последнее столетие, можно объяснить их сравнительной новизной, непривычностью, а уют ориентирован на привычное, хорошо знакомое, следовательно, надежное. Но синтетические материалы не просто новы, они нередко (и об этом наш современник хорошо осведомлен через СМИ) вредны для здоровья (выделяют опасные для здоровья химические вещества, затрудняют обмен воздуха, как пластиковые окна, и т. д.) и даже опасны (легко воспламеняются и выделяют опасные вещества). Понятно, что материалы, угрожающие здоровью и жизни, если человеку известно об исходящей от них опасности, уюту не способствуют. В данном случае не облик вещи и ее фактура, а господствующие в обществе «мнения» препятствуют тому, чтобы новые материалы вошли в перечень преэстетически уютных.
Синтетическая пленка, линолеум, ламинат, пластиковые панели могут с большим или меньшим успехом имитировать дерево, камень, керамическую плитку, ткань. Они выдают себя «за кого-то другого». Однако имитация дерева, камня, металла, ткани, если только она опознана (а пластик, симулирующий традиционные материалы, когда-нибудь да обнаружит свое отличие от того, что он изображает), непроизвольно заставляет нас насторожиться: подделка – это обман, а с тем, что обманывает, нужно держать ухо востро. Материалы, имитирующие «природу», вызывают бессознательный страх перед вещами-оборотнями (перед волшебством, превращающим одно в другое). Особенно неприятное впечатление материалы-имитаторы производят по мере их старения (здесь ситуация прямо противоположна старению вещей, «которые ни за кого себя не выдают»), поскольку с возрастом их «претензия» быть камнем, быть деревом и т. д. обнажается, становится явной. Царапины, вмятины, пятна, сколы обнажают их пластиковое «нутро». Вещи из материалов-притворщиков создают атмосферу отчужденности. Отсюда понятно стремление людей окружить себя вещами из натуральных или искусственных, но давно ставших привычными материалов, которые ничего из себя не изображают, а попросту есть как изделия из стекла, металла, бумаги, ткани, керамики, камня, etc.
Эстетическим потенциалом обладает и фактура вещей и материалов, используемых в отделке интерьера. Мягкая мебель и драпировки, ковры, половички, шторы, покрывала уюту способствуют. Об этом знает любая хозяйка. Мягкое, податливое ассоциируется с женским, материнским началом (любая ткань и драпировка всегда воспринимается как нечто женственное) и располагает к покою, в то время как твердое, блестящее, гладкое держит в тонусе. Не только материал и фактура вещей, но также и их форма может способствовать созданию в доме уютной обстановки. Округлые и овальные формы, сглаженные углы предметов, ассоциируемые с женским началом, способствуют уюту, а острые углы и прямые линии ему препятствуют.
На уют «работают» и предметы «ручной работы». Ремесленные изделия несут на себе печать «рожденности», «созданности» в искусных руках мастера. В отличие от изделий, сфабрикованных «бездушной машиной», ремесленные изделия сохраняют неповторимый след руки мастера, они индивидуализированы.
Свою роль играют здесь и произведения искусства. При этом их присутствие не является необходимым условием уютного, хотя и лишним не бывает. Мы имеем в виду, прежде всего, произведения живописи и графики, скульптуры и декоративноприкладного искусства. Причем произведения, настраивающие на уютный лад, – это произведения, созданные в рамках классической эстетической парадигмы. Эстетика шока, столь востребованная художественными авангардами XX–XXI столетий, при создании уюта не уместна. Уют благоволит к красоте.
Красивое ласкает наш глаз ладностью, гармоничностью, полнотой и самодостаточностью[203]; оно соединяет нас с чем-то завершенным, цельным, а потому успокаивает, гармонизирует. По своей эстетической сути красота согласуется с уютом; можно даже утверждать, что красота способствует ему[204].
Уютный дом, как было показано, – это дом обжитой, это место, где человека окружает «родное», «близкое». Дом как человекоразмерный микрокосм без растений и животных не полон; они делают его обжитым местом даже в том случае, когда человек одинок. Человек к ним привязывается, а они привязывают его к дому. Одинокому есть зачем возвращаться домой: его ждут домашние питомцы, которых надо кормить и поить, которые ждут своего хозяина. Домашние животные ничем человеку не угрожают, они полностью от него зависят. Они давно «очеловечились» (не совсем звери) и нуждаются в постоянном внимании и заботе. Оставаясь частью мира природы, они стали частью «культуры». В домашних животных непредсказуемость, стихийность и «чуждость» дочеловеческого мира сняты или сведены к минимуму, а их остаточная спонтанность радует и успокаивает.
Еще одно условие возникновения чувства уюта – тепло. В холодном доме трудно ощутить уют. Причем речь идет именно о тепле, а не о жаре или духоте (нельзя сказать: «в комнате было жарко и уютно», но вполне допустима фраза: «в доме было тепло и уютно»). Тепло расслабляет, снимает напряжение, но не приводит к упадку сил, апатии и вялости, вызываемым жарой и духотой.
Не меньшее значение для создания уютной атмосферы имеют свет и огонь. Печь и/или камин издавна были центром дома, источником тепла и света, его физическим, психологическим и символическим центром. Мы не можем здесь углубляться в анализ эстетического потенциала открытого пламени и света, но большинство читателей, конечно, согласится, что открытое пламя – будь то огонь в камине или горящая свеча (лампада) – создает атмосферу, располагающую к неспешному дружескому общению, к углублению в воспоминания, к философской медитации. Эту атмосферу иначе как уютной (камерной, интимной) не назовешь. Живой, подвижный свет от свечи (или камина) создает затейливую игру света и тени, повинуясь которой, предметы обстановки и люди то уходят в тень, то выступают на первый план… Когда вещи освещает огонь, их контуры смягчаются и они доверчиво выходят к людям, словно желая послушать их разговор и замолвить в общей беседе свое слово. Огонь сближает человека с тем, что его окружает: вещи оживают, одушевляются. При свете огня, свет от которого символически усиливается теплотой и непогодой, дом переживается как родной и живой с особенной остротой, а предметы обихода и мебель – воспринимаются как друзья-собеседники, как старожилы. При дневном освещении, при ярком искусственном свете такие чувства рождаются нечасто: вещи даны чересчур ясно и отчетливо, так что у воображения мало поводов для игры с ними. Вот почему самое уютное время – это вечер или ночь, когда за окнами темно, а на письменном столе или на тумбочке у кровати горит свеча или настольная лампа[205].
Созданию атмосферы уюта способствует и цвет, преобладающий в интерьере. Здесь хороши спокойные и естественные тона. Пестрые и тем более ядовитые, «кислотные» цвета этому препятствуют. Они слишком привлекают к себе внимание, причем «делают» это насильственно, помимо нашей воли. Они «навязчивы», «несдержанны», «экспансивны», «своевольны»: они действуют на нас, не интересуясь нашим настроением. Яркое и пестрое будоражит, оно не мирит нас ни с собой, ни с миром, скорее, оно «выводит нас из себя». От яркого и пестрого через какое-то время хочется отвести глаза («перевести взгляд»), но сделать это в замкнутом пространстве не так-то просто, особенно если яркими и пестрыми оказываются не отдельные и небольшие предметы, а стены, пол, мебель, драпировка на окнах… Яркие, открытые, интенсивные цвета – это цвета праздника, а не будней. То, что уместно на ярмарочной площади или на карнавале, едва ли годится для жилища. Яркие краски здесь хороши время от времени и «по случаю», жить в их окружении постоянно – непросто. В противоположность яркому и пестрому, светлые, пастельные тона и цвета, преобладающие в природе (травянисто-зеленый, коричневый всех оттенков, синий, белый), успокаивают, помогают «прийти в себя». Цвета, приглушенные белым (разбелённые) или черным (темные по тону), гармоничное сочетание таких цветов располагают к отдыху и спокойному общению, к чтению, к домашнему досугу. Соответственно, они подходят и для уютного интерьера.
Завершая этот далекой от полноты обзор преэстетических условий уютного, стоит сказать о том, что возникновению уютной атмосферы мешают претенциозность в обстановке и поведении людей, находящихся в помещении. Напротив, отсутствие напряженности, естественность и простота комплементарны уюту.
Человек, как известно, существо общественное, и главный для него источник опасности и беспокойства (как, впрочем, и источник радости) – другой человек. В доме, где живут не просто близкие, но расположенные друг к другу люди, для уюта есть многое. Хорошо и спокойно человеку с людьми, которым он доверяет, которых давно знает и любит. Дом – это «Ноев ковчег», в котором человек ищет и порой находит (на время!) спасение от захлестывающих волн житейского моря, от ежедневных забот и треволнений. Без присутствия в нем других этот ковчег не полон. Вот почему чувство уюта чаще посещает нас в тех домах, где царит мир. Если мы и можем на кого-то положиться в этом мире, так это на родных и близких.
Впрочем, верно и обратное: непонимание и раздор в семье, холод и отчужденность в малом кругу домашних исключают рождение чувства уюта даже в тех случаях, когда все прочее, казалось бы, к нему располагает. Совместная жизнь людей, чувствующих себя чужими друг другу, превращает дом из места гармонизации душевных движений в «юр», в такое место, куда не хочется возвращаться. А если «домой не хочется», то сколько ни драпируй окон, сколько ни заставляй квартиру предметами мягкой мебели и антиквариатом – уютнее в ней не станет.
3.2.2. Феномен уюта: история и современность (от уюта к комфорту)
От эстетической конституции уюта перейдем к исследованию того, какое место этот феномен занимает в современной культуре. Вопрос можно разбить на две части: 1) благоприятствует ли пространственно-предметная среда современного интерьера уюту; 2) расположены ли к уюту наши современники? Рассмотрим вопрос в историко-культурном измерении, чтобы воссоздать исторический контекст того места, которое феномен уюта занимает в современном обществе.
Историчность уюта
Для начала обсудим вопрос о времени появления уюта в тезаурусе русской культуры и о тех условиях, которые сделали возможным его открытие в русском обществе[207]. Когда тот или иной эстетический феномен из области индивидуального опыта и рефлексии попадает в поле общественного внимания, он обретает языковую форму. Исчезновение слова из языка (если только оно не было замещено синонимом) свидетельствует об утрате интереса к тому, что когда-то находилось «в поле зрения».
Уют – одно из живых и активно используемых слов русского языка. И кажется, что так было всегда. Однако историки языка отмечают, что в письменных источниках слово «уют» можно обнаружить не ранее конца восемнадцатого столетия[208].
Столь поздняя языковая артикуляция свидетельствует, что уют как особое чувство – один из плодов европеизации русского общества (прежде всего, дворян и городских жителей) и связан с появлением в России человека модерна. Этот историко-культурный факт говорит о том, что уют – это феномен Нового времени. Попытаемся конкретизировать этот тезис и уточнить, принадлежит ли уют Новому времени как таковому или он заявляет о себе лишь на определенном этапе развития новоевропейской цивилизации и значим только в этих временных рамках.
Предыстория уюта. Крестьянский лад и религиозно-мифологическая культура традиционного общества. Если в русском языке слово «уют» используется с конца XVIII в., значит ли это, что у «чувства домашнего интерьера» не было прообраза? Полагаем, что прообраз был. Уют – это новая форма, в которой находит выражение древнее противопоставление порядка (мира) и хаоса, дома и воли. Слово «мир» указывает на совокупность сущего в аспекте его упорядоченности (цельности), в то время как «воля»[209] – на неустроенное и необжитое («чужое»), неупорядоченное, «неогороженное» пространство (огороженное пространство – продолжение дома). Представлению о мире-космосе соответствует представление о мире как о порядке в отношениях между людьми и народами (мир в противоположность войне). Миру как отсутствию вражды и присутствию порядка (порядочности) в отношениях противостоит семантика «воли» как не заключенного ни в какие рамки желания. Мир как упорядоченная целостность (замкнутое пространство), противопоставленный хаосу (воле), означает примерно то же, что греки именовали космосом[210].
Общество, устроенное в соответствии с мировым ладом и отвечающее от века установленному (сакральному) порядку в отношениях людей друг к другу и к миру (отвечающее правде), именовалось миром. В крестьянском мире (общине) жизнь подчинялась заданному природой циклу сельскохозяйственных работ и заданному традицией циклическому движению праздников, ритуалов, обрядов. «От века данному» жизненному (религиозно-сакральному и хозяйственному) укладу соответствовал идеал порядка в отношениях между членами большой семьи и между членами общины. Структура дома (в частности, форма, сложение интеръерного пространства) воспринималась как продолжение порядка мирового, космического. Следование ему, его воспроизводство было условием поддержания мира (лада, сложившегося веками уклада) в кругу домочадцев.
Примером органически сложившегося жилища (не спланированного людьми, а воспроизводящего «от века данную» форму) был дом крестьянина. Веками он оставался неизменным (сохранялись планировка жилища, набор утвари, материалы, из которых он строился, обстановка), являясь зримым образом тех архетипов сознания и традиционных способов ведения хозяйства, которые из века в век определяли жизнь и сознание крестьянина. Если что-то и менялось в планировке такого жилища, то медленно, непроизвольно и нерадикально. Здесь не семья, не человек «наживали» вокруг себя уют, «согревая» жилое пространство, а, напротив, семья организовывала свой быт и смотрела на мир «от печки», то есть от традиционной структуры домашнего пространства.
Наиболее точным вербальным выражением восприятия дома и домашнего порядка как раз и были слова «мир» и «лад»[211]. Посредством понятия «лад» в патриархальном обществе определяли и 1) действительность, поскольку в ней усматривали порядок, форму, и 2) гармонию в отношениях между людьми, и 3) гармонию внутреннюю, душевную (мир в душе), и 4) добротность, красоту окружавших человека вещей и тел {ладными можно назвать возок и одежду, человека и упряжь).
Лад можно рассматривать не только как выражение веры в упорядоченность и осмысленность жизни в ее вселенском и человеческом измерениях, не только как воплощенную в телах и делах правду, но и как особое эстетическое переживание. Если говорить о переживании лада, то оно может быть дано и через восприятие гармонии межчеловеческих отношений (лад между мужем и женой, между родителями и детьми), и через созерцание телесной красоты животного (ладный конь) и человека (ладный парень), и в удобстве и красоте вещей (ладная упряжь, ладный дом).
Поскольку патриархальное сознание отличается от гуманистического тем, что целое, порядок, смысл заданы в нем традицией, то и чувство порядка (лада) имеет универсальный и безличный характер, в то время как чувство уюта – это чувство человека как частного лица. Это реакция на соразмерностъ/несоразменостъ интерьера лично для него.
Чувство лада в домашнем пространстве свидетельствует о той форме гармонии человека с собой и с миром, которое доступно человеку патриархального (традиционного) общества. Домашний уют также дает ощущение гармонии и покоя, но это другая гармония и другой покой; они соответствуют ожиданиям человека, освободившегося от власти патриархально-родового уклада. Уют – это не космологически заданный, а индивидуально найденный (нажитый) порядок, это чувство гармонии, связанное с обжитостью интерьера человеком как частным лицом.
Человек Нового времени и чувство уюта. Вхождение уюта как слова, понятия и ценности в европейский культурный универсум связано с процессом прогрессирующего «разволшебствления» мира (М. Вебер) и формирования новой, буржуазной культуры, нового (гуманистического) мировосприятия[212]. Единство человека и мира нарушилось, мир как Целое стал проблемой. В ситуации, когда отношение к Целому не определено, не структурировано традицией, а только задано, когда человек чувствует себя одиноким и потерянным, уют становится экзистенциально востребованным, ценным, значимым. Человек, выпавший из мифологически или религиозно-мифологически осмысленного мира, открывает для себя мир-как-проблему и в то же время открывает духовное измерение в себе самом, в глубине своего «Я». Мир, Целое – это проблема духа.
В домашнем быту, в пространстве повседневной жизни тяга затерянного в бесконечном пространстве человека Нового времени к цельности, осмысленности, надежности нашла выражение, в частности, в тяге к уюту как месту, где внешнее и внутреннее, человек и мир гармонизируются, где мир сворачивается до пространства человекоразмерного интерьера.
Уют как чувство и ценность был открыт в конце восемнадцатого столетия. Особенно важную роль в этом открытии сыграл сентиментализм, обративший внимание европейцев на повседневную жизнь «маленького человека», на его чувства и мысли как на предмет, достойный внимания литературы и высокой культуры. Романтизм же (если использовать этот термин в значении особого периода в истории европейской культуры конца XVIII— первой половины XIX века) «драматизировал», «героизировал» и «демонизировал» самочувствие сентиментального человека.
Известно, что романтическое сознание может разворачиваться в двух модусах: бунтарско-революционном, устремленном в будущее, и ностальгическом, устремленном в прошлое. Романтическая устремленность к Иному связана с тем, что в настоящем романтический человек ощущал себя «не на месте». В современности ему, по его внутреннему убеждению, не доставало самого главного – жизни под знаком абсолютного, безусловного, вечного.
Историзм как важнейший аспект романтического мировосприятия, был следствием утраты традиционного сознания, для которого мир – это дом, созданный Господом. Но если мир перестает восприниматься как сотворенный Богом, а история человечества – как история, провиденциально направленная к апокалипсису и Страшному Суду, значит, религиозное сознание разрушилось. Прошлое и будущее – это теперь не история отношений Бога и человека, а история, подчиненная имманентным законам общества и природы. Прошлое разных эпох – это не просто разные события, это разные культурно-исторические миры. Античность – одно, Средние века – другое, Новое время – третье… Романтический историзм – прямое следствие бездомности, а-топичности человека, оторвавшегося от сакрального центра культуры, это невесомость сущего, разогнавшего свою субъектность до скорости, на которой сила тяготения традиционного (сакрализующего мир) сознания оказывается преодоленной. Историзм романтиков – это временной модус бездомности и бесприютности человека позднего модерна. Именно в девятнадцатом столетии, в романтическую эпоху эстетика уютного расцветает и в русской культуре[213].
Разрушив наивность традиционного (в нашем случае – христианского) сознания, homo romanticus осознал ценность утраченного и затосковал по целостному миропониманию. Именно в тот момент, когда органическая вселенная Традиции была утрачена, родилось и стремление вернуть утраченное, возникла тяга к тому, что просто есть, что говорит само за себя.
Перестав быть данностью, Целое оказалось философски и эстетически проблематичным и переместилось в сферу заданного… В эпоху интенсивной рационализации повседневности и радикального разрыва с традиционным образом жизни и религиозным миропониманием чувство уюта стало желанным чувством.
Человек оценил пространство, в котором абстрактный, бесконечный, лишенный смысла и формы «природный мир» (мир ньютонианской физики) преобразован в домашний «микрокосм» жилища. Если порядок и устойчивость мироздания становятся предметом философской и научной дискуссии, а потребность в Целом не утрачена (да и может ли она быть окончательно утрачена?), человеку ничего не остается, как обратить внимание на уют. Если в холодной, из ниоткуда в никуда раскинувшейся Вселенной человек ощущает себя потерянным, заброшенным, а потребность чувствовать окружающее как соразмерное себе не только не исчезает, но и заявляет о себе с небывалой остротой и силой, возникает нужда в компенсации тоски по Дому, по осмысленности присутствия. Диссонанс между желаемым и наличным компенсируется уютным интерьером. Отчуждение человека зрелого Нового времени от природы, атомизация и эмоциональное охлаждение в общении создало тягу к уютному как расположенности, в которой человек забывает о своей бесприютности, о затерянности в большом и чужом ему мире…
Порвавший с властью традиции новоевропеец жаждал не только обозреть мир (мир как рационально постижимое целое), он стремился приблизиться к идеалу цельной человеческой личности. Гармоничное сочетание способностей (разума, чувства, воли), автономия и творческая продуктивность – важный регулятивный принцип культуры Нового времени. Но гармоничным человек Нового времени, а особенно человек романтической формации, себя не чувствовал. Гармония, полнота и покой – это только счастливые мгновения, которые уносятся временем. Это то, что ценят, но не могут удержать, это то, что пытаются культивировать. Уютное расположение врачевало разорванное сознание человека романтической формации, находившего в уюте желаемое: гармонию внешнего и внутреннего.
В ситуации децентрации мира и быстрого роста экзистенциального напряжения уют давал чувство умиротворенности, гармонизировал душу, согласовывал внешнее и внутреннее.
Уют указывал, с одной стороны, на утрату представления о мире как об упорядоченном целом, в котором у человека есть свое (особое) место, а с другой – на возможность локального (в пространстве и времени) достижения гармонии и покоя.
Кризис гуманизма и проблематичность уютного. Мы связали феномен уюта (как культурно значимый, нашедший себе языковое выражение и получивший общественное признание опыт) с гуманизмом и новым (буржуазным, индивидуалистическим, деятельным) образом жизни. Базовые ценности гуманистической культуры, определившие собой духовный горизонт Нового времени, сформировались в эпоху Возрождения, выдвинувшую идеал самостоятельной, творческой и цельной личности, предполагавший освобождение человека от пут традиции и власти авторитета.
Любимым детищем гуманистической культуры были наука и техника (в том числе – техника социальная и политическая). Именно техническая революция (серия революций) позволила буржуазным обществам так изменить человеческую жизнь, как до той поры не удавалось даже самым развитым и влиятельным культурам прошлого. Достижения буржуазной цивилизации общеизвестны: бурное развитие науки и техники, утверждение прав человека, создание общедоступной системы образования и медицинского обслуживания, рост благосостояния народных масс, революция в сфере транспорта и связи… Однако в XX веке с полной очевидностью заявили о себе и негативные последствия осуществления модернистского проекта. Этот век вписал в историю Европы и мира страшные страницы. Перелистывая их, мы узнаем о кровавых революциях и мировых войнах, о жертвах тоталитарных режимов и об экологических преступлениях, о терроризме и о разложении классического искусства…
Кризис гуманистической культуры Нового времени обнаруживает себя также в восприимчивости человека, в частности, в восприимчивости к домашнему пространству. Кратко эти перемены можно определить как движение от уюта к комфорту. Мы исходим из того, что кризис уюта – один из симптомов, свидетельствующий об изменениях в основах новоевропейской культуры…
Ниже мы постараемся показать, как и почему уютный способ быть уместным и пребывать в покое («путь уюта») становится все менее доступным, все более редким расположением.
Машинная цивилизация и дегуманизация повседневности
Дегуманизация городской среды: граница «своего» и «чужого».
Развитие капитализма, бурный рост индустрии и революционные изменения в средствах передвижения изменили облик крупных промышленных центров Запада. Город прежних времен не похож на крупный город конца XIX – начала XXI века. Выраставший на перекрестье торговых путей город доиндустриальной эпохи был органическим целым, его крепостные стены, подобно годовым кольцам дерева, стягивались вокруг собора и рыночной площади. Этот органический город сегодня перестал существовать, растворился в пространстве, застроенном домами новой, промышленной «архитектуры»[214]. Главная особенность города нового типа – его несоизмеримость с человеком. Такой город уже нельзя охватить взглядом, забравшись на колокольню или на крепостную башню, он не вписывается в ландшафт так, как вписывался в него город доиндустриальной эпохи. Ситуация поменялась радикально: теперь не город приспосабливается к природе, а природа приспосабливается к поглотившему ее городу, растекшемуся по ландшафту, подобно нефтяному пятну на водной глади. Такой город невозможно «знать, как свои пять пальцев», даже если живешь в нем многие годы. Над ним не царит городской собор, и горожане в праздничные дни не собираются на его центральной площади. Домя в нем (если оставить в стороне исторический центр и пригороды) таковы, что человек возле них чувствует себя подавленным их бесчеловечной размерностью. Формы зданий однообразны, геометрически правильны и, если так можно выразиться, навязчивы: от них некуда отвести глаз, потому что нет возможности отойти в сторону и посмотреть на строение с большой дистанции[215]; скопления домов в новых жилых районах не образуют дворов, которые объединяли бы соседей и воспринимались бы как продолжение (расширение) дома, квартиры. «Свое», «домашнее» – это то, что находится за входной дверью. Однако дегуманизация жизненной среды на уровне городского пространства не завершается, она идет дальше, глубже, проникая в устройство домашнего интерьера.
«Открытость новому»: дом как место по утилизации вещей и знаков. Дом сегодня перестал (перестает) быть «тихой гаванью», в которой люди спасаются от суеты и сутолоки «мира». Он превратился (превращается) в центр по утилизации постоянно обновляемых мебели, бытовой техники, одежды и иных продуктов серийного производства, с одной стороны, и в телекоммуникационной узел – с другой. Это не то место, где воспитывают детей, ведут домашнее хозяйство, общаются с близкими и друзьями, музицируют и читают книги (такое, конечно, случается, но все реже), теперь это пространство, в котором производитель товаров и услуг превращается в усердного их потребителя. Вещи, образы, информация непрерывным потоком входят в дом и вскоре из него выходят (выводятся). Укромность жилища оказывается под вопросом. Хотя стены в доме имеются, они становятся все более прозрачными, проницаемыми для вещей и информационных потоков. Считается, что вещи следует использовать (утилизовать) как можно скорее с тем, чтобы освободить место для новой порции «контента» (вещи – это переменная дома, его содержание/содержимое).
Общественные институты, обслуживающие экономику желаний, побуждают к постоянному и ускоренному пересмотру «стандартов потребления» и требуют обновлять парк вещей в режиме non stop: на одном диване долго засиживаться не стоит, необходимо заменить его на более современный, удобный, престижный, красивый; не стоит тратить время на перечитывание старых книг, лучше прочитать новую книгу, ту, что на слуху, а еще лучше познакомиться с текущими новостями…
Даже то время, которое вещи находятся в доме, они не осваиваются человеком (не осваиваются душевно и символически), не делаются для него «своими», не «срастаются» с ним. Тот, чье внимание захвачено происходящим на экране телевизора или монитора, присутствуя (телесно) дома, психологически отсутствует: его внимание поглощено тем, что происходит на светящейся поверхности экрана… Телевизор и компьютер изымают человека из реального пространства и погружают его в пространство виртуальное…[216]
Дом «гостиничного типа» (от «родового гнезда» к «машине для жилья»). Неприрученные вещи. На дегуманизацию жилища, на его «остывание» оказывает влияние и уменьшение числа людей, постоянно в нем проживающих. (Чем меньше «домочадцев», тем более поверхностным становится телесный и эмоциональный контакт с наполняющими дом вещами.) Большие семьи, в которых живут вместе 3–4 поколения, почти исчезли. Даже малая (нуклеарная) семья, включающая родителей и детей, переживает глубокий кризис. Все значительное число семей, представляющих собой относительно кратковременные союзы. Старшее поколение чаще всего живет отдельно от взрослых детей. Детей в семьях мало и свою жизнь они проводят вне дома: в садике, в школе, в университете, в виртуально-сетевом пространстве. Семья как долговременное образование – это уже не «общий случай», она сегодня, скорее, исключение из общего правила. А раз нет семьи как долговременного и многостороннего союза («семь я») – то и вещи приручать некому. Дом сегодня, по сути, перестал быть семейным гнездом, он стал «местом временного пребывания» одного-трех (реже – четырех) человек. Люди многократно меняют квартиры, переезжают из района в район, из города в город, из страны в страну…
Спросим себя: много ли времени проводит в домашнем кругу наш современник? С каждым годом все меньше. Работа отдаляется от дома, «время в пути» (на работу/с работы) растет. В выходные и праздничные дни, в дни отпуска люди отправляются «за город», «за границу», «заказывают столик», «идут на шоу». Немало и тех, кто уходит из дома, «не покидая его»: «виртуалы» зависают «в сети» сутками, есть и люди, готовые часами сидеть перед телеэкраном.
Чтобы освоить вещь, сделать ее «своей», нужно с ней соприкоснуться: дотронуться до нее глазом, прикоснуться к ней рукой, использовать ее по назначению. Тактильный контакт для «обживания» вещи, для превращения чужого в свое, мертвого в живое очень важен. Психологам известно, какое большое влияние на развитие ребенка оказывается тактильный контакт с матерью в первые часы, месяцы и годы после его рождения. Родственные, дружеские, любовные отношения допускают и предполагают большую телесную близость, чем при общении с посторонними. То же можно сказать и об отношении человека к окружающим его вещам: чем чаще человек взаимодействует с вещью, чем ближе она к его телу– тем теплее, одушевленнее она становится. Чем меньше он бывает дома, чем реже он общается (взаимодействует) с вещами, его наполняющими, тем менее обжитым будет дом, тем меньше шансов для возникновения в нем уютной атмосферы.
Телесный контакт с вещами становится все более мимолетным. Белье не стирают вручную, его бросают в стиральную машину, посуду не моют, а загружают в посудомоечное устройство, пол не протирают тряпкой, его освежают с помощью моющего пылесоса… Не избалованные вниманием вещи отвечают человеку «взаимностью»: хранят молчание и держатся отчужденно, делают вид, что они его не знают и знать не хотят…
С отрывом от «родного очага» (иногда – вольным, иногда – невольным[217]) человек теряет не только «родное гнездо», но и вещи, хранящие память о прошлом и связывающие предметноэмоциональной связью разные поколения одной семьи. Своей «памятливостью» они согревали дом, делали его уютнее, теплее. В большинстве домов/квартир современного мегаполиса о прошлом напоминают лишь старые фотографии, иногда – книги и письма, украшения и посуда. В круговерти XX века было утрачено множество семейных реликвий. Сохранилось только то, что «не занимает много места» и напоминает о ком-то из ушедших членов семьи, о дедушках и прадедушках. Но не эти вещи определяют атмосферу жилища. Все личные вещи в нем – для чемодана. В гостинице человек раскладывает по полкам один чемодан с вещами, а дома он хранит несколько (четыре, шесть, десять, двенадцать?) чемоданов… В современном доме очень мало того, что дает почувствовать: мы в персональном пространстве вот-этого человека, вот-этой семьи. Войдя в дом, мы видим примерно то же, что и на пороге гостиничного номера («интерьер вообще»).
В результате всех этих процессов грань между гостиницей и «родным домом» постепенно стирается, и дом становится «домом вообще» (абстрактным домом, домом без домочадцев, домом без домового). Он превращается в «машину для жилья», в место, которое мало отличается от гостиницы или вагонного купе (от транзитного помещения). Квартира принадлежит человеку на правах собственности, а место в гостинице или в поезде покупается на время – вот и вся разница. Но от гостиницы уюта не ожидают, гостиницу оценивают, прежде всего, по уровню комфорта.
Формула вещи. По своему происхождению предметы обихода сегодня связаны с человеком только на уровне замысла, на уровне конструкторской и дизайнерской разработки, на уровне формулы. Они говорят о «достижениях науки и техники», но не о руке мастера. Вещь, произведенная машиной (системой машин), – это функция, обретшая «плоть» схема, формула. Совершенство предмета серийного производства измеряется тем, насколько эффективно он выполняет ту или иную работу, насколько он удобен в обращении (эргономичен) и приятен на вид (эстетичен). Такой вещи недостает одушевленности, очеловеченности, недостает жизни, перетекавшей когда-то от мастера к создаваемому им предмету, как не хватает одушевленности дому, наполненному приятными на вид и удобными вещами. Произведенное на конвейере лишено благодати рождения их рук мастера. Это копия, изначально лишена оригинала. Отсюда понятна компенсаторная по своему происхождению тяга к изделиям народных промыслов и к вещам «ручной работы», к вещам старым и старинным. Присутствие этих вещей в домашнем интерьере призвано «очеловечить», «освятить» пространство, которое захватили вещи-формулы[218].
Анимация, мультипликация, организация. Современная европейская цивилизация – это цивилизация мультиплицирования, базирующаяся на изобретении и бесконечном тиражировании вещей с помощью машин. У сфабрикованных вещей есть ряд неоспоримых достоинств, но есть и существенные недостатки: заполненное ими пространство с трудом поддается одушевлению, анимации (если это и удается – то лишь благодаря работе времени, а его на век вещей-клонов отпускается все меньше и меньше).
Описывая расположенность/нерасположенность к уюту человека индустриального и постиндустриального обществ, мы используем метафору мультипликации, имея в виду различение, которое иногда делают (в общем случае эти термины используются как синонимы) создатели рисованных фильмов, противопоставляя мультипликацию (от лат. multiplication – умножение) и анимацию (от лат. anima – душа, живое существо). Если мультипликация захватывает внимание зрителя простотой и динамизмом историй, которые разыгрывают пришедшие в движение персонажи комиксов, то анимация («Ежик в тумане» или, скажем, союзмультфильмовская версия «Винни-Пуха»…) – это искусство одушевления механически накладываемых друг на друга рисунков, приобретающих, благодаря искусству художника, не только способность удерживать внимание зрителя через демонстрацию действий рисованных персонажей (яркие цвета, четкий контур), но – и это главное – захватывать его воображение, волновать, побуждать сопереживание тому, что он видит на экране.
Мультипликация многосерийна, она может длиться бесконечно, поскольку ее природа – это природа технического изделия, а ее назначение – захватывать внимание маленького зрителя, «занимать» его (на время) и освобождать родителей от необходимости отвечать на бесконечные детские вопросы.
Анимация, поскольку она связана с творческим воображением автора, с неповторимым движением руки художника, с присущей ему способностью одушевления вещей, пейзажей, персонажей, ограничена во временном отношении (укладывается в форму произведения). Анимация, одним словом, человекоразмерна, а мультипликация потенциально бесконечна[219].
Если применить термины «мультипликация» и «анимация» (в указанном выше смысле) к интересующуму нас вопросу, то уют можно понять как непроизвольную анимацию домашнего пространства, а комфорт – как способ организации интерьера по способу мультипликации.
Органическое сложение интерьера было характерной чертой городского жилища (жилища купца, мещанина, ремесленника, священника, дворянина). Новые поколения, наследовавшие старые стены, брали сложившуюся обстановку за основу и наносили на исходный «красочный слой» легкие (лессировочные) мазки, лишь в редких случаях позволяя себе наглухо «записывать» отдельные фрагменты интерьера новыми вещами. Не всегда обладая стилистическим единством и художественно-эстетическим совершенством, такие органически сформированные интерьеры имели непредумышленный характер, они «сами собой» вырастали из прошлого, переходя из одного времени в другое без радикальных изменений…
Сегодня жилой интерьер представляет собой не органическое целое, разновременные элементы которого срослись друг с другом, а единовременно разработанный и реализованный «дизайн-проект». Набирает силу тенденция к изменению интерьера жилища не «время от времени» и не в соответствии с изменением потребностей семьи, с расширением или сужением круга домочадцев (когда меняется не вся обстановка, а лишь ее фрагменты), но к его радикальному переустройству под руководством архитекторов, строителей и дизайнеров, к переделке дома в соответствии с «проектом», когда меняют все: планировку комнат, отделочные материалы, цвето-световое решение, мебель, драпировку и т. д.[220] Все это заставляет нас акцентировать внимание на отличии гармонизированного пространства интерьера от пространства оптимизированного, рационально спроектированного.
В том случае, когда окружающее пространство не обживается, а конструируется с подачи дизайн-студий, строительных фирм, мебельной промышленности, человеку в нем недостает одушевленности. В пределах «механики комфорта» человек тоже принимается «в расчет», его потребности учитываются, но стремления к уюту такой (рационально-конструктивный) подход удовлетворить не может. Комфортный интерьер не раздражает, но и не согревает. Поставить знак равенства между уютным домом и приятной обстановкой невозможно[221]. Попытки выдать комфорт за уют достигают лишь подстановки на место уюта его куклы (подробнее о применимости метафоры куклы к ситуации подмены уюта комфортом см. Приложение 5).
Человек XXI века и уютное расположение. С конца девятнадцатого века (а быть может, и раньше, с началом романтической революции) гуманистическая культура вступила в период кризиса. Развитие крупной индустрии, выход на сцену европейской истории «массового человека», катастрофы XX столетия привели к тому, что пропасть между идеалами Нового времени (целостная, свободная личность, гармонизирующая окружающий ее мир) и буржуазной действительностью стала очевидной для очень многих. Есть разные подходы к именованию стадиальной принадлежности современного общества. Мы определяем его как общество позднего модерна, модерна эпохи упадка (термин постмодерн кажется нам менее точным). Это общество (если брать его в целом) характеризуется утратой (или маргинализацией) старых (христианских и гуманистических) ценностей и отсутствием каких-либо новых ценностей, которые могли бы претендовать на статус абсолютных, универсальных. Маргинализация гуманизма состоит в том, что гуманистические ценности по-прежнему находятся на первом плане, но при этом вера в человека, в его способность самостоятельно устроиться в этом мире и утвердиться в нем в качестве свободной, творческой индивидуальности утрачивается. И произошло это в XX столетии.
Сегодня, как и в XIX–XX веках, люди чувствуют себя в мире неуютно, но при этом они лишены ориентиров, которые (плохо ли, хорошо ли) освещали их жизнь в XIX, а отчасти и в XX столетии (вера в человека, в разум, в искусство, в прогресс, в социализм и т. д.). Очевидно, что современный человек нуждается в религиозной, этической и эстетической гармонизации своего отношения к миру. В частности, он испытывает потребность в гармонизации ближайшего к нему окружающего пространства, пространства домашнего интерьера. Эстетическая гармонизация интерьера (в эти два столетия) реализовывалась не в рамках эстетики больших стилей, а в сфере частной жизни, в горизонте эстетики уюта. Человек, выпавший из мифологически уместного мира традиционной культуры, достигал (пытался достичь) гармонии с собой и с окружающим его миром в частной жизни, в домашнем пространстве. Однако в новой (техногенной, информационной) среде этот опыт гармонии становится все более редким. Из области знакомых всем чувств и переживаний уют смещается в область вербальных спекуляций.
Высвободившись из-под власти экономической нищеты, жесткого социального и государственного контроля, новоевропеец утратил ценности, поддерживавшие и структурировавшие его жизненный мир. Потеряв веру в авторитеты, освободившись от ограничений, накладывавшихся на него христианской этикой и нормами поведения традиционного общества, он ощутил себя отчужденным от мира, от общества, от другого человека и в конце концов – от самого себя. Ценности, наработанные культурной элитой раннего и зрелого модерна, не востребованы в эпоху модерна позднего, гедонистического. Эстетическим эквивалентом смыслового вакуума стали чувства пустоты, бесприютности, неприкаянности и скуки.
Человек, отчужденный от Другого, принужден тратить свое время и силы на то, чтобы заполнить чем-нибудь свое сознание, не допуская пауз, избегая пустоты (пустоты не терпит не только природа, но и человек). Революция в средствах массовой коммуникации, в индустрии развлечений, а также революция потребления вытеснили на периферию индивидуального и общественного сознания чувство бесприютности. Только загруженность сознания текстами и образами, только суетливая гиперактивность и жесткая включенность в коммуникативные потоки не позволяют бессодержательности происходящего заявить о себе в полную силу[222]. Но стоит только человеку зазеваться (угодив в зазор между работой, бытовыми хлопотами и развлечениями), его тут же настигает скука…
И хотя современные масс-медиа и индустрия развлечений способны надолго отвлечь человека позднего модерна от мрачных мыслей и неприятных переживаний, проблемы обессмысленности существования они, по существу, не решают. Потребность в уюте как эстетической компенсации утраты Целого сохраняется, но удовлетворить эту потребность становится все сложнее. Обретение человеком гармонии с собой и миром в силовом поле уютного расположения стало редкостью, уют вытесняется комфортом.
Кризис эстетики уюта свидетельствует, с одной стороны, об отчуждении от человека предметно-пространственной среды в ближайшем к нему пространстве дома, с другой – о деградации способности к созерцанию. Возможность «попадания» в уютное расположение предполагает «родственное внимание» (М. М. Пришвин) к миру любовь к привычному, повседневному, вкус к нюансам и аристократическую неспешность.
Речь, таким образом, идет уже не о равнодушии масс к большому искусству (оно всегда было доступно преимущественно духовной элите), но о недоступности того опыта, который каких-то сто лет тому назад был хорошо знаком широким массам городского населения. Уютное шк условное эстетическое расположение не может, конечно, по своей глубине и интенсивности сравниться с такими феноменами, как возвышенное, прекрасное, ветхое, беспричинно радостное и так далее (то есть с расположениями, где Другое дано безусловно), но и уют давал человеку возможность почувствовать мир в окружающем мгре, и он дарил радость и чувство гармонии. Теперь, когда уют становится все более редким феноменом, мы начинаем сознавать, что не так уж оно и бедно – это чувство уюта!
Можно ли анимировать домашнее пространство в эпоху господства мультипликации? Может ли человеческая душа в современном мире найти себе место? Не назвать ли надежду на возможность одушевления мира (хотя бы мира домашнего) прекраснодушной мечтой? Не честнее ли будет, учитывая громадную инерцию современной цивилизации, смотреть на сложившуюся ситуацию без иллюзий и признать, что уют как расположение обречен на исчезновение в качестве влиятельного и распространенного эстетического феномена?
Позволю себе и согласиться, и не согласиться с этим пессимистическим прогнозом. Если говорить об общественной ситуации в целом, то трудно оспорить тот факт, что машинно-информационная цивилизация и задаваемые ей способы взаимодействия человека с окружающим миром делают уют маргинальным феноменом. Однако постольку, поскольку потребность в уместности присутствия сохраняется, сохраняется и возможность осознанной деятельности, нацеленной на создание предметно-пространственных предпосылок уюта и его воспроизводство как опыта локальной гармонизации Dasein.
В прежние времена уют был лишь отчасти связан с сознательной деятельностью. Уют заявил о себе спонтанно, непроизвольно. Сегодня, когда условия, благоприятствующие уюту, сами собой не складываются, это расположение предполагает осознанные усилия, нацеленные на событие уюта. Но возможно ли создание живой домашней среды в ходе осознанной и целенаправленной деятельности! Мы склонны считать, что такая деятельность необходима, хотя и не гарантирует достижения цели (переживания уюта, уютной расположенности)[223]. До тех пор, пока человек сохраняет свободу и в нем жива потребность в Другом, он сохраняет и возможность деятельности, направленной на то, чтобы встреча с Другим (в данном случае речь идет о встрече эстетической) могла состояться. Осознание проблематичности уюта в пространстве цивилизации позднего модерна, четкое отделение уюта от комфорта можно считать первым шагом к культивированию уюта, к «искусству жить уютно». Впрочем, одних только усилий, направленных на создание такого интерьера, недостаточно. Эти действия необходимо подкрепить готовностью ждать, дав возможность времени самому выполнить часть работы, и просто жить в своем доме, не оставлять его без внимания.
Приложения к третьей главе
Приложение 1. Торжественный интерьер как эстетический феномен (от мест для немногих к объединяющим интерьерам общих собраний)
Попытаемся дать краткую характеристику еще одному расположению эстетики интерьера. Поименовать его оказалось непросто, поскольку он не получил еще прямого представительства в языке[224]. Поставив перед собой задачу описать событие встречи с интерьером, пребывание в котором сопровождается чувством приподнятости, и рассмотрев разные варианты его языкового выражения, мы остановились на термине «торжественный интерьер».
К сожалению, для описания соответствующего феномена он подходит не так ладно, как уют для описания эстетических эффектов интерьеров частной жизни. Если уют, в первую очередь указывает на состояние, связанное с обстоятельством места (приют, укрытие, обжитость внутреннего пространства), и только во вторую используется для именования вещей (мягкая мебель, одежда, обувь) и предметов домашнего обихода[225], то термин «торжество» («торжественный») сам по себе не связан с представлением о внутреннем пространстве и о чувстве, сопровождающем наше пребывание в нем. Торжество – это собрание многих ради чего-то важного, значительного[226]. Разумеется, собрание многих ради чего-то важного предполагает подходящее для этого место. Но не в меньшей мере оно предполагает и определенные – торжественные – действия, речи, одежду и т. д. Семантику торжественного можно перенести на то, что связано с имеющим-большое-значение для многих, в том числе – на интерьеры, но только на втором шаге. Внутренняя форма слова «торжественный» напрямую с пространством не связана. Так что без уточняющего слова «интерьер» не обойтись, если, конечно, нас интересует чувство приподнятости (торжественности) в его связанности с закрытым местом, с интерьером.
К такому типу пространств можно отнести как закрытые площадки под открытым небом (таковы центральные городские площади, летние театры, площади храмовых и дворцовых комплексов), так и помещения внутри архитектурных сооружений (интерьеры строений), если пребывание в таких местах сопровождает чувство особенной приподнятости. Однако не место предопределяет торжественность интерьера как расположения, а присутствие в нем того, что дает основание для собрания многих (для торжества), что можно определить как Значительное. Если последнее становится предметом чувственного восприятия и переживания, если встреча со Значительным, которому служит помещение, состоялась, значит состоялся (в качестве торжественного) и данный интерьер.
Подобно тому, как очеловеченность места, его соразмерность человеку как частному лицу располагают к уюту, так и присутствие Значительного, того, что заслуживает собрания многих, делает помещение, предназначенное для него, действительно торжественным.
Торжественные интерьеры – это и места для праздников, и места для общих собраний, на которых принимаются важные для сообщества (корпорации, сословия, народа) решения, и места для поминовения предков, для скорбных собраний, объединяющих людей вокруг Большой Потери (траурные залы, залы/площади, связанные с памятью о павших воинах, жертвах катастроф и т. п.).
Эстетическая встреча с торжественным помещения наиболее вероятна тогда, когда его заполняют люди, собравшиеся ради того, что они считают Значительным. С наибольшей полнотой торжественность торжественного места раскрывается именно в этот момент. Тогда, например, когда король, восседающий в тронном зале, принимает иностранных послов, вершит суд или советуется со своими приближенными, когда концертный зал филармонии наполняется людьми, внимающими симфоническому оркестру, когда в актовом зале университета вручают дипломы выпускникам… То, ради чего возводится и украшается церковь, раскрывается во время храмового действа[227]. То, ради чего строилось торжественное помещение, полнее всего раскрывается (эстетически), когда его используют по назначению. Чтобы эстетика торжественного интерьера актуализировалась, в концертном зале должна звучать музыка, в театре – идти представление, в конференц-зале университета читаться научные доклады и т. д. Однако соответствующее чувство может возникнуть и без участия в торжестве, а просто благодаря пребыванию в предназначенном для этого месте. В такой ситуации мы как раз и будем иметь дело с эстетикой торжественного интерьера в чистом виде. Если ничего торжественного не происходит, а чувство приподнятости овладело нами, захватило нас, то оно связывается с помещением, с местом, в котором мы находимся и которое переживается как торжественное.
Встреча с торжественным без торжества и собрания многих возможна потому, что среди интерьеров имеются и такие, которые с самого начала, по замыслу строителей, создавались в расчете на встречу с тем, что заслуживает торжественности, заслуживает особого пространства. Форма, размерность, декор таких интерьеров призваны «удерживать» Значительное. Главное в торжественном интерьере – способность «вмещать» то, вокруг чего собираются многие (создавать условия для встречи с тем, что Велико, Значительно).
«Ради чего» такого места не относится к области обыденного (крытые рынки и большие магазины, цеха и вокзалы тоже создаются так, чтобы собирать и вмещать многих). «Ради чего» торжественного интерьера относится к сфере трансперсонального, того, что приподнято над повседневностью и «злобой дня». Такие интерьеры нередко становятся (особенно если доступ в них открыт для всех желающих) местами эстетического паломничества[228]. Люди посещают такие места не только в дни торжеств, но и в будни, поскольку в них можно пережить (есть такая возможность) чувство приподнятости и без того, чтобы принимать участие в том, чему они служат.
Если феномен уюта не предполагает с необходимостью эстетической деятельности (уютным, как мы помним, может оказаться и шалаш в лесу, куда пришлось спрятаться от дождя, и маленький дворик, в который человек забрел, гуляя по старому губернскому городу, и дом, который построен ради того, чтобы в нем жить), то торжественный интерьер – всегда результат эстетической деятельности. Создавая его, архитектор рассчитывает на определенный эффект. Интерьер так же, как книга (картина, симфония, спектакль), может быть сильнее или слабее по своему эстетическому потенциалу. Он может помочь в том, чтобы встреча с тем, что «достойно торжества» состоялась, а может оказаться бессильным, эстетически «беспомощным». В последнем случае мы будем иметь дело с помещением, которое функционально отвечает своему назначению, но эстетически несостоятельно.
Когда строится большое здание, предназначенное не для жилья или работы, а для собрания людей вокруг чего-то, что они считают для себя важным, то уровень эстетической рефлексии по отношению к величине, форме и конфигурации внутреннего пространства (то есть мера рефлексии над тем, какое впечатление интерьер будет производить на тех, кто находится в нем) будет существенно превышать уровень эстетической осознанности, достигаемый в ходе создания интерьеров для частных лиц или интерьеров, имеющих только функциональное (без символической составляющей) назначение (склад, ангар, цех, офисный центр).
В пространстве торжественного интерьера происходит соединение разъединенного, осуществляется сборка, синтез коллективного тела, в единстве которого множество частных воль согласуется в объединяющей их приобщенности к чему-то большему, чем жизнь частного лица, замкнутая на микро-связях микро-сообществ (семья, дружеская компания и т. п.). Торжественные места организованы как интерьеры восполнения (пребывая в таком искусственном пространстве, мы – на уровне переживания – воссоединяемся с чем-то Великим) и настраивают присутствующих на приподнятое над повседневностью расположение духа (от торжественно-праздничного до торжественно-серьезного и даже торжественно-скорбного). В торжественном интерьере мы имеем опыт пребывания в близости (в связи) с Другим, явленным как Значительное. Значительное – это наша возможность, это то, к чему можно приобщиться, в том числе – через пребывание в торжественном месте. Чувство Значительного переживается и сознается человеком как приподнятость, торжественность.
Человек как существо сознающее свою конечность нуждается в восполнении через отношение к чему-то вечному или (паллиативно) великому, большому, долговечному. Возможность ощутить близость Значительного, ощутить связь с ним как раз и обеспечивает особая конфигурация торжественного интерьера. Если на безусловном уровне эта потребность реализуется в пространстве сакрального (или величественного[229]) интерьера, то на уровне условном, относительном – в местах, которые принято называть торжественными. Торжественный интерьер, таким образом, следует отнести к условной эстетике Другого в его утверждающем присутствие модусе (в модусе Бытия).
Эстетический эффект от пребывания в торжественном месте связан, прежде всего, с тем, что его размерность определяется не его соответствием человеку (как это было в случае с уютом), а, напротив, резким несоответствием ей, то есть определяется отрицательно. Соразмерность места отдельному человеческому телу (или немногим телам) – это то, что в торжественном интерьере превышено ради чего-то «большего». Интерьер дает это большее чувствовать. Торжественное помещение нацелено на чувство включенности в сферу «больших дел» и «великих смыслов», иначе говоря, на приобщение к Значительному.
Данность чего-то большего, чем мое эмпирическое «я», отнесенность к высшему поднимают меня над повседневностью и дает чувство осмысленности собственного присутствия: есть нечто, благодаря чему мое существование (существование частного лица) обретает цель и смысл. Соотнесенность со Значительным укрепляет и воодушевляет. Я не просто горожанин, я принадлежу тому, чья долговечность, величие и сила выводят меня из скорлупки частного существования (позволяя ощутить свою включенность в сословие, профессию, государство, искусство и т. д.). Причем чувственная данность особенного в образе торжественного интерьера убеждает меня, что Значительное есть, что его действенность и действительность ощутимы.
Возвышающая идентификация с Великим освобождает (на время) от повседневных проблем и «неразрешимых» противоречий. В образе торжественного интерьера Значительное задает такой масштаб, в котором мелкие тревоги и заботы исчезают, как дым.
Попытаемся теперь вникнуть в структуру торжественного интерьера немного подробнее и проясним его преэстетические характеристики. Как интерьер может способствовать возникновению чувства приподнятости? Какие у него есть для этого возможности[230]? Возможностей таких немало. Во-первых, это архитектоника интерьера, во-вторых, его оформление.
Значительность того, чему интерьер служит, подчеркивается его объемом. Он должен быть таким, чтобы те, кто присутствует в его границах, ощутили одновременно и свою малость, и свою приобщенность к Значительному. На первый план выходит то, в какой мере интерьер способен работать на создание чувства дистанции.
Преэстетические условия торжественного места противоположны тем, о которых шла речь, когда мы описывали уютное место. Если в уютном интерьере эстетический эффект возникает в результате сокращения дистанции между мной и местом (антропоморфное, одушевленное и подогнанное вот к этому человеку место), то усилия создателей торжественного интерьера направлены на решение совсем иной задачи: дать человеку, находящемуся в помещении, почувствовать дистанцию между теми, кто находится в нем, и Значительным. Значительность Значительного дана, прежде всего, через переживание дистанции (дистанция связывает, отделяя). Дистанция (ведь мы говорим об эстетическом опыте) дана через размерность, пропорции и убранство интерьера, через его цвето-световое решение, etc.
Интерьерных пространств, предназначенных для публичных собраний и создания приподнятого настроения, много, они разнообразны и отличаются друг от друга в зависимости от того, что именно в них торжествуют. Торжественное тронных залов национальных парламентов, актовых залов университетов и академий, концертных и театральных залов по своему содержанию различается, но везде речь идет о соприкосновении через интерьер с особенным в ценностном отношении, со Значительным. И хотя с особой рельефностью торжество Значительного реализуется в интерьерах общественных зданий, но помещения, располагающие к торжественности, в прежние времена можно было встретить и во дворцах людей знатных, богатых, высокопоставленных, где не были редкостью помещения, предназначенные для торжественных приемов, балов, домашних концертов[231]. Они были больше других комнат по площади, богаче обставлялись, по-особому декорировались и т. д. В повседневной жизни они не использовались, их резервировали для особых (торжественных) случаев.
Если уют соотносится с пространством частной жизни, то внутреннее пространство залов для заседаний парламента или залов театральных, концертных имеет противоположную, сверхиндивидуальную доминанту и ориентировано на ценности, предполагающие служение, уважение, любовь и жертву. Уютное место обособляет и дает почувствовать частное, соразмерное индивиду пространство как отличное от пространств внешнего мира. Торжественный интерьер, напротив, выводит индивида из изоляции. Соответственно, и пространственные параметры торжественных интерьеров будут резко отличаться от параметров уютного места. То, вокруг чего объединяются люди, может иметь или светский, или сакральный характер. И в том, и в другом случае они объединяется вокруг того, что имеет символическую ценность. Оставляя в стороне сакральное пространство (требующее особого рассмотрения), поразмышляем над тем, как организован торжественный интерьер «в миру».
Размер интерьера должен быть значительным, заметно превышающим объем помещений, окружающих нас в повседневной жизни. Мало того, что помещение должно быть большим, оно должно быть свободным, незагроможденным, праздным[232]. Его пространственная организация настраивает на восприятие Значительного, а оно в интерьере явлено как большое по величине внутреннее пространство. Для этого важно, чтобы человек, находясь в той или иной точке зала, мог видеть его противоположную сторону. Если внутри интерьера будут находиться предметы, разгораживающие общее пространство, это будет только препятствовать созданию впечатления торжественности. Преграды на пути взгляда уменьшают, скрадывают объем помещения, кроме того, они рассеивают внимание: фокусируя взгляд на значительных по величине предметах внутри зала, мы утрачиваем – на время – способность воспринимать особенную (выходящую за привычные рамки) величину пространства, а ее роль в создании торжественного (приподнятого) настроения наиболее существенна.
Все, о чем можно сказать далее, имеет отношение к величине как основе эстетического потенциала торжественного места. Помещение будет восприниматься как торжественное, если оно пропорционально. Длинное и узкое, но высокое помещение торжественности способствовать не будет. Не способствует торжественности и большое по площади помещение с низким, нависающим над головой потолком. Измерение высоты играет весьма заметную роль в создании торжественного настроения средствами архитектуры.
Дело в том, что большое свободное пространство наверху, которое никак – в утилитарно-практическом смысле – не задействовано, а стало быть, с обыденной точки зрения избыточно, бесполезно, как раз и создает ощущение Значительности. В обычной (обыденной) жизни свободного места столько не бывает, ведь обыденность – малый мир, мир семьи, так что восприятие праздного пространства наверху (а о символике верха и высоты мы говорили выше) усиливает эстетический потенциал Значительности помещения. Все долговечное, все, что принято относить к духовной жизни, как раз и характеризуется избыточностью, если смотреть на ее проявления с узко утилитарной точки зрения («Какая польза от поэзии? Скажите на милость, кому нужна эта ваша философия? Все Богу молитесь? Лучше бы делом занялись!»). Как раз «избыточное», незаполненное пространство в помещении создает впечатление Значительности.
Чувство приподнятости связано не только с размерностью и пропорциями интерьера, но и с характером убранства, которое в разбираемом нами случае нацелено на то, чтобы вызывать у присутствующего в нем человека чувство, что он находится в ином, отличном от обыденного пространстве («как будто в другой мир попал!»).
Декор и обстановка парадного зала должны акцентировать внимание на его объеме. Стены и потолок будут, скорее всего, иметь светлый, раздвигающий пространство тон, в его украшении будет использоваться такие неуместные в повседневном пространстве квартиры или в рабочем помещении элементы, как позолота, колонны из светлого мрамора по периметру зала, лепнина на стенах и на потолке, большие (в рост или выше) зеркала, свисающие с потолка люстры и т. д.
В ярком освещении также можно видеть отличие торжественного помещения от уютного и сакрального (храмового) интерьера. Внутреннее пространство и храма, и жилища частного лица не предполагает яркого освещения. Для одушевленности и интимности излишний свет вреден, поскольку четкость и определенность ведения сдерживает работу воображения и делает пространство более рациональным, «холодным»[233]. В торжественном помещении, напротив, важна яркость света, раздвигающего внутреннее пространство до размеров Значительного, будь то государство, правосудие, искусство, наука, сословная или профессиональная корпорация и т. д. Чем больше света, тем более торжественной, праздничной будет царящая в помещении атмосфера.
Хорошая освещенность, светлые стены, мрамор и зеркала, бронза и позолота, etc. уместны не всегда. Вопросы декорирования и освещения приподнимающих интерьеров решаются в зависимости от их функционального назначения. Понятно, что торжественный зал в городском дворце бракосочетаний будет освещен и декорирован иначе, чем зал для траурных церемоний, а оперный театр иначе, чем конференц-зал университета.
В задачу краткого введения в эстетику торжественного интерьера не входит анализ его истории, но и без специального исследования общий вектор движения очевиден: искусство создания торжественных интерьеров переживает сегодня не лучшие времена. И хотя за последние сто лет в Европе и Америке появилось множество интерьеров, претендующих на торжественность, они (несмотря на увеличение объема помещений и их вместимости) в большинстве своем уступают по своему эстетическому потенциалу интерьерам, созданным в прошлом.
Причины упадка коренятся в характерном для современности разрушении онтологической и социальной иерархии, когда едва ли не единственным социальным и ценностным стратификатором оказываются деньги. Если признание Высшего по отношению к человеку и добровольное подчинение ему рассматривается как угроза правам и свободам человека, то трудно предполагать, что в такой атмосфере искусство торжественных интерьеров сможет удержаться на той высоте, которая была достигнута в эпоху великих смыслов. Если человек не находит Значительного в своем сердце, если Великое теряет свою притягательность (романтический порыв к невозможному, к абсолютному иссякает), искусство создания торжественных интерьеров обречено на деградацию. Оно замещается навыками создания интерьеров «на большое число посадочных мест». Создатели таких помещений успешно решают сложнейшие инженерно-технические запросы, но беспомощны в создании торжественной атмосферы.
Приложение 2. Уют, простор, просторное
Уют и простор. В работах по лингвокультурологии можно встретить суждение, что уюту в русской языковой картине мира противостоит (и противополагается) простор[234]. Нечто похожее можно найти и в суждениях здравого смысла. И надо признать, что определенные основания для такого противопоставления имеются: уют – это небольшое и закрытое пространство, а простор – пространство бескрайнее, открытое. Если чувство уюта ассоциируется, прежде всего, с образом жилого помещения и с небольшими и замкнутыми пространствами под открытым небом (с дворами, с небольшими улочками, с площадями старого города), то простор уводит нас за пределы города (город вмещает, а простор открывает возможности для движения).
И пусть уют не всегда актуализируется в качестве домашнего уюта (уютной, как не раз было отмечено, может быть и поляна в лесу, и скамейка в тени старых лип…), он, тем не менее, всегда отсылает к дому как закрытому и одушевленному человеческим присутствием пространству пребывания. Простор же соотносится со странствием, приключением, с пьянящей возможностью движения, «куда душа пожелает». Домашний уют – тихая пристань, простор – волнующая открытость иному. Кратко: противоположность уюта и простора можно определить через противопоставление возможности пребывания и возможности перемещения.
Достаточно ли этого для противопоставления уюта и простора как эстетических феноменов? Простор успокаивает, снимает напряжение, гармонизирует человека. Но ведь и в расположении уюта человек обретает гармонию и покой. В этом уют и простор не противостоят друг другу, а, скорее, обнаруживают близость. Отличие покоя уюта от покоя простора связано с различием в предметностиI, вовлекаемой в эстетическое расположение. Открытое противоположно закрытому. Эта противоположность имеет значение и должна учитываться, но она, если стоять на позициях эстетического анализа, не является определяющей при сопоставлении уюта и простора.
Противопоставление уюта простору законно лишь до некоторой степени. Дело в том, что эти феномены относятся к разным экзистенциально-онтологическим уровням. Простор – это безусловное эстетическое расположение (переживание простора как переживание чистой, безусловной возможности быть в ином месте), уют – расположение условное (мы можем чувствовать себя более или менее уютно, но уют души не потрясет). В этом плане более уместным было бы противопоставление уютного просторному. Ведь оба феномена относятся к условным расположениям эстетики пространства.
Если попытаться сопоставить уют с простором, то помимо противоположности открытого/закрытого можно обнаружить и то, что сближает эти феномены. Соразмерность человеку и чувство защищенности (укрытости), присущие уютному расположению, открытость солнцу и ветру на просторе, «на вольном воздухе» равно способны дать раздерганной в сутолоке душе чувство покоя, хотя в одном случае возникновению этого чувства помогают пространственное ограничение мира и погружение человека в предельно антропоморфизированную среду «своего» пространства (его сужение до «своего» места), в другом – его предельное расширение, перечеркивающее обычное для города членение на улицы, кварталы, дворы, дома и комнаты. Тут простор и уют не расходятся, а сходятся.
Успокоение на просторе происходит за счет такого масштаба пространства, перед которым повседневная озабоченность отступает и душа «раскрывается», обретая желанную волю (покой через волю). Мелкие заботы тонут в безбрежной шири. Успокоение в уютном месте происходит за счет сужения мирового пространства до «моего места», где все свое, родное, привычное. На предметно-пространственном уровне гармонизация души в опыте уюта и в опыте простора происходит за счет преодоления отчужденности от самого себя.
Эстетика уюта и эстетика простора соотносятся друг с другом, как эстетика близкого и далекого, малого и большого, человеческого и природного… Близкое приводит человека в обжитое пространство, а далекое выводит из суеты большого города на «вольный воздух», на простор, бескрайность которого рассеивает заботы и тревоги повседневности…
Уют и простор сближаются еще и в том отношении, что в них человек укрепляется в собственной самости. В этих расположениях он остается наедине с собой, «вспоминает о себе». Стремление к уюту мы понимаем как желание отколовшегося от мира и общины человека обрести чувство внутренней гармонии, как эстетику «само-собирания» в соразмерном «частному лицу» месте. Простор же собирает через чувство воли как возможности ничем не ограниченного полагания: выбор пути – это моя ничем не ограниченная возможность. Уютное не противоположно простору, оно от него отлично.
И простор, и уют можно связать с аналогичными (по экзистенциально-онтологической структуре) феноменами эстетики времени. Уютному расположению соответствует прошлое, старина, обжитость и традиция (старое как расположение эстетики времени), то есть то, что было, что много раз повторялось (прошлое как «пятая стена», защищающая от непредсказуемости грядущего); открытому горизонту соответствует будущее, надежда, юность, новые возможности (юное как расположение эстетики времени). Простор успокаивает тем, что как бы «говорит» человеку: «не горюй, мир широк, горизонт открыт, и ты волен изменить свою жизнь». На координатной оси времени уютное соседствует со старым. Простор и просторное мы соотносим с феноменами юного и молодого.
Уютное и просторное. Уют (по его экзистенциально-онтологическому уровню) следует сопоставлять не с простором, а с просторным. Если сравнить уютное с просторным, то мы увидим, что эти расположения не противоположны, а различны: и уютное, и просторное используются для характеристики ограниченных по своей протяженности пространств, через них артикулируется наша реакция на природные или искусственные интерьеры (будь то грот, долина, поляна, площадь, дом, комната…). При этом в одном случае внимание задерживается на том, благоприятствует ли интерьер пребыванию в нем человека как обособленной монады (или семьи как социальной монады), в другом – на том, какие возможности оно предоставляет для движения в границах, заданных интерьером. Уютный интерьер может быть просторным: «комната была уютной и просторной» (хотя и не обязательно: «в комнате было тесно, но уютно»).
Просторное отличается от уютного, но как характеристика места оно может входить в его описание. Когда мы говорим о просторном помещении, то делаем акцент на количественных характеристиках, когда говорим об уютном – на настроении, которое связывается с помещением как с целым[235]. Если уютному противоположно открытое, бойкое место «на юру», то просторному месту – теснота (узость), ограничивающая возможности для движения. Мы можем переживать просторность просторного совершенно независимо от оценки места в терминах уюта/неуюта и наоборот. Нам может быть уютно и в просторном помещении, и в вагонном купе, на маленькой кухне, в шалаше, etc. Если просторное можно соотнести с эстетикой большого, то уютное – с эстетикой маленького и красивого.
Номадизм и оседлость. Если проводить сопоставление простора и уюта в духе популярной в последние десятилетия оппозиции номадизма и оседлости, то простор следует отнести к номадическому опыту, а уют – к культуре оседлости, домостроительства, к культуре пребывания[236]. Мы исходим из того, что стороны оппозиции (номадизм и оседлость, уют и простор) не являются взаимоисключающими. Современное общество нуждается (как нуждались и в прошлом) не в одном из двух начал, а в них обоих. Исторически акценты могут смещаться, но двойственность начал сохраняется в любой культуре. В одних общественных организмах преимущество отдается оседлости, другие возделывают номадическую подвижность, легкость на подъем, готовность отправиться в путь и начать все заново на новом месте.
Современный человек испытывает и потребность в уюте, и потребность в пространстве-для-движения (в просторе и дали[237]). Проблематичность ситуации, сложившейся в современном обществе, где номадические тенденции в фаворе, не в том, что на смену оседлому человеку земли, дома, корней приходит человек-странник, человек-ветер, а в господстве эмоционально «стертых», невыразительных, пресных форм номадизма и оседлости. Нашим современникам недостает ярких, персонально заостренных образов как номадического, так и оседлого способов существования. Усредненность – вот источник мучений (а скука – это мука) подданных империи потребления.
Человек несет в себе оба начала; в одном случае верх берет движение, в другом – покой. Стирание различий между противоположными способами присутствия опасно для воспроизводства человеческого в человеке. Но именно такое размывание границ – это и есть наше сегодня. Пребывание без пребывания (находясь дома, можно странствовать по Сети или по ТВ-каналам), как и путешествие без преодоления пути, движение без движения (путешествия в кресле самолета, поезда, автобуса), делает перемещение мало отличным от покоя, а покой от странствия. Полное устранение одного их двух начал, как кажется, имело бы катастрофические последствия для человека и общества. Впрочем, это едва ли возможно. Но стирание острых граней происходит у нас на глазах.
Сказанное имеет отношение и к области нашего исследовательского интереса – философской эстетике. Мы выступаем за культивирование познавательного (а также практического) интереса к многообразию эстетического опыта и за сознательное заострение различий в аналитическом его описании.
Приложение 3. Прошлое как укрытие (старое, старинное, уютное)
Чем больше в доме старых (и старинных) вещей, тем уютнее интерьер. Их присутствие позволяет ощутить связь с историей своей семьи, рода, народа, человечества. Жизнь, которой принадлежит (по «рождению» и «биографии») старая вещь, относится к прошлому. Во многом именно завершенность прошлой жизни, присутствующей в настоящем, делает старую вещь эстетически притягательной. В непринадлежности «текущей минуте» как раз и состоит секрет обаяния старых (а особенно – старинных) вещей. Все свершившееся – совершеннее настоящего и будущего. Старинная вещь – из прошлого, из того, что завершилось. Завершенность делает вещь притягательной, очеловечивает ее. Сами собой вспоминаются пушкинские строки: «Все печально, все пройдет, / Что пройдет, то будет мило».
Старое и старинное следует отличать от переживания прекрасного. Чувство прекрасного, которое издревле относят к вещам совершенным по своей форме[238], соотносимо с переживанием старинкою как совершенного благодаря завершенности. Совершенство старинной вещи воспринимается как свершённость ее бытия, а не как совершенство чувственно-телесного обнаружения ее «чтойности». Вещь может быть обыкновенной по форме, но она являет нам совершенство завершенного времени, времени которое ушло и больше не повторится. Старая (старинная) вещь способна быть привлекательной без признания ее красивой или прекрасной. Но если она красива, то мы, переживая ее как старую, можем в то же время наслаждаться ее красотой.
Старое, прошедшее – «мило». Милое привлекает. Милое любишь не за что-то, а просто так (вспомним пословицу: «Не по хорошу мил, а по милу хорош»). Старые вещи милы как старые, мы ценим их не за удобство, не за уникальность, не за принадлежность известному производителю и т. д., а за то, что они являют частичную (или, в случае со старинным, полную) выключенность из мира подручного и наличного, то есть частично или полностью выведены за скобки «текущей повседневности». Это позволяет им переключать внимание с сиюминутного, текущего, изменчивого на ту «область», где никто не торопится, где царят покой и порядок.
Что касается способности производить впечатление надежности и основательности, то у старых вещей, по сравнению с новыми, есть заметное преимущество: чем дольше пользуются вещью, тем в большей мере на нее можно положиться, поскольку мы довольно точно представляем себе, чего от нее можно ожидать, а чего – нет (дедушкино кресло, возможно, поскрипывает, но мы уверены, что оно не развалится[239]). Годы подтвердили ее надежность. Прошлое не обманывает. Обманывает только будущее.
Старые и старинные – совершенные в своей принадлежности прошлому – вещи защищают от непредсказуемого и амбивалентного будущего. Будущее – это возможность иного (будущее открыто, оно манит как неоглядный простор), но оно непредсказуемо. В конечном счете, будущее открыто эсхатологичности человеческого существования, открыто смертному часу. Прошлое говорит о рождении. Будущее нас и влечет, и пугает одновременно. Оно представляет собой временной аналог пространственной открытости[240], которая может восприниматься и как положительная ценность (простор, приволье, голубая даль), и как «ценность» отрицательная, как то, что подавляет ограниченного в пространстве-времени человека своей бесконечностью, неопределенностью, нагоняет скуку и тоску. Неизвестное будущее открыто для вторжения вредоносного для человека. Огородить его не получится. Это не место, а бесконечное простирание. Негатив будущего – «юр» с его бесприютностью.
Отсутствие на вещи следов времени отдаляет их от человека. Без царапин и вмятин они остаются «чужими» и воспринимается как «не вполне свои». С правовой точки зрения новая вещь, как и старая, – это собственность хозяина, но в экзистенциальном плане новая вещь существует в «ничейной зоне». До поры до времени она остается «продуктом производства», собственностью, которая обладает потребительской и меновой стоимостью, но не вещью, имеющей «биографию»[241] [242] и вошедшей в чью-то жизнь. Новая вещь «безлична», абстрактна, а старая – одушевлена, индивидуализирована[243].
В конечном счете старая-старинная вещь, отсылая нас к своей свершённости-завершённости, отсылает к тому, чего нет как сущего (к Другому). Она позволяет нам пережить далекое как близкое, она есть и не есть, она несовершенна (когда-нибудь исчезнет из мира) и совершенна (как предъявительница прошлого, которое неприступно в своей завершённости), она – что-то (например, старый стол) и она же ни-что (ведь явленное вещью время ускользает от «что»). Но именно переживание «погруженности» во время (ее сознание и переживание) определяет наше самочувствие. Созерцая старую вещь, мы непроизвольно очеловечиваем ее, воспринимая как со-присутствующую с нами.
Старые и старинные вещи выполняют (экзистенциально) функцию аналогичную стенам дома, защищающим место нашего пребывания от непрошеных вторжений извне. В окружении вещей, много лет служивших человеку, его семье, а может быть, и каким-то другим, ему не знакомым людям, он чувствует себя «как за каменной стеной». Старые вещи можно сравнить со стенами, защищающими от непогоды, только выстроены они из сверхпрочного материала – из прошлого. В отделенном от настоящего, укорененном в том, что не подлежит изменению, нам спокойно и уютно… В старом уютном доме мы попадает в пространство, выстроенное из прошлого, в пространство предсказуемости[244]. Не удивительно, что человек в таком месте находит желанный покой.
Приложение 4. Стиль, стилизация, уют
Архитектоника строений и стилистика интерьеров в домах горожан, живших в раннее и высокое Новое время, зависели от смены архитектурных стилей (логика больших стилей не затрагивала жилища крестьянина). Эти стили, хотя и не воспринималась как нечто от века данное (ведь человек мог видеть и сооружения иного стиля), имели своим средоточием, своим истоком общее людям, жившим в одну эпоху, содержание, которое давало человеку барокко или, скажем, человеку классицизма чувство причастности к Целому. Однако в XVII–XVIII столетиях процесс секуляризации общественной жизни зашел так далеко, что духовная органичность (невыдуманность) стиля и связанные с ним эстетические эффекты все чаще дополнялись стремлением к уюту, к обретению гармонии в малом, отделенном от большого мира интерьере частной жизни.
В больших стилях их духовное (дорефлексивное, сверхрациональное) содержание сочетается с рациональным началом. Как в архитектуре, так и в убранстве интерьера ведущую роль играет архитектор, который, следуя стилистическому канону и видоизменяя его в соответствии со своей авторской волей и обстоятельствами, создавал предметную среду в формах, задаваемых большим стилем. Форма, размерность, декор домашнего интерьера определялись стилем, они не зависели от вкуса архитектора или заказчика.
До тех пор, пока организация жилого пространства определялась «логикой стиля», уют как расположение пребывал в зачаточном состоянии. На авансцену общественного внимания он вышел только тогда, когда кризис коснулся стилистической оформленности жизни как таковой. Это был тот момент, когда на смену стилю, утратившему внутреннюю силу и непреложность «для всех и для каждого», не пришел другой, но столь же универсальный стиль. В стилистическом вакууме XIX века уют оказался тем эстетическим эффектом, который компенсировал (отчасти) романтическую тоску по Другому в пространстве частной жизни.
Примерно со второй трети XIX столетия (с упадком стиля ампир) внешняя и внутренняя форма жилища перестала определяться большим стилем[245], а в архитектуре наступила эпоха эклектики и стилизации. Именно в это время в эстетике интерьера становится ощутимой тяга к уюту. XX век делает ставку на промышленную «архитектуру» (функционализм, конструктивизм) и наносит удар по эклектике и стилизации, но этот сдвиг не отразился на тяге к уюту, поскольку универсальность модульных конструкций не имела отношения к стилю, не имела духовно-эстетической содержания.
Стилизующее или бесстильно непритязательное обустройство «домашнего гнеза» из того, что оказалось под рукой (уют), не могло внести в интерьер того сверхиндивидуального содержания, которое нес в себе большой стиль. Чувства соотнесенности с духовным центром мира и переживания гармонии Целого в малом уютный интерьер не давал. Целое с утратой стиля перестало быть данностью, порядок и полнота оказались связаны не со стилистической выстроенностью и духовной содержательностью интерьера (стилизация – в силу своей произвольности, субъективности – уже не могла выполнять функцию преэстетической настройки на Другое), сколько со способностью человека одушевлять, обживать, антропоморфизировать домашнее пространство.
Переживание уюта не связано с обустройством жилища в рамках произвольно выбранного стилистического канона (со стилизацией). Жилое пространство, элементы разных стилей в декоре и мебели, просто «полезные в быту вещи» – все это случайные составляющие, которые могут быть использованы для гармонизации интерьера. Эстетический потенциал уюта как расположения определяется, как было показано выше, организацией интерьера и мерой его обжитости (человек врастает в интерьер, интерьер врастает в человека). Если эстетический эффект, производившийся большим стилем (будь то романский стиль, готика, ренессанс, барокко или классицизм), определялся духовным содержанием эпохи, получавшим выражение в архитектурном стиле (в том числе – в организации интерьера), то уют можно рассматривать как эстетическое обнаружение в сфере повседневности «свободной человечности» в ее} так сказать, камерном исполнении.
Не чувствуя себя связанным никакой высшей инстанцией (ни космическим Умом и Логосом, ни Богом-Творцом и Искупителем, ни философским Богом Декарта, Спинозы, Маль-бранша или Лейбница), человек позднего модерна оставлен на самого себя. На первый план для него выходит организация интерьера не в соответствии с миропорядком, а в соответствии с собственным телесно-душевным строем. Человек теперь исходит из того, что порядок, красота, гармония, благополучие в осваиваемой им части мироздания имеют место в той мере, в какой они вносятся в нее человеком. На смену надындивидуальному единству стиля приходит тихое свечение уютного, очеловеченного интерьера. Уют соразмерен отдельному человеку, малой семье и с ними сообразуется, их жизнью создается.
Чувство уюта, вышедшее на первый план с закатом эпохи больших стилей, – это переживание локально сложившейся человекоразмерной цельности внутреннего пространства и переживающего его человека. Гармония и покой в душе сопряжены здесь с обжитостью, очеловеченностью интерьера. Уютное место не просто отгорожено от вторжения хаоса, не просто упорядочено и приведено в со-ответствие с человеческой телесностью, но еще и одушевлено, очеловечено.
Домашнее пространство эпохи больших стилей сочетало в себе надындивидуальное содержание (то Целое, к которому был приобщен индивид) и бытовую, локально нажитую содержательность семейной и частной жизни. Только после разрушения трансперсонального («соборного») единства, эстетической формой которого был большой стиль, уют вышел из тени и привлек к себе внимание. Так единство человека и мира в домашнем пространстве на какое-то время становится широко распространенным эстетическим феноменом.
В полной мере специфику уюта как эстетического расположения мы можем осознать только теперь, когда она оказалась под вопросом, когда уют становится редким опытом. В эпоху «сверхскоростей» уютное расположение, предполагающее труднодоступные сегодня неспешность, неторопливость, постоянство, вытесняется комфортом. Комфорт относится к уюту примерно так же, как стилизация относится к стилю. Стиль органичен, стилизация рациональна, связана с осознанным выбором субъекта, частного лица. Стилизация – это рациональное воспроизведение стиля, а комфорт – рациональная организация необжитого помещения, обеспечивающая удобство пользования им. При этом проводники комфорта стремятся удержать за комфортом положительные коннотации, сопровождающие наше представление об уюте.
Приложение 5. Комфорт как кукла уюта
Агенты строительной и мебельной индустрии, фирмы, работающие на рынке дизайнерских услуг, нередко отождествляют уют с комфортом и способствуют размыванию их еще ощутимого на языковом уровне различия.
Рекламные щиты, паразитирующие на шлейфе чувственных и семантических ассоциаций, связанных с уютом, соединяют его с комфортом так, как если бы это были синонимы: «уют и комфорт в вашем доме», «все для уюта и комфорта» и т. д. Но комфорт, выдающий себя за уют, столь же далек от подлинного уюта, как стилизация от стиля. Стилизация воспроизводит внешнюю форму стиля: за формой, повторенной стилизатором, не стоит того духовного содержания, которым жив стиль. Стилизация рефлексивна, лишена онтологической непреложности, она отражает вкусовые предпочтения заказчика или архитектора. Стилизация выдает себя за стиль. Стилизацию могут принять за стиль только не искушенные в архитектуре люди.
Подобно ей, и комфорт (если сопоставить его с уютом) рационален, умышлен и, по сравнению с уютом, «бесчеловечен» (дегуманизирован), хотя и стремится к очеловеченности, что выражается в желании проектировщика учесть, по возможности, запросы, предъявляемые к жилищу его хозяином. Но как стилизация не способна заменить собой стиль, так и комфорт не способен заменить уют. То, что рождается, возникает со временем, что само собой появляется (органическое) не может быть рационально организовано и собрано так, как собирают модель дома. Комфорт (и в рамках рекламно-языковых игр, и в жизненной практике) не просто замещает (заменяет собой) уют, но и выдает себя за «то же самое», но только более «продвинутое», современное, его отношение к уюту можно определить как подмену. Пытаясь найти подходящую метафору, которая могла бы удержать подмену уюта комфортом, мы остановились на слове «кукла». Комфорт – это кукла уюта.
В своем исходном значении кукла отсылает к детской игрушке, то есть к изготовленной для игры маленькой модели человека или животного. Кукла – подобие живого существа (игрушечную машину, мебель, инструмент куклой не называют). Ее особенность (и, в первую очередь, особенность мастерски изготовленной реалистической игрушки) в том, что она похожа на настоящего человека, более того, пропорции кукольного человечка могут быть даже более совершенными, чем у живых людей.
Сама по себе кукла не вызывает отрицательных эмоций и реакции отторжения. Когда она сделана мастерски, мы, взрослые, восхищаемся ей как произведением декоративно-прикладного искусства. Ведь детская кукла (игрушка) и не пытается скрыть от нас того, что она – только кукла, модель человека, его имитация. Величина, неподвижность, материал, из которого она создана, не позволяют принять ее за настоящего человека. Она «оживает» благодаря детскому воображению.
Все меняется, если мы имеем дело с такой имитацией, которая скрывает, что она не есть то, что изображает. Так происходит, в частности, когда кукла изготавливается с прицелом на обман восприятия. Манекен (большая кукла утилитарного назначения) также ни у кого не вызывает отторжения (манекен имитирует человека откровенно, не пытаясь приблизиться к оригиналу), но если создатели подобия стремятся к точному и натуралистичному воспроизведению конкретного человека («музей восковых фигур»), то восковой (или какой-то еще) истукан вполне может вызывать страх и реакцию отторжения. Причем реакция отшатывания от восковой куклы будет тем сильнее, чем лучше она сделана. Почему возникает отшатывание? Потому что мертвое выдает себя за живое, искусственное за рожденное природой. Свои негативные коннотации кукла приобретает именно тогда, когда она выдает себя за человека.
Отсюда и негативная коннотация «кукольности» как эпитета, используемого в описании человека. Так, к примеру, выражения «кукольное лицо», «кукольная красота»[246] используются для оценки внешности человека, которая вроде бы и хороша, и гармонична, но имеет в себе что-то отталкивающее. Неприятное «что-то» в кукольных лицах – это сочетание правильности черт с отсутствием выражения, с невыявленностью внутреннего. Такие лица (и тела в целом) не освещены изнутри, они не просто невыразительны (так можно высказаться об обычных, «усредненных» лицах), они лишены выражения, это неодушевленные, пустые лица[247].
Метафора куклы хороша и в том отношении, что кукольность ассоциируется не только с неживым, сделанным, но и с правильностью, с рациональной выверенностью внешних форм: кукольные лица формально могут полностью отвечать представлениям о красоте, гармонии, женственности и т. д., но они неодушевлены и неодухотворены, что и вносит в созерцание диссонанс: перед нами все же живой человек, а не скульптура[248]!
В той мере, в какой комфортный интерьер пытаются выдать за уютный, мы имеем дело с его «восковой куклой». В том случае, если этого не делают, он может быть назван куклой уюта в значении, близком к кукле-манекену. Одежда на манекене сидит лучше, чем на живом человеке, но от этого манекен никто не принимает за человека. Комфортный интерьер может быть удобнее уютного, но от этого уютным он не становится.
Если комфорт рассматривать безотносительно к уюту, то метафора куклы работать уже не будет. Хорошо подогнанное к человеку и отвечающее на его житейские запросы, но необжитое, неодушевленное, не индивидуализированное помещение это и есть комфортное жилище. И только настойчивые попытки выдать комфорт за уют дают основание для того, чтобы говорить о его кукле[249].
Заключение
Эстетика Другого расширяет поле эстетического анализа и позволяет выявить, описать и истолковать новые для эстетической теории феномены. Один из результатов исследования эстетического опыта в методологических координатах эстетики Другого – конституирование эстетики возможности (эстетики существования) и аналитическое описание двух ее важнейших регионов – пространства и времени. Подводя итоги обследованию эстетики пространства, следует обрисовать положение, занимаемое ей на общей карте эстетических расположений[250]. Краткий обзор выполненных на данный момент исследований эстетических феноменов, позволит оценить перспективу дальнейших шагов по описанию эстетического опыта в концептуальном горизонте эстетики Другого. Однако прежде чем приступить к такому обзору, стоит еще раз остановиться на тех изменениях в культурном и интеллектуальном климате Европы, без которых ни эстетика Другого, ни эстетика пространства были бы невозможны.
От эстетики сущности к эстетике существования.
В человеческом опыте есть переживания, связанные с восприятием различных форм пространства и времени. К такому опыту можно, в частности, отнести переживание старого, ветхого, юного, молодого, мимолетного, а также простора и выси, дали и пропасти, уютных и торжественных мест и т. д. Понять, что делает такой опыт ценным, используя возможности, предоставляемые нам религиозным, этическим, утилитарно-прагматическим, когнитивным, политическим и др. дискурсивными практиками, не удается. Сделать это под силу философской эстетике (неотделимой в своих началах от онтологии, философской антропологии, философии культуры…).
Ветхие и старые вещи, простор и даль – это предметы созерцания, привлекающие нас сами по себе. Это опыт, который напрашивается на осмысление философской эстетикой. Однако старая эстетика – в полном соответствии с классической настройкой концептуальной оптики – не вычленяла его из аморфного массива «чувственного опыта». Особенность классической оптики состоит в том, что тот, кто ей пользуется, обращает внимание преимущественно на красивое, прекрасное, изящное и т. д., так что особенных чувств и форм, которые не вписываются в этот понятийный горизонт, теоретик просто не замечает. Подобно тому, как магнит «обращает внимание» только на железо и игнорирует материалы иной природы, «намагниченный» классической традицией взгляд из множества модусов чувственного опыта отбирает только комплементарные ему, то есть более или менее соответствующие ожиданиям, сформированным традицией.
Эстетика прекрасного – эстетика эссенциалистская, фокусирующая свое внимание на телах в их сияющем акме, на явленной во плоти чтойности. Когда в центре внимания оказывается простор или пропасть, ветхое или юное (а такое в жизни случается), на первый план выходит не чтойность («что это?»), а та или иная модификация ни-что, не сущее, а его существование, то, как оно есть. Когда предметом восприятия оказываются формы присутствия сущего (пространство и время) в том или ином из своих модусов, то тем, что переживается (особенным), будет уже не образ явленного совершенства вещи, а тот или иной модус возможности присутствия, становления, трансцендирования.
Если в созерцании прекрасного обнаруживается (и утверждается) мир как завершенное целое (мир, в котором сущность предшествует существованию), то в созерцании ветхого или юного, выси или пропасти «предметом» переживания оказывается само бытие «в» мире (открытость) как возможность занять/сменить место. Другое в эстетике пространства и времени – это, собственно, возможность (или невозможность) быть иным, данная в особенном переживании, это мир, в котором сущности предшествует существование. В расположениях, событийным центром которых оказываются модусы чувственной данности пространства и времени, переживается сама наша способность желать и мочь как способность децентрированного (экстатического) существа.
Первым значительным шагом по направлению к эстетике, в которой акцентируется существование, а не сущность, стало выдвижение на авансцену эстетической мысли понятия возвышенного. Чувство возвышенного (по Канту) имеет отношение не к форме (прекрасное), а к свободе. К сожалению, новых шагов в том же направлении не последовало.
Для того чтобы включить анализ феноменов пространства и времени в эстетическую «повестку дня», необходима теория, которую интересует не только то, что есть, но и то, что возможно (или невозможно). Эстетика, способная артикулировать переживание разных модусов пространства и времени, выходит за границы теории, сфокусированной на восприятии вещей как совершенных и завершенных. Центральным понятием новой эстетики становится не понятие прекрасного, а понятие Другого (безусловно особенного, принимающего в разных эстетических расположениях разные образы: образы Бытия, Небытия, Времени и др.) как того, чья чувственная данность придает воспринимаемому и воспринимающему эстетическое достоинство. Данность Другого в восприятии прекрасных форм и в восприятии различных форм пространства и времени – это то, что конституирует чувственный опыт в качестве эстетического.
Секуляризация культуры, децентрация субъекта и смещение эстетической чувствительности. Сдвиг от эстетики прекрасного к эстетике существования (к эстетике возможности) обусловлен переходом от традиционного общества к обществу модерна, а затем – постмодерна. Концептуализация эстетического опыта по ту сторону оппозиции прекрасное-безобразное была подготовлена именно этой социокультурной трансформацией.
Сдвиг от эстетики чтойности (эстетики предметной формы) к эстетике возможности первоначально обнаруживается в новых темах и жанровых формах искусства. Существо перехода к обществу модерна состояло в постепенном разрушении геоцентрической модели миропонимания и ее замене на модель антропоцентрическую. В центре внимания второй модели (с момента, когда она достигла зрелости) находятся становящийся, открытый мир и свободный, самоутверждающийся субъект. Этот переход был длительным, постепенным и занял несколько столетий. Если не фиксировать внимание на отдельных этапах этого процесса, а указать на его логику (многократно описанную в литературе), то она состоит в движении от сущности к существованию, от гетерономии к автономии, от означаемого к означающему, от этических регуляторов этоса к его эстетическим регуляторам[251].
В рамках космо- и геоцентрической парадигмы Другое, Смысл, Бог предшествуют субъекту, порождают/творят его и определяют формы и цель его существования. Сущность предшествует существованию и мыслится как данная человеку правящей трансценденцией. Эта модель требовательна к человеку, она жестко определяет его этос. Цель и смысл человеческой жизни в этой парадигме устанавливаются Другим: в данном случае не важно, будет ли Им умный и вечный Космос (античность), или же Творец и Создатель мира (хотя в иной перспективе это отличие имеет принципиальное значение).
Соответственно, в эстетическом восприятии и в художественно-эстетической деятельности этого времени центральное место занимает предметность, демонстрирующая завершенность и совершенство (тело, целое, порядок, мир). В фокусе внимания находится прекрасная форма как эстетический коррелят завершенного мира. Культивирование прекрасного соответствует миру, в котором жил человек Традиции (мир как разумно устроенное и неизменное в своих началах Целое). Безобразное в этой парадигме рассматривалось как нарушение нормы, как отступление от миропорядка и искажение стройной иерархии сущностей силами хаоса, оно было негативным коррелятом прекрасного и целиком от него зависело.
Утверждение за человеком права на выбор, на само-определение, на избрание веры, на ту или иную модель миропонимания (свобода совести, свобода мысли) дестабилизировало Другое. Существование Бога, конкретизация Его образа и учения в рамках церковной доктрины (Свящ. Писание в единстве с Преданием) перестали быть чем-то само собой разумеющимся для носителей Традиции. Традиция была поколеблена. Религиозная вера оказалась зависимой от религиозного и жизненного опыта человека как частного лица и от его личного выбора. Мир – со временем – утратил определенность-завершенность и оказался во власти неопределенности, стал тем, что манит и пугает одновременно. Желанный образ человека перестал быть самоочевидным[252]. На первый план вышел поиск человеком своей сущности. Чаемый образ надлежало найти и попытаться реализовать его на практике, в жизни.
Описанный выше поворот от завершенности к незавершенности, от «что» к «как», от сущности к существованию, от подражания данному к экспериментированию и перформативности напрямую связан с перенастройкой человеческой чувствительности. В ситуации отсутствия Целого (и, соответственно, Смысла) и необходимости его индивидуального – на свой страх и риск – поиска возрастала чувствительность к тем предметам восприятия, чья данность сопряжена с переживанием разных модусов возможности. Если ни «я», ни «мир» не определены, если они требуют доопределения человеком, тогда возможность вести поиск приобретает особую ценность. Чувствительность к такой возможности формирует экзистенциальный и культурный запрос на эстетику существования (или, иначе, эстетику возможности).
Человеку, лишившемуся опоры в трансцендентном (а сам для себя он опорой быть не может, для себя он не более чем возможность себя как такого-то-вот человека) – хочет он того или нет, – приходится самому ставить вопрос о жизненной цели, а стало быть, решать вопрос о Целом (о мире и о том месте, которое он в нем занимает). Искомый образ «я» связан с тем, как этот вопрос решается. До тех пор, пока он не решен, человек пребывает в состоянии поиска или занимает себя чем-то, что способно заполнить образовавшуюся (в отсутствии Целого) пустоту.
Возможность двигаться, меняться – только это и остается человеку в ситуации смысловой неопределенности. Это то, что дает надежду стать самим собой («стань тем, кто ты есть»). Чем меньше у человека определенности в представлениях о мире и о том, к чему должно стремиться, на кого (на что) ориентироваться, тем больше усилий требуется приложить для упорядочения своей жизни и наполнения ее содержанием (ищут желаемое, а самым желанным оказывается желание). Новую (секулярную) культуру определяет движение как возможность поиска Цели, то есть того, в отношении к чему (в движении к чему) «я» может определиться. Экзистенциальную значимость приобретает возможность продолжить движение и во временном, и в пространственном измерениях. Движение, выбор, перемена места пролонгируют надежду на встречу с тем, с кем (с чем) можно (перед лицом собственной конечности) соотнести свое «я», обрести экзистенциальную опору, пребыть, стать.
Так обстояло дело примерно до второй половины XX века. В современную эпоху возможность замкнулась сама на себя. Теперь возможность, точнее, ее полнота, стала базовой ценностью, подлежащей охранению. Большинство (в том числе и креативное большинство) уже не надеется найти себя в отношении к Целому и даже принимает за аксиому нежелательность такого стремления: соотнесенность с Целым (и с Целью), полагают глашатаи нового мира (мира без абсолюта и абсолютных целей), делает человека догматичным и непримиримым в отстаивании того, что для него свято. Обретение Целого, готовность ответить на требования Другого превращает людей в фанатиков, подрывает основы гуманизма, ставит под вопрос гуманистическую максиму: человек есть высшая ценность. В отказе от поиска Целого (или, во всяком случае, в скептическом к нему отношении) как определяющем настроении не только «думающего меньшинства», но и широких народных масс обнаруживается главное, на наш взгляд, отличие зрелого модерна от модерна позднего.
Положение, в котором оказался человек Нового времени, разделяет сегодня, волей-неволей, не только общественная элита, но и основная масса населения Западного мира (включая и Россию как особую его часть). Оставляя в стороне последствия разрушения метафизической вертикали, вокруг которой веками выстраивалась жизнь христианского (а до него – античного, космоцентричного) мира, скажем о значении смены парадигм (поворота от сущности к существованию, от ставшего к становлению) для конфигурации эстетической чувствительности.
Осмысление эстетической чувствительности в этой ситуации – насущная задача наших дней. Одна из форм ее решения – рассмотрение вопроса о том, как возможна (в дополнение к эстетике сущности) эстетика возможности (эстетика существования).
Пространство и время на карте эстетических расположений (итоги и перспективы). Описание и анализ эстетических расположений нацеливают на выявление особых, присущих тому или иному эстетическому феномену онтических и онтологических характеристик[253]. Концептуализация эстетического опыта привела нас к необходимости сделать следующие базовые разграничения: 1) отделить утверждающие Присутствие (Dasein) расположения от расположений отвергающих, 2) отделить расположения, эстетическим центром которых оказываются вещи, взятые со стороны их формы (их «чтойности»), от расположений, центрированных на существовании, на «так оно есть» Присутствия. Эстетическое «так оно есть» (расположенность Dasein) дает о себе знать в вовлеченности человека а) в созерцание временных модусов бытования вещей (с их «давно» и «сейчас», с их «потом», «скоро», «снова» и т. д.)[254] и б) мест и направлений пространства, воспринятых как возможность где-то быть (пребывать) и куда-то перемещаться (быть в другом месте).
От расположений, связанных с созерцанием формы вещей, следует отделять и такие расположения, в которых внимание сфокусировано не на пространстве/времени, а на статической (маленькое, большое, величественное, затерянное) или динамической величине (силе) как явленной мощи/немощи («динамически возвышенное» по Канту). Эти расположения имеют своим предметом количество в статическом (величина) или динамическом его аспектах. С идеи «возвышенного» начинается предыстория постклассической эстетики.
Если бросить ретроспективный взгляд на карту эстетических расположений в том виде, который она приобрела к настоящему времени, следует признать, что эта карта остается фрагментарной. На ней много «белых пятен», а границы нанесенных на нее регионов эстетического опыта нуждаются в уточнении.
Начнем краткий обзор уже нанесенных на концептуальную карту расположений с феноменов эстетики отвержения. Эта область эстетического опыта (весьма чувствительная для художественных практик последнего столетия, хотя и недостаточно продуманная теоретически) была исследована достаточно подробно. Важнейшие расположения, в которых человек встречается с Другим в модусах Небытия или Ничто, описаны в «Эстетике Другого» (2000, 2008). Это, в частности, такие отвергающие расположения, как безобразное и уродливое, ужасное и страшное (эстетика Небытия), тоска и скука (эстетика Ничто).
Что касается эстетики утверждения (встречи с Другим в модусе Бытия), то в изучении данной области опыта продвинуться удалось не слишком далеко. К этой эстетике относятся разнородные эстетические феномены. Утверждающий эстетический опыт в целом богаче отвергающего. Отличие утверждающих расположений от отвергающих – это различие по онтологической конституции. Для вычленения и изучения отдельных областей опыта и конкретных эстетических расположений в рамках эстетики утверждения этого недостаточно. Многообразие эстетического связано не только с тем, в каких онтологических модусах открывается Другое, но и с тем, в каких разнообразных предметно-пространственных средах и ситуациях это происходит.
Если различие эстетических событий по онтологическому модусу имеет универсальный характер, то предметный профиль эстетических расположений заметно меняется в зависимости от обстоятельств. Какие-то расположения широко распространены (и артикулированы в языке) на протяжении долгого времени, какие-то встречаются реже и становятся актуальными в определенный исторический период и на какое-то время.
Анализ эстетической расположенности предполагает не только выявление ее онтологической конституции, но и анализ онтической составляющей расположения (поскольку способ данности Другого зависит от «где», «в чем» и «как»). Эстетические события разно-образны. В силовом поле события наше восприятие может фокусироваться или на сущности, или на возможности, причем сущность и возможность в разных ситуациях будут обнаруживать себя по-разному. Важно исследовать, как именно являет себя Другое: через созерцание чтойности вещи или через тот или иной модус возможности/невозможности иного?
На данный момент выделены расположения, чья специфика определяется или через форму тела (эстетика формы), или через величину, или через силу (мощь), или через форму пространства, или через тела, являющие время.
Эстетика формы включает в себя феномены красивого и прекрасного, уродливого и безобразного. В классической эстетике прекрасное и красивое – основной предмет внимания. Именно поэтому мы не исследовали их специально, останавливаясь на этих феноменах по ходу анализа безобразного, уродливого и других эстетических расположений[255].
Что касается эстетики величин, то здесь мы выделяем расположения маленького, большого, величественного, затерянного. Феномены маленького и затерянного были исследованы нами в общих чертах[256]. Если говорить об эстетике силы (о динамически проявленной мощи)[257], то эстетические расположения этого типа нами не изучались. На данный момент можно утверждать только то, что в этот регион эстетического опыта войдет феномен, который Кант определил как «динамически возвышенное».
В расположениях эстетики величины и эстетики силы мы имеем дело не с сущностью и не со способностью/неспособностью схватывать-понимать ее, а с таким Присутствием, которое предполагает чувствительность неклассического типа. Когда в центре внимания оказываются величина или сила, то их восприятие связано с переживанием ограниченности (условности) существования воспринимающего (ведь и огромное, и маленькое, и мощное акцентируют, делают ощутимой ограниченность существования), а последнее – с актуализацией сверхчувственного, Другого как инстанции, причастность которой делает возможным осознание человеком собственной ограниченности (такое понимание встречи с тем, что переживается как возвышенное, предложил Кант, и нет оснований от него отказываться).
Перейдем теперь к обзору исследований, проведенных в области эстетики времени, где особенное кристаллизуется через моделировку (или, резче, де-формацию) вещей как выразителей времени, и исследований различных форм (образов, модусов) пространства как образов возможного пребывания/ перемещения.
Время на карте эстетического опыта. Расположения эстетики времени распадаются на два онтолого-эстетических уровня: на первом уровне Другое (как Время) дано безусловно, на втором – условно. К безусловной эстетике времени можно отнести эстетику ветхого, юного и мимолетного. Время здесь открывается как Время, как то, что задает онтологическую дистанцию (утверждает структуру Присутствия как Другого-в-мире). Все временное (сущее) присутствует в открытости, и открыто оно Временем как Другим всему «временному». Когда мы воспринимаем особенное вещи как ветхость, юность или мимолетность, мы имеем дело с переживанием ее и, соответственно, нашего существования в горизонте вопросов: «давно ли она существует?», «что для нее возможно?», «долго ли еще ей присутствовать?» и т. и. Вопросы такого рода группируются вокруг «как», а не вокруг «что». Возможность здесь (в расположениях эстетики времени) – это возможность присутствовать или отсутствовать, которая может быть актуализирована самыми разными способами. Темпорализация вещи в акте эстетического восприятия акцентирует внимание на ее (и созерцателя) существовании и позволяет пережить временное качество ее присутствия, а через него – само Время. На данный момент на карту эстетических расположений нанесены такие феномены эстетики времени, как старое, ветхое, юное, молодое, мимолетное.
Условная эстетика времени включает в себя феномены линейного (молодое/новое, зрелое, старое) и циклического времени (зима, весна, лето, осень и т. д.). Время здесь – это предикат сущего (сущее дано в «таком-то-вот» времени): книга старая, а не новая, вечернее солнце – ласковое, а полуденное – знойное. Онтологическая дистанция «дает о себе знать» и здесь, но дистанцирующее – Время, Бытие – не находится в фокусе внимания.
Расположения линейной эстетики времени специально нами не рассматривались. Они были выделены и описаны по ходу исследования безусловных расположений (ветхого и юного). Их рассмотрение носило «вспомогательный» характер. Существенные сложности связаны с вычленением и анализом зрелого как феномена линейного времени. Зрелость растворяется – эстетически – в красивом и прекрасном.
Эстетика циклического времени намечена в «Эстетике Другого» (2000, 2008) как особая область эстетического анализа и предполагает конкретизацию до уровня аналитического описания конкретных эстетических феноменов. В деталях она нами не разрабатывалась.
Пространство на карте эстетического опыта. К расположениям эстетики пространства мы относим места (ландшафты, интерьеры) и направления (простор, просторное, даль, пропасть, бездна, высь, высота). Воспринимая особенное в образах простора, выси или пропасти и переживая особенные чувства, мы имеем дело с чувством существования. В созерцании направления пространства мы набрасываем себя на возможность или невозможность перемещения. Возможность изменить жизнь предполагает определенные движения тела, меняющие наше положение в пространстве (наше «где»). В каждом из расположений эстетики направлений человек имеет дело с тем или иным модусом простирания как условием своего существования (быть, присутствовать – значит находить себя «в» и иметь возможность перемещаться в каком-то направлении).
Когда мы эстетически воспринимаем место, будь то пейзаж или уютный, торжественный, etc. интерьер, мы переживаем возможность или невозможность присутствовать в границах определенного топоса и имеем дело с разными модусами этой возможности.
Эстетика направлений на данный момент проработана нами подробнее, чем эстетики места. Впрочем, разные направления описаны с разной степенью конкретизации. Наиболее подробно исследован феномен простора. За простором, по степени аналитической проработанности, следует пропасть. Что касается аналитики выси, то здесь мы пока имеем только ее общую онтолого-эстетическую характеристику. При этом на эстетическую карту были нанесены также условные расположения эстетики направлений (даль, высота, просторное). Причем эстетический профиль просторного был только слегка намечен и нуждается в дальнейшей проработке.
По сравнению с эстетикой направлений феномены эстетики места исследованы хуже. Расположения эстетики ландшафта (местности) нами не изучались. Лучше обстоит дело с обследованием феноменов эстетики интерьера. Один из них – уют – описан достаточной подробно. Другой – торжественный интерьер – получил общую характеристику; его концептуальный образ нуждается в уточнении. И уют, и торжественное помещение мы относим к условной эстетике Другого.
Эстетика пространства и времени в современном мире. Разметка концептуальной карты эстетики пространства и времени представляется нам актуальной исследовательской задачей, которая имеет еще и практическое измерение. При всей созвучности эстетики пространства современной социальнокультурной ситуации, эстетические феномены этой группы становятся все менее доступными.
Нарастание скорости движения во всех сферах жизни (социальные трансформации, сфера производства и потребления, обновление информации, формы общения и образ жизни и т. д.) создает, с одной стороны, эффект свертывания («сжатия») пространства и времени до точки «здесь» и «теперь», с другой стороны, перманентная активность и загруженность, занятость субъекта разнообразным содержанием пресекают саму возможность «погрузиться в созерцание» (остановиться в «здесь» и «теперь»). На высоких скоростях пространство перестает восприниматься как простирание, а место – как место пребывания[258]. Время – вслед за пространством – катастрофически сжимается (наглядный образ такого сжатия – одноразовые вещи). Слипание времен приводит к постепенному отмиранию чувства сопричастности к прошлому и будущему (то, что было 20 лет назад, – это «другая жизнь», а то, что с нами будет через десять лет, трудно представить).
Из широко распространенного эстетического опыта феномены эстетики пространства и времени превращаются в редкий опыт. В ситуации, когда эстетическая восприимчивость человека Нового времени к становлению оказалась под вопросом, самое время заняться осмыслением ее философско-теоретических и жизненно-практических измерений. Трудно сомневаться в том, что работа понимания – необходимое условие возникновения практик, нацеленных на сохранение в нашем опыте старых и новых эстетических расположений.
Примечания
1
Развитие данной области эстетических исследований связано с именами П. Флоренского, М. Хайдеггера, О. Шпенглера, М. Бахтина, М. Мерло-Понти, X. Ортега-и-Гассета и др. Подробное рассмотрение истории изучения художественного пространства в философии XX века можно найти в кандидатской диссертации И. П. Никитиной («Художественное пространство как предмет философско-эстетического анализа». М., 2003).
(обратно)2
Проблематике пространства в отечественной эстетике посвящена, насколько нам известно, только одна работа. Это кандидатская диссертация А. А. Журавлевой «Эстетика пространства» (СПб., 2005). К сожалению, в работе Журавлевой тематизируется не столькоэстетикапространства (автор диссертации понимает эстетическое предельно широко, по сути – отождествляет его с чувственным восприятием как таковым), сколько культурно и социально обусловленные трансформации еговосприятия. Основным поставщиком материала для анализа эстетики пространства в этой работе оказывается искусство (причем А. А. Журавлева в основном ограничивается материалом русского искусства). И хотя по своему содержанию данное исследование остается вполне традиционным, поддержки и внимания заслуживает сам почин, сама попытка рассмотреть пространство в концептуальном горизонте философской эстетики. Эта попытка свидетельствует о готовности академического сообщества к эстетической легитимации проблематики пространства по ту сторону философии искусства.
(обратно)3
Достичь состояния безмыслия, покоя, освободить сознание от предметного содержания совсем не просто. В любом случае, свобода от него – не данность, а результат духовной работы.
(обратно)4
Лишаев С. А. Эстетика Другого. Самара: Самар, гуманит. академ., 2000; 2-е изд. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008.Лишаев С. А. Эстетика Другого: эстетическое расположение и деятельность. Самара: Самар, гуманит. академ., 2003; 2-е изд. СПб.: Алетейя, 2012. (Приводимые в тексте ссылки на эти работы даются по их второму изданию.)
(обратно)5
Подробнее о концепте «эстетическое расположение» см.:Лишаев С. А. Эстетика Другого. С. 33–60.
(обратно)6
См.:Лишаев С. А. Эстетика Другого. С. 125–182;Лишаев С. А.Старое и ветхое (Опыт философского истолкования). СПб., Алетейя, 2010. С. 5–166.
(обратно)7
Осознание необходимости отделения эстетики тела от эстетики пространства возникло по ходу работы над описанием феноменов уюта и простора. См.:Лишаев С. А.Феноменология уютного. Часть I // Mixtura verborum’ 2004: пространство симпозиона. Самара, 2004.Он же.Феноменология уютного. Часть II. // Mixtura verborum’ 2005: тело, смысл, субъект. Самара, 2005.Он же.Эстетика простора (Простота, пустота, чистота, воля) // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2007. №. 2.Он же.К пространственной эстетике Санкт-Петербурга (метафизика простора и порядка) // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2008. №. 2 (3).
(обратно)8
Грант РГНФ № 10-03-00472а. Результаты трехгодичного исследования были опубликованы в цикле статей, использованных при написании монографии: От тела к пространству: данность и возможность в эстетическом опыте // Mixtura verbomm’2010: тело и слово. Философский ежегодник. – Самар, гуманит. акад. – Самара, 2010. С. 78— 101; Уютное место (феномен уюта в эстетике пространства) //Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Серия «Философия». 2010. № 4. Том 2. С. 144–153; Пространство простора // Вестник Самарской гуманитарной академии. «Серия
Философия. Филология». №. 2. 2010. С.50–69; Любовь к дальнему (эстетика дали в кратком изложении) // Международный журнал исследований культуры. Выпуск 2. Свое и Чужое в культуре. СПб., № 1 (2) 2011. URL: -issue; Эстетика пространства в культурно-историческом и экзистенциальном контексте // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2011, № 1 (9). С. 52–70; Сверху вниз (пропасть как эстетическое расположение) // Mixtura verbomm’2011: Метафизика старого и нового. Философский ежегодник. – Самар, гуманит. акад. – Самара, 2011. С. 137–170; Феноменология выси // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Научный журнал. Серия «Философия». 2011. № 4. Том 2. С. 123–133; Чувство высоты: сложность «простого» // Вестник Самарской гуманитарной академии. «Философия. Филология». 2012, № 1. С. 3—15.
(обратно)9
Человек меняется со временем, и эти изменения трансформируют его восприимчивость. Одни переживания отодвигаются на задний план, другие выдвигаются на авансцену душевной жизни, находят выражение в языке, обсуждаются, получают «права гражданства». Что-то подобное происходит, когда человек взрослеет. Многие из переживаний взрослых детям чужды и непонятны. Аналогичным образом и взрослому человеку нелегко войти в положение ребенка. По мере взросления и обогащения новым опытом маленький человек подводит этот опыт под слово, которое он уже знает, но которое прежде было для него «пустым звуком» (точнее, пустым означающим). В жизни культуры происходит что-то похожее, с той лишь разницей, что подходящее слово для нового (не включенного в тезаурус культуры) опыта в ней отсутствует. Какое-то время немое чувство, лишенное возможности выйти на свет Божий, требует слова и вызывает беспокойство у носителя неназванного (немого) переживания. Напряжение между опытом и его немотой, невысказанностью приводит к тому, что в какой-то момент чувство обретает голос. Это событие сопровождается или возникновением нового слова (неологизмы), или заимствованием из другого языка, или наделением старого слова новым значением.
(обратно)10
Революция – это катастрофический выход «на поверхность» внутреннего напряжения, долго копившегося «на глубине», выход, который видимым образом изменяет «порядок вещей». Именно это «на глубине» и интересует нас прежде всего.
(обратно)11
Лишаев С. А.Эстетика Другого;Лишаев С. А.Эстетика Другого: эстетическое расположение и деятельность.
(обратно)12
Человеку традиционного общества важно было идентифицировать себя с родом, сословием, мифом, верой, с определенной местностью, чтобы затем, по ходу жизни, занять подобающее (по рождению) место и суметь удержать его за собой.
(обратно)13
При этом на уровне низового, сказочно-магического сознания эстетическое восприятие по-прежнему находилось под воздействием идеала ладности: дом, человек, животное, домашняя утварь, etc. воспринимались и оценивались прежде всего по тому, насколько гармонично были сложены их земные, зримые образы.
(обратно)14
Христианство не отвергает телесной красоты. Оно меняет представление о ней. Для христианской культуры Средневековья подлинную красоту являет преображенное, одухотворенное тело. Поврежденное грехом тело смертного – несовершенно. Подлинно прекрасны Христос, Богородица, апостолы… Все, кому удалось приблизиться в своей жизни к Образу Божию. Средневековый канон ориентировал художника на изображение одухотворенных, преображенных свыше тел и лиц (лики, а не лица).
(обратно)15
В отличие от древнегреческой пластики, возрожденное Ренессансом тело предстает перед зрителем не как родовое тело, а как индивидуализированное, эмоциональное, являющее внутреннюю, душевную жизнь.
(обратно)16
На смену социальной иерархии, базировавшейся на представлении о завершенном и хорошо структурированном мире, где разные по своей природе вещи занимают соответствующие их природе места, приходит упрощенная (и более подвижная), основанная на количественных параметрах иерархия денег. Такая иерархия покоится на представлении о равенстве людей. Принцип формального равенства не исключает, однако, представления о том, что способности у людей разные, что они ставят перед собой разные цели, что они в разной мере способны к самоорганизации и, соответственно, занимают в обществе разные места. Различие занимаемых людьми мест определяется уже не «породой», а тем, сколько человек заработал денег. Универсальным измерителем человеческих качеств оказываются деньги. Впрочем, социалистическое движение в Европе ставило перед собой более радикальную задачу: установить не только политическое, но и социальное равенство. Чем закончилась эта попытка – всем хорошо известно.
(обратно)17
Переход в такое место, где земное соприкасается с небесным, признавался законным правом любого человека. Монастырь – это место отказа человека от земного места ради Царства Небесного.
(обратно)18
То, что настоящее – это испорченное прошлое, было для традиционной культуры чем-то само собой разумеющимся.
(обратно)19
Чуда можно ждать, но его нельзя вывести из прошлой жизни в качестве законного продолжения этой жизни. На чудо нельзя рассчитывать, им нельзя управлять, его нельзя «планировать».
(обратно)20
При этом не следует забывать о том, что в Средние века и в раннее Новое время (примерно до конца XVIII – начала XIX века) бок о бок с линейным временем продолжало существовать и часто доминировало в обыденном сознании циклическое время природного кругооборота (время крестьянина).
(обратно)21
Следует отметить, что после Гегеля философы не сразу оставили мечты о триумфальном завершении исторического развития. В мышлении критиков гегелевского панлогизма идея конца истории получила новую жизнь. Коммунистическая утопия была не чем иным, как проброшенной в будущее гегелевской логикой тождества, логикой Целого. Постмодернистский поворот в европейской культуре связан с осознанием иллюзорности (и опасности) идеи завершения истории.
(обратно)22
Если в XIX столетии консервативные силы сохраняли свое влияние и затрудняли решительный перенос доминанты общественного внимания в будущее (в том числе в искусстве, философии, в науках о духе), то в XX столетии (хотя консервативно мыслящие люди, разумеется, остались) решающее слово принадлежало уже не им, а апостолам обновления.
(обратно)23
Такое знание производит любое традиционное общество. Для него важно донести до каждого человека, как ему следует вести себя, чтобы с достоинством занимать место, на котором он оказался благодаря своим предкам, роду, а в конечном счете – благодаря Господу Богу.
(обратно)24
Хотя нас здесь, прежде всего, интересует социокультурный и экзистенциальный контекст эстетики пространства, мы не можем не коснуться и процессов, которые актуализировали эстетическое переживание времени. Базовые установки сознания среднего европейца постепенно смещались от прошлого к будущему, от подражания великим отцам к становлению и поиску. Сдвиг этот привел, среди прочего, и к трансформации эстетических предпочтений, к перестановке акцентов в художественно-эстетической деятельности.
От начала христианской эры в истории Европы и до конца XVIII столетия будущее переживалось или в качестве определенного и уже свершившегося (в вечности, для Бога) будущего (сцены Апокалипсиса и Страшного Суда), или в качестве свершившегося и свершающегося будущего (мотив времен года в структуре циклического времени раскрывает временные модусы природы в качестве того, что уже было и что снова будет; настоящее – это повторение прошлого, будущее – это его, прошлого, возвращение). С эпохи барокко, а особенно с эпохи сентиментализма и романтизма историки культуры и искусства фиксируют пробуждение интереса к развалинам, к старому, заброшенному и ветхому, к тому, что обнаруживает конечность, временность существования. Когда представление о том, что за изменчивыми вещами таится что-то неизменное (сущность, идея), мало-помалу утрачивает свою непреложность, из тени выходит временная развертка существования. Все больше привлекает к себе внимание неизвестное будущее (будущее как возможность небывалого).
Восприимчивость к изменчивому, непостоянному нашла отражение в событии открытия детства: ребенок (с конца восемнадцатого века) перестал восприниматься как не-взрослый, в нем стали видеть особый модус существования, особый мир. В ту же эпоху обрел популярность образ «мятущейся юности» (начало XIX века). В XX–XXI веках «молодость» стала позиционироваться как образ человека вообще (ведь человек теперь мыслится как порыв в неизвестное будущее, как проект). Ускорение социальных и политических процессов, трансформация повседневной жизни, разрыв генеративных связей, отрыв от традиции, от прошлого (от родительской семьи, от истории страны), устремленность в будущее – тот социально-культурный и экзистенциальный фон, на котором развивается эстетическая восприимчивость к модусам времени в их чувственной данности.
(обратно)25
Отправлению этого культа не может помешать даже то обстоятельство, что творчество, как и прежде, остается достоянием немногих. Отдающее дань культу новизны большинство ведет такую же, как и прежде, однообразную (однообразно-мобильную), рутинную жизнь, имея дело с новым в товарной упаковке «последних новостей» и новых вещей из супермаркета.
(обратно)26
Если бы мы молились тому же Богу, что и наши предки, то нам было бы чему у них поучиться. Если мы верим в Бога и Его Церковь, то игнорировать правила, опирающиеся на веру и на церковное Предание, – невозможно. Если же наш горизонт – это условные (земные) цели и ценности, то прошлое утрачивает свою сакральность.
(обратно)27
В рамках эстетического дискурса радикальные сдвиги в арт-практике и в мироощущении человека XX столетия обусловили рост интереса к безобразному и близким ему феноменам (к уродливому, страшному, ужасному, шокирующему, отвратительному), до той поры находившимся на задворках эстетической мысли. Повышенное внимание к эстетике отвержения (к тому, что принято называть «антиэстетикой») исторически обусловлено; оно закономерно в обществе, основанном на сакрализации небывалого, нового и на сбрасывании с корабля современности идеи образцовости.
(обратно)28
Кант акцентировал внимание не на пространстве, а на возвышенном чувстве, на его трансцендентальной составляющей (возвышенное он толкует как «чувство свободы», как «чувство сверхчувственного»). У Канта (да и у Бёрка) – и это существенно в контексте размышлений над эстетикой пространства – речь шла об опыте, отличном от восприятия прекрасной формы. Возвышенная предметность мыслилась Кантом как что-то (для нашего восприятия) большое до бесформенности, безмерное по своей величине и мощи, как то, что превосходит возможности человеческого воображения или предстает перед ним в качестве угрожающей существованию человека силы.
(обратно)29
Особого упоминания заслуживает энвайроментальное искусство XX–XXI веков, которое сделало предметом эстетической деятельности окружающую среду Художники этого направления создают специально организованные, неутилитарные пространства (чаще это интерьерные пространства, но, скажем, лэнд-арт работает с ландшафтами).
(обратно)30
Непроработанность эстетики пространства не может не вызывать удивления. Ведь для философии XX века эстетика пространства интересна хотя бы потому, что соответствует стремлению ее творцов к дистанцированию от классического наследия и к поиску новой, неклассической парадигмы мышления (от тождества к различию, от сущности к феномену, от общего к единичному, от данности к событию, etc.).
(обратно)31
См. напр.:Хайдеггер М.Искусство и пространство / Время и бытие /М. Хайдеггер.М., 1993;Мерло-Понти М.Око и дух. М., 1992;Ортега-и-Гассет XО точке зрения в искусстве //Ортега-и-Гассет XЭстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991. С. 186–203.
(обратно)32
Самой яркой фигурой здесь, пожалуй, был Мерло-Понти, работы которого не потеряли своего значения до настоящего времени (см.: Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. М., 1999).
(обратно)33
См.:Лиотар Ж.-Ф.Возвышенное и авангард // Метафизические исследования. СПб., 1997. Вып. 2. С. 111–123;Лиотар Ж.-Ф.Ответ на вопрос: что такое постмодерн? //Ad Marginem’93. М., 1994. С. 303–323;Кристева Ю.Силы ужаса: эссе об отвращении. СПб., 2003.
(обратно)34
«…Мне представляется, что именно в эстетике возвышенного современное искусство (включая литературу) находит свою движущую силу, а логика авангардов – свои аксиомы»(Лиотар Ж-Ф.Указ соч. С. 316).
(обратно)35
По Лиотару, кантовское чувство возвышенного – это чувство непредставимого. «Возвышенное <…> имеет место тогда, когда воображению не удается представить какой-либо объект, который мог бы хотя бы в принципе согласоваться с данным понятием. <…> Мы обладаем идеей мира (тотальности сущего), но не обладаем способностью показать какой-либо ее пример. <…> Это – такие идеи, представление которых невозможно, они, следовательно, не дают никакого познания реальности (опыта), они налагают запрет на свободное согласование способностей, производящее чувство прекрасного… Их можно назвать непредставимыми. <…> Дать увидеть, что имеется нечто такое, что можно помыслить, но нельзя увидеть или дать увидеть: вот цель современной живописи. Но как дать увидеть, что имеется нечто такое, что не может быть увидено? Сам Кант указывает то направление, в котором тут надлежит следовать, называя бесформенное, отсутствие формы возможным указателем непредставимого»(ЛиотарЖ.-Ф.Ответ на вопрос: что такое постмодерн? //Ad Marginem’93. М., 1994. С. 317).
(обратно)36
Впрочем, уже в народных сказках сюжет часто держится на маргинальном герое – на младшем сыне-дураке, на падчерице, на отставном солдате, то есть на персонажах, которые лишены устойчивого места и должны искать его самостоятельно, на свой страх и риск. Правда, стоит отметить, что после долгих приключений, мытарств и странствий сказочный герой обретает достойное совершенных им подвигов положение, а сказка заканчивается тем, что ее главные персонажи «стали жить-поживать да добра наживать».
(обратно)37
Это именно возможность: она или осуществляется, или пропадает втуне.
(обратно)38
Раньше всего это произошло в Голландии и Фландрии, что хорошо прослеживается в живописи XVII столетия, где вошли в моду
такие жанры, как натюрморт, интерьер, городской пейзаж. Примерно в это же время в европейских языках появились слова, свидетельствующие о возросшей чувствительности к эстетике домашнего интерьера. В русском языке таким словом стало слово «уют».
(обратно)39
Мы говорим о постмодерне, поскольку это общепринятое сегодня наименование современного состояния общества, культуры и человека. Но наша позиция состоит в том, что то, что называется постмодерном, было бы точнее и корректнее определить как одну из фаз позднего модерна, как модерн на излете.
(обратно)40
В наши дни возможность изменения жизни обеспечивается самим устройством общества, самим способом его воспроизводства.
Постоянное изменение рассматривается как обязанность (в прежние годы в обязанность человеку вменялась верность заповедям, заветам предков, сегодня от него ожидают, скорее, неверности, готовности «начинать все заново»: в другом месте, в другой профессии, с другими людьми). Те, кто не способен продемонстрировать высокую мобильность (например, старики, крестьяне из глубинки, люди, склонные к созерцательности и неспешности по своему душевному складу..), зачисляются в маргиналы или неудачники. Длительная остановка, пауза, замедление вызывают подозрение и изгоняются как худшие враги человечества. «Конец пути» больше не рассматривается в перспективе обретения конечного смысла. Это теперь не более чем нелепая, бессмысленная случайность, которую следует обходить молчанием. Как говаривал Эдуард Бернштейн, «движение – все, конечная цель – ничто». Движение к Цели заменено на движение к целям. С этим сдвигом общественных настроений связаны, в частности, маргинализация и вытеснение на периферию общественного сознания смерти, редуцирование погребальных обрядов и ритуалов (см.:Аръес Ф.Человек перед лицом смерти. М., 1992). На того, кто остановился, навешивают ярлыки с надписями: «конформизм», «косность», «отсталость», «провинциализм»… Безусловные ценности и цели рассматриваются как опасная иллюзия. Считается, что приверженность таким ценностям связана с догматизмом в мышлении, нетерпимостью в общении, с утопизмом и тоталитаризмом в социально-политической жизни.
Бенно Хюбнер определил преобладающий в современном западном обществе этос как эстетический. «Место этического этоса уже давно занял эстетический этос, хотя он был и раньше, но не настолько вездесущий, исключительный, разнузданный, переменчивый в модах. <…> Если после упадка метафизики этика стала для автономного человека проблемой, требующей своего обоснования, то об эстетике подобного сказать нельзя. <…> Очевидно, эстетическое первично по отношению к этическому, оно не нуждается в обоснованиях того, почему оно должно осуществиться, оно само себе является достаточным основанием. <…> Очевидно, эстетическое является первичным, спонтанным, а этика – вторичным, надстроенным, стремящимся ограничить эстетическое и оправдаться за него. Почему я должен жертвовать, почему я должен отрицать мою радость, мою спонтанность – на эти вопросы нужно дать аргументированные ответы. <…> Этика… ничего или почти ничего не может противопоставить экспансии эстетического. <…> Там, где жизнь не имеет смысла, приходится жить чувствами: о прыжке или, лучше, отскоке от идеализма к сенсуализму говорил уже Ницше. Вертикальный смысл жизни заменяется горизонтальным»(Хюбнер Б.Произвольный этос и принудительность эстетики. Мн.: Пропилеи, 2000. С. 60–63).
Культурное априори нашего времени (и в практической жизни, и в рефлексии) артикулировать несложно: определенного и тем более окончательного места у человека нет и быть не может; «настоящая жизнь» – это бесконечный сёрфинг по телам, местам и смыслам. На первом плане оказывается не поиск места, с которым человек мог бы себя отождествить и которому он должен был бы хранить верность («вера», «верность», «честь», «долг», «призвание», «профессия» и прочие константы «старого мира»), а готовность отправиться в путь, «никому не докладываясь». Свобода от долговременных связей и обязательств (тем более – от обязательств и связей безусловных) с другими людьми, с родным домом, с городом, со своей страной, с профессией перестает быть предметом морального порицания (прежде о таких говорили: «перекати поле»), она становится чем-то жизненно необходимым, желательным и поощряемым со стороны «передового» общественного мнения. Нельзя допустить, чтобы кто-то связал тебя по рукам и ногам безусловными обязательствами; такая связанность – это остановка, а промедление смерти подобно. Стать кем-то, пребыть – значит умереть при жизни, выбыть из числа подключенных к бегущей строке новостей, привязанных к «курсу текущих событий».
(обратно)41
Подробное обоснование данного тезиса может быть представлено только в ходе исследования конкретных расположений эстетики места. Ниже по тексту (гл. третья) мы подробно рассмотрим одно из заметных расположений эстетики интерьера – уют.
(обратно)42
Это позволило пейзажу и интерьеру стать особыми жанрами живописи во второй половине XVI – начале XVII века. Эстетический потенциал этих жанров носит двойственный характер. Он допускает восприятие картины и в рамках эстетики прекрасного, и в перспективе эстетики места. Интерьер обладает (в плане его переживания как красивого) меньшими возможностями, поскольку он не «лежит перед», а охватывает созерцателя со всех сторон, препятствуя его восприятию и истолкованию в логике данности прекрасного тела, подвигая к описанию своего «как оно здесь?» не в терминах классической эстетики, а в терминах эстетики пространства.
(обратно)43
С определенной дистанции (например, с околоземной орбиты) даже Земля предстает как тело на фоне космического пространства. Но когда мы находимся на поверхности Земли, она воспринимается как вмещающее пространство, как та или иная местность.
(обратно)44
Даже когда какой-то интерьер или какая-то местность оказываются заполненными (место, в котором нет свободного места), они не перестают восприниматься каквмещающие пространства, внутри которых располагаютсявмещаемые формы.Занятое место может быть освобождено, очищено, после чего оно вновь готово к тому, чтобы принять тело.
(обратно)45
Долгое время в центре внимания европейского изобразительного искусства (начиная с эпохи Возрождения и примерно до середины XIX века) находились портрет и многофигурная композиция на религиозные, мифологические, исторические и бытовые сюжеты, а пейзаж и интерьер оставались на периферии «высокого искусства». Однако, если двигаться от XVI столетия к XX, обнаружится любопытная тенденция: чем ближе к современности, тем более популярным становится жанр пейзажа. Интерес живописцев от портрета и многофигурной композиции смещается к пейзажу, в котором люди присутствуют «на равных правах» с коровами, собаками и утками, представляя собой деталь в картине местности. Со временем способ передачи натуры, который использовался в работе над пейзажем (изображение пространства, а не фигур), стал применяться в изображении вещей и даже лиц. Границы фигур стали размываться, а сами они распались на множество составляющих, причем эти составляющие были включены в ассоциативную перекличку с элементами фона. В результате фигуры стали все заметнее растворяться в окружающей их атмосфере, в обнимающей их среде, стали переходить в нее, а эта среда, соответственно, переставала восприниматься как фон. Такие картины могут быть восприняты и как портрет, и как пейзаж, и как натюрморт.
(обратно)46
Проблематика возможности (свободы, открытости, становления, процессуальности, времени) находится в самом центре внимания философов XX–XXI столетий, она, в частности, занимала таких мыслителей, как Хайдеггер, Сартр, Бердяев, Шестов, Делёз и др. Актуальна она и для заявившей о себе в постперестроечной России «синергийной антропологии» (С. Хоружий) и для «философии возможного» (М. Эпштейн). Эстетику возможности, развиваемую в рамках «эстетики времени» и «эстетики пространства», можно рассматривать как отклик на эпохальные сдвиги в истории христианской цивилизации.
(обратно)47
Когда мы говорим о необходимости отличать эстетические расположения, сопряженные с восприятием ландшафта, от расположений, отнесенных к эстетике направлений, без пояснений нам не обойтись. Необходимо различать предметный референт эстетического расположения и типологическую определенность самой эстетической расположенности. Референт может быть одним и тем же, а расположения – разными. Одну и ту же вещь в одной эстетической ситуации можно воспринимать как старую, в другой – как ветхую, в третьей – как красивую. Аналогичным образом обстоит дело и с внешним референтом в эстетике места и в эстетике пространственных измерений: ландшафт может быть воспринят как просторный (предмет эстетического удивления – широта открытого пространства), и он же может переживаться как пейзаж, внушающий чувство возвышенного, прекрасного или, скажем, затерянного. При одном и том же объекте восприятия в одном случае мы будем иметь дело с видом местности, в другом – с той или иной формой пространства как направлением возможного движения тела или взгляда. Два художника-пейзажиста, работающих бок о бок на пленэре, могут написать отличные по эстетической доминанте картины. Легко предположить, например, что в то время как один из них сделает акцент на дали, другой, возможно, передаст на холсте чувство затерянности, охватившее его при взгляде на изломанный силуэт застывшего дерева на скальном выступе.
(обратно)48
Хотя представление о пространстве-как-простирании сформировалось значительно позже представления о месте (точно так же, как представление о линейном времени появилось много позже представления о циклическом времени), однако именно валоризация (термин Б. Гройса) пространства как простирания (пространства-как-возможности-иного) обусловила открытие места как предмета эстетического внимания, получившего, в частности, выражение в возникновении жанра интерьера в живописи.
(обратно)49
Мы останавливаем свой выбор на термине «направление», поскольку он, в отличие от «измерения», удерживает семантическую связь с движением, с той или иной конфигурацией возможности/невозможности сменить место. Если говорить о термине «измерение», то он хорош для различения направлений по вертикали от направлений по горизонтали (вертикальноеизмерениепространства, к примеру, распадается на направления выси, высоты и пропасти).
(обратно)50
На феномене просторного мы остановимся очень кратко, а детальный его анализ отложим на будущее.
(обратно)51
О чем же свидетельствует лингвистическая «продвинутость» русской культуры в данном направлении? О том, что открытые пространства – составная часть ментального универсума русского человека. Сказанное, конечно, не означает, что эстетическое переживание открытых пространств не релевантно носителям культур, в которых особый термин для обозначения такого рода пространственных измерений и соответствующих им восприятий и переживаний отсутствует. Его наличие свидетельствует о том значении, которое придается восприятию открытого пространства в культуре, но не исключает присутствия сходного восприятия в культурах, где они могут быть описаны с помощью комбинации из нескольких слов или предложений. Семантика «простора» показывает, что в русской культуре и в русском языке опыт взаимодействия с открытым пространством маркирован в ценностном отношении, причем маркирован положительно.
(обратно)52
Об этом свидетельствуют, в частности, данные, приводимые в Частотном словаре русского языка. Слово «простор» чаще встречается в художественной прозе (21 раз на 1056000 словоупотреблений, пространство – 14 раз), в то время как «пространство» – в научных, публицистических и газетно-журнальных текстах (соответственно: 53 и 13 раз). (См.: Частотный словарь русского языка. М., 1977). Когда мы произносим слово «пространство», то, скорее всего, имеем в виду философское понятие, категорию пространства (пространство вообще). Если же речь идет о чем-то интеллектуально или чувственно более определенном, то требуется уточнение: не просто «пространство», а «пространство Эвклида/Лобачевского», «математическое пространство», «космическое пространство», «закрытое пространство», «пространство, занятое жилым массивом», и т. д. Когда мы произносим слово «простор», то «видим» то, о чем говорим: перед нами определенная (чувственно-определенная) форма пространства. Сказав «простор», мы представляем себе степь, «бескрайнее» поле или морскую гладь, спокойное течение большой равнинной реки…
(обратно)53
Могут заметить, и это будет справедливо, что для обыденной речи более органичен вариант со словом «место»: «между письменным столом и книжными стеллажами оставалось свободное место». Однако и вариант со словом «пространство» остается вполне приемлемым в беседах на бытовые темы, хотя и воспринимается как книжный оборот речи.
(обратно)54
Семантическая широта пространства позволяет использовать этот термин для обозначения интересующей нас области эстетического анализа в целом («эстетика пространства»).
(обратно)55
Интересный и содержательный анализ простора и, в частности, рассмотрение инкорпорированной в его семантику положительной аксиологии можно найти в трудах отечественных лингвистов. См.:Шмелев А. Д.Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 75–81.
(обратно)56
В словаре Ожегова читаем: «Просторна, м. 1. Свободное, обширное пространство. <…>2. Свобода, раздолье» (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. URL: .ш/ all-mssian/mssian-dictionary-Ozhegov-term-27743.htm (дата обращения: 14.09. 2014). Точно также толкуется это слово и в других словарях. См.: Лопатина В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. М., 1994, С. 542; Комплексный словарь русского языка. М., 2001; Словарь русского языка в четырех томах. Т. 3. М., 1983. С. 527; Толковый словарь русского языка / под. ред. Д. И. Ушакова: в 4 т. М., 1994. С. 1011, и др.
(обратно)57
Простор предполагает открытость пространства по горизонтали, так что высоты даже низкого, облачного неба достаточно для того, чтобы встреча с простором состоялась.
(обратно)58
«Всегда», разумеется, означает: «всегда, когда человек стоит или сидит на какой-либо поверхности в дневное время». Но когда мы карабкаемся по отвесной скале, когда со всех сторон нас окружают каменные глыбы, когда мы находимся на равнине ночью ит.д., горизонтальное измерение в нашем восприятии отсутствует.
(обратно)59
Срезневский указывает на пространство как на первое значение слова «простор», при этом само «пространство» он толкует через «простор» и «простоту» (это самое последнее, 8-е значение в словарной статье)(Срезневский И. И.Словарь древнерусского языка. Т. 2. Часть 2. М., 1989. С. 1577, 1579). Эти и другие языковые данные свидетельствуют об изначальном единстве простора и пространства и об их семантической сопряженности с этимологически родственной им простотой (См:Фасмер М.Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 3. СПб., 1996. С. 380). Фасмер толкует прилагательное «простой» (др. – русск. простъ) как «прямой, открытый, свободный, простой» (Там же. С. 380).
(обратно)60
Пустота, возможно, находится в еще большей (или по крайней мере в такой же) близости к простору и пространству, как простота. Если мы определяем простор как открытое пространство, значит, мы определяем его через пустоту, через пустое, через не занятое. Первые значения в толковании «простора» и «пространства» в Словаре народных говоров практически идентичны. «Простор, м. 1. Пустое, порожнее место. Последний простор в каретнике заняли, не поворотиться. Дай простор! Отойди, посторонись. Даль. <…> Пространство, cp. 1. Пустое, ничем не занятое, свободное место. Даль. Строят байну: передок, сенцы, а само пространство – баня» (Словарь русских народных говоров. Вып. 32-й. СПб., 1998. С. 250–252). Заслуживает внимания приводимое в этом же словаре второе значение слова «простота»: «2. Свободное пространство, простор. Простоты в кладовых много. Даль. В комнатах-то у ей простота, красота. Арх., 1970» (Там же. С. 251). Но, пожалуй, ярче всего единство простора, пространства и простоты-пустоты представлено у В. И. Даля, на которого так часто ссылаются авторы «Словаря народных говоров»: «Простор м. – простое, пустое, порожнее, ничем не занятое место, относительная (не безусловная) пустота; пространство по трем размерам своим; || досуг, свободное, праздное время; || свобода, воля, раздолье, пртвоп. гнет, стесненье»(Даль В. И.Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 3. М., 2001. С. 856). Как видим, семантика простора в толковании Даля недвусмысленно указывает на укорененность значений этого слова в ничто: в пустоте, простоте и воле. Ничто – это отсутствие препятствий (не важно – в пространстве или во времени). Правда, В. И. Даль отмечает, что простор – это относительная, не безусловная пустота. Но когда простор становится эстетическим расположением, барьер условности, относительности преодолевается: мы воспринимаем простор как чистое (простое, пустое) пространство (подробнее об этом см. ниже).
(обратно)61
См.: Толковый словарь русского языка / под. ред. Д. И. Ушакова. Т. 1–4. М., 1935–1940. Т. 4. С. 1281–1283. О продуктивности этого значения слова «чистый» в древнерусской речи и о формах его присутствия в современном русском языке см.:Яковлева Е. С.О концепте чистоты // Логический анализ языка: Языки этики. М., 2000. С. 208–209. Чистота как прибранность и порядок высвобождает простор (пустое пространство), устраняет загроможденность пространства вещами. Чистота в этом значении – необходимый компонент и эстетики уютного и просторного («просторный зал», «столовая» и т. д.).
(обратно)62
Впрочем, здесь мы имеем дело с «общеэстетическим» парадоксом чувственной данности Другого. Разве красота как абсолютное совершенство формы не парадокс? И разве возвышенное как переживание конечного феномена как безусловно большого/мощного (горные вершины, гроза, ураган, ночное небо) не парадоксально? То же относится и к опыту чистого времени в таких эстетических расположениях, как ветхое, юное и мимолетное.
(обратно)63
Если восприятие пространства оказывается событием условной или безусловной данности Другого в модусе Бытия, значит его восприятие укоренено в Другом. Вот почему в эстетике пространства центральное место по праву принадлежит аналитике безусловных эстетических расположений. Именно они обращают к тому началу, которое утверждает нас как присутствующих в мире, именно они дают почувствовать то, что выводит человека по ту сторону бесконечного становления, по ту сторону вечно изменчивых тел и вещей.
(обратно)64
Эстетическое событие: мгновенная со-расположенность пространственно-вещной среды и воспринимающего ее человека, обнаруживающая в-человеке-и-вещи (или в конфигурации пространства) Другое.Другое раскрывает себя как особенное чувство и одновременно как особенное (без-граничное) пространство,которое наивное сознание принимает за непосредственную причину чувства простора. Но эстетический анализ показывает, что открытое пространство служит условием и поводом для простора как события.
Представление о просторе как о причине чувства простора – не просто «иллюзия». Это «объективная иллюзия», связанная с тем обстоятельством, что событие простора сопряжено с открытостью пространства по горизонтали. Поскольку человеку не может приписать себе, своей деятельности возникновение чувства простора (он ведь, собственно, «ничего такого не делал» и даже, возможно, «ничего такого не предполагал»), для него естественно думать, что причиной простора-как-чувства является «сам простор». Чувство простора, полагает он, генерируется пространством с «особыми характеристиками».
(обратно)65
У Чехова бескрайнее пространство выступает в модусах утверждения и отвержения Присутствия (Dasein). В рассказе «В родном углу» чередование экзистенциально-эстетических образов степного пространства играет ключевую роль. (Амбивалентность шири является одним из важных мотивов также в повести «Степь».) В этом рассказе представлены два эстетических модуса степи («полный отрадного покоя простор»/«нескончаемая равнина»); именно ее двойственность выражает драматический поворот в судьбе вернувшейся на родину героини рассказа (Веры Кардиной). Предметом изображения оказывается переход от юных надежд к однообразию серой повседневности, к горькой трезвости в оценке настоящего и будущего. Этому переходу на образно-символическом уровне соответствует эстетическая амбивалентность степного пространства, которое воспринимается героиней то как «полный отрадного покоя простор», то как однообразное и враждебное, безразличное к ней – чудовищное – пространство: «Нужно было проехать от станции верст тридцать, и Вера… поддалась обаянию степи, забыла о прошлом и думала только о том, как здесь просторно, как свободно; ей, здоровой, умной, красивой, молодой – ей было только 23 года – недоставало до сих пор в жизни именно только этого простора и свободы. <…> А на душе было покойно, сладко, и, кажется, согласилась бы всю жизнь ехать так и смотреть на степь. <…> Этот простор, это красивое спокойствие степи говорило ей, что счастье близко и уже, пожалуй, есть… <…> И в то же время нескончаемая равнина, однообразная, без одной живой души, пугала ее, и минутами было ясно, что это спокойное зеленое чудовище поглотит ее жизнь, обратит в ничто»(Чехов А. П.Поли. Собр. Соч. в 30 т. Т. 9. С. 313–314, 316). Восприятие широкого пространства героиней чеховского рассказа пульсирует, мерцает: сначала она видит простор, с которым связываются свобода, молодость, надежды на близкое счастье, а потом – «нескончаемую равнину»: однообразное, лишенное различий пространство, в котором легко пропасть, затеряться, исчезнуть, кануть без следа…
(обратно)66
О важности молчания в экзистенциальном и эстетическом плане см. интереснейшую работу Марины Михайловой:Михайлова М. В.Эстетика молчания: Молчание как апофатическая форма духовного опыта. СПб.: РХГА, 2009.
(обратно)67
Н. В. Гоголь дает замечательную картину простора и его восприятия в самом начале второго тома «Мертвых душ», когда он описывает вид из дома Тентетникова. Начало этого фрагмента (из поздней редакции второго тома) мы привели в эпиграфе к разделу, а теперь воспользуемся ранней редакцией второго тома и процитируем его полностью. В этом описании показана преэстетическая среда, максимально благоприятствующая простору как эстетическому расположению. «Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость и посетитель. У него захватывало в груди, и он мог только произнесть: „Господи, как здесь просторно!“ Пространства открывались без конца. За лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, зеленели и синели густые леса, как моря или туман, далеко разливавшийся. За лесами, сквозь мглистый воздух, желтели пески. За песками лежали гребнем на отдаленном небосклоне меловые горы, блиставшие ослепительной белизной даже и в ненастное время, как бы освещало их вечное солнце. Кое-где дымились по ним легкие туманно-сизые пятна. Это были отдаленные деревни, но их уже не мог рассмотреть человеческий глаз. Только вспыхивавшая, подобно искре, золотая церковная маковка давала знать, что это было людное, большое селенье. Все это облечено было в тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшие до слуха отголоски воздушных певцов, наполнявших воздух. Словом, не мог равнодушно выстоять на балконе никакой гость и посетитель, и после какого-нибудь двухчасового созерцания издавал он то же самое восклицание, как и в первую минуту: „Силы небес, как здесь просторно!“» (Гоголь Н. В. Мертвые души. М., 1983. С. 281–282).
(обратно)68
Тот, кто лежит, ползет или плывет, такой возможности не имеет. Если бы мышь, ласточка или стрекоза обладали сознанием и зрительным аппаратом, подобными человеческому, то они не знали бы простора, так как морфология их тел, способ перемещения и величина не располагают к восприятию этой формы пространства.
(обратно)69
Люди, привыкшие к простору, к чередованию лесов и полей, к невысоким холмам и широким рекам, оказавшись в горах и ощутив
красоту и величие горного ландшафта, в котором доминируют вертикальные линии, могут затосковать по простору и испытать определенные трудности при адаптации к новому ландшафту. В одном из писем Чехову Ольга Книппер, делясь с ним своими грузинскими впечатлениями, упоминает, в частности, и о том состоянии, которое переживает сформированная на просторе душа, зажатая теснинами Кавказа: «Несмотря на здешнюю красоту, я часто думаю о нашей северной шири, о просторе – давят все-таки горы, я бы не могла долго здесь жить. А красиво здесь кругом – прогулки великолепные, много развалин старинных, в Мцхете интересный древний грузинский собор…» (О. Л. Книппер – А. П. Чехову, 22 июня 1899 г. // Антон Павлович Чехов. Переписка с женой. М.: Захаров, 2003. С. 22). Логично предположить, что житель гор, оказавшись на равнине, также будет испытывать чувство дискомфорта, только ему будет не хватать вертикального измерения («как все-таки здесь пусто, как давит томительная безграничность равнины!»).
(обратно)70
Я позволю себе проиллюстрировать сказанное примером из собственного опыта. Мне вспоминается давний поход по Жигулевским горам… Была осень. Кажется, октябрь. Несколько дней мы шли по глубоким долинам и оврагам: приходилось карабкаться по поросшим густым орешником, кленом и дубом склонам, потом спускались вниз и идти по едва заметным в палой листве тропам… Когда находишься внутри горного массива, горизонта почти не видно. Высокие холмы, поросшие сосной, дубом, березой и кленом, да глубокие овраги – вот с чем приходится иметь дело, путешествуя по Самарской Луке. Многие часы ты видишь только пестрые по осени горы вокруг да мерно покачивающиеся спины товарищей, прикрытые высокими рюкзаками. Предпоследний день пути был особенно долгим и трудным. На стоянку (а это было маленькое озеро в горах) мы пришли, когда стемнело. На следующее утро, едва рассвело, мы пошли в сторону Волги, к горе Стрельная. Немного не доходя до места, спрятали в кустах рюкзаки и отправились к вершине.
Вершина этой горы нависает над волжским побережьем и крутыми уступами спускается к реке. К венчающим ее скалам выходишь со стороны горного массива и идешь дорогой, которую со всех сторон обступают деревья. Желто-зеленый тоннель из сомкнувшихся над головой берез и кленов. Через какое-то время лес остался позади, и мы пошли по каменистой тропе, ведущей к вершине. Склоны горы покрывала только сухая, пробивавшаяся сквозь мелкие камни трава. Кое-где внизу виднелись не добежавшие до вершины высокие старые сосны. Ощущение такое, как будто «с глаз упала пелена». Словно глаза наши были закрыты повязкой, а потом ее развязали, и перед нами раскинулось Пространство. По обе стороны от тропы открывался вид на горы, на Волгу, на Жигулевское море, на тающую за ним линию горизонта. Тропа завершалась каменной скалой-шишкой. Со скалы открывалась широкая панорама: впереди и по обе стороны от нас лежала река с ее островами, рукавами и заливами; за рекой – высокий берег, поросший лесом, среди которого виднелись матовые проплешины поселков и деревень; где-то совсем далеко, у самого горизонта, можно было различить бледные, осветленные светом и воздухом контуры большого города… Помню свою захваченность простором. Какое это было особенное чувство! Думаю, что сила впечатления была, во многом, связана с тем, что встречу с ним подготовила долгая и трудная дорога при почти полном отсутствии на пути открытых пространств.
(обратно)71
Разве не естественнее было бы сочетать эпитет «родной» с представлением о закрытом, теплом, надежном, о «своем» пространстве, о близких человеку вещах и людях? Родным может быть дом, двор или улица. Это понятно. Но причем тут необозримый (а значит, неосвоенный, «дикий») простор?
(обратно)72
Чувство уюта, к примеру, можно понять как переживание гармонии и равновесия человеком, отколовшимся от мира и общины и «собирающим себя» в небольшом пространстве обжитого места.
(обратно)73
Понятно, что пространство, открытое в ширину и глубину по горизонтали, может – на правах внешнего референта – входить и в другие расположения, в частности, в расположения, отвергающие присутствие (тоска, ужас). Бесконечное пространство (будь то степь или море) может «наводить тоску», «пугать», «устрашать», «приводить в отчаяние»… Но нас интересует простор, а это такая форма пространства, данность которой сопровождается и приподнятостью, и покоем одновременно.
(обратно)74
Подтверждение тому, что встреча с простором способна одновременно и взбодрить, и успокоить, привести душу «в порядок», каждый может найти в своем собственном опыте. Мы же ограничимся цитатами из писем Ольги Книппер А. П. Чехову «Не пишется мне сегодня. Писала и Марии Павловне, да оба письма разорвала бы охотно. Какая-то я судорожная. <…> Тянет меня вон из города на простор. Каша у меня в душе и в голове». (Книппер – Чехову, 21 сентября 1899 г. С. 31. Книппер – Чехову, 22 июня 1899 г. С. 22 // Антон Павлович Чехов. Переписка с женой. – М., 2003). А вот отрывок из другого письма, где отчетливо выражен общий для домашнего уюта-уединения-пребывания и для сопряженной с простором возможности неограниченного движения эффект освобождения от беспокойства, от внутренней дисгармонии: «Пришли праздники, мне хочется сидеть дома, читать или слушать хорошую музыку, или удрать из Москвы на денек, на два, побегать на лыжах, подвигаться, понюхать свежего воздуха, простора, сбросить с себя городскую кислоту, одним словом» (Письмо О. Л. Книппер А П. Чехову, 22–26 декабря 1899 г. // Указ соч. С. 48).
(обратно)75
О юном как расположении см.:Лишаев С. А.Эстетика Другого. СПб., 2008. С 146–153.
(обратно)76
Подробнее см. Приложение 1.
(обратно)77
Созерцанию открытого пространства препятствует скорость передвижения, которая сегодня весьма высока: если и встречаются за городом открытые участки дорог, то автомобиль (поезд) минует их очень быстро, не оставляя времени для созерцания шири, отвлекая внимание быстрой сменой предметов на переднем плане.
(обратно)78
Настроенность на музыкально-звуковой ряд ограничивает вместимость зрительного восприятия, закрывает от слушающего то, что открыто зрению. Если же человек не идет, скажем, а сидит, то у него имеется возможность локализовать взгляд на светящемся экране монитора мобильного телефона, смартфона, планшетника, нетбука и прочих телекоммуникационных приборов, погружающих его в виртуальную реальность.
(обратно)79
Это утверждение верно в отношении эстетической теории, но нуждается в корректировке, если говорить о других, смежных областях философского знания. Всем памятно то место, которое отводит в своих суждениях о своеобразии устремленной в бесконечность западной культуры феномену дали Освальд Шпенглер (даль по Шпенглеру – прасимвол фаустовской культуры). Смыслообраз дали имеет у него, помимо прочего, и эстетическую составляющую, но она им не тематизируется. Эстетика дали вплетена у Шпенглера в историко-морфологическое описание западноевропейской цивилизации. Благодаря «Закату Европы» пы» этот термин вошел в тезаурус философии истории и философии культуры. Правда, сегодня концепт «даль» используют не в актуальной философии, а в историкофилософских исследованиях, посвященных идейному наследию Шпенглера. Если же говорить об эстетическом аспекте разработки концепта «даль» у самого Шпенглера, то его внимание сосредоточено на прослеживании того, как даль (в качестве первофеномена (прасимвола) западной культуры) обнаруживает себя в разных видах искусств (от архитектуры и градостроительства до живописи и музыки). Мы же, напротив, выдвигаем на первый план эстетическое и экзистенциально-феноменологическое описание дали. Тот факт, что намеченное у Шпенглера движение к концептуализации дали не получило развития в рамках философско-эстетической мысли, сам по себе примечателен. Он свидетельствует о том, что философская мысль XX века находилась в зависимости от категориальных границ эстетического опыта, установленных в конце XVIII – начале XIX столетий.
(обратно)80
См.: Манифест VIII Красноярского биеннале // URL: http://8. biennale.m/doc.asp?id= 124 (дата обращения: 16.09.2014).
(обратно)81
Производность дали от прилагательного «далекий» можно считать установленной. Об этом свидетельствуют, в частности, данные историко-этимологических словарей. А в современных учебных пособиях для студентов-филологов отношение слов «даль» и «далекий» используют для прояснения темы производности слов в русском языке: «Даль – далёкий. Слово даль имеет большую морфемную сложность по сравнению со словом далёкий: в морфемной структуре слова даль содержится корень, нулевой суффикс и нулевая флексия, а в структуре слова далёкий вычленяется корень и флексия. В соответствии с критерием производности Г. О. Винокурасемантика слова даль выводима посредством ссылки на семантику слова далёкий: даль – «далёкое место», далёкий – «такой, который находится на большом расстоянии или имеет большую протяжённость». Следовательно, слово даль является производным от слова далёкий (даль <– далёкий)» (Санникова Н. Ю.Мотивированность и производность слов в современном русском языке. Издательский дом «Астраханский университет», 2006. URL:/ pdf2txt?p_id=26712&p_page=2 (дата обращения: 03.08.2014)).
(обратно)82
Здесь мы склонны согласиться с В. И. Далем:«Даль, далина перм. далица, увелич. далища, далечина ж. сравнительно большое расстояние,не как свойство далекого, а по себе; между дальность и даль то же отношение, как между далекий и далеко, между прилаг. и нареч.; посему даль, далина, означает также самый предмет, что вдали, что удалено, отдалено…»(Даль В. И.Толковый словарь живого великорусского языка.
URL: -mssian/mssian-dictionary-Dal-term-6073. htm (дата обращения: 09.09.2014)).
(обратно)83
Черных П. Я.Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М., 2002. Т. 1. С. 231.
(обратно)84
Заслуживает внимания то обстоятельство, что одни словари выдвигают в качестве основного значения «далекое место» (Словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой), иные же – «далекое пространство, видимое глазом» (Словари Д. Н. Ушакова, Т. Ф. Ефремовой). Сама эта неустойчивость «порядка следования» значений указывает на то, что в настоящеевремя происходит перестановка акцентов в восприятии дали.В каком именно направлении смещаются семантические акценты – вопрос лингвистического исследования. Мы можем лишь предположить, что тенденция такова: семантика дали как эстетического феномена, как восприятия далекого пространства постепенно выходит на первый план. Исходным значением дали было ее практическое значение, связанное с определением расстояния и расчетом усилий, которые необходимы для перемещения в определенное место. Примечательно, что В. И. Даль начинает описание этой лексемы через «сравнительно большое расстояние». Однако современная экзистенциальная и культурная ситуация повышает чувствительность к восприятию и переживанию пространства и времени. Полагаем, что в будущем семантическое первенство останется именно за эстетическим значением дали, то есть за далью как предметом созерцания.
(обратно)85
Ожегов С. И.,Шведова Н. Ю.Толковый словарь русского языка. URL: http: //www. classes. ru/all- russian/russian- dictionary- Ozhegov-term-22784.htm (дата обращения: 18.09.2014). В словаре Ефремовой дается более пространное описание слова «перспектива»:«1. ж. I) Даль, пространство, охватываемое глазом[здесь и ниже курсив мной – С. Л.]. 2) а) Искусство изображать, воспроизводить на рисунке, на плоской
поверхности предметы в соответствии с кажущимся изменением величины, очертаний, четкости, обусловленным степенью отдаленности их от наблюдателя, б) Кажущееся изменение величины, формы, положения предметов, вызываемое удаленностью их от наблюдателя, в) Характер, качество изображения на рисунке, на плоской поверхности этих изменений в формах предметов; живописное, графическое их изображение, г) Совокупность правил построения изображения трехмерных предметов на плоскости. 3)Вид, панорама, картина природы, какой-л. местности как она представляется наблюдателю издали, с какого-л. определенного пункта наблюдения.4) а) перен. разг. Возможность или неизбежность чего-л. в будущем, б) План, программа действий. 5) устар. Прямая, длинная улица; проспект. 2.ж.Отдел начертательной геометрии, излагающий правила, способы изображения пространственных тел с помощью проектирования их на плоскость»(Ефремова Т. Ф.Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. URL:: http://www. classes, m/all-mssian/mssian-dictionary-
Efremova-term-70872.htm (дата обращения: 20.09.2014)).
(обратно)86
Черных П. Я.Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М., 2002. Т. 1. С. 231.
(обратно)87
По словарям Т. Ф. Ефремовой, Д. Н. Ушакова, С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой // URL: -russian/mssian-dictionary-Efremoya-term-18388.htm (дата обращения: 20.09.2014)).
(обратно)88
В Словаре русских синонимов словопросторсопровождает следующий ряд синонимов: «приволье, раздолье, свобода, масленица, место; ширь,даль;пространство, глазом не окинуть,горизонт»(Словарь русских синонимов. URL: / all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-69837.htm^aTa обращения: 20.09.2014)). В другом словаре синонимов читаем: «ПРОСТОР, ширь, даль. Простор – далекое, обширное, свободное пространство, видимое глазом. Ширь усилит. – ничем не ограниченный простор. Даль усилит. – обширное, далеко видимое пространство. Слова простор и даль часто употр. во ми. ч.» (Словарь синонимов русского языка: ок. 2000 слов: ок. 800 синоним, рядов / Л.П. Алекторова, Л. А. Введенская, В.И. Зимин и др. – 2-е изд., испр. – М., 2008. URL: /~KHHrH/OiOBapb%20cHHOHHMOB/~np/2/ (дата обращения: 20.09.2014)). Как видим, словари сближают слова «даль» и «простор». Тем более важно, в перспективе задач, поставленных нами в рамках разработки концептуального поля эстетики пространства, акцентировать отличие дали от простора.
(обратно)89
Словарь русских синонимов. URL: -russian/mssian-dictionary-Efremova-term- 17135.htm (дата обращения: 20.09.2014). В словаре Ушакова в самом близком к дали значении также акцентируется широта, кругозор: «Кругозор, всё видимое вокруг наблюдателя пространство, до конечных пределов его.Какой неизмеримый горизонт открывается с вершины горы»// Там же.
(обратно)90
здесь и ниже курсив мной – С. Л.
(обратно)91
Соединение шири и дали как способ говорить о просторе, бескрайности, – случай не такой уж редкий. Мне вспоминаются здесь строчки из песни «За Танаис-рекой», которую пели (поют?) студенты в археологических экспедициях: «Даль степная широка, широка, / Все Причерноморье, э-эх, / Вьется песня степняка, степняка/ Во широком поле…»
(обратно)92
Соотношение опыта дали и переживания времени (будущее как фокус эстетического переживания) – очень интересная и важная тема, которая заслуживает специального исследования. Мы здесь ее только обозначили, оставляя подробное рассмотрение на будущее.
(обратно)93
Ближайший к дали феномен эстетики времени –молодое как условное расположение линейного времени. В его фокусе находится переживание определенного будущего, определенной возможности трансформаций созерцаемой формы «во времени», за которым последует другое будущее, другая фаза воображаемой жизни кого-то или чего-то. Интересно было бы исследовать, как соотносится с эстетикой молодого даль и просторное.
(обратно)94
Эстетический эффект динамического взаимодействия с далью прекрасно описан Лермонтовым в «Дневнике Печорина» («Герой нашего времени»), в памятном всем эпизоде, когда Печорин, после взволновавшей его встречи с Верой, скачет по степному простору кавказских предгорий: «Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума»(Лермонтов М. Ю.Соч. в 2-х тт. Том 2. М., 1990. С. 527–528). Мы привели цитату полностью, поскольку полагаем, что осознанный и точный прозаизм («усталость тела победит тревогу ума») ничуть не отменяет того, что душевная легкость сопрягается с созерцанием открытого пространства и с тем воздействием, которое оказывает на человека образ дали.
(обратно)95
Даль символизирует «горизонтальное» трансцендирование, не предполагающее достижение последней цели. Недаром это расположение было столь любимо романтиками, находившими в голубых и лиловых далях бесконечное движение, мечту, идеал, отрыв от здешнего, повседневного… Можно вспомнить чеховских героев, которые, с одной стороны, мечтали о лучшей жизни через 200–300 лет, а с другой, испытывали неизбывную тягу к уходу И время от времени предлагали друг другу: «Бросайте все и уходите, пока не поздно…» («в Москву, в Москву!»)
(обратно)96
Ожидание того, что отдаленное, неизвестное, грядущее будет лучше настоящего и прошлого, связано с предустановками человека модерна, порвавшего с ориентацией и на вечное, и на прошлое, проверенное временем. Культура модерна, не утратив страха перед будущим (страх грядущей катастрофы), в то же время смотрит в него с надеждой.
(обратно)97
В песне В. С. Высоцкого «Горизонт», обыгрывается тема предельного усилия в рискованной экзистенциальной гонке, имеющей целью границу возможного – горизонт и… его преодоление.
Предельное усилие, задаваемое и определенное отдаленностью горизонта, позволяет его раздвинуть. Не более. Достичь горизонта не удается. Его достижение равнозначно выходу за грань жизни: предельное усилие на пути к крайнему, последнему, может завершить только смерть («я горизонт промахиваю с хода»).
(обратно)98
Об этом условии встречи с далью мы не будем говорить подробно, поскольку уже не раз эту тему затрагивали. Оно остается одним и тем же в самых разных эстетических расположениях. За более подробным анализом этой составляющей эстетического события отсылаем читателя также к работе:Лишаев С. А.Эстетика Другого. С. 38–49.
(обратно)99
Шпенглер О.Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1993. С. 338–341,345— 348, 371–372, 441–443 и др.
(обратно)100
Глубина (подобно высоте, ширине, длине) – это термин для обозначения одного из измерений пространства, но он не связан с одним лишь вертикальным измерением (можно говорить о глубокой перспективе, о глубине ящиков в шкафу, о глубине грота или ниши и т. д.). Не стоит забывать и о том, что глубина по вертикали может быть не только глубиной-вниз, но и глубиной-вверх (глубиной неба). Кроме того, глубина не предполагает ни того, что пространство-вниз разверзается (обрывается)вниз (а для эстетики сверху-вниз направления это важно), ни того, что это пространство имеет значительную размерность. Понятно, что термин, с помощью которого можно говорить и о маленькой, бытовой глубине (глубина тарелки, шкатулки, выгребной ямы), и о глубине по человеческим меркам огромной, не может нести той смысловой нагрузки, которую несут «пропасть» и «бездна».
(обратно)101
Словарь русских синонимов (онлайн версия). URL: , m/all-mssian/mssian-dictionary-synonyms.htm (дата обращения: 25.08.2011).
(обратно)102
Даль В. И.Толковый словарь живого великорусского языка. URL: -russian/russian-dictionary-Dal.htm (дата обращения: 25.08.2011).
(обратно)103
В словаре Д. Н. Ушакова читаем: «БЕЗДНА, бездны, – жен. 1. Пропасть неизмеримой глубины. „Мне стало страшно: на краю грозящей бездны я лежал.“ Лермонтов. | Беспредельная глубина, беспредельность (-поэт.). „Открылась бездна, звезд полна (небо).“ Ломоносов. 2. Морская пучина. 3. Огромное количество, не поддающееся учету, очень много (разг.). Экая бездна звезд сегодня. В ней он видел бездну прелестей. Чортова бездна дел» (Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. URL: / all-russian/mssian-dictionary-Ushakov-term-59047.htm (дата обращения: 25.08.2011)). В словаре Т. Ф. Ефремовой: «Бездна ж. 1) а) Глубина, кажущаяся неизмеримой, не имеющей дна; пропасть, б) Беспредельность неба, вселенной, в) Бесконечность времени. 2) перен. Резко выраженные различия, глубокие расхождения, разделяющие кого-л. 3) перен. разг. Неопределенно большое количество, множество кого-л., чего-л. 4) устар. Ад, преисподняя» (Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный (онлайн версия). URL: http:// www. classes. ru/all-russian/russian- dictionary- Efremova.htm (дата обращения: 25.08.2011)). В словаре Ожегова-Шведовой: «БЕЗДНА, – ы, ж. Глубокая пропасть, пучина. Морская бездна»(Ожегов С. ИШведова Н. Ю.Толковый словарь русского языка. URL: / all-russian/russian-dictionary-Ozhegov.htm (дата обращения: 25.08.2011)).
(обратно)104
Приставка про- указывает на движение через (про-вести, пронести, про-нять, про-из-вести).
(обратно)105
Даль В. И.Указ. соч. В других словарях мы находим похожую трактовку этого слова. В словаре Д. Н. Ушакова (приводим только первые значения слова, имеющие прямое отношение к пространству): «ПРОПАСТЬ, пропасти, мн. и, пропастей-пропастей, – жен. 1. Крутой и очень глубокий обрыв, ущелье, бездна. „В горах, в подземных пропастях искали.“ Некрасов. Бездонная пропасть. На краю пропасти. Горная дорога вьется над пропастью»(Ушаков Д. Н.Большой толковый словарь // Указ, соч.) В словаре Ожегова-Шведовой: «ПРОПАСТЬ, – и, мн. ч. – и, – ей, ж. 1. Крутой и глубокий обрыв, бездна. Дорога над ~ю. На краю пропасти (также перен.: то же, что на краю гибели). Скатиться в п. (также перен.: дойти до тяжёлого, гибельного состояния)»(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.Толковый словарь. Указ соч.). В словаре Т. Ф. Ефремовой (здесь, за краткостью словаря, приведем все значения пропасти): «I. Пропасть ж. 1) а) Глубокая, отвесная впадина на земной поверхности, глубокий обрыв. перен. Грозящая кому-л. опасность, гибель. 2) перен. Резко выраженные различия, глубокие расхождения, разделяющие кого-л. 3) перен. разг. Употр. при указании на неопределенно большое количество кого-л., чего-л. II пропасть сов. неперех. см. пропадать (1-10)»(Ефремова Т. Ф.Новый словарь русского языка // Указ. соч.). В Большом толковом словаре русского языка находим такое толкование (также приводим его полностью): «I. ПРОПАСТЬ – и; мн. – пасти, – ей; ж. 1. Крутой, глубокий обрыв, очень глубокая расселина, бездна. Бездонная п. Машина свалилась в п. Скатиться в п. (также: дойти до тяжёлого, гибельного состояния). Идти над пропастью; быть, находиться на краю пропасти (также: подвергаться смертельной опасности). Толкать в пропасть кого-л. (также: губить). 2. Коренное различие, расхождение в чём-л. между кем-, чем-л. Между нами целая п. Нас разделяет п. После ссоры между друзьями возникла п. 3. Разг. Об очень большом количестве, множестве кого-, чего-л. Дел накопилось п. Народу там п. Денег у него п. Пропасть, в зн. межд. Тьфу, п. (выражает досаду, раздражение, неудовлетворение). Что за п.! (выражает недоумение)» (Большой толковый словарь русского языка. Первое изд-е: СПб.: Норинт. С. А. Кузнецов. 1998. URL: http:// =%EF%F0%EE%EF%E0%Fl%F2%FC &all=x (дата обращения: 4.09.2014)).
(обратно)106
Такое знание может быть опытным. Допустим, глубину вниз измерили и убедились, что в этом месте дна нет (ныряли и не достали до дна, опускали веревку с грузом, но мотка веревки не хватило, чтобы груз коснулся грунта). Или же такое знание может быть знанием-информацией: люди читали/слышали, что это место очень глубокое, и т. д.
(обратно)107
В небесную бездну можно смотреть, но падать в нее – невозможно.
(обратно)108
В отличие от бездны, слово «пропасть» используется для обозначения провала, который можно видеть; причем семантическая конструкция этого термина не предполагает, что человек не видит дна. Безусловность в восприятии и оценке этой формы пространства актуализируется через гибельность, а не через «бесконечную» глубину (невидимость дна) пространства-вниз.
(обратно)109
Куприн А. И.Гранатовый браслет // Повести и рассказы / А. И. Куприн. Саратов: Приволжск. кн. изд-во, 1985. С. 198–199.
(обратно)110
Применительно к протяженности о страхе говорил Э. Бёрк. Кант же обнаруживал это чувство в восприятии «динамически возвышенного», но не в восприятии величественного («математически возвышенного»).
(обратно)111
Подробнее о соотношении эстетики пропасти с эстетикой возвышенного у Бёрка и Канта см. Приложение 4.
(обратно)112
Непроизвольное, онтически обусловленное чувство страха, отталкивающее от края бездны – тот исходный эмоциональный фон, без которого пропасть как эстетический феномен немыслима.
Страх перед бездной растет по мере приближения к ее краю, открывающему вид в пустоту, вид на возможность смерти… Тело, имеющее опыт падения на ровном месте с небольшой высоты (а кто такого опыта не имеет?), помнит об этой возможности на бессознательном уровне. Вид глубокой пропасти никого не оставляет равнодушным. Прежде чем человек успеет что-то подумать, его тело успевает отправить на экран сознания сигнал-предупреждение: «Стой, опасно! Немедленно отойди от края!». Весьма своевременное предупреждение: стоит оступиться, споткнуться, уступить резкому порыву ветра – и он в свободном падении.
(обратно)113
Мы склонны видеть в ситуации взаимодействия человека с пропастью примерно ту же динамическую структуру переживания, которую Кант обнаруживает в аналитике возвышенного. (Возвышенное чувство трактуется им как «чувство сверхчувственного», явленное в ситуации предельной умалённости эмпирического, природного начала в человеке в его предстоянии стихийной мощи природы, ставящей под вопрос само его существование, хотя здесь и теперь не способной до него «дотянуться».
(обратно)114
Подготавливает в том смысле, что он, во-первых, выводит его из озабоченности посторонними (по отношению к тому, что открывается зрительному восприятию) мыслями и образами и, во-вторых, приводит душу в движение, «разогревает» ее.
(обратно)115
Если край пропасти надежно огражден, а в местах, посещаемых туристами, это бывает нередко, такая возможность появляется и у тех, кто высоты боится. Впрочем, есть люди, которых даже видимая защита от возможного падения не заставит подойти к краю и посмотреть вниз.
(обратно)116
У желания быть наверху есть, конечно, и иные (социальные, культурные, экзистенциальные) основания, но задачи, которые мы перед собой поставили, не требуют углубления в исследование этих мотивов.
(обратно)117
«…Перед изумленными взорами новичков открывается одновременно величественная в своей красоте и отчасти пугающая картина. <… > Вокруг зеленым ковром расстилаются сопки. <… > Ослепительное солнце заливает ни на что не похожий ландшафт. <…> Людей, особенно новичков, охватывают такие эмоции, которые даже трудно описать. Это нечто напоминающее смесь восторга, безграничного восхищения творением природы или Господа Бога и одновременно осознание ничтожности и бренности человеческого бытия, суеты, оставшейся где-то далеко внизу В то же время человека охватывает гордость за то, что ему посчастливилось дойти, увидеть и оценить величие, красоту и масштабы мира сего. Взрыв эмоций добавляет сил, усталость снимает как рукой. <…> Над нами плывут низкие рваные облака. Их тени образуют на склонах сопок пятнистый узор. Счастливо улыбаемся друг другу, как же, ведь мы наверху и все далеко видно»(Нагорный Александр.Восхождение на гору Пидан». URL: ) (дата обращения: 20.08.2011)).
(обратно)118
Подробнее о чувстве высоты и о его связи с пропастью см. Приложение 5 к главе 2: «Высокое положение. Вид сверху».
(обратно)119
Конечно, напрямую связывать высоту с чувствами собственного достоинства, самоуважения на одном конце этического спектра и с возгреванием таких страстей, как гордость и тщеславие, на другом – значит огрублять живое чувство, предавая забвению эстетическую составляющую влечения к высоте (высота – то, что нравится «само по себе»). Но необходимо признать, что когда мы имеем дело с сознательным стремлением к высоте, оно обусловлено еще и этической мотивацией. Для человека, который карабкается вверх (особенно когда он молод и путешествует в компании), важно не отстать от других, а еще лучше – дойти первым и сознавать, что «я это сделал!» Для эстетического анализа пропасти как утверждающего расположения эстетики направлений важно, чтобы были исследованы влечения и эффекты, задействованные в преэстетической диспозиции пропасти. Об этических мотивах, влекущих к высоте, мы упоминаем постольку, поскольку они способствуют визуальному соприкосновению с пропастью, стимулируют к тому, чтобы «постоять на краю».
(обратно)120
Люди, имеющие дело с высотой, говорят о жизненной важности «страха высоты» (пропасти). Его исчезновение может привести к гибели. Для примера приведем высказывание Владимира Доленко на одном из альпинистских форумов (обсуждается «страх высоты»): «Страх высоты должен присутствовать ВСЕГДА! Другой вопрос – контролируете вы его или нет? А еще к высоте должно быть УВАЖЕНИЕ… Как только скалолаз или альпинист перестает бояться (см. УВАЖАТЬ) высоты, он (или она) чаще всего ПОГИБАЕТ… Причем в прямом смысле». URL: -615856_1371004 (дата обращения: 14.08. 2011).
(обратно)121
В цитировавшемся выше отрывке из «Гранатового браслета» А. Куприна разговор заходит, среди прочего, и о привыкании человека к самым, казалось бы, волнующим предметам: к бесконечности моря, к бездонной глубине пропасти.
«Я тебя понимаю, – задумчиво сказала старшая сестра, – но у меня как-то не так, как у тебя. Когда я в первый раз вижу море после большого времени, оно меня и волнует, и радует, и поражает. Как будто я в первый раз вижу огромное, торжественное чудо. Но потом, когда привыкну к нему, оно начинает меня давить своей плоской пустотой… Я скучаю, глядя на него, и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедает.
Анна улыбнулась.
– Чему ты? – спросила сестра.
– Прошлым летом, – сказала Анна лукаво, – мы из Ялты поехали большой кавалькадой верхом на Уч-Кош. Это там, за лесничеством, выше водопада. <…> Вообрази себе: узенькая площадка на скале и под ногами у нас пропасть. Деревни внизу кажутся не больше спичечной коробки, леса и сады – как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта. А там дальше – море! Верст на пятьдесят, на сто вперед. Мне казалось – я повисла в воздухе и вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость! Я оборачиваюсь назад и говорю проводнику в восторге: „Что? Хорошо, Сеид-оглы?“ А он только языком почмокал: „Эх, барина, как мине все это надоел. Каждый день видим“»(Куприн А. И.Указ. соч. С. 199).
(обратно)122
Контрастность ближнего и дальнего планов возможна в том случае, когда твердь, на которую опирается человек, резко обрывается вниз, а глубины-вниз достаточно для того, чтобы пропасть показалась бездонной.
(обратно)123
Не следует также забывать о том, что люди значительно отличаются друг от друга по способности переносить высоту Для многих приближение к пропасти ближе, чем на 3–5 метров до ее края, – дело трудное, почти невозможное.
(обратно)124
Это отделяет пропасть от простора и дали и сближает ее с высью. Подробнее о специфике выси в следующем разделе.
(обратно)125
Ожегов С. И.,Шведова Н. Ю.Толковый словарь русского языка. URL: http://www. classes. ru/all- russian/russian- dictionary- Ozhegov.htm (дата обращения: 14.10.2011).
(обратно)126
Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. URL: -russian/mssian-
dictionary-Efremova.htm (дата обращения: 14.10.2011). Стоит отметить, что это значение указано лишь в словаре Т. Ф. Ефремовой.
(обратно)127
Словарь русских синонимов. URL: -mssian/mssian-dictionary-synonyms.htm (дата обращения: 14.10.2011)
(обратно)128
Ожегов С. И Шведова Н. Ю.Указ соч.
(обратно)129
Ожегов С. И Шведова Н. Ю.Указ соч.
(обратно)130
Слово «небосвод» – это на сегодняшний день метафора, связанная с бытовавшими в прошлом (в эпоху, когда мир мыслился как завершенное целое) представлениями о том, что небо – прозрачный и твердый свод/шатер (твердь), удерживающий на своем невидимом куполе небесные светила.
(обратно)131
Созерцание земли из космоса ничего не меняет: там, где нет земной поверхности и «притягивающей» к ней силы тяготения, там нет верха и низа, нет и таких направлений, как высь и пропасть.
(обратно)132
Н. Бараташвили.Синий цвет. Перевод Б. Пастернака.
(обратно)133
На солнце смотреть нельзя. Другое дело – наличие в небе облаков, которые способны надолго занимать наше внимание. Но когда на небе нагромождение облаков, нет условий для созерцания выси.
(обратно)134
Прот. Алексей Крылов, Михайлова М. В.Небо // Mixtura verborum’ 2007: сила простых вещей. Самара: Самар, гуманит. акад., 2007. С. 77–90.
(обратно)135
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.Толковый словарь русского языка. URL: -mssian/mssian-dictionary-OzhegOY.htm (дата обращения: 10.02.2012).
(обратно)136
Там же.
(обратно)137
Стоит отметить, что это значение указано лишь в словаре
Т Ф. Ефремовой (Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. URL: -russian/
russian-dictionary-Efremoya.htm (дата обращения: 10.02.2012)).
(обратно)138
Ефремова Т. Ф.Указ. соч.
(обратно)139
Когда мы воспринимаем расположенные на поверхности земли предметы, поднимающиеся высоко вверх, то далеко не всегда в фокусе внимания оказывается высота. В зависимости от того, каков предмет, а также от того, что именно в нем обнаружило себя в качестве особенного, в центре внимания может оказаться и его гармоничность, и его красота, и его старость. Одна и та же вещь может быть втянута в силовое поле эстетического события и как красивая, и как прекрасная, и как старая, и как ветхая, и как большая, и как высокая и т. д. в зависимости от того, чем именно она «задела» реципиента. В том случае, когда вещь велика по высоте, она может быть воспринята и как прекрасная, и как большая. Но та же самая вещь может стать внешним референтом в восприятии… высоты как снизу-вверх-направления.
(обратно)140
Очевидно, что большой – это не обязательно большой по высоте. Одно дело – большой жираф, другое – большой крокодил. Один предмет может быть велик по вертикали, другой – по горизонтали. Низкий предмет вполне может оказаться большим по величине (большой, приземистый одноэтажный дом), а высокий одуванчик, растущий рядом с низкими, – маленьким, как и все одуванчики, если их сравнивать с людьми. Одуванчик высок по сравнению с другими одуванчиками, но мал по сравнению с человеком. В основе восприятия величины предмета лежит непроизвольное сопоставление величины нашего тела с величиной того, что мы созерцаем, причем в этом сопоставлении высота или ширина тела имеют значение не сами по себе, а в соотнесении с величиной предмета.
(обратно)141
Муравей может быть большим и маленьким, если воспринимать его величину в ряду насекомых этого вида. Но большим в эстетическом отношении он (в нашем восприятии его величины), для нас не будет.
(обратно)142
Лишаев С. А.Эстетика Другого. С. 29–32.
(обратно)143
Например, нет пары у такого расположения эстетики отвержения, как ужас, не имеют её уют (эстетика интерьера) и даль (эстетика направлений).
(обратно)144
С высью все иначе. Высь – не преграда, а недоступное измерение пространства, это Другое, открываемое через созерцание бесконечности наверху-пространства как иного всему сущему, ограниченному, конечному. Всем существом своим человек сознает, что ему невозможно пребывать в выси небесной до тех пор,пока ему дано земное тело.Созерцая высь, он переживает очевидную невозможность перемещения. Раз человек не может достичь выси, ноона дана ему как не-его-возможностъ,ее реализацию он сопрягает (непроизвольно) с Высшей Силой. Высь – это моя возможность, опосредованная Другим, это возможность откровения Другого.
(обратно)145
Толковые словари (см. также Словарь русских синонимов, Ассоциативный словарь русского языка) определяют одно через другое. О чем это говорит? На наш взгляд, о том, что на речевом уровне смысловые различия между свободой и волей учитываются не всегда. И происходит это потому, что далеко не всегда возникает смысловая потребность в таком разграничении. Однако различия в семантике свободы и воли существуют, и в нашем случае есть смысл их учитывать.
(обратно)146
Абрамов Н.Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. – 7-е изд., стереотип. – М., 1999. /~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/% Dl%80/ (дата обращения: 02.10.2014).
(обратно)147
См. анализ воли как лингвоспецифичного концепта в работе A. Вежбицкой, сопоставляющей волю со свободой в русском и в других европейских языках:Вежбицкая А.Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001. С. 233–246.
(обратно)148
Многие толковые словари XX–XXI веков интерпретируют слово «простор» через свободу и только потом – через приволье, раздолье, волю (про последнюю, впрочем, иногда и вовсе забывают). Тем не менее, многие деятели отечественной культуры и ученые-гуманитарии обращали внимание, во-первых, на необходимость отличать свободу от воли и, во-вторых, на семантическую родственность лингвоспецифичных концептов «простор» и «воля» (об этом, в частности, говорили B. Вейдле, Д. С. Лихачев, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелёв, А. Вежбицкая и др.). Мы солидарны с высказанной этими учеными и хорошо подтверждаемой языковой практикой позицией. Нам представляется вполне обоснованной та оценка соотношения простора и воли, которая была высказана А. Д. Шмелевым (См.:Шмелёв А. Д.Русская языковая модель мира: материалы к словарю. М., 2002 С. 343–347).
(обратно)149
Тот, кто не может или не хочет ограничить свою волю, лишается свободы.
(обратно)150
В. И. Даль отмечает, что «Свобода жен. слобода южн., зап., сев. свободь воет., сев.» – это «своя воля, простор, возможность действовать по-своему», и она же (в форме «свободь») – «слобода, подгородное поселенье и посад. Эка свободь какая!». В этом же ключе Даль толкует и слово «слобожанин»: «Свобожанин, – божанка, слобожане, жители слободы, вольного населенья»{Даль В. И.Толковый словарь живого великорусского языка. URL: . ru/dal-slovari/slovar- S/46917. shtml (дата обращения 10.10. 2014)). На близость единство слободы и свободы указывает М. Фасмер: «Свобода – укр. свобода, блр. слобода, др. – русск. свобода „независимость“, а также „свободное поселение“ (Лаврентьевск. летоп., грам. 1264–1265 гг. и др.; см. Срезн. III, 278 и сл.)»(Фасмер М.Этимологический словарь. URL: / slovar/fasmer/s/svoboda.html (дата обращения: 10.10. 2014)).
(обратно)151
Громадность Российской империи – эффект действия многих сил. В частности, это эффект, возникший в результате наложения воли к расширению границ государства (имперский выбор) и бегства самых «бедовых» русских людей на окраины империи. Бежавшие от государственной и помещичьей регламентации крестьяне уходили к размытой границе Российского государства на юге и востоке и постепенно осваивали приграничные земли, заселяли их. Слабая населенность востока и юга России провоцировала к бегству за пределы контролируемых властью земель. Само-вольно осваивая новые (вольные, пустые) земли, живя отчасти разбоем, а отчасти земледелием, казаки через какое-то время стали заключать ряды (договоры) с государством, жертвуя частью своей воли и обязуясь служить царю и империи в обмен «на порох и ружья», на покровительство государства. Правда, и после включения казачьих областей в имперское «тело» там жилось вольнее, чем в более населенных и близких к центру землях. Отток наиболее активных и решительных людей на окраины империи, с одной стороны, способствовал выпусканию пара внутри страны, с другой – работал на расширение территории Российского государства. Однако за обширность своих территорий и за любовь русских людей к вольной воле России пришлось заплатить немалую цену. Простор съел свободу
Нет смысла бороться за «волю в рамках», то есть за свободу (за расширение поля легитимной реализации своих желаний), если можно просто уйти, отъехать в «дикое поле». С другой стороны, бегство крестьян на «вольные хлеба» в такой малолюдной (в сравнении с обширностью территорий) стране, как Московская Русь, подрывало обороноспособность страны, поскольку численность и качество дворянского войска зависело от того, сколько земель с крестьянами имело дворянство. Чтобы крестьяне не уходили от дворян, их прикрепляли к земле, урезали их «волю». Это, в свою очередь, только усиливало бегство на окраины (к которому в конце XVII столетия добавился и еще исход староверов – людей крепких и «принципиальных», как сказали бы сегодня). Петровские реформы и сгенерированная ими потребность в оперативной переброске «людских ресурсов» (говоря современным языком) привели к ужесточению «крепости». Нужны были рабочие руки, рекруты, деньги… Попытка «закрепить» людей силой вызывала в ответ новые потоки беглецов, осваивавших все новые земли, на территории которых присутствие государства не ощущалось или было слабее, чем в центре.
(обратно)152
Бердяев выделял ещетретью, высшую свободу, – свободу благодатную (свободу по благодати).Под последней он разумел такие наши желания-побуждения, которые влекут делать доброе без посредства третейского судьи (без соотнесения желания с моральными принципами), без насилия над собой, по благодати. (См.:Бердяев Н. А.Философия свободного духа. М., 1994. С. 87–101, 113–118).
(обратно)153
Речь пойдет о том общем впечатлении, которое производит Петербург в своей центральной, парадной части на человека «со стороны». Я исхожу из того, что в развитии города (в том числе – в развитии его пространственной эстетики), как и в развитии человека или романа, решающее значение имеют самые первые, начальные шаги. Очевидно, что в Петербурге есть районы, где доминирует иная, чем в центре, пространственно-градостроительная эстетика, что одно дело – Петербург фасадов, набережных и площадей и совсем другое – «изнаночный» Петербург дворов-колодцев. Множественность эстетических образов города – не случайность. Она – продолжение двойственности его пространства, способного в разных условиях (погода, время года, время суток), в разных местах и у разных людей пробуждать разные эстетические переживания. Так, например, дворы-колодцы создают ощущение сдавленности, стесненности. Эстетика простора и просторного – отличительная черта обращенного к трансперсональным стихиям «парадного Петербурга», а теснота дворов-колодцев и переулков – это Петербург будничный, «изнаночный». Чередование закрытых, лишенных зелени и света внутриквартальных пространств и просторных проспектов, площадей и набережных создает особый пространственно-эстетический ритм, порождающий разнокачественные и разнонаправленные переживания. Многообразие эстетических преломлений Петербурга в сознании не отменяет важности анализа его разноликих образов, связанных с ним персональных и коллективных мифов. Тем более не подлежит сомнению, что пространственно-эстетические эффекты городского центра имеют определяющее значение для понимания эстетики Петербурга, взятой in toto.
(обратно)154
Своеобразие градостроительной проработки пространства северной столицы со всей определенностью заявляет о себе при сопоставлении с Москвой (ее пространственный образ типичен для средневекового города). Москва возрастала домами, расходившимися вокруг Кремля сообразно рельефу местности и хаотической застройке. Теоретики градостроения давно обратили внимание на коренное различие в градостроительных принципах русских столиц: «Петербург всегда заполнял застройкой линии ранее предначертанного плана, Москва же, напротив, стремилась согласовать свои планы с изначально сложившейся планировкой и застройкой. <…> Геометрическая заданность регулярных улиц и площадей превращает сами здания в своего рода вспомогательный материал для строительства гигантской архитектурной декорации Петербурга. В то же время естественный характер сложения московского плана, очень точно «подогнанного» к холмистому рельефу местности, отводит главную роль ключевым зданиям-доминантам, которые полностью подчиняют себе целые участки городского пространства»(Гутов А. Э., Глазычев В. Л.Мир архитектуры: Лицо города. М., 1990. С. 21).
(обратно)155
Гутов А. Э., Глазычев В. Л.Указ. соч. С. 23.
(обратно)156
Лихачев, Д. С. Земля родная. М., 1983. С. 117–118.
(обратно)157
С этой задачей успешно справилась печально известная гостиница «Ленинград», ныне «Санкт-Петербург», прервавшая плавное движение взгляда по линии береговой застройки. Совсем недавно традиционная пространственная эстетика Петербурга едва не была взорвана… К счастью, башня Газпрома (благодаря борьбе горожан против ее строительства) не нарушила пространственной гармонии Петербурга.
(обратно)158
Силуэтное мышление поддерживается в Петербурге, помимо прочего, туманной, дымчатой атмосферой северного приморского города. Туманы, серое небо, частые дожди размывают архитектурный декор, акцентируют внимание на контурах крупных строений, так что эстетика города сдвигается от строгой графичности к акварельности, от линии – к пятну Силуэтно-панорамному мышлению подыгрывают и воспетые поэтами белые ночи, чей рассеянный свет убирает все лишнее, оставляя для скользящего по визуальным направляющим набережных взгляда самое существенное: узнаваемый силуэт самого необычного города России. Силуэт – это автограф, оставленный городом на странице северного ландшафта.
(обратно)159
Возможность создания панорамных видов на одной плоскости (на равнине) предоставляется градостроителю не всегда. Панорамность требует соблюдения целого ряда условий. Когда через город проходит река, резервирующая свободное пространство перед набережной, то само по себе это обстоятельство еще не дает возможности ввести простор в эстетический образ города. Для этого необходимо, чтобы расстояние до противоположного берега позволяло «читать» здания, читать линию набережной, но так, чтобы архитектурные детали не слишком оттягивали на себя внимание. Это необходимо, чтобы созерцатель воспринимал здания в целом и воспринимал окаймляющие набережную сооружения как одну линию, чтобы он любовался городским силуэтом (и простором), а не зданиями и их архитектурным декором (городской силуэт – это визуальный портрет города).
Такие условия складываются редко. Волга, например, настолько широка, что даже в тех редких случаях, когда город перебирается с одного берега на другой (или когда два города на разных берегах сливаются в один), его фрагменты не воспринимаются как одно целое (Нижний Новгород, Ульяновск, Саратов-Энгельс). В тех же случаях, когда река значительно уже, чем Нева, дома на противоположном берегу выглядят почти как «дома на противоположной стороне улицы»; в результате – по измерению шири – обзор оказывается ограниченным и впечатления от городского силуэта не складывается. В этом случае взгляд фокусируется на разновеликих объемах зданий, на архитектурном декоре, но не на силуэте. Маленькая река, протекающая через город, делает его уютным, но не позволяет выстроить величественную панораму.
(обратно)160
Купола церквей и башни колоколен, которые кое-где приподнимаются над архитектурным силуэтом города, слишкоммалыизатуманеныиз-за отделяющего их от противоположного берега расстояния для того, чтобы надолго приковать взгляд фланирующего вдоль парапета набережной пешехода. Именно ширь, а не даль определяет городской пейзаж Петербурга в районе парадных набережных исторического центра. В духе эстетики дали в Петербурге решены главные городские проспекты. М. В. Михайлова справедливо замечает, что «если простор дает нам линию схода, которая столь же определенна, сколь открыта для бесконечного движения в любую сторону, то перспектива предлагает точку схода, которая не оставляет созерцателю выбора. Оказавшись… в чистом поле, я могу двинуться, куда душе угодно; на Невском проспекте путь у меня будет только один – к золотому шпилю Адмиралтейства. Перспектива структурирует пространство так, чтобы любое движение приобретало статус целенаправленного, рационально организованного, причем организованного не мной, а неким „строителем чудотворным“» (из заметок М. В. Михайловой, цитируется с согласия автора). Эстетика петербургских проспектов хорошо вписывается в эстетику порядка, в эстетику волевого, целерационального ограничения пространства как чувственного коррелята беспредельности.
(обратно)161
Петербургский простор –символ«открытого времени», то естьвремени в модальности будущего.Петр хотел, чтобы страна жила, не оглядываясь в прошлое.Пространственно-градостроительным символомбудущего должен был стать Петербург.Прошедшее обжито, уютно, оно – стена, защищающая от неизвестного, а потому пугающего будущего (прошлое – это иное, но такое иное, которое не пугает, но вызывает к себе интерес в качестве особенного модуса времени). Замкнутое пространство уюта связано с закрытостью, завершенностью того, что было, с органически сложившимся прошлым. Открытость новому в градостроительном плане находит себе соответствие в просторе и просторной городской планировке.
(обратно)162
«Протяженность может быть либо по длине, либо по высоте, либо по глубине. Из них наименьшее впечатление производит длина; сто ярдов ровной поверхности никогда не произведут такого же впечатления, как башня высотой в сто ярдов, или скала, или гора такой же высоты»(Бёрк Э.Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного. М.: Искусство, 1979. С. 101–102).
(обратно)163
Бёрк Э.Указ соч. С. 102
(обратно)164
Кант И.Соч. в шести томах. Т. 5. М.: Мысль, 1966. С. 278.
(обратно)165
То, что слишком значительно по размеру для того, чтобы воспринять его в качестве целостной, легко обозримой формы, оказывается вполне подходящим материалом для возникновения чувства величественного. Это тот феномен, который можно было бы отнести к «эстетике величин» (маленькое, большое, огромное и т. д.).
(обратно)166
При этом для Канта не имеет значения, с чем мы имеем дело: с очень большим телом (вспомним его пример с египетскими пирамидами) или с большим по своей размерности пространством («звездное небо над головой», морской простор, бескрайняя пустынная равнина, горная цепь, вздымающая свои пики под самые облака…).
(обратно)167
«…Для эстетической способности суждения природа может считаться силой, стало быть, динамически возвышенным, лишь поскольку она рассматривается как предмет страха» (Там же. С. 268).
(обратно)168
Мотивов, подталкивающих человека занятьнаверху-положение, несколько. Едва ли можно сомневаться в том, что у желания быть наверху есть не только эстетические, но и иные – религиозные, культурные, экзистенциальные, социальные, а также связанные с безопасностью и т. д. – основания, но мы сосредоточим внимание именно на эстетической составляющей чувства высоты.
(обратно)169
Реже предметом созерцания человека, занявшего высокое место, становится высь. Ночное небо особенно притягательно в ясную погоду в горах. Когда мы находимся на высоте звездной ночью, то для восприятия выси создаются благоприятные условия.
(обратно)170
В эстетических (а не в узкоспециальных – литературоведческих, искусствоведческих) оценках произведений искусства, изображающих пейзаж, исследователи чаще всего используют традиционные для европейской эстетики категориальные пары: красивое/уродливое, прекрасное/безобразное, гармоничное/дисгармоничное и т. п. Использование этого концептуального инструментария явно недостаточно для эстетического анализа художественных творений, посвященных пейзажу. Это не означает, что традиционные понятия бьют мимо цели. Очень может быть, что при оценке конкретных картин, рисунков или стихотворений термины «гармоничный», «красивый», «изящный», «величественный», «возвышенный» и т. д. на своем месте. Но если мы говорим не о художественно-эстетическом достоинстве картины или стихотворения как артефакта, а о характеристике изображенного в произведении пейзажа, то термины эти далеко не всегда дают возможность эксплицировать эстетическую специфику пейзажа, привлекшего внимание художника и побудившего его к творчеству
(обратно)171
Хотя философская эстетика местом и местностью не занималась, но в смежных областях такой интерес обнаруживает себя довольно давно. Проблематики священного места касается в своей известной работе Рудольф Отто(Отто Р.Священное. Об иррациональном в идее божественного и его отношении с рациональным. – СПб., 2008), а в России исследование ландшафта как данности ноуменального было предпринято в исследовании М. Г. Яковлевой (см.:Яковлева М. Г.Сакральный ландшафт: антропо-физика социального бытия. Автореф. диссерт… канд. филос. наук. Казань, 2004). Под сакральным ландшафтом Яковлева понимает «совокупность «мест», отмеченных встречей человека со священным» (Указ. соч. С. 6). И хотя «социокультурный ландшафт» рассматривается автором в социально-философской и философско-антропологической перспективе, в ряде моментов это исследование проводится с методологически родственных эстетике Другого позиций (ландшафт мыслится как «ситуативное единство вещей, человеческих состояний и окружающей местности», автора интересуют вещи и места, способные «прямо или косвенно говорить о священном» (там же. С. 8)). Стоит упомянуть, что Яковлева активно использует такие понятия, как «место», «местность», «событие ландшафта», «Другое», «опыт встречи с Другим». И хотя интерес этого автора сконцентрирован на рассмотрении сакрального ландшафта и топографии движения по нему человека («Путь героя»), результаты, полученные в диссертационной работе, могут быть полезны и для продвижения в исследовании эстетики ландшафта.
(обратно)172
Лишаев С. А.Эстетика Другого. Указ соч. С. 61–88.
(обратно)173
Нельзя не упомянуть и еще об одном достоинстве уюта как расположения. Это феномен, не имеющей жесткой привязки к человеческой деятельности. Это то, что случается с нами непроизвольно и связывается не только с закрытыми помещениями, созданными человеком, но и с тем, что «создано» природой (уютная поляна, долина и т. д.). Да и интерьер, созданный человеком, может переживаться как уютный без того, чтобы его старались таковым сделать. Свобода «от умысла» сближает уют с феноменами эстетики направлений и с эстетикой местности. Но другие интерьеры, которые сопровождаются особенными переживаниями (включая торжественное помещение), – это, как кажется нам на данный момент, интерьеры, которые создаются человеком в расчете на то, чтобы производить особенные чувства в сердцах тех, кто в них попадает. Похоже, что эстетика интерьера в большей своей части относится к эстетическому опыту, связанному с эстетической деятельностью.
(обратно)174
И эстетика местности, и эстетика интерьера по большей части остаются для нас «terra incognita». В этой книге мы вынуждены ограничиться только постановкой задачи и сделать первый шаг в ее решении. Помимо уюта мы предлагаем вниманию читателя что-то вродекраткого введенияв эстетикуторжественногопомещения (см. Приложение 1).
(обратно)175
Черных П. Я.Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. Т. 2. М., 2002. С. 67, 298.
(обратно)176
Подробнее о культурно-историческом аспекте эстетики уюта см. ниже по тексту.
(обратно)177
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.Толковый словарь русского языка URL: http://www. classes, m/all-russian/russian-dictionary- Ozhegov-term-27743.htm (дата обращения: 05.10.2014).
(обратно)178
Приятное – это комфортное для глаза (приятное освещение, приятный цвет, приятная форма…). Приятное – это то, что мы ощущаем по необходимости (с необходимостью), в чем нет событийности, нет метафизической составляющей. Пищевые продукты мы оцениваем на вкус и ценим их тем больше, чем приятнее и богаче ощущения, которые связаны с их потреблением. Покупая ткань, одежду, мягкую мебель, мы касаемся ее руками, желая проверить, насколько хороша, приятна ткань «на ощупь».
(обратно)179
Даль В. И.Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 4. М., 1996. С. 530.
(обратно)180
У уюта с приютом общий корень, отсылающий к глаголу «ютить», «ютиться». «ЮТИТЬ кого, приючать, ухичать, дать приют, пристанище; укрывать, прятать. Ютил я его, как родного, а он меня же корит! – ся, приючаться, искать приюта; пристраиваться, примащиваться, гнездиться. Ютиться под навесом, от дождя»{Даль В. И.Указ. соч. Т 4. С. 670). Человек прячется, укрывается от стихий, от неопределенности, от хаотического движения природы, общества и своих страстей. Он нуждается в приюте, и если где-то его обретает, то такое место он называет «уютным».
(обратно)181
По своим детским воспоминаниям я знаю, какое же это удовольствие – расположиться в сооруженном собственными руками шалаше, землянке, или в сбитом из дощечек и фанерок «домике» на две-три детских спины (летом), или в пещере из снега, устланной сосновыми ветками от выброшенных новогодних ёлок (зимой), когда ты находишься в укромном месте с друзьями, а за стеной укрывища шумит дождь или падает мокрый снег. Это было настоящее, подлинное чувство уюта!
(обратно)182
«КОМФОРТ (англ, comfort), бытовые удобства; благоустроенность и уют жилищ, общественных учреждений, средств сообщения и т. п. В переносном смысле: душевный комфорт – состояние внутреннего спокойствия, отсутствие разлада с собой и окружающим миром» (Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2003). «КОМФОРТ, – а, м. Условия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие и уют. Устроиться с комфортом. Психологический к.» (Толковый словарь С. И. Ожегова и И. Ю. Шведовой. Цит. по Большой электронной энциклопедии Кирилла и Мефодия, 2003). Как видим, комфорт трактуется энциклопедией и словарем именно как «бытовые удобства». Интересно, что комфорт синонимичен уюту лишь в том случае, когда это слово употребляется не в прямом, а в переносном смысле («душевный комфорт»).
(обратно)183
В Историко-этимологическом словаре П. Я. Черных мы, в частности, читаем: «УЮТ, – а, м. – совокупность удобств, расположение и расстановка вещей, предметов – то, что делает жилище удобным и красивым»(Черных П. Я.Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. М., 2002. Т. 2. С. 298).
(обратно)184
Несмотря на то, что современные толковые словари связывают уютное с удобным, в отечественной лингвистике есть исследователи, не разделяющие этой позиции. В единственной из известных нам работ по русской семантике, в которой тематизирован уют, на первый план выдвигается как раз идея «укрытия», «замкнутого пространства». Мы говорим о работе А. Д. Шмелёва, который говорит об уюте в связи с простором: «Наряду с тягой к большому открытому пространству, к простору, в русской культуре представлена также, хотя и менее ярко выражена, любовь к небольшим закрытым пространствам, к уюту Отгораживаясь от „холодного ветра простора“, человек надеется обрести душевный мир и покой. Выходя на простор, человек попадает в огромный мир, где его могут подстерегать различные опасности. Поэтому естественно стремление спрятаться, укрыться от них, найти уютный уголок, где человеку было бы уютно и ничего не грозило. <…> Связь уюта с идеей укрытия проявляется в том, что упоминание об уюте нередко соседствует с указанием на то, что за окнами дождь, холод, война, революция. Так, герои „Белой гвардии“ М. Булгакова отгораживаются от крушения мира кремовыми шторами. Иными словами, для уюта требуется отдельное обжитое пространство, хотя и маленькое, но свое, отгороженное, а отгороженность создает ощущение уюта; ср.: Ему нянечка шторку повесила, / создала персональный уют! (Галич)»(Шмелев А. Д.Русская языковая модель мира: материалы к словарю. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 78–79).
(обратно)185
Такое место (долина среди гор, речная долина, поляна в лесу) может служить для человека приютом, и, как следствие, его можно описать и как уютное место. У Пушкина в «Бахчисарайском фонтане» читаем: «Долин приютная краса». У Жуковского в «Сельском кладбище»: «И скромный памятник в приюте сосн густых». Как видим, приют и уют – вместе живут.
(обратно)186
Чтобы такое место было уютным, важно, чтобы деревья росли не слишком близко друг к другу, а берегу оставалось небольшое открытое пространство: «зеленая комната» с видом на закрытое со всех сторон водное «оконце».
(обратно)187
Следует отметить, что барочный парк предполагал создание уютных «зеленых кабинетов», то есть небольших по размеру и замкнутых со всех сторон живыми изгородями местечек, предназначенных для отдыха, уединения и размышления.
(обратно)188
Впрочем, в определенном контексте слово «комфорт» к городскому пространству все же применимо. Не говорят: «комфортная площадь», «комфортная улица», «комфортный сквер», но выражение «комфортная городская среда» уха не режет.
(обратно)189
Там же. С. 67.
(обратно)190
Там же. С. 67. У В. И. Даля же читаем: «Приют, пристань, пристанище, кров, скрывище, убежище, прибежище, спокоище; притон. Приютами называют заведенья для призренья дряхлых, убогих или сирых; богадельня; детские приюты, воспитательные заведенья. Где пиво пьют, там и нам приют»{Даль В. И.Указ. соч. Т 3. С. 465).
(обратно)191
«УКРОМНЫЙ, – ая, -ое – „уединенный“, „отдаленный, скрытый от посторонних взглядов“. <…> Укромъ – „край“, „предел“, укро-мити – „отдалить“, укромь – „отдельно“. Ср. др. – рус. Кромъ – „arx“ („верх“, „вершина“, „акрополь“, „цитадель“), кром – „кроме“, „опричь“, „вне“, „прочь“, кромешный – „внешний“ {Черных П. Я. Указ. соч. Т 2.
С. 287). Из этимологии укромности проясняется и семантика скромности. Скромный – тот, кто скрывает интимное, «самое свое» от посторонних глаз, кто не спешит (стесняется) выставить свои душу и тело напоказ. Интересные сведения об укромном можно почерпнуть также у В. Даля: «Укромное местечко, укрома ж. укром м. свое, особое, отдельное; малое и скромное, тихое; приют, притон, пристанище, одинокая отрада, уютное уединенье. Волк в лес овцу тащил, в укромный уголок. Крылов <…> Живут они укромно, тихо, скромно, тесно, но уютно. Так приезжай же в мой укром, в мою укрому! В приют. Укромность, свойство, качество по прлгт. [укромный], уют, комфорт» (ДальВ. И. Указ. соч. Т. 4. С. 485).
(обратно)192
«КРОМКА, – и, ж. – „край чего-л. (напр., доски) или продольная узенькая полоска по краю ткани“, „каемка“, „вообще край, грань чего-л.“. <…> Также кромъ – „кремль“ („огражденное стенами место“ в Пскове (XV в.))»(ЧерныхП. Я.Указ. соч. Т 1. С. 445).
(обратно)193
«Др. – рус. (с XI в.) и ст. – сл. КромНпьный – „вовне находящийся“, „внешний“. <…> Произв. (с конца XVI в.?) кромешник – „опричник“. Встр. У Пушкина в трагедии „Борис Годунов“, 1825 г., сц. V: Пимен (о „любимцах гордых“ Грозного): „Кромешники в тафьях и власяницах“. От кроме – вне (см. кроме; ср. опричник от опричь – „кроме“)»(Черных П. Я.Там же. С. 445).
(обратно)194
Даль В. И.Указ. соч. Т. 4. С. 668.
(обратно)195
О том положительном, ценимом русским человеком значении, с которым сопряжено лингвоспецифичное слово «простор», можно прочитать в статье И. Б. Левонтиной и А. Д. Шмелева, а также в уже цитировавшейся книге А. Шмелева (см.'.Левонтина И. Б.Родные просторы. Логический анализ языка. Языки пространств / И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. М., 2000. С. 338–347).
(обратно)196
Судя по всему, корень «ют», в противоположность корню «юр», означает закрытое, спокойное место. Во всяком случае, и слово «при-ют» (в компании с глаголами «ютить», «приючать»), и слово «у-ют» отправляются от корня «ют» и означают укрытое, защищенное (скрытое) от стихий место.
(обратно)197
Шмелев А. Д.Указ. соч. С. 80–81. В небольшом комментарии к приведенной нами выдержке из работы А. Д. Шмелева мы хотели бы обратить внимание на следующий момент: отличие уюта от Gemütlichkeit не следует видеть в том, что русский уют якобы не выражает чувства «внутреннего покоя». Отличие заключается не в этом, оно в том, что немецкий уют не отсылает к идее «приюта», «укрытия», к «закрытому от посторонних глаз месту». Впрочем, в другой работе этот же автор высказал суждение, с которым нельзя не согласиться: «Сравнение слов уютный и gemütlich показывает, что ощущение непереводимости, уникальности какого-либо слова не всегда связано с собственно семантическими особенностями. Своеобразие слова gemütlich заключается в первую очередь в его культурной нагруженности, плотности ассоциативного поля»(Левонтина И. Б.Родные просторы. Логический анализ языка. Языки пространств / И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. М., 2000. С. 346).
(обратно)198
Попадая в эти состояния, маленький человек большого мира (при)поднимается (пусть самую малость) над стертостью и серостью своего существования.Склоняясьнадтрогательным, маленьким, умиляясь ему, жалея его (а вместе с ним и самого себя: в сущности, такого же маленького и беззащитного), он занимает по отношению к нему позицию взрослого, самостоятельного человека. О феноменах трогательного и забавного см. интересную и содержательную работу Е. В. Сальниковой(Сальникова Е. В.Эстетика рекламы. Культурные корни и лейтмотивы. М., 2001. С. 58–80).
(обратно)199
При этом мы ни в коем случае не должны забывать, что внешние и внутренние условия уюта не гарантируют, поскольку уют – это не предметная данность, а эстетическое событие. В то же время не стоит и приуменьшать роли субъективной настроенности и потенциала предметно-пространственной среды как условий, способствующих уюту
(обратно)200
То, что плохо для частной жизни, оказывается на своем месте в таком помещении, где выстраивается пространство встречи с надчеловеческим, общественным, государственным, с тем, что выходит за рамки «приватного». Общественное здание нуждается совсем в другой размерности помещения, других принципах структурирования внутреннего пространства, в другом типе оформления интерьера (мебель, расстановка вещей, освещение и т. д.) Там, где необходимо подчеркнуть социальную дистанцию и вызвать у человека соответствующее чувство, размер помещения увеличивается. Чем выше некто поднимается по ступенькам карьерной лестницы, тем больше его кабинет: «большой начальник» не может сидеть в «маленькой комнатушке». Но для эстетики «уютного» официальность и парадность не нужны. Уютные дома и квартиры, в которых жили русские люди в XIX–XX веках, теряют свою уютность после «музеефикации». У всех (почти у всех, но исключения имеются) мемориальных домов-музеев есть одна характерная для них особенность: уютные при жизни хозяев интерьеры теряют способность излучать «тепло», производят впечатление «нежилых помещений». Что, собственно, не удивительно для дома, где все для чужих, для посетителей (как в супермаркете или в почтовом отделении). Примерзшая к полу мебель, таблички с пояснениями для любопытствующих экскурсантов, строгая смотрительница на стуле, веревочки, ограждающие экспонаты от прикосновений, обдают посетителей музея холодом могильного склепа.
(обратно)201
Следует сказать несколько слов об условности критерия величины. В некотором смысле любое закрытое и прогретое помещение, если вы оказались в нем после того, как основательно промерзли или промокли, способствует уюту. Чувство уюта может возникнуть даже в казарме, уютным может оказаться/показаться – при определенных условиях – и гостиничный номер, и небольшой концертный зал. Однако в общем случае чувство уюта преэстетически связано с постоянным пребыванием человека в не слишком большом, но и не слишком маленьком помещении. Трудности в определении величины помещения, в котором человеку может быть уютно, не означают, что границ не существует: крытый рынок и закрытый стадион (так же, как ангар или заводской цех) чувства уюта не вызовут.
Любые точные цифры в определении оптимальных размеров помещения, которое может быть уютным, будут условными. Одному человеку неуютно в комнате площадью 25 квадратных метров, другому уютным покажется и помещение в 40 метров. И все же большое и маленькое имеют границы, задаваемой размерностью человеческого тела.
(обратно)202
Подробнее о роли старых и старинных вещей в создании атмосферы уюта см. Приложение 3.
(обратно)203
Эстетически совершенной (совершенной в нашем восприятии), прекрасной будет та вещь, чувственный образ которой настолько хорош, что любое его изменение – как это чувствуется нами – может только повредить осуществившейся гармонии. Любуясьпрекраснойвещью, мы чувствуем, что здесь «ни убавить, ни прибавить», любуяськрасивойвещью, мы восхищаемся ей, но при этом не забываем отметить, чего ей не хватает «до полного совершенства».
(обратно)204
Обратим внимание на то, что с атмосферой уюта сочетается чувство красивого, но не прекрасного (под прекрасным мы понимаем безусловно красивое, красивое вне всякого сравнения). Чувство прекрасного как редкое и предельное эстетическое переживание, как безусловное эстетическое расположение не может соединяться с уютом как расположенностью, предполагающей душевный покой. Как предельный опыт, прекрасное относится к эстетике утверждения и гармонизирует душу, приобщает ее к благодати Цельности. Однако интенсивность переживания прекрасного такова, что душа потрясена, взволнована. Как эстетическое событиепрекрасноес уютом несовместимо. Старые вещи могут восприниматься как самостоятельный предмет эстетического созерцания (старое как условное эстетическое расположение наряду с молодым и зрелым), красивое и маленькое также могут быть источником эстетических переживаний, но в домашней обстановке они могут «стушеваться» в качестве красивых, маленьких, больших, старых… и восприниматься не «по отдельности», не как особые расположения, а как предметная составляющая уютного расположения. И все это потому, что они, подобно уюту, относятся к условным эстетическим расположением. Уют всегда оценивается в относительной системе координат: в доме может быть более или менее уютно или более или менее неуютно. Отдельно взятая вещь может восприниматься и как красивая, и как маленькая, и как старая, но вещи как фрагменты домашней обстановки (интерьера) представляют собой одно из условий чувства уюта.
(обратно)205
Соответственно, если в доме используется только электрическое освещение, то для создания в нем уютной атмосферы предпочтителен неяркий, желтоватый по окраске свет. Свою роль могут сыграть и местные (локальные) источники освещения (торшер, настольная лапа, камин и т. д.).
(обратно)206
укромный
(обратно)207
Эту тему было бы интересно рассмотреть в более широком (общеевропейском) контексте, но мы ограничимся русской культурой. Впрочем, и без специального исследования ясно, что интересующий нас феномен первоначально был поименован в странах Западной и Центральной Европы. В России же он укоренился под влиянием валоризации (если использовать термин Б. Гройса) частной жизни.
(обратно)208
Уют, а также родственные ему слова «приют», «приютиться», «ютиться» появляются в русском языке в одно и то же время: в конце XVIII – нач. XIX века. (Исключение составляет прилагательное «бесприютный», использование которого в письменной речи датируется семнадцатым столетием). Этимология слов с корнем «ют» остается пока что не вполне проясненной (см.:Черных П. Я.Историкоэтимологический словарь современного русского языка: в 2 т. Т. 2. М., 2002. С. 67, 298).
(обратно)209
В выражениях ^погулять на воле, * выйти на волю еще и сегодня слышится отголосок древнего понимания воли как пространства по ту сторону упорядоченности крестьянского мира.
(обратно)210
В каком-то смысле можно говорить о том, что представление древних греков о космосе как упорядоченном, хорошо закругленном,
выразительном и прекрасном целом (чью онтологическую структуру детально проработали неоплатоники) было представлением о космосе как о доме. У этого дома есть свои границы, у всего сущего есть свои места, свои комнаты и полочки; в комнатах царит порядок, так что ничего неожиданного случиться не может. Представления о мире средневекового человека также ориентированы на мир-как-дом, на мир как премудрое творение Бога, которое хоть и повреждено вследствие первородного греха, но по-прежнему свидетельствует о Божественной Премудрости. Мир – это дом, созданный Богом для человека. И только мысль о мире, сформированная в Новое время, рассматривает его как «физическое пространство», как «объект познания» и кладовую подручных материалов. Сила науки, ее познавательная мощь – прямое следствие разрыва с религиозно-мифологическими представлениями о мире как о доме и объективного взгляда на то, что в этом мире (при взгляде «со стороны») есть, имеется.
(обратно)211
Причем эти слова (как выражение регулятивной идеи дома) с полным основанием можно применить не только к жилищу крестьянина, но и к домам знатного человека и горожанина (купца, ремесленника).
(обратно)212
В силу неравномерности развития буржуазных отношений в разных странах Европы слова, означавшие примерно то же самое, что и русский «уют», появились в разное время. Но поскольку мы ограничили себя исследованием феномена уюта в той форме, в которой он сложилсяв отечественной культуре, вопрос о типологически близких к нему эстетических феноменах в других культурах (Gemütlichkeit, gezelligheid, cozy)мы оставляем в стороне.
(обратно)213
В России традиционное сознание оставалось основой общественной и частной жизни значительно дольше, чем в Западной и Центральной Европе. Его монолитность дала трещину только в XVII столетии, а кризис (и притом только в верхних слоях русского общества) пришелся на следующий век. Само слово «уют», о чем мы уже упоминали, в России появилось в конце восемнадцатого столетия.
(обратно)214
Впрочем, немало городов органического типа (или исторических центров старых городов), которые оказались в стороне от бурных процессов последних двух столетий, были музеефицированы, а это, уже с противоположной стороны, свидетельствует о том, что города традиционного типа перестали воспроизводить себя. Уцелевшие «города прошлого» охраняются сегодня как образцы градостроительной культуры, которой более не существует. Включенные в индустрию туризма они экспонируют не только архитектуру, но и ушедший в прошлое жизненный и душевный уклад, ностальгию по которому с успехом «монетизируют» туроператоры.
(обратно)215
Увеличение дистанции способно (визуально) сделать деталью ландшафта любой значительный по величине объект. Отодвинутая в глубину пространства она становится соизмеримой человеку Однако плотность городской застройки в сочетании с масштабом строений промышленной «архитектуры» не позволяет жителю мегаполиса отойти от дома на такое расстояние, которое сделало бы его соизмеримым телесности созерцателя.
(обратно)216
Следует также отметить, что все более распространенной сегодня становится ситуация, когда место работы и место жизни (отдыха, восстановления, общения с близкими и друзьями) не разделяются в пространстве. Работа и дом входят друг в друга. Рабочее пространство совмещается с домашним. Так бывает не только в тех случаях, когда речь идет о людях творческих профессий (писателей, журналистов, мастеров-надомников), но и тогда, когда вполне рутинная работа связана с интернет-средой или со сферой коммуницирования (человек-на-телефоне). В этом случае он много времени проводит дома, и характер его взаимодействия с домашним пространством изменяется. Напряжение и конфликтность жизни-в-работе перестает отделяться (пространственно) от спокойствия дома (от частной жизни), где, как известно, «и стены помогают».
(обратно)217
В единовременном смещении миллионов семей с «насиженных мест» сыграли свою роль и мировые войны, и революции. В России к этим потрясениям прибавились проводившиеся «ударными темпами» коллективизация и индустриализация, освоение Сибири и Дальнего Востока, «подъем целинных и залежных земель», массовые репрессии, высылка «идеологически чуждых элементов» из столичных центров…
(обратно)218
Подробно о тяге цивилизованного человека к природным, старым и экзотическим вещам писал Ж. Бодрийяр. См.:Бодрийяр Ж.Система вещей. М., 2001. С. 36–38, 82–95.
(обратно)219
В современную речь прочно вошло еще и слово «аниме», которое, если следовать нашей терминологии, следовало бы отнести, скорее, к мультипликации, чем к анимации. Слово анимация используется сегодня в том смысле, в котором еще недавно говорили о «массовиках-затейниках». Здесь «анимация» сближается с мультипликацией, поскольку аниматор – это тот, кто организует подобие общения, веселья, праздника (владеет технологией веселья).
(обратно)220
Речь, само собой, идет о тенденции, а не о фактическом положении дел с обустройством интерьеров. Если говорить о России, то описанная ситуация может считаться типичной лишь для элиты и наиболее обеспеченной части среднего класса, то есть для людей, проживающих в крупнейших городских центрах и на прилегающих к ним территориях.
(обратно)221
Приятное приятно для глаза, для уха (приятная музыка как фон), для языка, для носа, для кожи… Приятное всегда приятно, оно действует автоматически (чего не скажешь об уюте как эстетическом феномене). Приятное можно определить как управляемое (гарантированное) удовольствие. Дизайнер знает, какие формы, цвета, материалы приятны «на вид». Предсказуемость приятного позволяет бесконечно варьировать форму, цвет, пропорции вещей и преодолевать утомление потребителя, приманивать его новизной дизайнерского «решения». Удовольствие от доработанной дизайнером вещи возникает (должно возникать, если работа сделана хорошо) с той же необходимостью, с какой возникает (у большинства людей) удовольствие от потребления сахара. Вкусовые качества кондитерской продукции можно варьировать бесконечно, но держится это разнообразие на автоматически возникающем удовольствии от сахара.
Приятный на вид чайник выдает себя за красивый, льстя нашему глазу плавностью корпусных линий, пропорциями и гармоничностью цвето-тонового решения, но он не располагает к эстетическому переживанию (как событию данности особенного, Другого). Приятное ощущение, возникающее, когда взгляд падает на кресло (на шкаф, штору…), надо отличать от собственно эстетического чувства (например, чувства красоты). Критерием для проведения различия будет событийность эстетического переживания.
Удобство в расположении вещей, их эргономичная компоновка в пространстве комнаты делают пребывание в ней приятным, но приятные ощущения сами по себе далеки от уюта как эстетического расположения. Дизайнер эстетизирует вещи, но исходный пункт его деятельности – вещь с ее функцией. Вещи придается знак эстетической ценности (в нашем примере знак красоты), и она самим своим видом и приятным ощущением от нее отсылает к красоте и уюту, но не располагает к ним. Уют, в противоположность комфорту, основан не на принципе плоскости (поверхности), но на принципе иррациональной глубины (глубина – метафора, приложимая к живым, одушевленным феноменам, к вещам, у которых имеется изнанка, которые наделены (для нас) внутренним, символическим измерением). Итак, если охарактеризовать специфику пространственно-вещной составляющей уютного интерьера, то ей будет «упакованная» в предметах смысловая, символическая и жизненная содержательность вещей.
(обратно)222
Компенсация пустоты обходится недешево. «Живая жизнь» растворяется в паутине «как бы». Словосочетание «как бы», столь распространенное сегодня, симптоматично, оно указывает на нехватку в нашем мировосприятии чувства онтологической непреложности (то, что нас окружает действительно есть). Одна из многих подмен эпохи «как бы» – это подмена уюта комфортом.
(обратно)223
Достижение комфорта гарантировано, достижение уюта – нет.
(обратно)224
Это та сложность, с которой исследователю эстетики места приходится сталкиваться постоянно. И связана она с тем, что расположения эстетики места (да и местности, вероятно, тоже) не достигли еще той степени зрелости, на которой эстетический феномен получает компактное представительство в языке. Уют здесь оказывается исключением.
(обратно)225
Такие выражения, как «уютный диван», «уютное кресло», «уютный халат», «уютная обстановка», в повседневной речи используются довольно часто. Стоит только войти в Сеть и задать в поисковике соответствующее слово, как вы получите целую россыпь «уютных вещей», среди которых «уютные двери», «уютные шапки», «шарфы» и даже «уютные сапоги»… Несложно заметить, что термин «уютное» используется здесь в значении «удобный» («комфортный»), то есть придает удобной вещи оттенок теплоты и интимности.
(обратно)226
Термин «праздник» близок к «торжеству», но не тождественен ему. Внутренняя форма слова «торжество» отсылает к собранию множества людей в одном месте (торжище – это и рынок, где всегда много людей, и торная дорога), в то время как «праздник» – акцентирует внимание на особом статусе времени. Праздник – этовремя, отведенное для чего-товажного, значительного, отделенного от повседневности, и, соответственно, это особоенастроение, особая (серьезная, возвышенная, радостная) праздничная расположенность.Это праздное (не занятое повседневными делами) время.Термин«торжество» указывает насобрание людейвокруг чего-то, что этого заслуживает, но это собрание может быть посвященоне только тому, что вызывает радость, но и тому, что вызываетскорбь(траур, траурные торжества). Понятно, что собрания, имеющие оттенок торжественности, не обязательно происходят в дни официальных и неофициальных праздников (концертный зал филармонии, заседания парламента, конференц-зал университета заполняются и по будням). Торжественными бывают и помещения для работы (парламент, конференц-зал т. д.).
(обратно)227
В это время максимально раскрывается и тектоника внутреннего пространства церкви, и элементы ее убранства. Об этом, в частности, хорошо писал В. В. Бычков: «Комплекс искусств, связанный с церковным культом, был ориентирован… прежде всего на создание особого реального мира, некоей уникальной духовно-материальной среды, попадая в которую человек должен был получить реальную возможность приобщения к невидимому миру высшей духовности. Эта среда понималась как место соприкосновения, взаимного перехода мира видимого и невидимого, как реальное „окно“ в небесное царство. Широко раскрывается это „окно“ лишь в процессе богослужения, то есть художественная среда, созданная с помощью комплекса искусств, реально и полно функционировала только во время культового действа. Именно тогда художественные символы искусства воспринимались в качестве "реальных символов", то есть реально являли… изображаемое, обозначаемое, а участвующие в богослужении ощущали себя причастными к миру божественного бытия, вознесенными в небесное царство»(Бычков В. В.К вопросу о древнерусской эстетике (методологические заметки) // Проблемы изучения культурного наследия. М.: Наука, 1985. С. 308).
(обратно)228
Уютный интерьер для эстетического паломничества подходит плохо, ведь его смысл – в укромности и соразмерности отдельному человеку (семья), в обжитости и интимности. Уют – для немногих, для тех, кто живет в этом месте и для близких. Назначение уютного интерьера не в том, чтобы собирать множество разных людей, а в том, чтобы отделять индивида и его ближний круг от большого мира, от «чужих».
(обратно)229
Торжественное необходимо отличать от возвышенного (величественного) расположения, которое иногда (пусть и редко!) находит себе место в интерьерном пространстве. Обычно размерности интерьера бывает недостаточно для того, чтобы стать внешним референтом величественного (большого вне всякого сравнения). Только некоторые интерьеры (прежде всего, храмы) способны не только давать чувство приподнятости, но и потрясать своим величием (Софийский собор в Константинополе, собор ев. Петра в Риме, Исаакиевский собор в Петербурге и др.), но они выходят за границы эстетики торжественного интерьера.
(обратно)230
Ниже мы будем говорить о преэстетических характеристиках торжественного интерьера в полностью закрытых помещениях. Торжественных интерьеров под открытым небом (площади, мемориальные комплексы и др.) мы касаться не будем.
(обратно)231
Впрочем, практика инкорпорирования в дома представителей элиты мест для собрания многих относится к прошлому. Сегодня такое случается только в виде исключения. Вместе с уходом аристократии с исторической сцены ушло и время, когда дворцы знати совмещали в себе пространство частной и публичной жизни, когда они открывались для светских собраний, концертов, театральных представлений и т. п. Сегодня с интерьерами данного типа можно познакомиться в историко-культурных музеях.
(обратно)232
Семантика праздного – свобода, пустота.
(обратно)233
Для храма полумрак, неполная освещенность, световые контрасты имеют еще большее значение, чем для уютного интерьера. Сфера Божественного отделена от этого мира, она таинственна. Храм – это дом Божий. Чувство таинственности коррелирует (в плане восприятия) с тем, что (для нас) неясно и неотчетливо. Сгущающаяся по периферии значительного по объему храма темнота, царящий в нем полумрак позволяют ощутить сакраментальность места и того, что в нем свершается (богослужение, молитва, таинства); сумрак в пространстве храма – чувственно воспринимаемый коррелят тайны соприкосновения человека с Божеством, и апогея он достигает в пространственно-временном континууме литургии. В сумраке и темноте вещи и места оживают, они получают (преэстетически) второе измерение – измерение тайны.
(обратно)234
Шмелёв А. Д.Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М., 2002. С. 78.
(обратно)235
В случае с просторным как самостоятельным феноменом мы имеем дело с количеством как качеством места, с общим впечатлением от него. В свою очередь переживание уюта включает в себя восприятие его количественных характеристик: это помещение не слишком маленькое, не слишком тесное или узкое, не низкое, довольно просторное… и т. д.
(обратно)236
Пигров К. С.Социальная философия: Учебник. СПб., 2005. С. 85.
(обратно)237
О тоске по простору, по дороге, по открытому горизонту писали многие. Интересное свидетельство можно найти и в упоминавшейся выше переписке О. Книппер с А. П. Чеховым. «Вчера был такой славный солнечный закат, такие чудесные краски и колокола твои любимые звонили! И это все вместе так волновало меня, хотелось на простор, вон из этой рамки, в которую мы втиснуты. Другие хоть находят прелести в городской жизни, чувствуют эту прелесть и наслаждаются. Меня же скорее мутит городская жизнь, я точно избегаю ее, живя ею. И все меня тянет, все кажется – это не настоящая жизнь, и успокаиваю себя мыслью, что всегда ее можно оборвать, а хватит ли сил – неизвестно. Ты не думай, я не о самоубийстве. <…> Мне иногда кажется, что это настоящая жизнь: скитаться из края в край, не иметь родины, оседлости, привычек, всего, что тяжелит и мельчит жизнь. Мне кажется, что у такого человека и чувства должны быть крупнее, сильнее. Я вспоминаю твои слова, помнишь, ты говорил, что хотел бы с котомочкой ходить по белу свету? Я это понимаю» (О.Л. Книппер – А. П. Чехову, 2 сентября 1901 г. // Антон Павлович Чехов. Переписка с женой. Захаров, 2003. С. 220–221).
(обратно)238
Прекрасная вещь являет собственную «чтойность» с исчерпывающей полнотой: совершенный кувшин, девушка, корабль – прекрасны, а вещи, напоминающие о совершенстве (почти совершенные), – просто красивы.
(обратно)239
Проведите мысленный эксперимент: вообразите старый и такой же по габаритам и форме новый стул и скажите, какой из них кажется более основательным и надежным? Думаю, все согласятся, что более надежным покажется старый стул, чья укорененность в прошлом делает его эстетически более устойчивым и прочным по сравнению с его новым собратом.
(обратно)240
Если посмотреть на жизнь человека с точки зрения соотнесенности ее пространственных и временных координат, то дома он живет в настоящем, развернутом в прошлое, вне дома – открывает себя настоящему, развернутому в будущее, а оказавшись за границей города, поселка, деревни (в лесу, на море, в степи или в горах) он словно бы забывает о времени и находит себя в пространстве, открытом вечности (вне линейного времени).
(обратно)241
(обратно)242
Тот, кто взял бы на себя труд изложить «биографию» вещи, мог бы, вероятно, сказать о том, где, когда и при каких обстоятельствах она была изготовлена, когда ее купили или подарили, какие житейские события с ней связаны, какие огорчения и какую радость она принесла своим владельцам, о том, как ее лечили (ремонтировали), как за ней ухаживали…
(обратно)243
Не случайно персонажем одной из своих сказок Андерсен сделал старого оловянного солдатика, а не просто оловянного солдатика. Старую игрушку (шире – вещь) легче представить одушевленной, чем игрушку новую, ничем от других не отличимую.
(обратно)244
И не так важно, приходит человек в свой дом или в дом своих друзей, знакомых или родственников. Тепло, исходящее от старинной обстановки, в доме друзей воспринимается, пожалуй, даже сильнее, чем в собственном: здесь биографический контекст, соединенный со старыми вещами, отсутствует, так что эстетическая составляющая переживания старины старинного обнаруживает себя ярче и определеннее, чем в привычной обстановке собственного жилища. Чужие вещи не напоминают ни о родителях, ни о дедах и прадедах, они являют прошлое, прожитое, пережитое, обжитое…
(обратно)245
«Стиль… имеет отношение не только к форме, он ровно столько же касается и содержания – не содержания в смысле сюжета, темы, идейного материала, а духовного содержания, духовной сущности, которой на отвлеченном языке высказать нельзя; точнее сказать, стиль есть некоторая предустановленность их связи и в этом смысле гарантия художественной целостности. <…> XIX век был веком без стиля и как раз поэтому веком стилизации и безнадежных попыток придумать стиль. Но стилизацией и выдумкой архитектура жить не может; без стиля ее нет. <…> В механической архитектуре… есть единообразие, которого не знал XIX век, но это единство стандарта, штампа (хотя бы в своем роде и совершенного) – не стиля. Стандарт рационален; но только стиль одухотворен»(Вейдле В. В.Умирание искусства // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991. С. 271, 273, 276).
(обратно)246
Кукольное лицо – лицо слишком красивое. (Подлинная красота никогда не воспринимается как то, что «слишком»; слишком
красивое – некрасиво.) В «слишком» выражается зафиксированная на уровне эстетической оценки воспринятого детекция «поддельности» красоты. Все дело в том, что в случае с кукольным лицом то, что похоже на имитацию (кукла), – не имитация (не кукла, а человек). Перед нами настоящее человеческое лицо (мы это сознаем), но оно производит впечатление куклы, то есть неодушевленного и лишенного субъектности сущего. Красивая маска (маска-артефакт на карнавале) привлекает к себе внимание, ее вид (если она хорошо сделана) может доставлять нам эстетическое удовольствие (неподвижность и правильность форм в данном случае – на своем месте), а «слишком красивое» лицо, лишенное внутренней жизни и глубины, вызывает смутную или явную тревогу
(обратно)247
При этом следует отметить, что кукольное лицо не следует смешивать с лицом-маской (например, с маской приличия), позволяющей человеку соответствовать тому модусу эмоциональной включенности, которая регулируется культурным кодом, правилами поведения, обычаем. Такую маску предъявляют сообразно ситуации, в которой человек оказался «на людях»: это может быть маска приветливости, скорби, учтивости, радушия, сочувствия, веселости и т. д. Маска здесь воспринимается как то, что «надето» поверх лица, как личина, скрывающая действительное расположение человека. Тот, кто носит маску, что-то прячет… Чувствуя это, мы понимаем: живое, настоящее лицо от нас скрыто.Непроницаемое лицо(маска невозмутимости) не пусто, поскольку мы понимаем: за маской скрывается субъект с какими-то мыслями и чувствами (непроницаемое лицо, подобно маске изготовленной ремесленником,делают, создают).«Кукольные лица» – этолица без маски, но при этом и без внутреннего огня: их мимика механистична, однообразна, она пробегает по «поверхности», как волна, не выражая собой ничего затаенного (ни желания, ни мысли, ни надежды…). Маски нет, но как будто бы на лицо маска надета…
(обратно)248
По-настоящему красивым человек кажется нам в том случае, если его лицо (не обязательно безукоризненно правильное) одушевлено и одухотворено движением изнутри – вовне (радость, веселье, восхищение) или, напротив, извне – внутрь (задумчивость, сосредоточенность, скорбь…). Вспомним весьма показательное сопоставление, проводимое Толстым в «Войне и мире» между Наташей Ростовой и ее сестрой Верой, между Наташей и Элен Курагиной. Красота Элен правильна, скульптурна, но «мраморна», «безжизненна», красота Наташи – это сама жизнь, просвечивающая в ее движениях, глазах, улыбке, во всем ее по-женски порывистом, пластичном существе.
(обратно)249
Здесь уместно будет сказать и еще об одном значении слова «кукла». «Куклой» называют муляж пачки купюр, которую мошенники незаметно подсовывают жертве вместо настоящих денег, только что пересчитанных у нее на глазах. В данном значении «кукла» – это стопка резаной бумаги, имитирующая пачку денег: сверху и снизу лежит несколько настоящих купюр, а внутри – простая бумага. Обман легко обнаружить, если, конечно, заглянуть внутрь.
(обратно)250
Концептуальные принципы эстетики Другого делают любое подведение итогов предварительным. Они не предполагают построения замкнутой системы категорий, охватывающей в содержательном плане все формы эстетического опыта. Эстетика Другого всего лишь задает смысловой горизонт, позволяющий выявлять и исследовать многообразные формы эстетического опыта. Причем сам этот опыт рассматривается как исторически изменчивый, подвижный.
(обратно)251
Подробнее см.:Хюбнер Б.Смысл в бес-СМЫСЕННОЕ время: метафизические расчеты, просчеты и сведение счетов. Мн., 2006.
(обратно)252
Мы хотим сказать, что он перестал восприниматься как образ Божий, а уподобление Иисусу Христу перестало быть экзистенциальным ориентиром для секулярного общества. Утратили свою очевидность и социальные конкретизации образа настоящего человека; они стали предметом самоопределения личности.
(обратно)253
Опыт чувственной данности Другого всегда конкретен, ситуативен, но анализ обнаруживает в пестроте и многообразии эстетических ситуаций и переживаний типологически устойчивые фигуры – «эстетические расположения». Под расположением мы понимаем континуум человека-и-вещи, конституируемый в точке эстетического события: понятие эстетического расположения ориентирует исследователя на дескрипцию эстетического опыта во всей его неустойчивости, изменчивости, подвижности.
(обратно)254
Подробнее см.:Лишаев С. А.Эстетика Другого. С. 125–206.
(обратно)255
Такая ситуация рассматривается нами как временная, поскольку категории классической эстетики, попав в концептуальное пространство эстетики Другого, могут и должны заиграть новыми красками.
(обратно)256
Лишаев С. А.Там же. С. 183–197.
(обратно)257
Вопрос о том, входит ли в эстетику мощи также и эстетика немощи, остается для нас пока что непроясненным. С принципиальной точки зрения этого исключить нельзя (ведь рядом с эстетикой большого имеется и эстетика маленького, рядом с прекрасным – эстетика безобразного и т. д.), но вписывать в эту часть карты бессилие и немощь как предметы эстетического восприятия только ради принципа симметрии противоположностей не имеет смысла. Предметом описания и анализа феноменологии эстетических расположений может быть только то, что обнаружило себя в качестве эстетического расположения.
(обратно)258
Интересные размышления об онтологии скорости и неспешности см. в работе:Секацкий А. К.Неспешность: онтологические и теологические аспекты // EINAI: Проблемы философии и теологии. № 1. СПб, 2012. С. 24. URL: -01-Sekatsky.pdf (дата обращения: 02.04.2013).
(обратно)
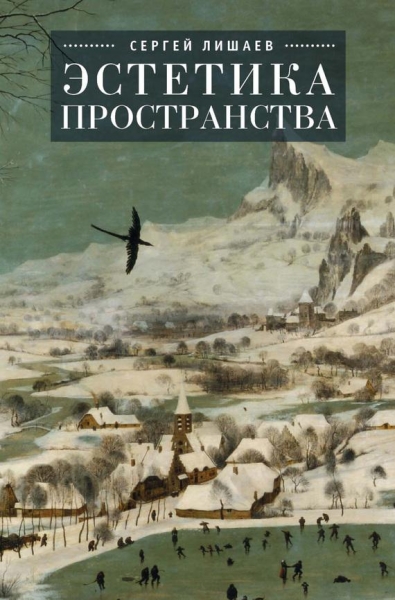


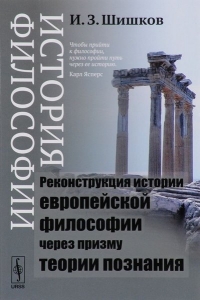

Комментарии к книге «Эстетика пространства», Сергей Александрович Лишаев
Всего 0 комментариев