Новые идеи в философии. Сборник № 7. Теория познания III
От редакции
В сборниках III, V, и VII «Новых идей в философии» дан обзор важнейших современных направлений в гносеологии. Редакция сборников сочтет свою задачу в отношении к этой важной философской дисциплине выполненною, по крайней мере для настоящего времени, дав еще два сборника, посвященных ей: один будет содержать статьи, рассматривающие связь точных наук и гносеологии, а другой будет посвящен философам и работам их, имеющим значение в истории развития гносеологии. К одному из этих сборников будет приложена также и литература вопроса.
Г. Риккерт Два пути теории познания
Следующие замечания пытаются указать два пути, которые должна принять теория познания для разрешения своих проблем. О направлении науки можно говорить тогда, когда опознана ее цель. Только цель определяет ее понятие, так как все науки суть понятия о задачах. Поэтому прежде всего мы должны указать цели теории познания. Это должно быть установлено просто определением, без особого исследования. Если кто-либо захочет употребить название теории познания для науки с другими задачами, – возражать на это не придется. Здесь дело в разрешении запроса, каким путем может идти теория познания, если она ставит себе следующие задачи.
I. Предпосылки теории познания
Термин «познание» мы употребляем в самом широком смысле слова. Поэтому оно прежде всего есть род мышления. Под мышлением же мы понимаем всякий психический процесс, который может быть истинным или ложным, и познание отличается тогда от мышления вообще тем, что оно есть истинное мышление. Таким образом, называя всякое истинное мышление познанием, мы устанавливаем один общий термин для обозначения всех процессов, заключающих в себе разрешение проблемы истины. Если бы мы придавали этому слову более широкое значение, в которое вовсе не входит понятие истины, то впали бы в противоречие с общепринятым словоупотреблением. Итак, теория познания есть наука о мышлении, поскольку оно истинно. Этим занимается также и логика; и мы действительно не хотим проводить здесь различия между логикой и теорией познания: ведь мы мыслим логически также только тогда, когда мы мыслим истинно. Логика не есть поэтому учение о мышлении вообще, но об истинном мышлении, и мы будем употреблять выражение «логический» для обозначения мышления, поскольку оно есть истинное мышление. Мы могли бы также воспользоваться термином «учение об истине», ибо слово «истина» прилагается в качестве предиката не только к мышлению, но и к акту истинного мышления, или к самому познанию. Но именно из-за этой двузначности понятие теории познания – лучше. С одной стороны мы хотим говорить не только о мышлении вообще, с другой же стороны – не только об отвлеченной истине, но и об истинном мышлении или о действительном познании. Оба эти значения и выдвигаются выражением «теория познания». Вообще же говоря, конечно, безразлично, говорим ли мы – логика, учение об истине или теория познания. Главное, провести с самого начала абсолютное разливе между мышлением вообще и «истинным» мышлением, или познанием, и таким образом резко отграничить теорию познания от той науки, которая ограничивается исследованием исключительно психического процесса, охватывающего как истинные мысли, так и ложные. Это, конечно, также научная проблема, но не проблема теории познания.
В понятии теории познания, несомненно, заключены известные предпосылки, и желательно их явно выдвинуть. Хотя и выражалось требование, чтобы теория познания была свободна от предпосылок, но ясно, что такое требование означает только возможно большее ограничение предпосылок. Даже и теория познания должна с самого начала допустить наличность объекта, который она желает исследовать. Но, предполагая познание и вместе с тем абсолютное различие между «истинными» мыслями и мыслями вообще, она должна также обосновать это различие; а это значит, что мышление должно быть истинным, должно быть больше, чем психическим процессом, должно, следовательно, содержать в себе нечто, что само по себе не есть только простое мышление. Если, придерживаясь терминологии установленной Кантом, мы назовем это нечто предметом познания, то теория познания будет наукой о предмете познания и о познании предмета. Однако предмет сам по себе не только не должен быть мышлением, но мы должны далее также допустить, что скорее наоборот, познание зависит от своего предмета, или что мышление должно сообразоваться с независимым от него предметом. Поэтому теория познания не должна задаваться вопросом, имеется ли вообще предмет и может ли мышление его постигнуть. Но, называя предмет, поскольку он независим от мышления, трансцендентным, она должна, прежде всего, допустить как трансцендентный предмет, так и то, что этот предмет каким-либо образом познается, так что ей остается лишь исследовать, что есть трансцендентное и как оно делается имманентным, или входит в мышление.
Названные предпосылки делает каждый научно-мыслящий человек, понимающий свои задачи. Впрочем, некоторые гносеологи уверены в том, что их можно оспаривать. Однако, это возможно только в том случае, если понятия берутся в слишком специальном значении. Так как последнее происходит очень часто, то лучше всего скажем ясно, что не совпадает с нашим мнением. Под трансцендентным предметом мы не разумеем некоей трансцендентной действительности, по сравнению с которой данная нам непосредственно реальность не может уже быть названа собственно действительностью; точно также под познанием трансцендентного мы отнюдь не понимаем какого-то особого «мышления», принципиально отличающегося от «опыта». Напротив, мы должны в самом начале нашего исследования, насколько это возможно, принять, что не существует иной действительности, кроме данной нам непосредственно, и что она не может быть познана иначе, как только посредством «опыта». Мы даже признаем, что трансцендентальная философия безусловно соединима с правильно понятым позитивизмом и эмпиризмом. Этим и отличается она, по нашему мнению, от всякой метафизики, т. е. от всякого воззрения, расщепляющего действительность на «мир явлений» и на лежащую за «ним» абсолютную реальность и, если эта реальность признается познаваемой, допускающего для этого разные «рационалистические» способности. Мы же предполагаем сначала лишь независимое от мышления трансцендентное «нечто» вообще, которое мы, впрочем, оставляем совершенно неопределенным.
Еще более ограничивать в начале исследования наши предпосылки мы уже не можем, ибо иначе теория познания навлекла бы на себя совершенно справедливый упрек, который уже выставлял против нее Гегель и который неизбежно будет всегда снова повторяться, именно, что она есть затея, заключающая в себе противоречие1. В этом случае, задавшись вопросом о «возможности» познания и в первом же положении ею устанавливаемом как истинное, implicite утверждая его действительность, она тем самым показала бы, что несерьезно занимается этим вопросом. Поэтому допущение чистой имманентности также невозможно, как и допущение абсолютного агностицизма. Этим мы также резко отграничиваем теорию познания от эмпирической психологии, как выше отграничили ее от метафизики. Истина, благодаря которой мы мышление называем познанием, не есть вовсе психический факт. Она вообще не есть нечто, что можно исследовать психологически, принимая во внимание просто его существование, бытие. А поэтому эмпирическая психология вовсе не может претендовать на разрешение проблем теории познания. Если же она все-таки выступает с подобным притязанием, то она становится психологизмом, который, будучи последовательным, необходимо должен прийти к разложению понятия познания, т. е. к отрицанию того, что имеется истинное мышление2. Разумеется, ни гносеологи-релятивисты, ни приверженцы учения об экономии мышления, ни «гуманисты», ни «инструменталисты» и прагматисты или, как иначе ни называли бы себя все эти последователи психологизма, не удовлетворятся этими замечаниями. Да этого, впрочем, и не требуется. Неблагодарный труд разуверять того, кто желает называть только «полезное» истинным и кто поэтому свою теорию познания признает только в том смысле и настолько, насколько она полезна. Я же не хочу быть полезным прагматистам, а следовательно, не обладаю средствами для того, чтобы добиться их согласия, да не обладает ими и никто, кто ищет истины. Против таких людей прагматисты будут всегда в выгоде. Так как они считают истинным то, что им полезно, то уже в самом начале своего исследования они не могут принять за истинное только то, что имеется вообще познание, как это допускаем мы, но делают также множество других предпосылок, которые им в высшей степени полезны, ибо без них они не могли бы быть прагматистами. Они принимают за «истинное» то, что осторожная теория познания считает в высшей степени проблематичным и догматичным, и, несмотря на это, мнят себя гораздо выше тех рационалистов, которые полагают, что прежде чем, пытаясь понять познание как удовлетворение человеческих потребностей и тем самым делать «относительной» всякую истину, необходимо хотя одно признать «абсолютно» истинным; именно то, что существуют вообще люди и среди них такие, которые ищут в стремлении к истине только свою пользу. Разве только полезно думать, что существует полезное? Только ли полезно думать, что существуют прагматисты? Или это «истинно» еще и в другом смысле? Подобными вопросами прагматизм не задается. Поэтому против его окаменелого догматизма наука ничего поделать не может. Он смешивает отношение некоторых людей к истине с самой истиной. Вскрывши же это, нужно научиться видеть юмор, заключающийся в этой теории, приверженцы которой защищают ее с истинным фанатизмом, и которая именно в том случае не может быть истинной, если правы ее последователи3.
Впрочем, об этих бессмыслицах не стоит много говорить. Научно можно критиковать только людей, допускающих, что истина и познание существуют; а это значит, что спорящие подчиняются высшему началу, нежели польза. Здесь же важно было лишь показать, какие предпосылки заключает в себе понятие познания и таким образом определить задачу теории познания.
Из сказанного вытекает, что если в дальнейшем и будут указаны два пути теории познания, то этим вовсе не будет решен вопрос, приходится ли теории познания идти психологическим или трансцендентально-философским путем. Эта альтернатива уже разрешена до исследования допущением, что познание действительно существует. Пути теории познания, о которых мы здесь говорим, оба должны привести к определению трансцендентного предмета познания, а следовательно, в этом смысле они оба имеют трансцендентально-философский характер. Различие между ними основано на выборе исходного пункта. – Именно, можно, во-первых, начать с анализа действительных актов познания, как психических процессов, с тем, чтобы отсюда постепенно дойти до трансцендентного предмета, и, во-вторых, можно попытаться достигнуть возможно скорее сферы трансцендентных предметов и определить их «чисто» логически без отношения к психическому акту познания. Первый путь мы назовем трансцендентально-психологическим, второй – трансцендентально-логическим и покажем, что оба пути приводят к одинаково ценным выводам, и так как оба они имеют свои преимущества и свои недостатки, они вполне пригодны для того, чтобы дополнять друг друга.
II. Проблема форм в теории познания
Прежде чем приступить к рассмотрению обоих путей, мы ближе определим ту проблему, для разрешения которой служат эти пути. Некоторым придется еще доказывать, что здесь вообще имеется проблема. – Если мы отвлечемся от всякого метафизического бытия, то и тогда мы знаем, в чем состоит предмет познания и как мы его познаем. Он в самом широком своем понятии есть действительность, в которой мы все живем и познания которой мы достигаем тем, что отображаем ее нашими мыслями, или мыслим ее так, как она именно есть. Что в отдельности действительно, и как оно будет отображено, это, конечно, нуждается в особом исследовании. Но сказанным принципиально дан уже ответ на вопрос о предмете познания и о познании предмета, ответ, который в крайнем случае нуждается только еще в более точном выражении. Какого же взгляда об этом придерживаться? Прежде всего можно было бы возразить, что подобное понятие познания слишком узко. Имеются истинные мысли, которые не имеют своим предметом ничего действительного. Например, число, о котором говорит математика, не есть реальность, но, если вообще уже желательно подвести его под понятие бытия, оно есть только идеальное бытие. А, следовательно, проблема математического познания не была бы разрешена при помощи означенного понятия познания. Но, если даже оставить это в стороне и ограничиться понятием познания действительности (Wirklichkeitserkenntniss), то легко будет показать, что указанное мнение не дает удовлетворительного решения гносеологической проблемы. Согласно ей, мышление тем в большей мере выполняет свою задачу быть познанием, чем точнее оно отображает или воспроизводит действительность. Однако, фактически мы нигде не находим познания, которое стремилось бы к возможно более точному отображению. Действительность, воспринимаемая нами непосредственно, представляет повсюду необозримое многообразие, которое совершенно невозможно воспроизвести в том виде, как мы его воспринимаем, и если бы даже была возможна верная копия его в виде простого повторения, то она вряд ли заинтересовала бы нас. Всякое познание скорее выбирает незначительную часть данного, что, конечно, не есть воспроизведение (Nachbilden), и распределяет его таким способом, который не всегда согласуется с данным в восприятии порядком, если вообще о таковом имеет смысл говорить. Конечно, содержание действительности так или иначе определяет (massgebend) познание. Познание констатирует его в его фактичности. Но правильность наших мыслей, конечно, зависит не только от этого содержания, но и от принципов выбора и от принципов размещения познания, для правильности которых непосредственно данная и воспринимаемая действительность, очевидно, не может иметь значение определяющего предмета4.
Но если бы даже захотели утверждать, что познание, дабы быть истинным, должно воспроизводить действительность, то и при этой предпосылке одна проблема остается неразрешенной. Именно, игнорируется очень существенное познание, что то, что должно быть воспроизведено, действительно существует (ist), a это познание имеет решающее значение. Конечно, представителю специальных наук кажется настолько само собой разумеющимся, что то, что он хочет познать, каким-либо образом существует, что он не заботится об этой истине. Он предполагает ее и с полным правом. Но теория познания не может игнорировать нечто потому, что оно само собой понятно для специальных наук. Именно самоочевидные и простейшие познания для нее наиболее существенны, так как они – основы всяких других истинных мыслей. Именно эти основы она делает своей проблемой, прежде чем исследовать менее очевидное и не везде предполагаемое знание.
Короче говоря, всякое познание действительности предполагает, что то, что оно желает познать, действительно существует. Что же есть предмет этого познания? И как этот предмет познается? Ответ – я сообразуюсь при этом в своих мыслях с действительностью – не имеет понятного смысла. (Следовательно, из него мы не можем исходить). Это и доказывает непригодность самого распространенного понятия познания, по крайней мере, для разрешения одной существенной части гносеологической проблемы.
Достаточно краткого рассуждения, чтобы убедиться, что теория воспроизведения ничего не дает для проблемы теории познания. Мы должны только точнее определить, в чем состоит эта проблема, а для этого мы можем исходить из только что поставленного вопроса: с чем сообразуется познание, если мы говорим, что нечто действительно существует или вообще есть? Этот вопрос касается, как говорят, не содержания познания, а его формы. Прежде всего нужно установить, что такое форма. Для начала достаточно дать отрицательное определение, – именно, под ней нужно разуметь все то, что не относится к содержанию, и указать это на примере. Для этой цели может служить понятие бытия. Именно, в познании, что нечто существует, бытие не относится к содержанию этого нечто и, само по себе, оно вообще не может быть обозначено как содержание, а следовательно, оно должно иметь значение формы. Достаточно только припомнить известные положения: «Бытие не есть реальный предикат, который мог бы быть присоединен к понятию вещи» или «сотня действительных талеров по содержанию своему ничуть не меньше, чем сотня возможных». Итак, понятно, что истина предложений, утверждающих существование чего-либо, есть проблема формы познания.
Отсюда мы можем идти дальше и показать, что для теории познания существует вообще только проблема форм. Для этой цели мы еще раз вернемся к теории воспроизведения (отображения). Мы ни в каком случае не хотим оспаривать за ней всякую правомерность. Если дело идет только о содержании познания, то прямой смысл сказать, что познание должно устанавливать то, что действительно существует, т, е. что оно должно сообразоваться мыслями с действительностью. Если я, например, говорю об этой бумаге, что она белая, а не голубая, то в этом случае моя мысль воспроизводит действительность белизны, и моя мысль истинна, потому что она это делает. Белая бумага мыслится белой, потому что она белая, а не голубая. Это – самая простая вещь на свете. Но те, кто ограничиваются этим понятием познания, даже не видят еще единственной проблемы теории познания. А именно, в данной мысли, кроме бытия белого, утверждается не только бытие белого, но, далее, белое присоединяется, как «качество», к «вещи» бумага, и таким образом бытие белого определяется точнее. Но вещь и качество суть понятия, которые, так же, как и понятие бытия, не относятся к содержанию. Следовательно, мы должны уже предварительно знать, какой смысл имеет утверждение, что вещь имеет качество, для того, чтобы иметь возможность сказать, что мысль «эта бумага бела» воспроизводит действительность. Только игнорируя этот вопрос, можно удовлетвориться теорией воспроизведения. Последняя предполагает, что проблема теории познания уже разрешена.
Поэтому гносеолог не скажет, будто знание «эта бумага есть белая» основывается на том, что эта бумага бела. Он сопоставит друг с другом белизну в истинной мысли и воспринимаемую в действительности белизну и заметит, что обе они также друг от друга отличаются. Именно на это различие он должен направить свое внимание. И если, несмотря на это различие, мысль истинна, то, с точки зрения теории воспроизведения, она не только сразу становится проблемой, но тотчас же делается ясно, что эта проблема с помощью теории воспроизведения никогда не может быть разрешена, а тем самым уже одна эта постановка вопроса снимает понятие познания, как воспроизведения.
Указанное различие между мыслями и действительностью опять-таки не относится к содержанию, но к форме. Здесь, как и вообще в теории познания, дело также в проблеме формы, ибо в мыслях содержание везде имеет другую форму, чем в непосредственно воспринимаемой действительности, или, точнее, содержание, которое мы только «воспринимаем», не имеет вовсе формы, но оно оформляется уже тем, что мы о нем говорим. Это вытекает уже из того, что все значения слов, под которые мы можем подводить содержание, всеобщи, данное же содержание, напротив, сплошь индивидуально. Даже слово «это» всеобще по сравнению с содержанием, так как оно может обозначать ведь всякое содержание. – Поэтому, строго говоря, мы не можем говорить о содержании, как о чистом (blossen) содержании. Называя его «содержанием», мы уже вводим его в соотношение с парой понятий – формы и содержания – и вместе с тем в соотношение с формой мысли, которой содержание помимо мысли не имеет. Простое содержание логически совершенно безразлично и невыразимо. Таким образом нами совершенно отвергается понятие познания, построенное на сходстве мыслей и действительности. Теория воспроизведения игнорирует форму, но не существует истинной мысли, которая заключала бы содержание без формы. Простое содержание лежит совершенно вне логической сферы, и в нем одном нет еще проблемы истины. А поэтому все проблемы теории познания суть проблемы формы, и везде возникает вопрос: с чем должна сообразоваться форма мысли, для того, чтобы мысль была истинная и стала познанием? Ясно, что предметом формы мыслей не может служить содержание воспринимаемой действительности, и также мало оснований думать, что форма не нуждается в предмете, так как именно то, что отличает мысль от действительности, т. е. не содержание, а форма, и есть в мысли то, от чего все зависит при вопросе об истине. – Поэтому теория отображения – не ложный ответ на поставленный вопрос, но вообще не ответ на него. Предмет формы познания и вместе с тем предмет познания вообще до сих пор вполне проблематичен.
Мы не можем, конечно, здесь хотя бы даже только наметить различные проблемы форм. Это должно быть предоставлено более подробному исследованию. Здесь же укажем только на одну проблему формы, которая заключается в проблеме всякого познания действительности. Возможно наиболее простое и свободное от предпосылок познание обыкновенно называют констатированием простых фактов. Его огромное значение не подлежит никакому сомнению. Всякая эмпирическая наука начинает с констатирования простых фактов и на нем покоится, как бы далеко она, в конце концов, ни удалялась от фактов. В большей части гносеологических систем факт рассматривается, как нечто совершенно самоочевидное, т. е., если речь идет о фактах, то вопрос обыкновенно касается лишь того, состоит ли познание исключительно из фактов или нет. Крайний эмпиризм исходит из того, что существует только познание фактов, и взгляды, не удовлетворяющиеся чистой фактичностью, обыкновенно обозначаются их противниками, как рационалистическое. Но что в самом факте, поскольку он означает познание того, что нечто есть факт, т. е. что в самой чистой фактичности, поскольку она заключает истину, уже скрыта некая проблема – это обходят одинаково и эмпирики, и рационалисты. Даже Кант не занимался этой проблемой. В его известном вопросе о том, как из восприятия образуется опыт, в вопросе, делающем из опыта проблему, восприятие понимается, как чисто фактическое познание; но только опыт, а не восприятие, имеет в виду его исследование. Однако, «восприятие» того, что нечто есть, т. е. познание, только констатирующее факт, есть уже нечто большее, чем простое восприятие, можно даже сказать, что в этом восприятии заключается та же самая проблема, что и в «опыте», и во всяком другом познании. Истина простого факта, чтобы быть истиной, также нуждается в предмете и в форме, которая сообразовалась бы с этим предметом. Если я говорю, что это мне «дано» непосредственно, то я высказываю познание; однако, не имеет смысла говорить, что при этом я сообразуюсь с данным. Если я называю содержание данным, то я уже предварительно познал его, как данное, т. е. оно уже содержит форму данности, и эта форма чистой фактичности есть поэтому проблема теории познания, также, как и всякая другая форма познания. Это – самая элементарная и в то же время самая неустранимая из всех проблем формы, которые кроет в себе всякое познание действительности. Никто не станет оспаривать, что содержание, если оно входит в кругозор познания, должно иметь, по меньшей мере, форму данности или фактичности. Итак, даже самый имманентный вид познания бытия, который только можно себе представить и истинность которого не пытался еще пошатнуть ни крайний эмпиризм, ни сенсуализм, несомненно, указывает на форму познания и на вопрос об ее трансцендентном предмете.
Теперь мы снова можем вернуться к высказанной ранее мысли о двух путях разрешения этой проблемы и нахождения предмета познания. Мы должны, конечно, при этом поставить проблему в самом общем виде и привести фактичность только в виде примера. Мы рассмотрим прежде всего каждый путь сам по себе и тогда выясним их отношение друг к другу. Что в этом исследовании дело касается всегда только проблемы формы, это мы утверждаем раз навсегда. Только с точки зрения формы мышления мы предполагаем, что истинное мышление есть нечто большее, нежели простое мышление. Было бы затруднительно и педантично каждый раз снова напоминать об этом. Только в тех случаях, где есть опасность недоразумений, мы будем явно указывать, что трансцендентный предмет мы ищем только для формы познания, но отнюдь не для содержания, и что мы спрашиваем поэтому только о путях, которые приводят к этому предмету формы.
III. Анализ акта познания
Первый путь, как было сказано, исходит из действительного познания и старается дойти до трансцендентного предмета5.
Здесь существенным является тот пункт, что при этом необходимо относительно подробное исследование психических процессов и именно прежде всего рассмотрение двух факторов: акта познания, посредством которого постигается предмет, и того элемента в мышлении, который гарантирует (verbürgt) истину. Первый должен выяснить нам, что и как познается, а второй должен. ввести нас в трансцендентное.
Что касается акта познания, то вообще говоря, все согласны с тем, что мы познаем только посредством суждений, ибо лишь о суждениях говорят, что они истинны или ложны. Можно, конечно, оспаривать, что только суждения суть познания, но тогда слово суждение употребляется в более узком значении. Для нас уже самое элементарное констатирование факта сказывается суждением, и таким образом, познание и суждение совпадают. Теория познания должна, следовательно, обратить свое внимание на акт суждения и рассмотреть его в отношении к тому элементу, благодаря которому его только и можно назвать истинным или ложным. При этом легко показать, что в суждении все то, что обыкновенно обозначают, как «представления», рассматриваемые сами по себе, ни истинны, ни ложны. Я могу образовать любое представление и пока я остаюсь при простом представлении, я не приду никогда в область познания, даже не приду к констатированию фактов, или к истине, что нечто есть. Я имею суждение только тогда, когда к представлению присоединяется акт утверждения или отрицания, а из этого вытекает, что этот акт есть существенный для истины элемент суждения или собственно акт познания.
Это можно изложить более просто и убедительно, превратив суждение в утвердительный или отрицательный ответ на вопрос. Это всегда возможно и не вызывает сомнений потому, что состав истины суждения, который нас здесь только и интересует, этим совершенно не изменяется. Словами «здесь есть белое» я высказываю совершенно ту же самую истину, что и словом «да», отвечающим на вопрос «есть ли здесь белое?» В вопросе уже заключаются все составные части суждения, обозначаемые термином представления. Однако, вопрос не есть познание, так как его сущность именно в том и состоит, что он только ищет познания. «Да» не присоединяет нового представления к представлениям, содержащимся в вопросе, однако, только с ним является суждение, которое дает на вопрос искомое знание. Из этого следует, что акт утверждения или отрицания противоположен представлениям и в то же время есть элемент суждения, посредством которого мы, собственно, познаем, посредством которого мы, следовательно, только и можем овладеть предметом познания. Короче, познавать с точки зрения истины – значит, не представлять, а утверждать или отрицать.
Значение этого вывода сделается ясным, коль скоро мы примем во внимание принципиальное различие, заключающееся между всяким представлением и актом утверждения или отрицания. Как ни определять понятие представления, под ним всегда разумеют пассивное психическое состояние. При утверждении же или отрицании мы, наоборот, занимаем определенную позицию. Это сказывается уже в том, что при этом речь идет всегда о некотором «или – или», т. е., следовательно, о некотором отношении, аналогичном тому, которое встречается и в нашей волевой стороне, или в нашей «практической» природе. Утверждение есть, другими словами, акт согласия, отрицание – акт отвержения. Отсюда явствует, как далеко отстоит, и именно в этом пункте, наиболее существенном для истины, познание от спокойного созерцания, с которым его обыкновенно сравнивают. Собственный акт мышления, с помощью которого мы только и можем постигнуть предмет, должен быть именно обозначен, как родственное волению признание или отвержение. Установивши это, мы уже не будем впредь касаться отрицательных суждений. О них мы упомянули для того, чтобы указать на альтернативный характер познания, который особенно отчетливо выявляет его родство с практическим отношением и его волеобразный характер в противоположность представлениям. В остальном мы можем ограничиться утвердительными суждениями.
Прежде чем делать выводы о предмете познания, мы укажем еще только на связь, заключающуюся между различием представления и утверждения, с одной стороны, и сделанным прежде различием содержания и формы познания – с другой. Содержание может заключаться только в исчерпывающихся представлениями элементах суждения и, следовательно, с этой точки зрения само по себе не есть познание. Акт признания не присоединяет ничего к этому содержанию и ничего у него не отнимает там, где признания нет и где оно замещается актом отвержения. Вопрос, утверждение и отрицание могут поэтому в отношении содержания вполне совпадать друг с другом и все же они стоят в принципиально различном отношении к истине. Первый ни истинен, ни ложен, второе ложно, если третье истинно, и, наоборот, третье ложно, если второму присуща истина. Это снова показывает, насколько содержание познания не составляет еще проблемы для науки об истине. Содержание входит всецело в компетенцию специальных наук. С другой стороны, мы видим, что утверждение стоит в теснейшем отношении к форме. Понятно, нельзя сказать, что оно с ней просто совпадает. Понятие формы шире понятия утверждения, т. е. если всякое содержание состоит из представлений, то все же не все состоящие из представлений элементы суждения относятся к содержанию. Скорее они принадлежат частью и к форме. Каким образом представления могут быть разделены на содержание и форму, это может показать только специальное исследование, ибо вопрос этот должен разрешаться особо для каждой формы. Здесь важно лишь, что форма познания только в связи с утверждением сообщает истину акту мышления, или, что в утвердительном суждении форма познания, из чего бы она ни состояла, всегда есть утвержденная или утвердительная форма. Познание, что нечто есть, состоит, если мы снова вернемся к нашему старому примеру, в том, что форма «быть» прилагается некоему содержанию чрез посредство утверждения. Теперь мы в состоянии сделать выводы, вытекающие отсюда для предмета познания. Если утверждение есть форма познания, то предметом его должно быть то, что утверждается. Однако, что же мы можем утверждать, если утверждение есть родственный воле акт активного отношения (der Stellungnahme). Предмет должен противостоять познающему субъекту как требование, т. е. как нечто, требующее согласия. Только с требованием можем мы сообразоваться, утверждая, и только с требованием мы можем соглашаться. А это приводит нас к наиболее широкому понятию для предмета познания. То, что познается, т. е. то, что утверждается или отрицается в суждении, должно лежать в сфере долженствования.
Чтобы вполне уяснить полученный нами результат, попробуем резко отграничить его от учения, на первый взгляд представляющегося ему родственным. Момент требования в теоретическом познании энергично выдвигается в новейшее время также и с другой стороны. Если Липпс говорит: «факт есть то, что я должен мыслить или то, что требуется от меня, чтобы я мыслил»6, то это звучит очень близко к только что выставленному взгляду. – И все же в решающем пункте мнение Липпса совсем отлично, даже противоположно нашему, так как он думает, что указанное требование исходит из предмета, который существует. Предмет для него не есть долженствование, но остается бытием, и требование, относящееся к познающему субъекту, состоит ни в чем ином, как в том, что мысли должны согласоваться с бытием. Именно против этого-то взгляда мы и боремся. Чтобы иметь возможность утверждать, что бытие ставит подобное требование, он предполагает уже познание, что есть нечто, что требует, а именно в этом познании и суть дела. Липпс не дает, следовательно, ответа на наш вопрос. Для нас важен предмет даже и того познания, что нечто есть, а при этом не может уже идти речь о требовании, выставляемом бытием. Мы разумеем, таким образом, долженствование, которое есть простое долженствование и ничто больше. Если мы при этом говорим, что предмет есть долженствование, то это «есть» не имеет ничего общего с бытием в смысле существования. Это чисто словесное затруднение, которое не может стереть принципиального различия между понятиями бытия и долженствования. Под долженствованием мы понимаем как раз нечто такое, что не есть, или существует.
В этой связи особенно важно уже упомянутое понятие факта. Конечно, «факт есть то, что я должен мыслить», но именно поэтому долженствование не есть факт. Скорее наоборот, – то, что требует, есть факт лишь постольку, поскольку требование утверждается и тем самым нечто познается, как факт. – Долженствование, как предмет, столь же необходимо для чисто фактического познания, как и для всякого другого. На этом должно настаивать не только для того, чтобы снова, уже с другой стороны, выдвинуть кроющуюся в факте проблему и для того, чтобы освободить понятие долженствования, как предмета, от всякого смешения с понятиями бытия, но также и для того, чтобы вместе с тем стало ясным, что «чисто эмпиристическая» теория познания, сводящая всякую истину к истине факта, не в состоянии обойтись без долженствования, как предмета познания, и что поэтому мы здесь еще совсем не становимся на сторону какого-либо особого гносеологического «направления». Мы вскрываем только то, без чего не может обойтись никакая теория познания, постигшая, что познание есть утверждение, не игнорирующая проблемы предмета и не уничтожающая понятия познания. Каким бы путем она далее ни пошла, – крайне сенсуалистическим и эмпиристическим или крайне рационалистическим или каким-либо иным – долженствование все же остается предметом всякого утверждения.
Несмотря на это, для некоторых здесь имеется трудность, которую нужно преодолеть. Мы занимаемся действительным познанием. Для того, чтобы оно могло быть признанием долженствования, и долженствование само должно действительно существовать, а именно, как часть процесса мышления, следовательно, как психическое бытие. Не станет ли тогда предмет познания все-таки действительностью? Можно сказать, что требование должно выступить, как чувство требования, чтобы охарактеризовать этим словом отношение к акту согласия. Не окажется ли тогда сам предмет познания чувством требования?
Разумеется, этого мы не думаем и должны тщательно предупредить подобное недоразумение. Правда, пока мы рассматриваем психический процесс познания, психическим процессом является не только акт утверждения, но и требование, согласие с которым этот акт выражает, должно быть рассмотрено, как связанное с психическим бытием, и это бытие может быть названо чувством требования (Forderungsgefühl). Но вследствие этого требование еще не совпадает с чувством, с которым оно связано, а также чувство не есть то, что ставит требование. Долженствование и бытие никогда не совпадают, даже если долженствование чувствуется. Признание относится не к чувству, а только к долженствованию. Чувство есть только психический представитель долженствования, а вовсе не тот предмет, с которым может сообразоваться мышление. То, что это чувство существует, само есть познание, которое нуждается в своем собственном предмете, а предмет этого познания не может быть представлен даже чувством, которое познается, как существующее.
Что в вопросе о предмете познания дело только в долженствовании, а не в чувстве требования, это вполне выяснится, если мы пойдем дальше и точнее определим это понятие. Очевидно, нельзя остановиться на том, что нами найдено до сих пор. Хотя всякое познание должно быть признанием долженствования, но не всякое признание какого-либо долженствования есть познание, не всякое утверждение истинно. Истинность акта мышления зависит от того, какого рода долженствование, которое оно признает. Мы это можем выразить также и следующим образом: утверждаемое требование должно иметь законное основание, оно должно быть «необходимым» требованием, коль скоро его признание должно сообщать истинность акту мышления, короче, долженствование должно само носить характер необходимости, оно должно, как говорят, обладать безусловной «значимостью» (gelten), чтобы годиться в качестве предмета познания. Но что следует понимать под этой безусловной значимостью и необходимостью долженствования? Ясно, что здесь ни в коем случае не может быть речи о необходимости бытия. Важно установить только род долженствования, и для этой цели приходится нам различать два рода долженствования. Мы отличаем среди требований, с которыми имеем дело, всюду такие, которые лишь произвольны и индивидуальны, от тех, которые претендуют на безусловную значимость. Первый род является всегда требованием одного или нескольких индивидов и зависит от существования определенных индивидов, от которых данное требование исходит или которыми оно выставляется. Второй род, напротив, хотя и может быть требованием одного или нескольких индивидов, но для значения его, как требования, совершенно безразлично, выставляется ли он фактически каким-либо индивидуумом или нет. Требования этого второго рода имеют всегда характер необходимости, которую мы здесь имеем в виду: они требуют безусловного признания. Таким образом, предмет познания есть всегда требование, совершенно независимое от требования одного или нескольких индивидов, и вообще не выставляемое каким-либо бытием. Собственно, все это представляет только пояснение понятия о требовании, которое есть только требование. «Чистое» долженствование, не исходящее из бытия, всегда должно быть безусловным долженствованием.
Поэтому предмет познания по самому общему понятию его следует назвать не только вообще долженствованием, но и независимым от всякого бытия, и поэтому в данном смысле трансцендентным долженствованием, долженствованием, столь независимым от индивида, что оно, наоборот, само связывает всякого индивида, желающего судить и познавать. Если познание есть утверждение или признание, то только при допущении трансцендентного долженствования можно провести различие между истинными мыслями и мыслями вообще и оправдать обусловленное этим различием понятие познания. – Тогда истинными будут суждения, утверждающие или признающие трансцендентное требование. Только в силу такого утверждения акты мышления становятся более чем простыми психическими процессами, только благодаря этому становятся они познанием.
Но если предмет познания открывается нам таким образом в трансцендентном долженствовании, то возникает вопрос, как мышление постигает этот независимый от него предмет или как трансцендентное делается имманентным. Мы видели, что требование, если оно и не выставляется бытием, следовательно, если оно есть безусловное и трансцендентное требование, все же выступает в действительном познании соединенным с действительностью. С этой действительностью должно, следовательно, быть связано (haften) нечто, указывающее на то, что она больше, чем простой психический процесс. Другими словами, в процессе нашего мышления нужно найти нечто имманентное и в то же время указующее на трансцендентное; найти критерий истины, который с одной стороны есть составная часть индивидуальной душевной жизни, а с другой стороны – кроет в себе и гарантирует (verbürgt) необходимое сверхиндивидуальное требование. В чем состоит это нечто? Мы различили произвольные и необходимые требования и их признание. В применении к суждениям это значит, что существуют очевидные и неочевидные суждения. Если мы рассматриваем познание как психический процесс, то, следовательно, очевидность есть психическое бытие, гарантирующее нам истинность суждений. Так как психическое бытие, с которым соединено долженствование, мы назвали чувством требования, то мы можем и очевидность, как психическое бытие, назвать чувством очевидности (Evidenzgefühl), и тогда это чувство очевидности есть то, что с одной стороны имманентно, с другой же – указывает на нечто, выходящее уже из сферы простого бытия. Оно кроет в себе долженствование, связывающее нас при нашем утверждении и признаваемое нами чрез утверждение трансцендентным. Трансцендентный предмет познания делается таким образом имманентным через признание требования, связанного с чувством очевидности и открывающегося нам в нем. Этим решается вопрос, как познание постигает (erfasst) трансцендентное.
Однако, можно было бы противопоставить некоторое сомнение. Разве заблуждения также не очевидны? Если под очевидностью понимать только психическое бытие, только чувство требования, то, конечно, на вопрос этот следует ответить утвердительно. Заблуждение тогда имеет следующий состав: мышление утверждает долженствование, которое, однако, не трансцендентно, а есть только имманентное долженствование, только выставляемое бытием требование. Без сомнения такие заблуждения случаются, но это не противоречит понятию очевидности, как критерию истины вообще, ибо предложение, что в истинном акте мышления должно быть дано нечто имманентное и в то же время гарантирующее собою трансцендентность долженствования, не имеет ничего общего с утверждением, будто имеется критерий, на основании которого мы всегда можем отличить истинные суждения от ложных и который поэтому исключает всякое заблуждение.
К этому присоединяется еще следующее. И здесь опять-таки снова нас совершенно не касается материальная (inhaltliche) истинность суждений. Поэтому нам также нет дела до материального заблуждения. Следовательно, и очевидность также рассматривается нами лишь с точки зрения проблемы формы познания. Мы оставляем в стороне вопрос, можно ли говорить вообще об очевидности содержания. Во всяком случае, это не наша проблема. Мы предполагаем действительную наличность познания и мы ищем понятие его формы. К нему относится очевидность, как имманентный признак для трансцендентного, так как без этого признака не было бы возможно вообще познание. То обстоятельство, что чувство требования, являющееся только психическим состоянием, может быть смешано с таким чувством, которое представляет собой нечто большее, нежели простое психическое состояние, нас здесь не касается. Впрочем, существуют познания, при которых фактически исключается всякое заблуждение.
Вспомним снова о чисто фактической истине. Здесь, может быть, более ясно обнаружится то, что мы думаем. Самый простой «опыт» нуждается, как мы знаем, чтобы быть истинным, в трансцендентном предмете и поэтому нуждается также и в имманентном указании на него и «опыт» также утверждает долженствование, связанное с чувством требования и открывающееся нам в нем, полагая в то же время это долженствование как трансцендентное, как независимое от актов мышления, а также и от чувства. Таким образом здесь трансцендентное значение очевидности не подлежит сомнению, чувство здесь явно есть нечто большее, чем простое чувство. Но больше нам ничего и не нужно. В каких иных случаях мышление с такой же достоверностью в состоянии овладеть своим предметом, и в каких случаях он ускользает от мышления, хотя мышление и думает, что его постигло, а следовательно, заблуждается, – вопросы эти нас здесь не интересуют. Мы хотим только знать, каким образом мышление вообще овладевает своим предметом. Цель наша – только развить предпосылки, содержащиеся в понятии всякого познания, в понятии всякого истинного суждения. Суждениям ложным, но считаемым за истинные, недостает именно трансцендентного предмета.
IV. Недостатки первого пути
После того, как мы таким образом познакомились в общих чертах с первым путем теории познания и его результатами, обратимся к вопросу, почему этот путь недостаточен. Чтобы в этом убедиться, установим прежде всего точно, в чем состоит сущность этого метода. Мы исходили в нем из действительного познания, как психического процесса, но все же теория познания не есть психология. Следовательно, анализируя психические процессы, она стремится найти в них то, что есть более, чем просто психическое. Поэтому прежде всего мы должны были исследовать суждения с точки зрения их служебного значения (Leistung) и предположить, что последнее состоит в постижении трансцендентного предмета. Следовательно, все время занимаясь психическим имманентным бытием, мы вместе с тем не упускаем из виду трансцендентного предмета. Суждение мы все время рассматриваем с трансцендентной точки зрения. Чтобы выявить двусторонность этого приема, назовем первый путь теории познания трансцендентально-психологическим и постараемся установить теперь его недостатки.
Мы начнем с только что рассмотренного понятия очевидности. Оно должно было вывести нас из имманентного процесса мышления в область трансцендентного. Но можно ли в действительности говорить о пути в данном случае? Разве на самом деле мы не перескочили тут через пропасть? Что значит, что требование является связанным с чувством и в то же время должно считаться трансцендентным, от чувства независимым? Чувство, как таковое, есть ведь тоже не что иное, как психическое состояние. Как может это имманентное бытие хотя бы только указывать на трансцендентное? Очевидно, только благодаря тому, что с самого начала мы влагаем в бытие нечто, чего оно, как простое бытие, не имеет и не может иметь, и тогда, имея в виду это нечто, истолковывать его (deuten). Но по какому праву мы это делаем? Если бы трансцендентный предмет не был для нас несомненным уже до анализа чувства, то мы никогда не могли бы прийти к тому, чтобы увидеть в чувстве больше, нежели только чувство. Простой анализ чувства без этой молчаливой предпосылки безвозвратно опутал бы теорию познания тем психологизмом, на абсурдные выводы которого мы указали вначале. Мы избежали релятивизма только тем, что не анализировали психическое бытие, но, так сказать, конструировали его смысл. Этим «смыслом» мы создали среднее царство между психическим бытием и трансцендентным предметом. Только смысл очевидности, кроющейся в чувстве, выводит нас за пределы простого чувства, отнюдь не ее бытие. Если мы таким способом достигли годного для теории познания результата, то мы обязаны этим petitio principii. Но, быть может, одно это обстоятельство еще не имеет большого значения. Мы должны были предположить трансцендентное, чтобы иметь возможность вообще говорить о познании. Истолковать чувства очевидности не было самым существенным нашим делом. Главный наш результат заключается в понятии познания, которого мы достигли. Поэтому отвлечемся на время от трансцендентности предмета и ограничимся анализом суждения, пытавшегося познание понять, как признание, и заключившего отсюда, что предмет познания может лежать только в сфере долженствования. Как же с этим обстоит дело? Откуда знаем мы что-либо о признании и долженствовании? Наше исследование акта познания было опять-таки менее всего психологическим. Правда, можно допустить разделение психических процессов на пассивное представление и активное отношение (Stellungnehmen). В крайнем случае можно, пожалуй, напасть на многозначность термина «представление», что в данной связи, однако, не существенно. Но именно если провести это разделение, окажется, что теория, будто признание есть акт согласия, весьма и весьма спорна. Многие, несомненно, поставят «теоретическое» познание в принципиальную противоположность ко всякому «практическому» отношению и признанию и поэтому отвергнут в суждении всякое родственное хотению утверждение. Таким образом психологически наши взгляды, по меньшей мере, не обоснованы и на самом деле мы вовсе и не хотели здесь дать психологического описания фактов.
Итак, чего же мы достигли? И здесь снова мы с самого начала рассматривали мышление с точки зрения его служебного, функционального значения (Leistung). Но чтобы иметь возможность это сделать, мы должны были опять-таки уже знать, в чем это значение состоит. Мы сказали, что акты мышления, которые должны быть истинными, не могут состоять из одних только представлений, ибо представления, рассматриваемые сами по себе, никогда не могут быть истинными. Уже это отрицательное утверждение правильно только в том случае, если заранее предполагается уже определенное понятие истины. Совершаемое здесь petitio principii станет еще более заметным, если мы обратимся к положительному определению, а именно, что утверждение лишь превращает представления в познание. Этот вывод принудителен только в том случае, если предположить, что истина есть нечто, что должно существовать. Тогда, действительно, следует, что акт мышления лишь постольку может служить познанию истины, поскольку он активно становится в определенное отношение к тому, что должно быть. Тогда мы можем далее сказать, что все происходящее во время процесса познания в отдельных индивидах нас само по себе не интересует, и что нам нет, следовательно, никакого дела до психологии суждений. А тогда для нас, действительно, существенно только то, что акты мышления необходимо означают (bedeuten) признание или отвержение, раз о них должно сказать, что они содержат познание. Следовательно, мы опять-таки не описали бытия суждения, но конструировали его смысл, и лишь в этом смысле правильно утверждение, что не только практически, но и теоретически человек никогда не может ограничиться простым пассивным созерцанием, но, напротив, должен активно признавать или отвергать. Итак, мы, исходя из предмета, истолковали смысл акта суждения, как признание, но отнюдь не добыли понятия признания из анализа акта суждения.
Но если на этом истолковании только и покоится правильность нашего рассуждения, то мы должны, в конце концов, пойти еще дальше и утверждать, что и наш конечный результат (что предмет познания есть долженствование) также с самого начала был уже заложен в наших предпосылках. Если же долженствующую существовать истину отнести к мышлению, то чем бы ни было мышление, она противостоит ему как некое требование. Поэтому то, с чем мышление должно сообразоваться, не может быть бытием, но только долженствованием. Следовательно, все наши выводы касательно акта познания и его предмета суть конструкции, которые мы могли построить, лишь имея в виду заранее предположенную истину. Когда дело касается психических процессов, то речь всегда идет собственно не о них самих, но о смысле, который они имеют, и этот их имманентный смысл мы можем истолковывать только на основании понятий, происходящих не из самого исследования, но привносимых нами с самого начала, когда мы приступаем к работе.
Короче говоря, если и правильно, что предмет познания есть трансцендентное долженствование и что его познание есть акт признания, все же ни трансцендентность, ни долженствование, ни признание мы не доказали из анализа актов познания, но в крайнем случае лишь разъяснили установленные уже раньше понятия, применив их к конкретному материалу, который благодаря этому получил определенный логический смысл. С такой точки зрения трансцендентально-психологический метод представляется весьма сомнительным. Он оставляет скрытыми основания, имеющие собственно решающее значение для его конечных выводов, в случае правильности последних. Как бы то ни было – и это главное, – мы только кажущимся образом продвинулись от акта познания к предмету. Фактически мы, основываясь на предполагаемом предмете, с каждым шагом вкладывали нечто в акт познания. То, что мы таким путем получили, есть нечто, не принадлежащее ни к имманентному бытию, ни к трансцендентной среде, некое ублюдочное образование сомнительной научной ценности до тех пор, пока трансцендентный предмет, в отношении к которому мы его истолковывали, не будет научно установлен. Но на трансцендентально-психологическом пути только такое ублюдочное образование и могло возникнуть. Недостаточность метода основывается на самой его сущности. Следовательно, им мы удовлетвориться не можем, и поэтому должна явиться потребность другого пути, которым можно было бы действительно продвинуться к трансцендентному предмету. Лишь при наличности такого второго пути можем мы сказать, что мы доказали, а не предположили только, что представляет собою трансцендентный предмет. Существует ли такой путь? Я полагаю, что этот вопрос может быть решен утвердительно и лучше всего мы познакомимся с этим вторым методом тем, что попытаемся испробовать его на деле и показать, к какому выводу он нас приводить.
V. Трансцендентный смысл
На своем втором пути теория познания должна также начинать с факта, тем самым предположив уже познание, что то, с чего она начинает, действительно есть. В этом отношении ее метод, значит, не отличается от метода, примененного раньше. Но и недостаточность первого пути лежала не в этом, а только в том, что исходным пунктом его был акт познания, и что из этого психического бытия нельзя было вылущить трансцендентного. Вопрос стоит, следовательно, так: есть ли акт познания единственная действительность, за которую должна держаться теория познания, чтобы найти предмет познания? Ее проблема – истина, и поэтому она всегда должна будет начинать с факта, с которым истина так или иначе связана (haftet). Являются ли акты познания единственной действительностью, которая может быть обозначена, как истинная? По-видимому, нет. Мы слышим некоторое количество слов или читаем их. Они образуют в своей совокупности предложение и его мы также называем истинным. Следовательно, вот еще одна действительность, к которой может обратиться теория познания, для того, чтобы, исходя из нее, рассмотреть проблему истины. Но, могут возразить нам, различие между суждением и предложением только кажущееся. Предложение истинно только потому, что и поскольку оно соединено с актом мышления. Ведь только этому акту мышления принадлежит, собственно, истина, и мы таким образом снова зависели бы от акта мышления, как исходного пункта теории познания. Однако, в этой аргументации истинное мешается с ложным. Конечно, если я читаю или слышу предложение, я должен мыслить, точнее, понимать, чтобы иметь возможность сказать, что оно истинно, и постольку истинное суждение, конечно, связано с актом мышления. Но именно только постольку, т. е. совершенно неверно, будто только понимание и может быть названо в собственном смысле слова истинным. Скорее наоборот: акт мышления, как таковой, вообще не истинен, а истинно может быть только то, чтò понимается, и это что-то есть нечто принципиально отличное из понимания. Так что можно сказать, что истинное сознается мною только через акт понимания, но в своей истине оно совершенно самостоятельно и независимо от этого акта.
Это могут пояснить аналогичные отношения в других процессах. Предо мною лежит лист бумаги, белый цвет которого я воспринимаю. Меня интересует не познание того, что цвет существует. Это я предполагаю. Я хочу изучить цвет в его качестве («как»). Для этой цели я должен его воспринять. Он постигается мною только через акт восприятия. Но на основании этого я не стану отождествлять цвет с актом восприятия. Я хочу изучить белизну, а акт вовсе не белый. Столь же мало также истинен акт понимания, если я понимаю истинное суждение. Конечно, оба случая весьма отличаются друг от друга, даже для теории познания они являют существенные различия, о которых еще придется говорить. Но в этом отношении они сходны: то, на что направлен психический акт, или то, что он содержит, следовательно, истина в одном случае и цвет – в другом, есть нечто иное, чем самый акт. Поэтому и истину, как и цвет, можно рассматривать самих по себе, отвлекаясь от акта понимания и восприятия.
Несмотря на это, остается все же верным, что предложение, как простой комплекс слов, не может быть названо истинным. Вернее, со словами должно быть связано «значение» (Bedeutung), которое пишущий или высказывающий их мыслит, читающий же или слышащий понимает. Только это значение может быть в собственном смысли истинным, а благодаря ему уже может быть истинным и предложение, с которым оно связано. Поэтому именно его и надлежит нам исследовать, чтобы найти предмет познания. Но для того, чтобы окончательно выяснить, что настоящий метод, действительно, принципиально отличается от первого пути теории познания, нам следует точнее, чем до сих пор, показать, что истинное «значение» отнюдь не есть акт мышления или вообще не психическое бытие. Это тем более необходимо, что вместо слова «значение» можно сказать «мысль»; последнее же слово многих заставит полагать, что то, что я понимаю в предложении, само есть акт мышления или, во всяком случае, психическое бытие. Последнее, однако, совершенно неверно. Конечно, можно называть и акт мышления мыслью, и мы сами это раньше делали. Но слово это имеет два принципиально различных значения, на которые уже указывал7 Гербарт, и если я говорю, что в предложении думается мысль или чрез предложение понимается мысль, то я не имею в виду акта мышления.
Мысль, например, которую мы называем «закон тяготения», впервые продумана была Ньютоном. Но разве эта мысль есть акт мышления только Ньютона? Конечно, нет. Тысячи мыслили ее со времени Ньютона. Акт мышления был у каждого человека, мыслившего ее, иной, и, как психическое бытие, каждый акт отличался от другого. Несмотря на это, мысль о тяготении для каждого, кто ее действительно мыслил, была одна и та же. Но это было бы совершенно невозможно, если бы она совпадала с актом мышления. Таким образом двойственное значение слова ясно: в одном случае мысль есть тожественное значение истинного предложения, в другом – всегда изменяющийся и никогда в точности не повторяющийся психический акт понимания или думания.
Однако, возможно, что это рассуждение слишком отягчено предпосылками и им доказано слишком мало потому, что мысль, и не совпадая с актом понимания, все же всегда могла бы быть чем-то психическим. Мы допустили множество субъектов, из которых каждый хотя и мыслит одно и то же, но по-разному. Можем ли мы доказать это различие актов мышления? Мы не будем здесь пытаться дать прочное доказательство; покажем только, что другое рассуждение, приводя к тому же самому результату, т. е. к необходимости различать мысли и акты, доказывает, что мысль вообще быть ничем психическим не может. Для доказательства я ограничусь на этот раз одним актом мышления, хотя бы тем, которым я сейчас мысленно понимаю закон тяготения. Как психический процесс, он необходимо происходит во времени: начинаясь в определенный момент времени и снова исчезая в другой, позднейший момент. Но что значит, что мысль о законе тяготения начинается и прекращается, что она вообще есть протекающий во времени процесс? С этим утверждением нельзя связать никакого общепонятного смысла. Мы предполагаем, что мысль истинна, а это значит, что она истинна всегда, или, точнее, что понятие временнóго процесса с нею вовсе не может быть связано. Отсюда, однако, не только следует, что истинная мысль не есть акт мышления, но что она вообще не есть что-либо психическое. Ибо все известное нам психическое имеет начало и конец, т. е. протекает во времени. Но это ведет тогда еще дальше. То, что имеет значимость о психическом бытии, значит также об эмпирическом бытии вообще: бытие существует во времени, а это приводит нас к выводу: действительны только акты мышления, истинные же мысли, напротив, вовсе не принадлежат к эмпирической действительности, ни к психической, ни к физической.
Уже эти соображения показывают, что теория познания может избрать, кроме первого, еще и другой путь. Она исходит из истинного предложения. Если при этом и всплывают психические акты думания и понимания, то все же вполне в ее власти оставить их в стороне, как несущественное, и обратиться к тому в предложении, что, правда, должно быть понято для того, чтобы его вообще можно было исследовать, но что все-таки совершенно отлично от акта понимания и к чему теория познания относится так же, как физик к цветам. Оба – и гносеолог, и физик – игнорируют психические процессы, которые, хотя и никогда не могут отсутствовать, но и не важны; они считаются только с «предметом» (Sache), который они понимают или воспринимают и который сам не есть нечто психическое. Конечно, можно возразить, что если кто исследует не акт мышления, но значение, или мысль, то он при этом все же имеет дело с чем-то «духовным» и постольку сравнение с цветом не подходит. Но в таком случае слово «духовный» так же, как и слово «мысль», не имеет значения психического, которое известно нам лишь как протекающая во времени эмпирическая действительность, а это для нас является сейчас единственно существенным. Поэтому «духовное» мы можем оставить в стороне.
После этого отрицательного определения того, что мы называем истинными образованиями, мы попытаемся двинуться вперед к положительной их характеристике, а для этой цели, пользуясь нашим сравнением с восприятием цвета, мы должны будем остановиться не только на том, что обще обоим случаям, но и на том, чем они отличаются друг от друга. При этом различие духа и тела нас опять-таки совершенно не интересует. Различие между актом и тем, на что акт направлен, можно обнаружить и в самом психическом: удовольствие, чувствуемое мною, не есть акт чувствования. Если различие это основательно, то как акт, так и то, на что он направлен, лежит в области психического бытия, тогда как цвет, воспринимаемый нами, есть качество тела. Но, несмотря на это, оба отношения имеют нечто общее. Акт и его содержание (состав) – оба относятся к миру действительного. Отличая же акт понимания от того, что понимается в нем, как истинное, мы этого уже не можем сказать. Мы знаем, что истинная мысль не есть вообще эмпирически действительное, а отсюда следует, что она должна стоять в принципиально ином отношении к акту понимания, чем воспринимаемое к акту восприятия и чувствуемое к акту чувства. Где этого не видят, там невозможно придти к ясному пониманию сущности мысли. Ошибка при этом заключается не только в том, что мысль считается чем-то существующим (Seiendes), подобно воспринимаемому телесному и чувствуемому психическому бытию, но она имеет место еще и в другом отношении. А именно, можно представить себе точку зрения, согласно которой хотя акт восприятия и не есть то же самое, что восприятие, но все же восприятие вполне зависит от этого акта, так что цвета, например, не существовали бы, если бы они не воспринимались, также как не существовало бы ни удовольствия, ни боли, если бы они не чувствовались. Мы не будем входить в разбор того, может ли взгляд этот быть оправдан, но, во всяком случае, не подлежит сомнению, что его никоим образом нельзя применить к отношению актов мышления к истинным мыслям, т. е. считать, что мысль зависит от акта мышления, подобно тому, как боль зависит от акта чувствования. Истинная мысль или значение истинного предложения, напротив, не только отличается от акта мышления, но и никак не связано с ним, что опять-таки следует из того, что мысль вообще не принадлежит к эмпирической действительности. Возможно, что воспринимаемое возникает только через акт восприятия и с ним опять исчезает. Что значение истинного предложения начинается и уничтожается с актом мышления, это, как мы видели, во всяком случае, совершенно бессмысленно. Если мысль истинна, то она трансцендентна в указанном выше значении этого слова. Что представляет собою это трансцендентное, мы еще не знаем. Но в чем бы ни состояла трансцендентность мысли, – сомневаться в ней нельзя.
Чтобы теперь попытаться определить точнее найденное нами трансцендентное нечто, откажемся сначала от обозначения его термином «мысли». Мы выбрали этот термин только для того, чтобы указать на двусмысленность этого выражения. Теперь же мы совсем удалим всякое напоминание об акте мышления. С этой целью мы, как и прежде, могли бы говорить о значении предложения или, точнее, о его логическом значении. Но, оказывается, и это слово не однозначно и не вполне определенно. А именно, читая или слыша отдельное слово, всякий знает, соединяет ли он с ним значение или нет, и поэтому, чтобы предложение могло быть понято, слова, его составляющие, должны обладать значениями. Поэтому при попытке выяснить сущность логического значения истинных предложений, было бы, пожалуй, лучше начать со значения отдельных слов. Но именно этим путем мы не достигли бы никаких результатов, так как значению отдельного слова, что бы оно собой ни представляло, недостает именно того, что нас здесь интересует: оно не может быть названо истинным. Имеются, конечно, исключения, но тогда отдельное слово замещает собой истинное предложение, будучи в отношении означаемой им истины вполне ему эквивалентно. Так, слово «огонь» может, во-первых, иметь значение, которое ни истинно, ни ложно; но, кроме того, оно может также быть выражением истинной мысли, что огонь как-нибудь действительно есть или существует. Только в последнем случае оно имеет логическое значение интересующего нас здесь вида. С простыми словесными значениями, не могущими быть ни истинными, ни ложными, нам поэтому сначала нечего делать. Выражая это терминологически, мы поэтому назовем могущее быть истинным значение предложения или его эквивалента смыслом (Sinn), в противоположность простому значению слов, которое, хотя и может сделаться элементом такого логического смысла, но само по себе ни истинным, ни ложным быть не может.
Подобные утверждения имеют в себе всегда нечто произвольное, но это неизбежно. Язык слишком беден для обозначения того, что не есть действительность, и для существенных различий часто недостает однозначных терминов. Тогда дозволительно выйти из затруднения указанным образом. Разумеется, мы не случайно пользуемся здесь тем же самым словом, что и при характеристике трансцендентально-психологического метода. Но там мы говорили об имманентном смысле, между тем как здесь смысл трансцендентен, и к этому различию мы еще вернемся. Слово смысл мы выбрали в данном случае потому, что в нем больше, чем в слове значение, звучит отношение к истине. Чтобы еще больше выдвинуть важность этого различения, укажем на то, что слово значение даже для обозначения элемента истинного смысла может быть употреблено лишь с оговорками. А именно, смысл, составляясь из отдельных значений слов, отнюдь не относится к ним только так, как целое относится к своим частям. Целое здесь не только есть нечто большее, чем части, как это часто бывает, но с точки зрения того, что нас здесь единственно интересует, целое есть нечто принципиально иное, что опять-таки следует из того, что только смысл, а не значения слов, может быть истинным. Смысл, как истина, собственно не разлагается на части, потому что как только его разложить, он перестает быть истинным, а следовательно, быть «смыслом», и от него остаются лишь простые значения слов. Для теории познания это обстоятельство крайне существенно. Смысл с точки зрения своей истинности есть неразложимое единство, и гносеологическое исследование сначала должно быть направлено исключительно на нераздельный, цельный смысл в его единстве. Только когда понята сущность целого, можно поставить вопрос о том, в каком отношении целое находится к своим «частям», но части можно наследовать только в их отношении к целому. Без этого отношения они логически являются безразличными. Те, кто исследование начинают (что еще часто встречается) с частей, т. е. со значений слов или с так называемых «понятий», не принимая во внимание того, что это только части истинного смысла, совсем не подошли даже еще к проблеме истины. Понятия, рассматриваемые сами по себе и изолированно, только тогда логически не безразличны, если под ними разуметь уже мысли, могущие быть истинными, т, е. имеющие смысл предложений.
Наш вопрос о том нечто, что не зависит от акта мышления, гласит, следовательно, так: что такое смысл в его единстве, который понимается нами в истинном суждении? Так как при этом мы совершенно отвлекаемся от психического акта и ограничиваемся логическим составом истины (Wahrheitsgehalt), то мы назовем эту постановку вопроса трансцендентально-логической в противоположность трансцендентально-психологической. Она вводит нас в «чистую» логику, имеющую дело с трансцендентным смыслом, а не с имманентным, подобно трансцендентной психологии.
Итак, что такое смысл? До сих пор мы знаем только, что он не есть эмпирическое бытие. Может ли он быть причислен вообще к бытию? Кроме реального, можно еще допускать «идеальное» бытие, относя к нему образования, изучением которых занимается, например, математика. Число не есть реальность. В действительном треугольнике сумма углов содержит вовсе не два прямых. Следовательно, математический треугольник, если вообще его причислять к бытию, есть только идеальное бытие. Может быть, и смысл принадлежит к этой сфере? Без сомнения, он имеет нечто общее с математическими образованиями, что и позволяет сделать такое предположение. И смысл, и идеальное бытие вневременны: числа, прямые линии не возникают и не исчезают. Совпадение имеется еще и в другом отношении. Действительные черточки на бумаге – не математический треугольник, но они только «означают» его.
Точно также и действительное предложение не есть смысл, но лишь означает смысл. Не следует ли, что смысл относится к действительному предложению точно так же, как математический треугольник – к означающей его действительности?
Так как мы резко различили истинный смысл и значения слов, то ясно, что не может быть речи о совпадении смысла и идеального бытия. Я образую истинное предложение относительно (über) или об (von) идеальном бытии, но смысл этого предложения так же мало совпадает с самим идеальным бытием, как мало смысл предложения о реальном бытии тожественен с последним. Угол, опирающийся на диаметр, не есть нечто истинное, значит, не представляет собою логического смысла, как мы условились понимать здесь это слово. Истинен только смысл предложения о величине этого угла. Желающий сблизить смысл и идеальное бытие в крайнем случае мог бы только сказать, что отдельные значения слов, содержащиеся в смысле, лежат в сфере идеального бытия и постольку родственны математическим образованиям. Но мы знаем, что смысл ни в коем случае нельзя понимать, как простой агрегат словесных значений, почему математическая образования могут быть в лучшем случае только частями смысла, но понятие смысла никогда не может быть исчерпано идеальным бытием его частей. Математическим образованиям недостает существенного момента, благодаря которому смысл нас здесь единственно интересует, именно, истины.
Итак, если смысл вообще помещать в сферу бытия, то остается еще только «метафизическое» бытие, тем более, что вскрытый уже нами трансцендентный характер смысла, по-видимому, свидетельствует в пользу отнесения смысла к этой сфере. Не подлежит также сомнению, что глубочайшие теоретические основания, приведшие к принятию метафизической реальности, следует искать в понятии трансцендентного смысла. Но этот смысл есть в самом деле «иной» мир, нежели эмпирическая действительность. Здесь – теоретическое изначало Платонова учения об идеях, этого прообраза всякой теоретической метафизики. Точно также и та энергия, с которой и теперь еще отстаивается мир трансцендентного «духа», как истинная реальность, лежащая над эмпирической действительностью, в своем последнем теоретическом основании питается убеждением, что всякая истинная мысль в действительности есть нечто большее, чем простое психическое образование, и что поэтому отрицание всего, выходящего за пределы эмпирической действительности, неизбежно должно привести к уничтожению понятия истины. Нет надобности говорить здесь о значении подобной метафизики духа для других отделов философии; в теории познания ей, во всяком случае, нет места. Переход от эмпирической действительности к метафизике не только не может быть оправдан из понятия трансцендентного смысла, но метафизика не в силах даже оказать нам никакой помощи в разрешении проблемы теории познания. Возможность познания метафизической духовной реальности содержала бы в себе гораздо более трудную проблему, чем познание эмпирической действительности. Проблемы, кроющиеся в этом «эмпирическом» познании, уже сами по себе достаточно трудны, их следует решать поэтому, не прибегая ни к каким метафизическим предпосылкам.
Желая определить понятие смысла, мы должны, следовательно, отказаться вообще от помещения его в сферу бытия, так как других понятий бытия, кроме упомянутых, не представляется. Смысл лежит «над» (über) и «до» (vor) всякого бытия. Это следует уже из того, что познание о том, что нечто есть, всегда предполагает смысл, связанный (haften) с предложением, что нечто есть, все равно, идет ли речь о реальном или идеальном, чувственном или сверхчувственном, о данном или умопостигаемом бытии. Если этот смысл не истинен, тогда вообще ничто не «есть». Следовательно, смысл не может быть причислен к бытию, но должен ему логически предшествовать.
Но как же тогда определить смысл? Разве то, что никаким образом не есть (существует), не есть ничто? Так думают многие, но это не что иное, как догматический предрассудок. Понятие бытия не единственное понятие, под которое можно подвести «нечто», но наряду с ним, кроме «ничто», как второе обширное понятие несуществующего, стоит понятие ценности. Мы употребляем это слово, обозначающее понятие, которое, подобно бытию, не допускает уже никакого дальнейшего определения, для всего того, что не есть, и что все же принадлежит к «нечто», а не к «ничто». Смысл, лежащий над всяким бытием, относится таким образом к сфере ценности и может быть понят только как ценность. Постараемся показать это теперь яснее.
Для этой цели поищем критерий, который бы, совершенно независимо от до сих пор выставляемых соображений, решал, относится ли нечто к бытию или к ценности. Критерий этот мы можем добыть, введя понятие отрицания. Именно, можно показать, что соединение отрицания с понятием бытия однозначно, соединение же его с понятием ценности двузначно, и потому в зависимости от того, получаем ли мы через отрицание одно или два значения, мы и можем познать, имеем ли мы перед собой понятие бытия или понятие ценности. Более подробное исследование самого понятия отрицания мы должны и можем здесь оставить в стороне. Такое исследование вскрыло бы целый ряд трудностей в этом понятии и, пожалуй, сделало бы необходимой более обстоятельную формулировку наших выводов. Но и без специального анализа отрицания последующие замечания будут вполне понятны, и, если они и не будут отличаться полнотой, то, во всяком случае, не должны вызывать сомнений.
Отрицание бытия, как просто отрицание, дает только ничто. Отрицание ценности, напротив, наряду с ничто может означать также и нечто: именно – отрицательную ценность. Отсюда следует, что понятие ценности имеет более узкое и более широкое значение. Только ценность в узком смысле противоположна отрицательной ценности или не-ценности и может быть тогда обозначена, как положительная ценность. Но обе, и отрицательная, и положительная ценности относятся к сфере ценности в широком значении слова; в этом значении ценность стоит в противоположности уже не к ценности, а к бытию. Бытийные понятия не имеют подобного узкого и широкого значения. Итак, различие и между бытием и ценностью в общем вполне уясняется из того, что можно говорить об отрицании бытия, но не об отрицательном бытии8, между тем как в сфере ценности мы получаем не только отрицание ценности вообще, но и отрицательную ценность или не-ценность (Unwert). Ценность и не-ценность представляют собой в таком случае сопряженные понятия, подчиненные понятию ценности в широком смысле. Понятия же бытия никаким образом не могут содержать в себе подобных сопряженных понятий. Отсюда понятно, каким образом выяснение того, дает ли отрицание какого-нибудь понятия простое ничто или отрицательною ценность, становится прямо-таки критерием того, имеем ли мы дело с бытийным или с ценностным понятием.
Прежде чем применить этот критерий к понятию смысла, покажем еще на других примерах, как через отрицание понятия мы получаем не только его уничтожение (снятие), т. е. ничто, но приобретаем также понятие, которое может быть понято, лишь как отрицательная сторона двух сопряженных понятий ценности. При этом мы нарочно возьмем понятия, из обозначения которых нельзя увидеть, ценностные ли это понятия или бытийные. Так, например, слово «человеческий» имеет два совершенно различных значения. Оно может обозначать бытийное понятие, и тогда понятие не-человеческий не имеет никакого содержания. Но оно также может служить для понятия ценности, что станет ясным тотчас же, как мы образуем сопряженную пару понятий человеческий – нечеловеческий. Нечеловечность означает тогда нечто, враждебное ценности, отрицательную ценность, и, наоборот, человечное – положительный ценностный предикат. В этом смысле мы говорим «подлинно человеческий», подразумевая под этим словом всегда ценностное, а не бытийное понятие. Особенно поучительно в этом отношении слово «природа» или «естественный». Можно было бы предложить понимать его только так, чтобы отвлечься при этом от всякой ценности и всякой ценностной противоположности. В соединении со словом «наука» («естественная наука») оно, действительно, означает нечто безразличное по отношению ценности, и, конечно, следовало бы только приветствовать, если бы в научном словоупотреблении под «природой» или под «естественным» всегда понималось чисто бытийное понятие, отрицание которого «не-естественный» было бы простым уничтожением понятия, лишенным всякого содержания, т. е. простым ничто. Но мы говорим также о неестественном в смысле противоестественного (Unnatur), разумея при этом отрицательную ценность, в противоположность которой «естественное» или «природа» может означать только сопряженную с ней положительную ценность. «Естественный» означает тогда то же самое, что ценный. Много заблуждений в философии можно свести к систематическому смешению обоих этих понятий «естественного». «He-естественное» в значении ценности остается всегда «естественным» в значении бытия. Уже это простое разделение должно было бы лишить почвы всякую «естественно-научную» теорию ценности. Если под природой понимать, как это и делает естествознание, все безразличное по отношению к ценности, то, значит, бессмысленно говорить об естественных ценностях.
Здесь нам важно лишь указать, что человек и «естественное» могут быть как бытийными, так и ценностными понятиями, но что противоположности, как человеческий – нечеловеческий, естественный – неестественный, в которых отрицание дает не уничтожение и не ничто, а нечто, могут быть, напротив, только ценностными понятиями. Применяя теперь наш критерий к понятию смысла, выраженного в предложении, мы найдем, что и здесь отрицание дает точно также не только его уничтожение, т. е. отсутствие смысла (Sinnlose), или безразличность к смыслу, но и понятие отрицательного смысла, бессмыслицу (Unsinn) или нелепость (Widersinn), которому противостоит понятие положительного смысла. Но более нам ничего и не нужно. Слово смысл в нашем понимании имеет широкое и узкое значение, так же, как и слово ценность. Мы имеем два сопряженных понятия – смысл и бессмыслицу, подчиненных понятию смысла вообще и аналогичную с сопряженными парами понятий «человеческий – нечеловечный», естественный – неестественный, подобно этим последним, и первая пара состоит из ценностных понятий. Смысл в его широком значении охватывает равным образом как положительный, так и отрицательный смысл, подобно тому, как всякая ценность содержит в себе положительную и отрицательную ценности. В своем узком значении положительного смысла, смысл, наоборот, противополагается бессмысленности9, подобно тому, как всякой положительной ценности противостоит отрицательная. Сказанное достаточно уясняет ценностный характер смысла. Смысл в широком значении слова (безразличное к смыслу) нас в дальнейшем не будет интересовать. Достаточно лишь указать на то, что даже он не связан с отдельным понятным нам словом. Отдельное слово имеет «значение», но, если оно не стоит в предложении, оно безразлично по отношению к смыслу или лишено смысла (Sinnlose) и поэтому никогда не может быть бессмысленно или нелепо (Widersinnig). Только с предложением связан смысл, который является тогда положительным или отрицательным смыслом, бессмысленностью, нелепостью. Если я говорю, что слова «деревянное железо» бессмысленны (нелепы), то это правильно только тогда, если эти слова логически эквивалентны ложному предложению «железо деревянно». Смысл, связанный с истинным предложением, есть всегда положительный смысл и, как таковой, необходимо положительная ценность в противоположность бессмыслице, как сопряженной с ним отрицательной ценности. Поэтому независимый от акта мышления истинный смысл можно определить лишь как трансцендентную ценность, но не как бытие. Общий вывод из всего сказанного вполне уяснится, если мы вспомним о том, что здесь опять-таки дело идет о формальной проблеме, и что поэтому мы говорим исключительно о форме смысла. Самая общая форма совпадет тогда с понятием положительного смысла вообще, будучи самой общей теоретической ценностью. Чтобы быть истинным, предложение должно иметь положительный смысл, в противоположность бессмыслице или нелепости. Задача дальнейшего исследования – показать, какие формы в частности должен иметь смысл, чтобы быть положительным смыслом, а не бессмыслицей, причем формы эти опять-таки суть сплошь ценности, конституирующие понятие положительного смысла вообще, как, например, отсутствие противоречия, тожество и т. д. Таким образом возникает мысль о науке, систематически излагающей эти ценностные формы (Wertformen) смысла, вращающейся исключительно в царстве логических ценностей и пользующейся, следовательно, чисто трансцендентально-логическим методом без всякого отношения к действительному познанию. Наука эта только указывает, какие ценности обладают «значимостью» («gelten»), как предпосылки положительного смысла вообще и в частности формального смысла, который имеют формально-различные между собою истинные предложения. Касаясь таким образом исключительно несуществующего, наука эта положительно может быть определена, как наука о теоретических ценностях. Она, следовательно, не имеет дела ни с физическим, ни с психическим бытием, ни с реальным, ни с идеальным, ни с чувственной, ни с сверхчувственной реальностью. Как «чистая» наука о ценностях, она стоит в противоположности ко всякой науке о бытии, и ее единственная проблема – проблема значимости теоретических ценностей. А это то же самое, что и их трансцендентность, ибо трансцендентность ценности означает не что иное, как значимость ее как ценности безотносительно к какому бы то ни было бытию, которое бы ее требовало или признавало.
Здесь не место дальше развивать это понятие логики, как науки о теоретических ценностях10. Задачей нашей здесь было только наметить ход мыслей, приводящий к этому своеобразному царству смысла и его ценностным формам или законам и научно принуждающий принять подобное царство, которое, будучи совершенно изъято из ведения наук о бытии, является поэтому объектом для совершенно особой своеобразной науки.
Как бы науки о бытии ни различались между собой по своему материалу и методу, все они все-таки имеют нечто общее, так как тем или иным способом и тем или иным путем все они стараются установить то, что есть и как оно есть. Теория познания, как наука о теоретических ценностях, никогда не задается подобным вопросом. Единственная проблема ее – это ценности, которые должны обладать значимостью для того, чтобы ответы на вопросы о бытии (что есть?) вообще имели бы смысл, для того, чтобы вообще имело смысл то, что математика говорит о бытии, или что мы говорим о действительности, являющейся материалом для различных эмпирических наук о бытии; чтобы вообще имело смысл то, что мы признаем действительность мира воздействующих друг на друга вещей и волящих существ, живущих в общении друг с другом; и чтобы, наконец, имело смысл познавать этот действительный мир при помощи естественно-научных и психологических дисциплин, при помощи исторических наук или систематических наук о культуре. Наука о теоретических ценностях касается, следовательно, того, что логически (begrifflich) предшествует всем наукам, их существующему или признаваемому действительным материалу. Она, можно сказать, имеет дело с априори наук. Это спорное понятие получает в ней простое и ясное значение, оказываясь в то же время необходимо связанным со всяким научным и до-научным познанием. Априори не есть ни психическое бытие, ни «уверенность», ни «задатки», ни «способность», или «сила», ни вообще что-либо, что вызывает познание, оно вообще не есть ни реальное, ни идеальное бытие, но только форма смысла, теоретическая ценность, имеющая трансцендентную значимость, без которой смысл всякого суждения о бытии перестал бы быть смыслом, без которой не было бы вообще истины, не было бы не только «опыта», но даже и «восприятия» и вообще никакого апостериорного познания. Что таким образом перед трансцендентальной логикой открывается широкая область своеобразных изысканий, простирающаяся от наиэлементарнейших фактов до самых сложных гипотез наук, – это не подлежит уже теперь никакому сомнению.
VI. Преимущества второго пути
Выяснив это, мы можем обратиться к вопросу о том, что может дать эта наука для проблемы предмета познания, а затем уже и установить, как относится ее метод к методу трансцендентальной психологии. На первый вопрос ответить легко. В наших поисках того нечто, с чем сообразует познание свои формы, наука о теоретических ценностях дает, по-видимому, недвусмысленный ответ. Формы действительного познания должны соответствовать формам трансцендентного смысла. Следовательно, эти трансцендентные ценности, обладающие безусловной значимостью, и суть трансцендентный предмет. Мышление, сообразуя с ними свои формы, становится познанием. Самой общей формой, как мы видели, является положительный смысл вообще. Следовательно, мышление, чтобы быть более чем простым мышлением, должно каждый раз мыслить трансцендентный смысл. Этот смысл, как самая общая теоретическая ценность, есть самая общая форма познания. Таким образом, мы нашли, по-видимому, предмет, не прибегая ни к психическому акту познания, ни к понятию познания и очевидности, и притом пришли к точно тому же результату, как и на первом пути, когда исходили из суждения и сопровождающего его чувства необходимости. Этим уже вполне выясняются преимущества второго пути перед первым. Достаточно только вспомнить данную выше характеристику трансцендентально-психологического метода. Та предпосылка, из которой этот метод должен был исходить в целях истолкования имманентного смысла и которая была там молчаливой и недоказанной предпосылкой, Здесь явно высказана и обоснована: предмет познания есть трансцендентная ценность. По этой причине трансцендентально-логический путь лишен всех тех недостатков, которые необходимо связаны с трансцендентально-психологическим методом.
Даже более того. Строго говоря, мы пришли не к точно тому же результату, что и прежде, но даже достигли гораздо лучшей и научно более строгой формулировки для понятия предмета познания. Первый путь привел нас к требованию и это требование было истолковано тогда нами как трансцендентное долженствование. Второй путь привел нас непосредственно к трансцендентной ценности. Но лишь это понятие ценности дает предмет познания в его чистом виде. Ценность и долженствование не просто совпадают. Долженствование не есть чистая ценность. Оно есть (несуществующая, а только значащая) ценность, выражающая веление, следовательно, отнесенная к бытию, к субъекту, от которого оно требует послушания, признания и подчинения. Но эта отнесенность имеет второстепенное значение. Она даже затушевывает истинный характер ценности. Только самодовлеющая ценность, совершенно независимая от какой бы то ни было отнесенности к бытию и тем более к субъекту, к которому она обращается, только такая в себе покоящаяся ценность есть трансцендентный предмет: сущность трансцендентного вполне исчерпывается его безусловной значимостью. Оно не спрашивает, для кого оно значит. Трансцендентность ценностей состоит именно в этом самодовлении, и поэтому, включая в понятие ценности момент долженствования для признающих его субъектов, тем самым только затушевывают его.
Различие между ценностью и долженствованием было доведено до резкого противоположения Мюнстербергом, который на место философии долженствования хочет поставить «философию ценностей». То же различие резко выдвигает Ласк11, указывая, однако, также связь между значимостью ценности и нормой: «Значимость становится для нас требованием или нормой тогда, когда мы не рассматриваем ее сущности в себе, чисто и отвлекаясь от всего постороннего, но когда мы вместе с тем втайне уклоняемся в сторону подчиненной значимости, субъективности». Следовательно, и по Ласку идея долженствования по сравнению с ценностью в себе производна и вторична, и так как для теории познания существенна лишь трансцендентная значимость предмета, то, следовательно, она должна избегать всяких таких уклонений, т. е. должна говорить только об обладающей значимостью ценности, а не о долженствовании.
Конечно, нельзя отрицать (что особенно следует заметить против Мюнстерберга), что ценность становится долженствованием, как только мы относим ее к познающему субъекту. Тогда она противостоит ему, как правило, как норма, с которой субъект должен сообразоваться. Но, именно, эта мысль низводит ценность с ее трансцендентной выси, с ее трансцендентной значимости и умаляет ее теоретическое достоинство. В особенности же такое рассмотрение недопустимым образом передвигает центр тяжести теории познания, как науки. Оно отнимает у науки, которая должна быть теорией теории, ее чисто теоретический и ее собственно-научный характер. Оно делает из нее «нормативную дисциплину» или даже техническое учение о мышлении, а этого должна остерегаться теория познания. Техническое учение (Kunstlehre) не есть наука, но всего только применение научных выводов. Гуссерль вполне убедительно доказал это: нормативные дисциплины нуждаются в чисто теоретическом фундаменте12. В этом последнем вся суть. Превращение ценностей в нормы для действительного процесса познания уже не есть научная задача. Установление норм и правил – дело техники. Так что также и на этом основании можно сказать: теория познания, как чистая наука, не имеет дела с долженствованием, которое обращается к бытию, но исключительно с царством чистой «мысли», трансцендентного смысла. Уже поэтому трансцендентально-логический путь предпочтительнее трансцендентально-психологического, ведущего нас к долженствованию.
Что можно возразить на это? Нельзя оспаривать, что эти мысли справедливы, и что трансцендентально-логический метод представляет преимущества. Исходя из действительного познания, мы навсегда остаемся как бы опутанными психическим процессом. Предмет, смысл, ценность здесь не свободны. Они остаются простыми нормами для человека, так что все, по-видимому, принимает антропоморфную окраску. Мы должны уяснить себе, что смысл лежит высоко над всем человеческим, а следовательно, и над всякими суждениями и актами признания.
К этому присоединяется еще нечто особое. Чтобы оградить понятие науки о ценности от недоразумений, лучше всего, пожалуй, было бы из тактических соображений пожертвовать понятием нормативной науки. Возражения, справедливо направленные против понятия нормы, как понятия не теоретического, совершенно не касаются понятия теоретической ценности. Прежде всего надо показать, что вопрос, искать ли логическое в «идеальном бытии» или в нормативном, основан на ложной альтернативе. Имеется еще нечто третье, а именно, теоретическая самодовлеющая ценность. Таким образом, действительно, необходимо резкое разделение нормы и ценности, особенно, в виду того, что и теперь еще против понятия науки о ценности выставляется аргумент о необходимости для всякой нормативной дисциплины «теоретического фундамента», построение которого и составляет единственную научную задачу теории познания. Этот аргумент может быть, однако, направлен только против понятия нормативной дисциплины, но отнюдь не против понятия чистой науки о ценностях. Напротив, искомый фундамент под нормы может подвести только наука о ценностях. Из наук о бытии никак нельзя вывести норм, имеющих более чем условную, от воли определенного индивида зависящую значимость: технические правила имеют значимость только для того, кто, желая определенной цели, сознает, что он должен желать также и средства. Здесь логика совершенно не при чем. Итак, конечно, всякая нормативная дисциплина предполагает чисто теоретические выводы, которые сами по себе не устанавливают ни норм, ни правил, но верно также и то, что теоретической основой нормативной дисциплины являются ценности, и что только на основании значимости этих ценностей норма может претендовать на руководство мышлением. Понятия теоретического и ценности, как мы видели, не представляют собой противоположности. Всякая «теория» и всякое познание основываются на значимости ценностей, и эти теоретические ценности, как ценности, исследует теория познания, именно потому, что она есть теория теории. Установление норм вытекает тогда, собственно, само по себе и постольку оно может быть названо вторичным по сравнению с чистой наукой о ценностях. Если долженствование понимать только как производное из ценности правило для суждения, то слово ценность есть действительно самое лучшее и даже единственно верное обозначение для предмета познания.
Но этим не решается еще окончательно наша проблема. Если окинуть взглядом теорию познания в целом, то можно ли сказать, что игнорирование вторым путем отношения к действительному познанию есть, действительно, только его преимущество? Вот тот последний вопрос, на который мы должны еще ответить, чтобы окончательно выяснить отношение обоих гносеологических путей.
VII. Трансцендентальная логика и трансцендентальная психология
Прежде всего следовало бы вообще спросить, можно ли действительно образовать понятие трансцендентной ценности, свободной от всякой отнесенности к акту признания или к суждению, выражающему наше определенное к ней отношение? В терминах для обозначения несуществующего более или менее слышится эта отнесенность. В словах ценность, смысл, значимость она, несомненно, отступает на задний план. Термины требование, норма, правило больше ее выдвигают; точно также и слово долженствование в общеупотребительном смысле заключает в себе императив, направленный на субъекта. Но, с другой стороны, именно, это слово имеет огромное преимущество, так как выражает резко и недвусмысленно противоположность к бытию. На этом основании я на нем и остановился. Мы никогда не должны забывать того, что теория познания должна быть определена, как наука о том, что не есть (не существует). Но под ценностью мы часто разумеем также и то, что долженствование никогда не может обозначать, именно, ценную действительность, «благо», и это второе значение ценности должно быть тщательно устранено из понятия предмета познания, иначе мы впадаем в платонизирующую метафизику ценности. Но если даже под ценностью понимать только несуществующее, то опять-таки остается все же сомнительным, можем ли мы при употреблении слова ценность вполне избегнуть уклона в сторону предающейся ей субъективности. Скорее, наоборот: в выражении «трансцендентная ценность» отнесенность к субъекту отвергается исключительно словом «трансцендентная», слово же ценность, собственно говоря, всегда означает только ценность для субъекта, при чем субъект тогда, конечно, рассматривается не как индивид, но как субъект вообще. Впрочем, этот вопрос может быть разрешен только с помощью более подробного анализа понятия гносеологического субъекта, намеренно оставленного здесь нами в стороне и сейчас, когда мы выясняем взаимное отношение трансцендентально-психологического и трансцендентально-логического методов, не играющего решающей роли. Мы можем ограничиться отношением предмета к действительным актам познания.
Разумеется, при этом необходимо по-прежнему резко разграничивать довлеющие себе ценности, с одной стороны, и явно отнесенные к действительному познанию нормы или правила, – с другой. Если отвлечься от намеченной выше борьбы с недоразумениями, связанными с понятием науки о ценностях, то для того, кто познал, что ценность и норма различаются между собой только в этом единственном пункте, вопрос в том, называть ли предмет познания трансцендентной ценностью или трансцендентным долженствованием, получает, в конце концов, второстепенное значение. Ведь и термин «трансцендентное долженствование» тоже не применим к простому производному правилу. Это понятие также содержит в себе независимую от субъекта значимость и постольку вполне покрывается понятием трансцендентной ценности. Но этим и решается весь вопрос, ибо для нас здесь прежде всего существенно то, что предмет, с одной стороны, недействителен, с другой же стороны – трансцендентен. А говорим ли мы ценность или долженствование, – это уже не существенно. Весьма важен, наоборот, другой проект, вызывающий сомнения в том, возможно ли, в особенности в теории познания, совершенно разъединить друг от друга требование и ценность. А именно, пока речь идет о трансцендентной ценности вообще, можно вовсе не мыслить понятия требования. Но если дело касается формулирования различных трансцендентных ценностей в частности, то уже будет трудно без него обойтись. Именно поэтому мы и нуждаемся в термине, который не только обозначал бы предмет познания в его самодовлении («an sich»), но и выражал бы тот же самый предмет в его отнесенности к действительному познанию. Так, понятие трансцендентного долженствования необходимо для теории познания. Это легко показать на примерах. Тожество и отсутствие противоречий, как их излагает логика, – трансцендентные ценности. Как предпосылки положительного смысла, они имеют безусловную значимость и не могут быть подведены под понятие бытия. Но как формулировать такие принципы, как «принцип» тожества и принцип «отсутствия противоречия», а следовательно, установить логические «законы», не относя логических ценностей к действительному мышлению и не пользуясь при этом понятием долженствования? Для установления «законов» в нашем распоряжении находятся только две формулы. Или мы говорим: это есть так, или говорим: это должно быть так. При этом слово «значит» совсем не меняет дела, потому что, поскольку значимость относится к действительному мышлению, ценность значит для этого мышления, а «значить для» уже включает в себя долженствование. Итак, можно ли утверждать, что только «это есть так» чисто-теоретично и научно, и что всякое «это должно быть так» уже содержит в себе не теоретический или даже технический момент? Совсем нет. «Чисто-теоретическое» предложение в этом узком смысле не было бы адекватной формулировкой гносеологических истин. Дело в том, что логика не дает «теоретического познания» в том роде, что науки о бытии, но, вскрывая только предпосылки всякого познания о бытии, она сама поэтому не должна и не может принимать форму науки о бытии. Чисто «теоретические» формулировки принципов тожества и отсутствия противоречия должны бы были, подобно всем предложениям, выражаемым формулой «это есть так», уже предполагать ценности тожества и отсутствия противоречия, а потому эти формулировки и не могли бы ясно обнаружить то, что имеет решающее значение, а именно, то, что здесь речь идет об истинах ценностного порядка и что с ценностными (wertwissenschaftlich) предложениями, формулирующими эти истины, даже уже с чисто формальной точки зрения связан совсем иной трансцендентный смысл, нежели с бытийными (seinswissenschaftlich).
Следовательно, чтобы недвусмысленно выразить то, что отсутствие противоречия и тожество суть теоретические ценности, мы имеем только формулировку, которую можно называть «практической» и которая устанавливает норму для мышления. Подобных «практических» предложений нечего бояться даже теории теории, т. е. самой теоретической из всех наук. Такого рода противоположение «теоретического» и «практического» вообще хромает, раз только теорию познания понимать как науку о ценностях. Оно выросло на почве, на которой теоретическое было областью, совершенно свободной от ценности, а все относящееся к ценности ставилось в связь с этическим. Понятие теоретической ценности, без которого мы не можем обойтись, снимает предпосылки, при которых это резкое противопоставление теоретического и практического в старом смысле было в своем роде правомерно. Конечно, мы должны, как то было и прежде, самым резким образом отделять теоретическую ценность от ценности, в узком смысле практической или этической. Учение о «примате практического разума» не должно быть понимаемо в том смысле, будто познание есть нравственное деяние, и в еще меньшей степени практическое отношение может иметь примат над трансцендентным смыслом или ценностью, ибо смысл есть логическое prius всякого бытия, а следовательно, и всякого «отношения» (Verhalten). Поэтому также теоретические ценности нельзя выводить из сверхиндивидуальной воли. Воля, будучи чем то существующим, логически всегда вторична по сравнению со смыслом. Воля «есть» только тогда, когда смысл предложения о том, что она есть, обладает трансцендентной значимостью, когда он – безусловная ценность. Таким образом бытие всякой воли логически покоится на ценности. Сверхиндивидуальной, если под этим не разуметь совершенно проблематической метафизической действительности, воля может быть названа лишь постольку, поскольку она хочет не условных, а безусловных сверхиндивидуальных ценностей, так что и в этом отношении трансцендентная ценность логически предшествует сверхиндивидуальной воле. Тем более, следовательно, теоретическая ценность предшествует всякой нравственной воле, поэтому от воли к истине можно в крайнем случае ставить в зависимость лишь действительное познание, но никак нельзя основывать на воле ценности истины. Все это, однако, не должно нам мешать утверждать, что теоретическое, поскольку оно есть ценность, принадлежит к практическому в самом широком смысле этого слова. Ибо только тогда станет ясной необходимость уничтожения старого противоположения теоретического и практического, на основании которого утверждался примат теоретического над всеми ценностями. Если же примат практического понимать, как примат ценности, то он остается неоспоримым; и только установив этот примат ценности, можно затем уже обратиться к, разумеется, не менее важной задаче, – к разграничению понятий этической ценности, как особого вида практического и понятия теоретической ценности, как другого его вида, чтобы таким образом избегнуть смешения ценностей.
Однако, ответ на эти вопросы уже переходит границы теории познания и касается общих «проблем мировоззрения». Здесь мы имеем дело с вопросом об отношении трансцендентной ценности к действительному акту познания лишь постольку, поскольку он связан с вопросом о взаимном отношении трансцендентальной логики и трансцендентальной психологии. Чтобы привести к концу наши мысли, нам надлежит еще, наконец, показать, почему трансцендентально-логическое трактование проблем в теории познания само по себе недостаточно.
Попробуем совершенно отвлечься от того, можно ли трансцендентную ценность мыслить без всякого отношения к акту познания, допустим даже возможность однозначно и адекватно формулировать выводы трансцендентальной логики не только «нормативным» образом, но также с помощью иных, более «теоретических» формул, попробуем, следовательно, иметь в виду одно только царство трансцендентного смысла и его довлеющие себе формальные ценности; не обнаружится ли тогда очевиднейшим образом недостаточность чисто трансцендентально-логического метода? Ведь то значение, которым должны обладать трансцендентные ценности для действительного познания, останется все же совершенно непонятным. У нас имеется предмет, но мы не знаем, как этот предмет познается. Как чистая ценность, трансцендентное отделено от всякого познания непроходимой пропастью. Истина восседает тогда на потусторонней высоте. Смысл истинных предложений обладает вневременной значимостью, но он ни для кого не значит. Мы никогда не можем приблизиться к нему, мы не можем образовать предложений, с которыми был бы связан этот смысл. Пожалуй, возразят на это, что гносеологу столь же мало дела до всех этих трудностей, как и физику, не спрашивающему о том, каким путем он приходит к познанию цветов. Мы уже раньше сказали: оптик с полным правом игнорирует то обстоятельство, что он воспринимает цвета и что они даны ему только в восприятии. Он интересуется только самой «вещью». Почему не должна так же поступать и теория познания, почему не может она ограничить свой интерес логическими ценностями – в их трансцендентности? Сравнение это, однако, не подходит. Прежде всего теория познания вообще не может ограничиться предметом познания, но должна также ответить и на вопрос о познании предмета. Но и независимо от этого, оба вопроса могут вообще лишь предварительно быть отделены один от другого. Ответ на один из них будет только тогда действительным ответом, если он молчаливо (implicite) содержит также и ответ на второй. И обратно – я не могу знать, что такое предмет познания, если я не знаю также, как я познаю этот предмет. Понятие предмета познания теряет свой смысл без понятия познания предмета. Трансцендентное становится «предметом», только будучи предметом для познания, противостоя мышлению таким образом, что последнее может с ним сообразоваться. Поэтому трансцендентальная логика должна обратиться также и к проблеме познания предмета.
Но возможно ли это для нее? Пока, вначале, и, конечно, на вполне законном основании, она игнорировала этот вопрос, ограничиваясь одним только предметом. И это ограничение с необходимостью заставило ее говорить о предмете, к которому познающий субъект уже более не имеет никакого отношения. Первый шаг на этом пути состоял в отделении психического бытия от смысла, акта мышления от мысли. На этом разделении и только на нем покоилось все своеобразие трансцендентально-логического метода, и все его преимущества происходили из этого радикального разграничения ценности и действительности. Но эти преимущества имеют и оборотную сторону. Следует уяснить себе, что метод, нерв которого образует разделение, не в состоянии снова восстановить связь между предметом и познанием. В этом бессилии обнаруживается принципиальная односторонность и несовершенство этого метода. Тем самым доказана также необходимость его восполнения. Чтобы стать совершенным и быть в состоянии дать систему теории познания, он должен бы найти обратный путь от довлеющих себе и трансцендентных ценностей к психическому процессу познания; но уже первым своим шагом, установившим непроходимую пропасть между бытием и ценностью, он отрезал себе этот обратный путь раз навсегда. Если хотят разрешить также и проблему познания предмета, то никогда нельзя идти обратно от предмета к познанию, но только вперед – от познания к предмету. Но это приводит нас обратно к первому трансцендентально-психологическому пути. Мы не можем все время игнорировать акта познания. Первый путь, из него исходящий, может быть, и имеет свои недостатки, но без него все же нельзя обойтись, если должно восстановить связь между предметом и познанием. Может быть, не как «первый» путь, но как «второй» путь он также необходим.
И, наконец, действительно ли так уж велики недостатки трансцендентально-психологического метода, что ему следует отказать в научной правомерности? Вернее, не устраняются ли эти его недостатки именно тем, что метод этот совмещается с чисто логическим? Мы попытаемся ответить на эти вопросы отдельно, сначала в применении к понятию очевидности, а затем к понятию акта суждения.
Что психологический анализ чувства очевидности никогда не откроет нам его трансцендентного значения, – это по прежнему остается очевидным. Но раз мы уже предположили, что так или иначе имеется трансцендентный предмет, а эту предпосылку должна сделать всякая теория познания, то тогда не только возможно, но даже и необходимо поставить вопрос о критерии истины, чтобы таким образом понять познание предмета. Конечно, никак уже более невозможно «объяснить» появление требования, с одной стороны связанного с чувством, с другой же стороны – долженствующего все же обладать трансцендентной значимостью независимо от всякого бытия. Но отсюда вовсе не следует, что чувство очевидности, как критерий истины, ведет к релятивизму и к уничтожению понятия познания. Существует ли, кроме психического состояния, какой-нибудь иной критерий истины наших суждений? Пока не найден такой непсихический критерий, надо остаться при том, что «субъективное» чувство необходимости гарантирует (verbürgt) «транссубъективную» необходимость. Требовать «объяснения» для этого не имеет смысла. Объяснения, подобные тем, что дают нам другие науки, вращаются всегда в пределах бытия и никогда не могут коснуться трансцендентного смысла. Для теории познания вполне достаточно показать, что своеобразная двусторонность очевидности есть совершенно неизбежное допущение, потому что всякая попытка оспаривать это допущение также должна для правильности своих суждений основываться на каком-либо имманентном критерии истины и потому должна предполагать уже то, что она пытается оспаривать, именно, что психическое состояние гарантирует трансцендентную значимость. Можно, конечно, не соглашаться с тем, что очевидность, рассматриваемая как психическое состояние, есть чувство. Можно также вовсе избегнуть слова очевидность; можно, наконец, даже сказать, что неправильно, будто познание всегда есть суждение и нуждается поэтому в необходимости суждения. Тем не менее все это в главном вопросе не играет ни малейшей роли, так как нельзя все же отрицать, что познание, если оно и есть нечто большее, чем простой психический процесс, есть в то же время всегда также и психический процесс, и что в этом психическом бытии должно находиться нечто, гарантирующее это «большее». В конце концов, без этой предпосылки не может обойтись также и трансцендентально-логический метод. Мы можем, отвлекаясь от акта мышления, принимать во внимание только независимый от него смысл; но и в таком случае мы все же всегда имеем дело со смыслом истинного предложения, который можно «понимать», а это, в свою очередь, включает допущение, что человек, понимающей истину, обладает имманентным критерием того, что со словами связан положительный трансцендентный смысл. Но тот, кто согласился с этим, тем самым уже придает психическому состоянию значение, делающее его чем-то большим, нежели простым психическим состоянием; он истолковывает его, как смысл, которого он не имеет в качестве психического состояния. Таким образом конструируется имманентный смысл психического. Разве лишне то, что трансцендентальная психология явно сознает этот имманентный смысл, как неизбежную предпосылку всякого действительного познания? Конечно, нет. Трансцендентально-психологическая теория имманентного смысла очевидности есть необходимая часть теории познания, поскольку последняя касается познания предмета.
Обратившись теперь к трансцендентально-психологическому анализу акта суждения, мы увидим, что и он возможен только благодаря тому, что мы уже с самого начала относим суждение к его трансцендентному предмету; постольку этот метод покоится, следовательно, на petitio principii, так что с этой точки зрения второй путь предпочтительнее. Но, отвлекаясь от этого, мы видим, что трансцендентально-психологический анализ акта суждения точно так же не является излишним, но восполняет в теории познания пробел, который невозможно пополнить другим способом. Начавши теорию познания трансцендентально-логическим рассуждением, мы в итоге имеем с одной стороны трансцендентную ценность, а с другой – имманентный психический акт мышления. Но каким образом бытие приходит к смыслу, действительность – к ценности? Понять это можно, только установив между трансцендентным и имманентным среднее царство, то царство имманентного смысла, о котором мы уже говорили выше; но тогда по-прежнему окажется, что смысл всякого акта суждения есть утверждение долженствования. Это не следует понимать так, будто суждение приобретает смысл этического действия, хотя познание, по смыслу его, и должно назвать «практическим», в широком значении слова, т. е. в смысле активного отношения (Stellungnehmens) к ценности. Это важно потому, что тем самым познание в целом нашей жизни теряет свое исключительное положение. Оно в известном смысле уравнивается как с этическим, так и с эстетическим отношениями, которые означают тоже такого же рода активное действие (Stellungsnehmen), сколь бы ни отличались они в иных отношениях от познания. Трансцендентная ценность необходимо претворяется для мышления в долженствование, признаваемое через утверждение. Конечно, можно сказать, что только тогда, когда само это отношение становится для человека «долгом», переходим мы в область «практического», утверждение же само по себе есть еще чисто теоретический акт. В таком случае, однако, слово практический берется снова в его узком значении, в котором оно противостоит другим видам активного отношения. Здесь для нас важно лишь понять смысл познания так, чтобы он, в противоположность пассивному созерцанию, был активным признанием ценности. Еще и по другой причине познание следует назвать «практическим», подчеркивая его родство с нравственным волением. В обоих случаях ценности, по отношению к которым занимается известное положение, обладают «категорической», безусловной значимостью. В обоих случаях ценность признается единственно ради ценности. В обоих случаях признание «автономно», т. е. в практическом значении слова «свободно». Констатирование этой логической автономии и свободы акта суждения, разумеется, не имеющей ничего общего с беспричинностью, имеет решающее значение не только для общих вопросов мировоззрения, но и для самой теории познания. Ибо, только вскрывши этот имманентный смысл познания, можем мы понять, как может мышление овладеть трансцендентным предметом и стать познанием. С помощью понятия свободного признания долженствования ради долженствования и ценности ради ценности трансцендентальная психология перекидывает мост между двумя мирами, разделенными трансцендентальной логикой. Как практически «свободные» существа и только как таковые, овладеваем мы миром трансцендентной ценности. В этом – суть теории имманентного смысла акта суждения, которую дает нам трансцендентальная психология.
Если так понимают ее задачу, то нельзя уже будет делать ей упрека в принципиальной неясности и двойственности. Конечно, она постоянно имеет дело как с действительным актом мышления, так и с трансцендентным предметом, относя один из них к другому. Это может быть названо двойственностью, но этот своеобразный способ рассмотрения необходимо вытекает из ее посредствующей роли, и оправдание двойственности таким образом дается познанием ее необходимости. При этом нельзя отрицать, что для выводов трансцендентальной психологии чрезвычайно трудно найти однозначные формулировки, и что при желании всегда можно истолковать трансцендентально-психологические исследования как психологизм или метафизику. Авторы, стремящиеся во что бы то ни стало к «критике» за отсутствием дарования к положительному творчеству, найдут здесь благодарную почву для своей деятельности.
Но это, конечно, не должно никого пугать, и надо надеяться, что резкое подчеркивание трансцендентного долженствования как необходимой предпосылки, а также различия между бытием и смыслом суждения, в состоянии будет предотвратить всякие недоразумения.
Но это, пожалуй, не удовлетворит еще сомневающихся в ценности трансцендентально-психологического анализа, в особенности в способности его перекинуть мост между миром теоретических ценностей и психическими актами познания. Это сомнение можно радикальным образом обосновать, утверждая, что теория познания наталкивается здесь на проблему, которую вообще невозможно разрешить. Смысл и бытие, ценность и действительность, трансцендентное и имманентное, как понятия, исключают друг друга. Поэтому никакая философия не в состоянии выйти из этого дуализма, даже при посредстве понятия автономного признания ценности. Мы никогда не будем в состоянии понять, как эти два царства становятся единством. Хотя существования единства и нельзя отрицать, ибо без него все познание было бы лишено смысла, но оно остается вечной загадкой, чудом, которое выше всякого разумения. Поэтому теория познания должна ограничиться установлением системы трансцендентных ценностей, а в остальном удовлетвориться фактом познания, не задаваясь вопросом о том, как трансцендентное становится имманентным.
Но в самом ли деле дальше идти некуда? Мы, действительно, натолкнулись здесь на проблему, побудившую уже многих мыслителей отказаться от объяснения мира и приведшую либо к полной резиньяции, либо к допущению для иррационального сверхлогической способности познания, вроде сверхнаучной «интуиции». Необходимость подобной резиньяции столь же мала, как мало право на такие притязания. И те и другие объясняются забвением того, что эта загадка и чудо обязаны своим существованием исключительно сущности нашей рефлексии, и что поэтому с уяснением сущности этой рефлексии они перестают быть загадкой. Всякое понимание делает необходимым разъединение того, что первоначально связано. Так из единства возникает двойственность, понятия же, как различные понятия, конечно, никогда не могут совпасть, но должны навсегда остаться разъединенными. Но потому, что два понятия не одно понятие, не следует уже думать, что мы стоим перед мировой загадкой. И все же такая уверенность очень распространена. Это можно пояснить примером из другой области философии. – Наука раскалывает непосредственно данную действительность, ибо, подводя ее под систему чисто количественных понятий, она естественно должна подчинить не квантифицируемый остаток другой системе понятий. Называя тогда квантифицируемое «физическим», неквантифицируемое же «психическим», мы удивляемся, что эти миры понятия, естественно исключающие друг друга, мыслятся дуалистически, а не монистически. Мы безуспешно тогда оперируем такими понятиями, как «психофизическая причинность» и «психофизический параллелизм», тщетно желая преодолеть противоположность понятий, т. е. из двух понятий сделать одно13.
Не совсем так, но аналогично обстоит дело и с дуализмом бытия и смысла. Он есть необходимый продукт рефлексии о познании. Мы познаем и постигаем при этом истину. Тогда мы непосредственно имеем единство бытия и смысла, тогда мы «переживаем» его. Но, конечно, уже констатируя то, что «мы» «его» имеем и переживаем, мы разрушаем непосредственное единство и раскалываем его на действительный акт познания и недействительный предмет его. Это разъединение необходимо связано с образованием понятия познания. Мы не вправе даже поэтому сказать, что единство есть, ибо это было бы познанием единства, как единства, а таковое не может иметь места. Единство не допускает себе мыслить его, но только «переживать», и уже говоря, что мы его переживаем, мы разрушаем его, ибо мы называем его и подводим тем самым под понятие. О простом «единстве» мы вообще совсем не можем говорить, так как «единство» уже требует понятия множества, как своей противоположности. Так и везде. Познавать – значит различать, и постольку мышлению, значит, действительно невозможно снова соединить оба мира бытия и смысла. Мы, разумеется, не можем мыслить, как единство, то, что мы должны мыслить, как двойственность, чтобы вообще мочь мыслить. Постольку всякий «монизм» и всякая «философия тожества» и в теории познания ведет на ложный путь.
Но для того, кто это сознал, единство двух разъединенных миров не есть уже более чудо или загадка, не есть проблема, которая нуждается в разрешении, и в разрешении которой можно было бы отчаяться. Единство первоначально, непосредственно. Можно было бы сказать, оно – наиболее известное нам, если бы слово «знать» не делало уже из единства дуализма и если бы мы не должны были поэтому избегать говорить о нем. Достаточно сказать, что оно, хотя и непонятно (unbegreiflich), но не как то, что выше понятий (überbegreiflich), а как то, что до всяких понятий (vorbegreiflich).
Однако, какую связь имеет это с той посредствующей ролью, что выпала на долю трансцендентальной психологии? Все это указывает только на то, что и она не может перекинуть моста между обоими однажды разъединенными парами. Или, может быть, останавливается она на единстве бытия и смысла? Это, конечно, невозможно. Она их также разъединяет, но со своим понятием имманентного смысла, содержащегося в акте суждения, она стоит ближе к единству имманентного и трансцендентного, чем чистая логика. Она берет минимум разъединения, так как ищет мысль в акте мышления, смысл в суждении, ценность в действительности. Правда, относя познание к его трансцендентному предмету, она должна вместе с тем разграничивать ценность и бытие, но зато она выдвигает в суждении только «сторону», обращенную к трансцендентной ценности, т. е. акт признания, утверждающий ценность и тем самым усвояющий ее. Таким образом в понятии имманентного смысла она обладает возможно лучшим эквивалентом для понятия до-научного или первоначального единства, который может нам пока как бы заменять полное единство.
Во всяком случае, понятие имманентного смысла суждения так же необходимо для понятия действительного познания, как и понятие очевидности, и в конце концов такое трансцендентально-психологическое рассмотрение должно быть в сущности совершено и чистой логикой, прежде чем она отделит друг от друга смысл и бытие так, чтобы быть в состоянии вполне игнорировать акт познания и все внимание направить на не-действительный смысл. Без понимания, посредством которого трансцендентный смысл постигается и включается в психическое бытие, чистая логика не могла бы прибрести материала для своего исследования, как быстро ни отвлекалась бы она затем от этого акта понимания. Так что о сущности этого понимания теория познания должна во всяком случае дать себе отчет. Таким образом и чистая логика, хотя бы и в самой незначительной степени, занимается трансцендентально-психологическими исследованиями даже прежде, чем она начинает применять свой собственный метод.
Но это далеко еще не все. Если трансцендентально-психологические рассуждения в основных мыслях играют в начале чистой логики несущественную роль, то дело обстоит совсем иначе, когда теория познания обращается к своим частным проблемам. Конечно, целью ее будет всегда выработка «чистого» логического состава ценности, но на пути, ведущем к такой выработке, она не может игнорировать действительного акта познания. Не все формы мысли коренятся исключительно (verankern) в трансцендентных ценностях, и чтобы отличить вневременную значимость от просто психического мышления, нужно уже постоянно иметь в виду действительный акт мышления. Но и этого мало. Вневременная значимость может быть найдена только во временных образованиях, и формулированное в словах предложение недостаточно, если мы хотим знать что-либо не только о его смысле вообще, как наиболее общей трансцендентной ценности, но также о расчленении и об элементах этого смысла. Как только последние являются проблемой, мы должны даже остерегаться обращать внимание только на предложение, иначе мы попадем в сомнительную зависимость от логически несущественных форм языка. Многообразие, объединенное в логическом смысле в то смысловое единство, о котором мы выше говорили, может быть сознано только при рассмотрении действительных актов мышления. Если, например, говоря, что предложение высказывает что-либо о чем-либо, мы таким образом различаем «субъект» и «предикат», то «высказывание» (Aussage), если даже отвлечься от его смысла, есть уже нечто большее, чем предложение. Оно есть психический процесс, на который должна обратить внимание теория познания. Точно также она не может образовать понятия противоречия без «да» и «нет», а для этих понятий она должна, во всяком случае, исходить из имманентного смысла суждения, как утверждения или отрицания. Однако, бесцельно нагромождать примеры. Сказанное уже достаточно показывает, что, совершенно отвлекшись от действительного познания, теория познания была бы в значительной своей части пустым местом. Материал для обработки своих специальных проблем она может добыть только путем анализа актов мышления. Но этот анализ не может быть ни чисто психологическим, ни также «феноменологическим», ибо чистая наука о бытии не обладала бы принципом выбора, который в актах мышления мог бы отделить существенные для логики элементы от несущественных. Для установления логической сущности мышления трансцендентально-психологическое рассмотрение незаменимо: только оно, уже с самого начала производя «petitio principii», именно относя действительное мышление к ценности истины, в состоянии доставить тот существенный материал, на котором только и можно сознать различные трансцендентные ценности. Без этой petitio principii теории познания ни в коем случае не может обойтись. Подобно всякой науке, и она предполагает истину вообще, все равно, идет ли она трансцендентально-психологическим или трансцендентально-логическим путем.
Общий принцип таким образом достаточно выяснен; мы не намерены становиться на сторону какого-нибудь одного из обоих путей, как единственно правомерного, и менее всего хотим мы отрицать большие преимущества трансцендентально-логического метода.
Должно идти не-психологическим путем, пока это только возможно, пока возможно на нем движение вперед. Однако, кроме систематической необходимости восполнения этого метода с помощью трансцендентальной психологии, необходимо не упускать из виду также и следующего. Большая часть того, что до сих пор сделано теорией познания, было найдено трансцендентально-психологическим путем. Без попытки с помощью анализа действительная познания выявить из психических процессов трансцендентные ценности, придающая им предметное значение (Gegenständlichkeit), и найти отнесенность мышления к его предмету в некоем «правиле», которому подчинено мышление, мы не имели бы современной теории познания: метод Канта в существенном трансцендентально-психологический. Поэтому то он, правда, подвержен не только психологическим, но и метафизическим ложным толкованиям, что и ставит пред нами задачу выявить, именно у Канта, трансцендентально-логическое содержание во всей его чистоте. Постольку можно сказать, что трансцендентальная психология большею частью следует только «букве», а не «духу» Кантовой философии. Но все же многое из лучшего, что принесло нам наше время, было создано людьми, стоящими в сознательной связи с трансцендентальной психологией Канта, так что и теперь еще много ценного можно найти в трансцендентально-психологической оболочке. Конечно, и независимо от Канта возникли ценные мысли, в особенности, для «чистой» логики. Учение Bolzano о «предложении в себе», сколь бы ни были спорны отдельные его частности, содержит в себе вечное ядро, и Гуссерль на этой почве построил интересную теорию. Но с другой стороны именно Гуссерль показал, что и «чистая» логика далеко не окончательным образом сумела отграничиться от психологии. Понятие его «феноменологии» содержит еще трудные проблемы, и если Гуссерль говорит, что и трансцендентальная психология есть психология, то нужно прибавить: и феноменология есть трансцендентальная психология, и только как таковая, т. е. чрез логическое отнесение к ценности, может она создать что-либо. Независимо от этого, мыслям, идущим от Bolzano, недостает понятия теоретической ценности. Bolzano знает, что истина не есть действительность. Но этим отрицательным взглядом, если оставить в стороне массу интересных деталей, и ограничивается все его учение, и, тщетно также у последователей Bolzano будем мы искать необходимого положительного восполнения его теории. Что представляет собою это недействительное, – решение этого вопроса, основного для понятия чистой логики, выросло как раз на почве Кантовой трансцендентальной психологии.
Так, даже беглый взгляд на историческое развитие прежней и современной теории познания показывает, что нельзя стать на сторону какого-либо одного из обоих методов, если только мы желаем удержать все ценное, созданное до сих пор, но что нужно учиться у обоих методов. Трансцендентальная психология может научиться у чистой логики тому, как надо остерегаться психологизма и метафизики в теории познания. А чистая логика, именно чрез изучение трансцендентально-психологических исследований, приходит к сознанию того, что сверхъэмпирическое царство логического или сфера теоретически «идеального» может, в противоположность реальному, пониматься только как мир теоретических ценностей, что поэтому теория познания должна быть «критикой разума», т. е. наукой, задающейся вопросом не о бытии, не о смысле, не о факте, а о значимости, не о действительности, а о ценностях, т. е., короче говоря, вместе с Кантом, ставящей не quaestio facti, a quaestio juris.
Перев. под редакц. С. О. ГессенаТ. Райнов Гносеология Лотце
I. Предварительные замечания
1.Общий характер гносеологии Лотце
По своим преобладающим симпатиям и интересам Лотце скорее метафизик, чем гносеолог. В его философии гносеология всегда занимала служебное место, и он не видел смысла в ином положении дела. Этот служебный характер гносеологии Лотце получил двоякую «постановку» в разные периоды его философской деятельности. В период от 40-х до 60-х гг. XIX в., когда ему приходилось защищать свою метафизику от враждебных ей материалистических течений, он видел в гносеологии хорошо испытанное, – еще Кантом, – оборонительное оружие против материализма. Позднее, в период от 60 до 80-го, примерно, года, когда спала волна агрессивного материализма, Лотце использовал гносеологию, как введение в свою метафизику. Отдельных сочинений, посвященных гносеологии, Лотце не оставил. Но последняя книга его «Логики» («System der Philosophie, Erster Band. Logik», 1874) представляет довольно полное изложение его гносеологических воззрений. Гносеологическим духом, впрочем, проникнута вся «Логика» и многие страницы «Метафизики» («System d. Ph., Zweiter Band. Metaphysik» 1879). Много гносеологического материала находится и в «Микрокосме» (ссылки относятся к первому изд.).
2. Метод гносеологического построенияу Лотце
Теорию знания, говоря принципиально, можно строить аналитически или синтетически. Если гносеолог начинает теорию знания с основополагающей установки познавательной наличности; если он ставит себе задачей не судить знание, а просто определить его, прислушиваясь к его собственному голосу, прослеживая направление и группировки тех основных систематических линий, которыми определяется структура и внутренние тенденции знания, как такового; если он при этом не употребляет ни одного извне привносимого понятия иначе, чем в совершенно-условном и временно-допускаемом смысле так, чтобы оно играло вспомогательную, а не конституивную роль и не предрешало бы необходимым образом ни направления, ни результатов гносеологического исследования; если все эти условия соблюдены, то метод гносеологического построения мы будем называть аналитическим. Слово «анализ» очень многозначно, и обыкновенно с ним соединяется мысль, что «анализировать» не значит «теоретизировать». Однако, в настоящем, по крайней мере, случае мы исключаем это значение слова. Анализировать – значит, тоже построять теорию знания, так что не по признаку отсутствия теории отличается аналитическая теория знания от синтетической, а по признаку способа построения этой теории. В случае аналитической теории должны быть соблюдены перечисленные условия, смысл которых, в общем, выражает «беспредпосылочность» при построении гносеологии. Абсолютная беспредпосылочность недостижима, ибо уже «называние» есть теория, нуждающаяся в предпосылках, не говоря о более сложных формах теоретического мышления. Речь может идти лишь об относительной беспредпосылочности – в том именно смысле, чтобы неизбежные предпосылки осознавались и принимались только условно, с постоянной готовностью отрешиться от них. Синтетические теории знания, напротив, суть теории предпосылочного рода. Они удовлетворяют условиям, обратным тем, которые характерны для аналитических теорий знания. Гносеолог начинает не с самого знания, а с предрешающего подведения знания под какую-либо общую категорию. Исследование он ведет, повинуясь столько же голосу и особенностям знания, сколько и требованиям этой категории или вытекающих из нее следствий. Понятия, которые он при этом необходимо привносит со стороны, играют для него абсолютно самостоятельную роль, так что неизбежные предпосылки догматически и основополагающим образом закладываются в самые основы теории знания. Эти методы гносеологического построения – общие схемы. Может быть, ни одна из существующих теорий знания не подойдет вполне под какую-нибудь одну из них. Но при всем этом схемы эти выражают очень характерно некоторую идеальную полярность, намечая те направления, в сторону которых более или менее решительно и законченно развиваются различные гносеологии. Что касается гносеологии Лотце, то, взятая в том, не вполне расчлененном еще виде, в каком мы находим ее в сочинениях Лотце, она столь же аналитична, сколь и синтетична. При этом Лотце не пытается проводить последовательно один метод, а сплетает его обычно с другим. В этом мы будем часто убеждаться в дальнейшем, и мы увидим, что в действительности эта двойственность метода приводит у Лотце к двум гносеологиям. Сам он не различал их, и ему казалось, что его построение проникнуто одним духом. Что это далеко не так, что, напротив, в его гносеологии все время борются два враждебных «духа», это с полной ясностью обнаружится в дальнейшем. Именно двойственность, неумышленно для Лотце проникнувшая в его теорию, приводит косвенно к одному результату, на который нам здесь нужно указать голословно, доказательство же его придется отложить до конца нашей статьи. Мы говорили выше, что в своем окончательном виде гносеология Лотце есть введение в его метафизику. Теперь мы внесем поправку и скажем: одно течение его теории знания и в самом деле остается таким введением, тогда как другое, хотя и обладающее параллельными отзвуками в метафизике, выходит за ее пределы и являет совершенно самостоятельную гносеологию. Синтетическим методом Лотце пользовался при построении первого учения, аналитическим – второго, причем, конечно, речь здесь идет не об абсолютной чистоте метода, а о его преобладающих тенденциях.
II. Два основных вопроса гносеологии Лотце
1. Перечень этих вопросов
По содержание гносеология Лотце довольно сложна и подчас изобилует очень тонкими оттенками. Только в исчерпывающем изложении можно дать об этой сложности и оттенках адекватное представление. Здесь же мы ограничимся изложением и пояснительным анализом двух гносеологических вопросов, которые и вообще, и с точки зрения Лотце являются основными для всякой гносеологии. Теория знания, как полагает Лотце, должна решить, что такое разум или знание, как оно возможно и, наконец, как далеко оно простирается. Следовательно, нам нужно было бы поставить и осветить три таких вопроса: 1) о сущности знания; 2) о возможности знания и 3) о границах знания. В настоящей статье мы ограничимся рассмотрением первых двух вопросов.
2. О сущности знания
Свою теорию знания в рассматриваемой плоскости Лотце начинает строить по синтетическому методу. Вместо того, чтобы – как этого требует аналитический метод – подвергнуть исследованию факт знания, как такового, он просто декретирует такой тезис: знание есть отношение между субъектом и объектом, т. е., в сущности, отношение между двумя раздельными вещами. Поэтому нужно решить общий вопрос о природе такого отношения вообще, независимо от того, что является «терминами» этого отношения – такие ли вещи, как субъект и объект, или какие-либо другие. Легко убедиться в том, что этот тезис и связанное с ним обобщение вопроса предполагает две следующие предпосылки, на которые Лотце, впрочем, не указывает, либо потому, что вовсе не замечает их, либо же потому, что они казались ему истинами самоочевидными. Первая предпосылка гласит: субъект и объект суть вещи. Вторая же – между субъектом и объектом действительно существует то же самое отношение, что и между любой парой вещей. Если принять эти предпосылки – и только при этом условии, – становится понятным и даже необходимым тот тезис, с декретирования которого начинает Лотце. Действительно, если субъект и объект суть вещи, а знание есть только особый род отношения между ними, то вполне законно подвести проблему знания под более общую проблему отношения. А эта проблема принадлежит, по мнению Лотце, к числу метафизических. Подойдя к ней в «Логике», он отсылает нас за ее решением к своей «Метафизике», где это решение и дано. Таким образом, мы видим, что первые же шаги гносеологического исследования приводят Лотце к необходимости обосновать теорию знания на метафизике. Только при таком положении дела и способна затем гносеология сыграть роль введения в метафизику. Итак, мы должны решить метафизическую проблему о природе отношения между двумя раздельно-существующими вещами. Отношение мы мыслим, как некоторое «между» (zwischen), как бы протянутое между вещами и соединяющее их. Однако, мы легко усматриваем, что это «между» само по себе не составляет реальной природы отношения, а есть только способ мыслить реальное отношение, когда оно налицо. Само же отношение есть нечто большее, чем такое абстрактное «между». Реально отношение состоит во взаимодействии соотнесенных вещей. Это взаимодействие только поверхностно схватывается в понятии «между». По основаниям, которых мы здесь не будем касаться, Лотце решает проблему реального отношения или взаимодействия двояко. Оба эти решения носят метафизический характер, и можно было бы без труда показать, что оба же они связаны теснейшим образом с основными моментами метафизики Лотце. Одно из них, вслед за Лотце, мы обозначим, как окказионалистическое понимание взаимодействия, другое же – как метафизическо-монистическое. Согласно первому, которое Лотце выдавал – без всяких оснований – за «методологическое предварение» метафизического понимания, никакого взаимодействия не существует, а вещи только изменяются так, как будто между ними есть взаимодействие. При этом вещи замкнуты в себе и совершенно самостоятельны. Согласно метафизически-монистическому пониманию, взаимодействие происходит реально. Условием этой реальности является слияние всех вещей воедино, т. е. совершенное исключение существования отдельных вещей. Слившись воедино и образовав нечто единое, вещи оказываются способными к взаимодействию. Это взаимодействие есть в действительности внутреннее, «имманентное» действие внутри всеохватывающего мирового единства. Оно действует только в себе, на себя и для себя. О том, как это происходит, мы судить не можем. Но мы способны пережить в себе это имманентное действие или взаимодействие «отдельных» сторон нашего целостного духа. Мировое единство есть такой же дух, только бесконечно-мощный и совершенный: это – Бог. Итак, метафизика Лотце дает нам два определения взаимодействия или, что то же, реального отношения. Мы видели, что, по Лотце, знание есть взаимодействие между субъектом и объектом. О каком же именно взаимодействии здесь идет речь: о мнимом ли взаимодействии, о чем говорит окказионалистическое понимание, или о действительном, как его рисует метафизическо-монистическое понимание? Так как сам Лотце не догадывается поставить этот вопрос, хотя его важность самоочевидна, то мы сперва приведем его рассуждения о сущности познавательного взаимодействия, а потом попытаемся выяснить, какому из двух друг друга исключающих понятий взаимодействия отвечает понятие познавательного взаимодействия. Метафизика, говорит Лотце, учит нас, что между двумя самостоятельными вещами не может происходить взаимодействия. Если же оно существует, то либо вещи не самостоятельны, а друг с другом слиты, либо взаимодействие только мнимое, кажущееся. Но субъект и объект суть вещи, стоящие вне друг друга; объект трансцендентен субъекту – и наоборот. Из объекта ничто не проникает в субъект, так что последний ничего не знает о первом. Лотце не обсуждает специально вопроса, известно ли субъекту, по крайней мере, существование объекта, как таковое, если не род этого существования. Но из последующего хода рассуждения явствует, что субъект с уверенностью может утверждать существование объектов. На чем же основывается эта уверенность? Если объект остается по ту сторону субъекта и обратно, то все же между субъектом и объектом существует отношение аффицирования субъекта объектом. Лотце не называет это отношение таким образом, но ясно, что о нем он только и говорит. В самом деле, объекты, хотя и трансцендентные субъекту, служат для последнего поводами к самодеятельности, самообнаружению, самопроявлению. Смотря по тому, вступит ли он в такое отношение «повода» с объектом А, или объектом В, или объектом С и т. д., он раскроет себя различным образом, выявит различные свои стороны. Правда, эти стороны характеризуют только его, но ничего не говорят ему об объекте; однако, из того, что его самодеятельность должна быть пробуждена, субъект заключает, что вне его есть объекты, о которых он, впрочем, ничего сверх этого не знает. Мы видим, что это и есть «аффицирование» в том смысле, в каком это понятие встречается иногда у Канта, за которым здесь, очевидно, идет и Лотце. Благодаря этому аффицированию перед субъектом встают его собственные состояния. Лотце называет их представлениями. И он утверждает, что единственный источник и материал знания – это представления. Объекты же не входят никогда в состав этого материала: они суть непознаваемые вещи в себе. (SI 513– 514, 518– 519, 491 – 492, 499; SII 182– 183). – Теперь рассмотрим, какому из двух понятий взаимодействия отвечает это рассуждение о познавательном взаимодействии. Подчеркивание мнимости этого последнего, по-видимому, свидетельствует о том, что в знании можно говорить о взаимодействии только в окказионалистическом смысле. Ведь в этом именно смысле взаимодействие имеет не подлинный, а мнимый характер. Легко убедиться также, что Лотце должен был использовать в применении к знанию как раз условно-окказионалистическое понятие взаимодействия. Это понятие своей предпосылкой имеет плюрализм, допущение множественности вещей. А в настоящем случае Лотце делает это именно допущение, принимая, что субъект существует вне объекта, причем объектов, противостоящих субъекту, много (А, В, С…). Но в этом понимании взаимодействия Лотце здесь не идет последовательно до конца. Буквальный и точный смысл окказионализма тот, что никакого взаимодействия, собственно, нет, а что явление, принимаемое нами за взаимодействие, есть чистая иллюзия. Если бы Лотце не уклонился от этого вывода, он был бы поставлен в необходимость отрицать возможность метафизики – вообще и своей, в частности. В самом деле, если познавательное взаимодействие есть иллюзия, ибо таково всякое взаимодействие, то и метафизика, как знание о том, что существует «в себе», независимо от субъекта и его представлений, есть тоже иллюзия. Такие перспективы, конечно, не могли входить в планы Лотце, который, едва приступив к теории знания, отсылает уже нас к метафизике и которому философия без метафизики казалась психологически и принципиально неприемлемой. И вот он, незаметно для себя, но в полном соответствии с будущим построением метафизики сворачивает с колеи окказионализма и становится на путь, промежуточный между окказионалистическим и тем пониманием взаимодействия, которое он считает собственно метафизическим. Этот поворот обнаруживается уже в только что приведенном рассуждении Лотце об аффицировании. С окказионалистической точки зрения не может быть речи о реальном аффицировании, оно есть иллюзия, которой отвечает только такая «правда»: случайно происходят известные совпадения между изменениями субъекта и объектов. Следовательно, утверждение, что объекты аффицируют субъект, приходя с ним в соприкосновение, противоречит окказионализму и означает уступку метафизическому понятию о реальности взаимодействия. Только уступка эта несколько замаскирована категорическими оговорками, что объект всегда остается по ту сторону субъекта. Еще больший уклон в сторону метафизического понимания взаимодействия обнаруживается в дальнейшем. Итак, объекты, как таковые, или вещи в себе не даны знанию. Его единственный материал – представления субъекта. Не явствует ли отсюда, спрашивает Лотце, правомерность скептицизма, и отвечает на этот вопрос отрицательно. Скептицизм противоречит своим собственным основоположениям, так что уже в силу только этого он несостоятелен. Но он не выдерживает критики еще с другой, более важной стороны. Дело в том, что всякий скептицизм сомневается в достоверности нашего знания, но с таким сомнением он обыкновенно соединяет уверенность в том, что какое-либо другое, не наше, знание могло бы быть достоверным, – например, ангельское. Но в этом именно и заблуждается скептицизм, и корень его ошибки в том, что он не отдает себе отчета, что такое знание и чего можно требовать от него, согласно его понятию. Если бы скептицизм задался таким вопросом, он убедился бы, что знание, по самому существу своему, подчинено такому правилу: знание, составляемое нами, кто бы ни были эти «мы» – люди, ангелы, – есть всегда знание о вещах в том их виде, в каком они являются нам, и при том являются не тогда, когда мы не «смотрим» на них, а как раз тогда, когда мы «видим» их. Требовать от знания, чтобы оно показывало нам вещи «в себе», а не для него, не в том виде, каким они «выглядят» для знания, это значит требовать знания без познавания: требование противоречивое. Ангелы, как и люди, знают вещи такими, какими они могут быть для них. (SI 484—85; SII 182). Это опровержение скептицизма задумано интересно. Судя по тому, что Лотце приводит его в защиту достоверности нашего знания из представлений, его надо понимать следующим образом. Знание есть взаимодействие. Но взаимодействие необходимо характеризует взаимодействующие вещи в том их «аспекте», каким они обращены друг к другу при взаимодействии, и в той окраске, которая исходит от одной вещи столько же, сколько и от другой. Взаимодействие субъекта и объекта, называемое знанием, рисует объекты в виде представлений, чье содержание и окраска всецело определяются не только ими самими, но также и субъектом, в котором они своеобразно преломляются. У ангелов это преломление несколько иное, чем у нас, но преломление есть в обоих случаях. Его необходимость составляет не недостаток, а простое свойство всякого знания, в том числе и нашего. Поэтому оно достоверно, его содержание – объективно, и сомнение скептицизма необоснованно. Ясно, что, понятое таким образом, опровержение скептицизма предполагает реальность взаимодействия, следовательно, исходит не из окказионалистического, а метафизического понятия взаимодействия. Выше мы говорили, что уклон в сторону этого понятия подсказан был нашему философу необходимостью защитить правомерность метафизики. Это еще лучше видно в настоящем случае. Конечно, Лотце никогда не стал бы утверждать, что ангелы не обладают метафизическим знанием. Приведенное рассуждение показывает, что, способное к метафизике, высшее знание по существу не отличается от нашего, откуда следует, что и нам доступна метафизика. Таков подлинный, но не обнаруженный мотив рассмотренного опровержения скептицизма. Из опровержения скептицизма, по мнению Лотце, следует, что знание достоверно, независимо от того, существует ли трансцендентный нашим представлениям мир вещей в себе и каков он: как бы ни обстояло с ним дело, мы имеем дело только с нашими представлениями и мыслями о них. В представлении же, а также и в наших мыслях о нем, нужно различать две стороны: субъективную и объективную. Представление есть состояние, психическое переживание субъекта. Оно протекает во времени и видоизменяется от индивида к индивиду. Это – свойства субъективной стороны представления. Объективная же сторона представления – его содержание. Содержание представления совершенно иного порядка, чем процесс или переживание представления, процесс представливания. Представление желтого – это акт представливания, нечто субъективное. Само желтое – содержание представления, нечто объективное. Представление треугольника – субъективный процесс представливания. Сам треугольник – объективное содержание представления. Кто смешивает субъективную сторону представления с его объективной стороной, тот обязан утверждать, что представление желтого – желто, представление треугольника – треугольно, т. е. утверждать явную бессмыслицу. (SI 500, 540– 541). Содержание (Inhalt) представления никогда не зависит от индивидуального произвола. Оно с одинаковой силой навязывается разным индивидам, и каждому в отдельности оно противостоит, как самодовлеющее и самозаконное царство. Существенная особенность содержания, помимо сказанного, в том, что оно обладает значимостью (Gültigkeit). Мы еще вернемся дальше к этой характеристике, здесь же обратим внимание лишь на то, что именно значимость представлений действительно позволяет нам, по Лотце, отрешиться от понятия о трансцендентном мире: и независимо от этого мира представления обладают для нас значением, навязывающимся нам, хотим ли мы того, или нет. В конце концов, совершенно неважно, называть ли эти содержания содержаниями представлений или вещами в себе. Ибо, с одной стороны, эти содержания так богаты и разнообразны, что знание, исходящее из них, не нуждается больше ни в каком другом источнике. С другой же стороны, – почему бы их не считать и вещами в себе, раз содержания эти – все, что нам дано и что нам может быть дано (SI 481, 500, 514 – 515). Из всего этого следует, действительно, полная независимость знания от предложения о бытии вещей в себе. Но Лотце заблуждался, думая, что вышеприведенное опровержение скептицизма и все, что им до сих пор вообще сказано о знании, ведет к такому следствию. Следствие это вытекает из других оснований. Определение знания, как взаимодействия, роль вещей в себе в этом взаимодействии, опровержение скептицизма и обоснование возможности метафизики – все получено по методу синтетического построения, полно предпосылок и совершенно догматично. Без всяких доказательств знание, еще вовсе не исследованное, подводится под понятие взаимодействия, теория знания возводится к метафизике, эта последняя оправдывает себя сама и опровергает сомнения в правомерности такого оправдания. Теория знания, которая вытекала бы отсюда и продолжала бы метафизическую струю все дальше и дальше, могла бы привести Лотце к утверждению, что знание из представлений достоверно, что существование вещей в себе для такого знания безразлично и что, пожалуй, содержание представления и есть вещь в себе, так что положительное знание, ограничивающееся этими содержаниями, есть, собственно, все возможное знание, а рядом с ним не может быть уже никакого другого знания? Ведь эти утверждения, частью прямо высказывания Лотце, частью долженствующие быть высказанными, если бы он захотел или смог быть последовательным, – утверждения эти обращены против метафизики. Они и получены совершенно независимо от метафизики, метафизического понятия взаимодействия и знания, как взаимодействия. Лотце попросту взял «представление», подвергнул его анализу, нашел в нем две стороны, описал их так, как нашел и какими нашел, и кончил тем, что поставил на абсолютную высоту объективность содержаний представлений, а к вещам в себе отнесся с пренебрежением, менее всего оправдываемым тем вниманием, какое он оказывал им до того. Таким образом, и по содержанию своему, и по методу исследования только что рассмотренный апофеоз представлений решительно расходится с ранее приведенными гносеологическими экскурсами Лотце в метафизику. Здесь нет непрерывного перехода, а резкий разрыв и попытка строить теорию знания по новому – аналитическому – методу. Различение субъективной и объективной сторон «представления» есть первый камень в новом здании. Построение этого здания продолжается, когда Лотце переходит к такому же различению двух «сторон» в тех «мыслях» о представлении, которые называются суждениями. Суждение есть мысль о значимости, или незначимости содержания представления. Эта значимость суждения, которую нужно отличать от акта или переживания суждения, рассматривается у Лотце далеко не одинаково в разных случаях. Если держаться одной лишь гносеологии Лотце, то приходится резко отличить два истолкования значимости. Одно можно обозначить, как объективно-логическое. Другое – как нормативно-логическое. Лотце пытался связать эти различные интерпретации друг с другом. Но мы изложим их отдельно и затем покажем, что эта попытка не увенчалась успехом. Начнем с определения значимости в объективно-логическом смысле. В этой связи значимость (принадлежащая, впрочем, как суждениям, так и понятиям) есть особый вид действительности, рядом с тремя другими видами. Эти последние суть: бытие, стояние в отношениях и бывание. Суждения не обладают бытием, не суть они и отношения. Бывание же им присуще в том смысле, что одна из сторон суждения есть акт, процесс. Но это – субъективная сторона суждения. Значимость же есть сущность объективной стороны суждения, она обладает объективностью (SI 499 – 501). В двух отношениях принадлежит ей эта объективность. С одной стороны она означает независимость, отрешенность значимости от фактического существования и высказанности суждения. Суждения обладают значимостью независимо от того, признают ли ее за суждениями судящие субъекты, и даже независимо от того, существуют ли эти субъекты. С другой стороны – и это более положительная характеристика – объективность присуща значимости в том смысле, что эта значимость, не завися от нас, имеет силу не только для нас, но также и для вещей, к которым относится знание. Законы, которые мы приписываем вещам, и вообще суждения, высказываемые о последних, отвечают вещам, оправдываются ими (SI 503, 536—37, 545, 557 —8 и др.). Это оправдывание и дает нам право говорить об объективном характере значимости. Такое объективно-логическое понимание значимости суждений и понятий – общее, знания – Лотце пытается провести через все учение о понятиях, суждениях и умозаключениях. Мы приведем здесь только один пример этой попытки – именно, то решение, какое Лотце дает старому спору номинализма и реализма в учении о понятиях. Номинализм отказывается видеть в понятиях реальность и думает, что слово исчерпывает сущность понятия. Реализм, напротив, отказывается видеть в словесном обозначении сущность понятия и приписывает последнему реальность. Оба эти учения правы в своих отрицаниях, но ошибаются в своих утверждениях. Верно то, что понятия лишены реальности, и постольку прав номинализм. Но верно и то, что понятие не совпадает со своим обозначением, так что в этом – доля истинности реализма. Но полная правда лежит в том, в чем эти отрицания примиряются и возвышаются до синтеза. Таким, решающим спор, моментом является понятие объективно-логической значимости. Понятия обладают значимостью, а так как значимости нельзя приписать реальность в тем же смысле, что бытию и быванию, то прав номинализм, отрицая за понятиями реальность. Но, с другой стороны, реализм тоже прав в свете объективно-логического понимания значимости, ибо значимость, как мы видели, принадлежит понятию, хотя бы и не высказанному, откуда следует, что словесное обозначение понятия отличается от понятия и далеко не есть его сущность (см. вообще SI 538– 557). Понятие всегда выражает всеобщность. И хотя реально существуют только отдельные, индивидуальные вещи, нельзя все же сказать, что в их составе нет момента всеобщности. Этот момент присутствует, но только природа его не такова же, какова природа отдельных вещей. Он присутствует среди них в том смысле, что общие суждения и понятия о вещах обладают объективно-логическою значимостью, т. е. не зависят от нашего произвола и оправдываются вещами. Иначе говоря, общие элементы присутствуют в составе бытия, как нечто идеальное, как чистая значимость (SI 547). Идеальный характер значимости и ее свойства вообще впервые осознал в должной степени Платон. Лотце утверждает это не только в том смысле, что учение о значимости логического может быть исторически возведено к некоторым сторонам платоновского учения об идеях, а в том смысле, что оно почти целиком уже находится у Платона и даже совпадает с этим учением, составляя его подлинный дух. Лотце находит, что распространенное представление об этом учении неверно. Неверно, что идеи Платона суть всего лишь гипостазированные общие понятия, что Платон просто и грубо приписал идеям реальное существование. С филологической точки зрения это, может быть, и так: Платон употребляет и по отношению к идеям, и по отношению к вещам одно и то же слово, которое у греков означало существование вообще. Но слово это у Платона имеете разные значения, смотря по тому, идет ли речь об идеях, или об отдельно существующих вещах. По отношению к первым существование совпадает со значимостью. По отношению к последним, существование есть то, что мы, т. е. Лотце, называем бытием. Итак, «идея» это – объективно-логическая значимость. Этой последней можно приписать почти все то, что Платон говорил об идеях. Во-первых, вечность в смысле вознесенности над сменяющимся потоком реальных вещей, погруженных в стихию времени. В этом смысле можно сказать, что идеи пребывают в некотором над-небесном, лишь умопостигаемом, чувственно же несуществующем месте, как выражался Платон (SI 504). Эту вечность логического можно иллюстрировать, вслед за Лотце, на примере умозаключения. В умозаключениях мы имеем дело со следованием, только следование это дано не во времени. Из двух данных посылок мы с необходимостью выводим заключение. Не следует, однако, думать, что это мы впервые создали этот вывод: мы лишь сознали, осознали его, а он пребывал в посылках и до нас, так же, как будет пребывать и после нас. Следование здесь дано вне времени, потому что имеет силу для всякого времени. Определенное же время играет роль только при нашем психическом осознании этого вечного следования. Конечно, «следование» в вечности не есть следование в буквальном смысле, т. е. процесс, смена: это всего лишь объективное значение, которое сообщает логичность, правомерность любому фактическому «следованию», осознаваемому уже во времени (SI 555). Кроме вечности, значимость, подобно идеям Платона, характеризуется, во-вторых, также всеобщностью и необходимостью. Эти определения принадлежат логическому непосредственно, их оно ниоткуда не получает, ни из чего не выводит. Мы непосредственно, без помощи логических соображений и доказательств, усматриваем эту всеобщность и необходимость. Они явствуют, как таковые, с эстетической очевидностью, отличною от очевидности логической и более первоначальною, чем она (SI 526, 589, 595 – 96). В силу всего сказанного, знание обладает абсолютной достоверностью, которую оно носит в себе самом, благодаря своей объективности, всеобщности и необходимости. Когда Лотце покинул путь синтетического построения гносеологии и сосредоточил свое внимание на самом факте знания, он стремится к оправданию знания из него самого. Вместе с Лотце мы прошли на этом новом пути следующие этапы: мы отличили содержание представления от процесса представливания, значимость суждения – от акта суждения; затем мы подвергнули анализу эту значимость и нашли, что она есть один из видов действительности, что ей присуща объективность, вечность, всеобщность и необходимость; и, наконец, мы видели, как Лотце истолковал учение Платона об идеях в духе этого понимания значимости, так что и собственное его учение можно назвать реформированным платонизмом или логическим идеализмом. Мы оставляем в стороне вопрос о том, насколько новое истолкование Платона исторично, а также и вопрос о том, все ли стороны платоновского учения об идеях использовал Лотце для своего учения о значимости, или же только некоторые. Эти вопросы, сами по себе высоко интересные, отвлекли бы нас от нашей непосредственной задачи – изложения и систематического анализа гносеологии Лотце. Несомненно при всем этом то, что логический идеализм Лотце есть довольно успешная попытка оправдать знание независимо от метафизической действительности. Знание здесь осознано, как нечто автономное. Все критерии его достоверности заложены в нем самом. Оно само оправдывает себя, не справляясь с тем, насколько и как «соответствует» действительности.
Даже больше, как мы видели выше, этот идеализм смело утверждает, что нет никакой надобности в допущении иной действительности, кроме той, которая дана в содержаниях представлений и в суждениях о них. Лотце в полной мере сознает этот автономный характер знания в освещении логического идеализма. Он заявляет, что в конечном счете истинность наших знаний измеряется не соответствием, или несоответствием их с некоторым внешним знанию масштабом. Не «внешний» мир вещей в себе играет роль такого масштаба среди наших представлений, а наши собственные мысли суть мера и критерий того необходимого представления о мире, если он существует. Истина – в согласии разума с самим собой (SI 482, 477 и др.). Логический идеализм Лотце мощно отозвался в современных гносеологических учениях. Объективно логическое понимание значимости, ее истолкование в духе Платона, истолкование самого Платона в ее духе – все это почти целиком перешло к тому гносеологическому направлению, которое пытается построить «чистую логику», ведет борьбу с «психологизмом» и построяет теорию чистого смысла. Мы имеем, конечно, в виду Э. Гуссерля, этого авторитетнейшего гносеолога современности. Свою зависимость от Лотце он не отрицает, а напротив, подчеркивает. Гносеология Лотце не может, однако, целиком гармонировать с исканиями Гуссерля. Лишь объективный логический идеализм ставит двух этих гносеологов в отношение родоначальника и преемника. Но, кроме этого мотива, в теории знания Лотце есть еще и другой, который можно обозначить, как нормативно-логический или телеологический идеализм. Противореча логическому идеализму самого Лотце и Гуссерля, этот мотив, однако, позволяет Лотце быть одним из основателей того телеологического идеализма в теории знания, который защищается ныне, не без прямого влияния Лотце, Риккертом. В основе этого мотива лежит нормативное истолкование значимости знания. К характеристике этого истолкования мы теперь и перейдем. Сам Лотце, как уже указано выше, не различал между значимостью знания в объективно-логическом и в нормативно-логическом смысле, т. е. мы хотим сказать, он не усматривал принципиальной грани, резко противополагающих их одну другой, как понятия противоречаще противоположные. Мы сейчас покажем, что в этом Лотце ошибся. Сперва же изложим сущность нормативно-логического истолкования значимости знания. Всего лучше она уясняется по контрасту с ее объективно-логической интерпретацией. Для последней исходной точкой является признание объективного содержания знания, и вся объективно-логическая интерпретация его есть только подробное «описание» свойств этого содержания. Напротив, исходной точкой для нормативно-логического истолкования значимости знания является признание наличности мышления, притязающего на объективность. Если точку зрения, исходящую из содержания знания, как такового, обозначить, как чисто гносеологическую, то точку зрения, отправляющуюся от процесса мышления, притязающего на объективность, приходится обозначить, как не чисто-гносеологическую. И так как мышление, в качестве процесса, направленного на объективность, есть предмет психологии, то эта не чисто-гносеологическая позиция может быть ближе определена, как психологизм в гносеологии. Правда, говоря о мышлении, Лотце собственно отказывается от его психологического анализа. Оно интересует его в той мере, в какой его можно и должно считать знанием. Лотце не спрашивает: каков состав и характер процессов, осуществляющих мышление; он не спрашивает также, чем отличается мышление вообще от не-мышления. И психологизм его, следовательно, состоит не в этом. Его корень гораздо глубже, и его мотивировка довольно тонка. Мышление лишь постольку подлежит для Лотце исследованию с гносеологической точки зрения, поскольку оно есть мышление чего-либо о чем-либо и как-либо, а также и постольку, поскольку эта направленность мышления на предметное стоит под известными условиями, требующими выяснения. Нельзя отрицать, что хотя это и психологизм, но психологизм тонкий. Он основывается и оправдывается тем, что в такой трактовке мышления все же на первый план выступает собственно знание, а уж потом, как бы в роли фона, и познавание, акты мышления. Однако же, такая перспектива все еще не исключает психологизма. Он заключается здесь в том, что знание рассматривается, как свойство особой духовной функции, каковая функция сама по себе еще не означает знания. Эта функция – мышление; это свойство – знание, точнее, значимость знания. Изучать значимость знания, как свойство (да еще, притом, по заявлению Лотце, свойство чудесное, непостижимое) мышления, значит исходить из психологии при построении теории знания. И мы увидим, что нормативный момент этой теории знания симметричен ее отправному психологизму и представляет как бы его объективную меру и воздаяние за него. Итак, мышление есть отправной пункт этой гносеологии нормативного порядка. Мышление есть проявление целостного духа.
Этот последний, именно благодаря своей целостности, способен охватить принципиально все и притом в подлинной его метафизической сути. Правда, непосредственное и целостное переживание еще не есть знание, а только источник и материал знания. К нему еще должно присоединиться мышление. Мышление тогда именно и начинает нести те свои функции, в силу которых становится знанием. Оно упорядочивает и проясняет содержания переживания, оно позволяет нам перейти от одного переживания к другому и, таким образом, связать их и спаять в единство. Понятия, суждения и умозаключения, разного рода теории и вспомогательные построения, – все это формы, в которые отливается служебная, опосредствующая роль мышления, та роль, в которой оно раскрывается, как знание, притязающее на объективность или значимость. Эта значимость и сопровождает его. Однако, обозначив способность знания оправдываться в действительности значимостью, мы нисколько не подошли к определению природы значимости. Она для нас – чудо. Что она такое и почему она обладает возможностью такого оправдания – это ее секрет. Для объяснения этого оправдывания нашего мышления, вернее – его продуктов, приходится приписать мышлению не одну лишь формальную и субъективную способность удовлетворять нашим человеческим требованиям, но еще и другую сторону: оно есть, очевидно, нечто предметное, объективное, реальное. В этом пункта Лотце пытается перебросить мост между субъективным и объективным пониманием знания, между нормативным и логическим идеализмом. То объективно-логическое истолкование значимости, которое мы выше представили, как самостоятельное, он хочет соединить с излагаемым сейчас. Он надеется, что нормативизм и субъективизм обрисовывают сторону знания, обращенную к нам, связанную с актами мышления, объективизм же характеризует другую сторону знания, обращенную к предметам. Но это явно эклектическое покушение – и, значит, неудачное. В самом деле, логический идеализм, как мы видели, возникает при условии сосредоточения на содержании знания. Он совершенно оставляет в стороне вопрос о субъекте и объекте о нас и о вещах. Речь в нем идет только о содержании знания, и это содержание определяется, как автономно-значимое. Мышление в нем резко отличено от знания по признаку психичности первого, отсутствующего во втором. Напротив, в субъективистическом и нормативном (о котором сейчас будет речь) истолковании знания оно объявляется свойством мышления: мышление помещается между нами и содержанием переживания; понятия, суждения, умозаключения и теории рассматриваются как продукты мышления, как орудия, с помощью которых оно несет свою служебную функцию. Понятие и суждение есть «идея», значимость которой не нуждается в мышлении – таково «логическое» в объективной интерпретации знания. Понятие и суждение – продукт мышления, почему-то притязающий на объективное значение, противостоящий случайности и капризам индивидуального произвола – таково «логическое» и его значимость в субъективирующей интерпретации. Значимость, как вид действительности, как нечто «в себе» и «для себя» и значимость, как свойство мышления, как нечто «в нем» и «для него»: разве это – учения, которые можно примирить и слить? Разве такая примирительная попытка не будет эклектизмом? Самое удивительное – то, что сам Лотце, конечно, неумышленно, как бы санкционирует такую оценку. Чувствуя, что значимость мышления загадочна и прямо заявляя об этом, Лотце ищет способа укрепить эту значимость. Он хочет вырвать ее из объятий субъективизма, в которые сам же ввергнул ее, приписав ее, как свойство, субъективному всегда акту мышления. И вот он с этой целью привлекает момент нормативный. Если в самом мышлении его значимость не находит себе оправдания, если такого оправдания нечего искать в пределах мышления, то остается посмотреть, не найдем ли мы его за пределами мышления. Так Лотце и поступает. Он заявляет, что в значимость знания мы можем лишь верить. А эта вера, в свою очередь, оправдывается требованием нравственного сознания, которое говорить нам, что мир должен быть познаваем, а наше знание о нем должно быть достоверно. Таким образом, чудесная значимость мышления получает объяснение и оправдание: мышлению принадлежит значимость, поскольку она должна принадлежать ему, согласно нравственному императиву. Очень часто Лотце выражал эту мысль в более общей форме, говоря, что то, что есть, мы познаем из того, что должно быть. И это убеждение казалось ему настолько дорогим и прочно обоснованным, что он с трогательной искренностью свидетельствовал о своей приверженности к нему при всяком подходящем случае. Поскольку в этом случае знание берется не само по себе, а его значимость оказывается его свойством не автономно, а гетерономно, по требованию нравственного сознания, мы и можем обозначить это понимание значимости знания, как нормативно-логическое, или – ближе – как морально-логическое (Мк, III, 230, 242– 44; SI 507– 508, 536—37, 552, 569 и др.). Если объективно-логическое понимание знания ставит Лотце в ряд не только предшественников, но также и основателей современного логического идеализма Гуссерля, то, напротив, нормативно-логическое истолкование знания заставляет нас видеть в Лотце также одного из важнейших родоначальников современного телеологического идеализма, наиболее ярким представителем которого, по крайней мере, до сих пор, является Г. Риккерт. Мы говорим здесь не столько о фактически-существовавшем влиянии Лотце на Риккерта, хотя и оно не подлежит сомнению, сколько о принципиальном сродстве логических представлений этих мыслителей. Оно совершенно неоспоримо, и чем дальше развивал Риккерт свои взгляды, тем это становилось очевиднее. В 90-х годах Риккерт, по-видимому, чувствовал особенную потребность подчеркивать свою связь с нормативным мотивом в гносеологии Лотце. Позже, под влиянием Гуссерля, который только поставил точку над i в объективном идеализме Лотце, Риккерт стал особенно настаивать на автономно-объективном значении знания, хотя не переставал разрушать эту автономность своими ссылками на прерогативную инстанцию «должного». Чувствуя эту двойственность, он пытался построить теорию «двух путей» в теории знания, в каковой теории надеялся примирить объективный идеализм с идеализмом телеологическим, отдавая, впрочем, предпочтение все же последнему. Хотя в гносеологии Риккерта, таким образом, воспроизведен внутренний дуализм гносеологии Лотце, тем не менее этот дуализм отмечен у потомка, как и у предка, перевесом нормативного момента. Чтобы закончить с проблемой значимости, нам остается коротко рассмотреть такой вопрос. – Почему мышление само по себе не обладает в глазах Лотце абсолютной значимостью, так что пришлось искать ему опоры вовне? Когда Лотце раньше, при объективно-логическом истолковании знания испытывал его значимость, последняя оказалась достаточной. Если при нормативно-логическом истолковании он этого уже не находит, то ясно: он брал не само знание, в его «в себе» и «для себя» бытии, а что-то такое, силою чего автономность знания должна была затушеваться, извратиться. Это «что-то», подействовавшее столь затемняющим образом, было метафизической предпосылкой, что знание есть взаимодействие. Но в каком именно смысле – в том ли, в каком, по терминологии Лотце, взаимодействие есть окказионалистическая гипотеза, или же в том, в каком оно есть метафизически-обоснованная истина? Когда мы выше обсуждали эти два понимания взаимодействия у Лотце, то заметили, что допуская явление аффицирования, Лотце не удерживается на условноокказионалистической интерпретации взаимодействия, a принимает и метафизическое, ровно настолько принимает, чтобы иметь право утверждать, что вещи в себе существуют и на нас влияют, но вместе с тем и отказываться от суждения о том, каковы они. Ограничив, таким образом, знание только содержаниями представлений, Лотце, конечно, обязан был признать, что наше знание не обладает значимостью по отношению к трансцендентным вещам в себе. Это, собственно, еще не означало бы, что знание, чуждое вещам в себе, лишено значимости для тех, кто, подобно нам, вынужден довольствоваться только своими представлениями. Напротив, именно потому, что эти представления нигде не сталкиваются с вещами в себе, они в наших глазах и сами вполне могут играть роль вещей в себе. Все это, как мы и видели, Лотце вполне понимает, и плодом этого понимания является объективное истолкование значимости. Но, по-видимому, такое понимание всегда боролось у Лотце с другим: он никак не хочет отказаться от познания вещей в себе. Тем менее мог он решиться на такой отказ, что ведь все рассуждения о знании, как взаимодействия, предполагают метафизическое понятие взаимодействия. А это значит, что метафизика возможна и что наше знание распространяется и на вещи в себе. Но как оправдать это, если мышление есть субъективная функция? Ясно, что такое оправдание мышления может дать только какой-либо постулат. Лотце и прибегает именно к постулату нравственной необходимости и обоснованности знания. В этом постулате и во всем нормативном истолковании значимости не было бы надобности, если бы Лотце строил теорию знания беспредпосылочно, как это он и сделал в другой, параллельной, интерпретации теории знания. Отсюда мы сделаем такой вывод: если логический идеализм Лотце означает независимость теории знания от метафизики и признание необходимости аналитического способа построения теории знаний, то его нормативный идеализм, напротив, знаменует полную зависимость последней от метафизики и, вместе с тем, торжество синтетического метода при построении гносеологии. Так подтверждается наша мысль, что у Лотце, сообразно двоякому методу построения, есть не одна, а две почти самостоятельных теории знания, хотя он сам этого не замечал.
3. О возможности знания
Решив вопрос о сущности знания, мы теперь переходим к следующему, по условленному порядку, вопросу о возможности знания. Реально, в естественной систематической связи, этот вопрос собственно неотделим от первого. Вот почему, излагая понятие знания у Лотце, мы тем самым коснулись в общих чертах и даже отчасти решили проблему возможности. При этом «решение» отвечало тем двум интерпретациям знания, или – вернее – его значимости, которые мы обозначили как объективно-логическую и нормативно-логическую. Мы видели, что знание возможно постольку, поскольку его значимости присуща абсолютная автономность, всецелая отрешенность от условий индивидуально-психического рода, от всяческого произвола познающих индивидов, также как и от вещей в себе, которых существование, или не-существование ничего не меняет в природе и содержании знания. Здесь знание само документирует свою возможность. Так решается, в общем, проблема возможности в свете логического идеализма. Иной ответ – как мы показали – получается на этот вопрос с точки зрения нормативизма. Знание здесь рассматривается как особая духовная, даже душевная функция, именно, как мышление, значимость, как свойство мышления, и возможность достоверного знания обосновывается в конечном счете на нравственном постулате. Оба эти ответа как нельзя более характерны для двойственной гносеологии Лотце. Кто исходит из знания и только из него, тот тем самым принимает уже также и возможность знания, ибо утверждение этой возможности звучит в каждом познавательном содержании, обладающем значимостью. Поэтому, при аналитическом построении теории знания даже и не возникает вопроса, возможно ли знание. Теория знания не может судить и награждать или карать знание в этом случае: ей остается просто исходить из той оценки, какую дает себе само знание, или – как выражает это Лотце – из той оценки, которой удостаивает себя сам «разум», и это «исхождение» уже содержит в себе молчаливое признание возможности знания. Напротив, теории знания синтетического типа, исходящие не из знания, а начинающие с более или менее обязывающего подведения знания под какую-либо более общую категорию, тем самым порывают интимную связь с той стороной знания, прислушивание к которой научает гносеолога не ставить специального вопроса о возможности знания, а просто исходить из этой, свидетельствуемой содержанием знания, возможности. И раз эта связь порвана, а вместе с тем крепки предпосылки вне-гносеологического свойства, с которых начинает гносеолог синтетическую теорию знания, ему затем приходится как-нибудь удостовериться в возможности знания, исключив при этом всякого рода скептические точки зрения. Ему остается прибегнуть к новому постулату, как и поступает Лотце Проблема возможности знания еще не решается установлением или признанием возможности вообще. Напротив, для аналитических теорий эта проблема только теперь впервые возникает, а для синтетических – теперь должна быть еще углублена и детализована. В обоих случаях, идет ли речь о начальных или продолжающихся фактах исследования проблемы возможности, вслед за установлением возможности приходится поставить вопрос: как возможно знание. Так, Кант, и не пытаясь доказывать возможность математики и математического естествознания, просто предполагает ее наличной и спрашивает затем: как возможны, под какими именно условиями возможны математика и математическое естествознание. И на этот вопрос аналитические и синтетические теории знания отвечают различно. Для аналитических теорий знания речь здесь идет об условиях знания, имманентных, присущих внутренне знанию. Напротив, для синтетических теорий знания вопрос об условиях рассматривается, как вопрос об условиях, хоть и оправдывающих опять знание, но стоящих вне знания. Для них вопрос об условиях возможности неотделим от вопроса о самой возможности. Что касается Лотце, то, исследуя условия возможности знания, он обыкновенно не держится в рамках, характерных для только аналитических, или только синтетических гносеологий. К числу существенных условий возможности знания принадлежат следующие три. Во-первых, условие действительности знания. Знание вообще обладает значимостью. Но эта значимость, как мы знаем, ничего не говорит о реальной действительности познавательных содержаний. К чистой значимости должно еще нечто присоединиться, чтобы знание могло считаться знанием о реальной действительности. Это дополнительное «нечто» рисовалось Лотце в двух формах, причем, по-видимому, обе они казались ему тожественными. В одном случае это нечто есть пространственно-временная схема. Лишь в том случае вправе мы считать содержание нашего знания действительным, реально обоснованным, если оно дано в условиях пространства и времени. Если же это условие не соблюдено, содержание знания лишено реального значения. То же дополнительное «нечто» в другом случае обнаруживается в иной, более метафизической, форме. Лишь тогда знание есть знание о реальности, если мы достигаем понимания того, что вещь отлична от понятия, как конкретное – от абстрактного, как реальность – от логической фикции, как нечто органическое – от чего-то искусственного, а также, что свойства вещи таким же образом отличаются от признаков понятия; наконец, того, что отношение реальное не есть абстрактное «между» среди вещей, а выражение и сущность реально-актуального взаимодействия. Только при этих условиях знание может притязать на действительность. Первое, чисто – кантовское, решение вопроса, надо думать, казалось Лотце достаточным для эмпирического знания. Второе же он предложил, имея в виду уже идущую гораздо дальше метафизическую потребность. Противоречия же здесь Лотце не находил, очевидно, потому, что условия пространственно-временной схемы в его глазах, как метафизика, выражали только поверхностную пленку тех метафизических условий, которые он указал в виде динамически понятых вещей и взаимодействий (SI 559, SII, кн. 2, гл. III, SI 565). Если мы теперь спросим себя, какой интерпретации знания отвечает указанное условие возможности знания, то нетрудно будет убедиться, что оно гораздо больше соответствует нормативному, чем объективно-логическому пониманию знания. В самом деле, если значимость знания еще не обеспечивает его действительной, реальной ценности, то это лишь потому, очевидно, что значимость сама по себе не только не есть реальность, но даже не может и заменить реальности. По всем пунктам значимость стоит вне реальности и носит чисто-формальный характер. Реальное содержание ей может дать только опыт, поймем ли мы его в духе Канта, как нечто обусловленное, помимо мышления, также и пространственно-временными интуициями, или же более метафизически, как буквальное, прямое выражение метафизически-обоснованной реальности вещей в себе и их взаимодействии. Говоря об условии действительности знания, Лотце, по-видимому, воспроизводит кантовское понимание рассудка, как способности, дающей понятия, которые пусты, пока их не наполнит материал чувственного воззрения или наглядных представлений. Лотце, однако, придал этому учению не-кантовскую постановку, в силу чего оно служит иллюстрацией к субъективистическому истолкованию значимости. А это толкование, как показано, есть только одна из существенных особенностей, или, пожалуй, причин, породивших нормативизм Лотце. Если бы Лотце проредактировал рассмотренное нами условие возможности знания в духе логического идеализма, ему пришлось бы выбросить указание на пространственно-временную схему, а тем более – на метафизическую реальность: ведь согласно объективно-логическому истолкованию, значимость знания есть нечто идеальное, в силу чего знание уже не нуждается ни в каких дополнительных и вспомогательных схемах и реальностях, а довлеет себе. Итак, первое условие возможности знания дано скорее в духе нормативного идеализма, и получено оно синтетически, под давлением метафизической предпосылки о сущности вещей в себе, или, в другом виде, под давлением психологистического истолкования знания, как мышления – способности только формальной. Второе условие возможности знания касается уже закономерности действительности. Знание о ней предполагает, что она устроена закономерно (SI-56– 7-9). Еще иначе и гораздо общее (в «Микрокосме») Лотце выражал то же условие, говоря, что одни и те же истины должны лежать в глубине действительности и в основе знания (III, 209). В первой формулировке это условие чуждо каких-либо предпосылок и выражает просто объективное требование и даже свойство знания: подчинить свой предмет той самой закономерности, которой подчинено и само знание по своему содержанию. Во второй формулировке предпосылка уже появляется. Она именно предполагает мир вещей в себе, с которыми должен стоять в соответствии субъективный мир мышления. И, несомненно, к этой формулировке – гораздо больше, чем к первой – относятся соображения, которыми Лотце обставляет требование закономерности действительности. Эта закономерность, говорит он, не есть что-либо самоочевидно-необходимое: мы можем мыслить действительность и лишенною закономерности. Не явствует такая необходимость и косвенно, выводным путем, из другой, уже непосредственно усматриваемой, необходимости. Но мы все же должны рассматривать действительность, как закономерное целое, ибо нравственная вера в смысл действительности и соответствия знания с ним оправдывает такое рассмотрение (SI 568). Таким образом, это условие, сперва ориентированное в духе логического идеализма, звучит, сверх того, и в духе нормативного идеализма. Такая же двойственность сквозит и в третьем условии возможности знания, которое относится к необходимости известных априорных истин. Хотя всеобщая закономерность действительности и есть предпосылка знания, все же отдельные, специально-реализованные формы закономерности этим еще не даны, их нужно искать, что и составляет задачу и предмет эмпирического знания. Оно должно состоять из системы апостериорных синтетических суждений. Систематическая их связность, внутренняя законность их должна опираться на ряд синтетических самоочевидных истин, именно, на совокупность некоторых синтетических суждений априори. Только при этом условии обеспечена устойчивость и достоверность эмпирического знания. Априорность указанных истин состоит не в их врожденности, привычности или полезности для нашего разума. Они выражают только абсолютно значимые, обусловливающие всякую иную значимость и оправдывающие ее положения. Таков, например, принцип причинности и другие подобные начала. В таком виде это условие звучит вполне в духе логического идеализма и, несомненно, получено аналитическим путем, подобным тому, каким пользовался и Кант, впервые формулировавший его. Но здесь, правда, очень глухо, говорит о себе и нормативизм, поскольку эти априорные истины, при всей их значимости, очень часто у Лотце не имеют абсолютного значения, как не имеет его и эмпирическое знание, в основе которого лежат эти истины: подобно тому, как эмпирическое знание не исключает метафизики, которая идет гораздо дальше его в глубь бытия, так – это само собой разумеется, хотя прямо нашим философом не высказывается – и это априорные истины могут быть отменены перед лицом метафизической реальности. Впрочем, Лотце в «Микрокосме» и прямо высказался почти в этом смысле, говоря, что наши законы и принципы, может быть, отвечают лишь небольшим частям или отрезкам действительности, так само, как квадрант, наложенный на какую-либо часть бесконечной и простирающейся в обе стороны от нас кривой, совпав с этой частью, окажется несоизмеримым с остальными (SI 571 – 578, 532, 583; МкII 56– 58). Нам потому опять остается только верить в абсолютную всеобщность этих априорных истин.
С. Франк Прагматизм как гносеологическое учение
I
Так называемый, «прагматизм» по своему внутреннему существу есть не только новая философская теория, но вместе с тем и новое практическое учение, новая проповедь, направленная на пересмотр целей и ценностей человеческой жизни и культуры. В последнем отношении «прагматизм» есть, следовательно, «философия» в том специфическом смысле, который придавал этому понятию Ницше: он означает новое «законодательство ценностей», новую практическую расценку культурных идеалов и, в связи с ней, новое волевое устремление. А именно, прагматизм восстает против притязания научной истины на самодовлеющее, абсолютное значение и требует замены сурового и бесстрастного отвлеченного знания знанием практическим, которое должно удовлетворять нуждам жизни и быть служебным орудием для жизненной ориентировки человека в мире, для целей и запросов человеческой действенности. В этом смысле «прагматизм» есть выражение многообразного духовного движения современности, которое можно было бы назвать «восстанием против науки». Если во второй половине XIX века культурно-философское миросозерцание стояло под гегемонией положительной науки, так что наука казалась не только незыблемой на своей собственной почве, но и стремилась отчасти истребить другие духовные сферы (как, например, религию), отчасти подчинить их себе (как искусство), то за последние десятилетия намечается реакция против этого всевластия науки, – реакция, которая здесь, как это бывает и в других случаях, в свою очередь, не знает границ и начинает даже сомневаться вообще в правомерности науки, как самостоятельной и самодовлеющей культурной ценности. Со времени нашумевших слов Брюнетьера о «банкротстве науки» не прекращаются признаки, свидетельствующие об этом глубоком духовном повороте. Мы переживаем эпоху возрождения романтизма, когда искусство и особенно религия пытаются вытеснить науку, завладеть сознанием и определить собою общее миросозерцание. В этой связи «прагматизм» является чрезвычайно знаменательным движением. Основной мотив его есть борьба против идеи научной истины, как самодовлеющей и непререкаемой инстанции человеческого миросозерцания; он хочет уничтожить веру в истину, заменив ее верой в практические цели и потребности жизни, которым должны быть подчинены все человеческие знания и представления; он хочет восстановить права религии, «волю к вере», путь которой был прегражден волей к общеобязательной теоретической истине. Преимущественно такой характер носить прагматизм у самого блестящего и популярного своего представителя – Вильяма Джемса, а также у французских католиков – прагматистов – Леруа, Блонделя и др., родоначальников и руководителей так называемого «модернистского» движения в католицизме.
Эту сторону прагматизма мы оставляем здесь совершенно вне рассмотрения. Изложению и оценке подлежит лишь прагматизм, как новая теория знания. Именно в такой форме прагматизм был впервые высказан в знаменитой теперь статье Чарльза Пирса «Как сделать ясными наши идеи?»14. Вне всякой связи с проблемой религиозной веры развиваются учения прагматизма и в трудах Шиллера и Дьюи. Да и сам Джемс признается, что основная теория прагматизма может рассматриваться вне связи с его личными религиозно-философскими взглядами и не обязывает к принятию последних. Что же касается учений французских прагматистов, то при всей их родственности англо-американскому прагматизму Джемса-Шиллера-Дьюи они все же далеко не совпадают с последним и должны быть оставлены здесь в стороне.
Еще в большей мере это применимо к философии Бергсона, которая в некоторых своих чертах приближается к прагматизму, в других же, напротив, резко с ним расходится15.
Формулировка гносеологии прагматизма в трудах трех главных его представителей – Джемса, Шиллера и Дьюи – имеет у каждого из них своеобразные оттенки, не во всем согласимые между собой. В литературно наиболее увлекательной форме, но вместе с тем с чисто научной точки зрения наиболее неопределенно и многозначно гносеология прагматизма излагается у Джемса; в наиболее резкой и крайней форме она развивается в «гуманизме» Шиллера; логически наиболее отчетливую и скромную форму она имеет в трудах Дьюи и его школы. Мы не имеем возможности останавливаться здесь по отдельности на взглядах каждого из этих представителей прагматизма; в особенности много места потребовал бы самостоятельный разбор сложной и тонкой логической системы Дьюи16. Несмотря на эти индивидуальные оттенки и несогласия в формулировках, все указанные мыслители разделяют некоторые основные мысли, которые образуют общую сущность гносеологии прагматизма. К сожалению, эти мысли еще не выкристаллизовались в столь отчетливой и однозначной форме, чтоб их можно было изложить как логически законченную систему. Поэтому при изложении общего содержания гносеологии прагматизма приходится ограничиться наброском общих очертаний системы и ее основных, руководящих философских мотивов.
II
Основной вопрос, из которого исходит и который пытается разрешить гносеология прагматизма, есть вопрос о сущности истины. Что есть истина? Номинальное определение истины, в котором сойдутся все гносеологи, состоит в том, что «истина» есть согласие идей, мнений, верований с их предметом, или соответствие между мнениями и реальностью. Как бы мало ни говорило такое определение, уже его одного достаточно, чтобы убедиться в несостоятельности обычных гносеологических формулировок, приписывающих «истине» какую-то абсолютную, самодовлеющую реальность вне человеческих мнений. Обыкновенно говорят, что мнение истинно, когда оно достигает «истины» и «совпадает с ней». Ни одна теория знания, употребляющая такую терминологию, не может объяснить, где и как существует такая абсолютная истина, к которой стремятся и которой могут достигать или не достигать человеческие мнения, что под ней должно разуметься и как мы можем что-либо знать о ней. И это неудивительно: так как «истиной» мы называем нечто, касающееся наших мнений, их достоинства и ценности в отношении реальности, то понятие истины сохраняет разумный смысл лишь как некоторое свойство, признак, отметка человеческих мнений и есть пустое слово вне отношения к последним. Если имеет смысл говорить об отношении мнения к его предмету или к реальности, то лишено всякого смысла говорить об отношении мнения к независимой от него и как бы предсуществующей «истине». В чем бы ни заключалось определение истины и ее критерий, «истина» есть только родовое имя для частных случаев «истинности» мнений, общее название для некоторого идеала или цели, которые ставит себе человеческое мышление. Но идеал, цель, ценность никогда не существуют конкретно вне того стремления, которым они руководят, и только в результате незаконного гипостазирования выносятся за его пределы и превращаются в абсолютные и самодовлеющие фантомы.
Из этого единственно возможного и здравого, по мнению прагматизма, взгляда на истину, как на познавательную ценность, немыслимую вне оцениваемого явления, т. е. вне человеческого мышления, вытекает чрезвычайно важный методологический вывод. Логика, в качестве теории истины, опирается на психологию и возможна – по терминологии Шиллера – только, как психологика. Конечно, логика или гносеология имеет свои задачи, отличные от психологии. Психология изучает естественную закономерность психических явлений, логика же говорит о том, каковы должны быть эти явления, чтобы быть «истинными». Гносеология, в отличие от психологии, есть нормативная наука. Но это – различие лишь в задачах и точках зрения, а не в предмете. Если мы не будем гипостазировать идеала, то единственный путь к его установлению есть исследование природы тех явлений, к которым он относится и в которых осуществляется. Точнее говоря, при этом здравом отношении сам идеал есть тоже явление – в нашем случае явление психической жизни. «Истинность» реально дана в фактах «необходимости» мнения, его «достоверности», «самоочевидности» и т. п. – и все эти признаки суть сами своеобразные психические явления17. Гносеология есть, таким образом, отрасль психологии, исследование человеческого мышления. Тем самым логика опирается на исследование природы человека и невозможна вне отношения к последней. «Абсолютистская и гуманистическая теория истины – говорит Шиллер – имеют дело с одними и теми же фактами; только точка зрения их различна. Вопрос, в конце концов, сводится сам собой к тому, исследует ли логика человеческое мышление или нет. Гуманист утверждает именно это, тогда как абсолютист находится в не-удобном положении, ибо не осмеливается всецело отрицать это. Отсюда непоследовательность и неизбежное крушение его теории»18.
Уяснив, таким образом, единственную осмысленную точку зрения, с которой может обсуждаться проблема истины, гносеология может перейти к разрешению самой проблемы. Под истиной мы должны, как указано, разуметь некоторое достоинство или свойство наших человеческих мнений, которое мы обычно обозначаем, как «соответствие с реальностью». Что значит здесь «соответствие»? Наивная теория, согласно которой наши идеи «копируют» или «воспроизводят» реальность, явно несостоятельна, по крайней мере, как общая теория истины. Пусть мое «представление» о висящих в комнате стенных часах истинно в том случае, если оно точно совпадает с чувственным восприятием этих часов; но уже мое представление о скрытом за циферблатом часовом механизме может быть истинным (что обнаружится в моем умении обращаться с ним) и вместе с тем лишь очень смутно и неполно «воспроизводить» чувственно-наглядный образ этого механизма к целом. Такие же понятия, как «времяизмеряющая функция часов», или понятия «прошедшего», «могущества», «спонтанейности» и т. п. уже явно ничего не могут прямо копировать19. Но если так, то в чем же заключается их «истинность» или истинность суждений, в которые они входят? Теории, выставленные доселе взамен прежней теории копирования, по мнению прагматизма, совершенно бессодержательны и крайне неопределенны. Истина – это то, что мы «обязаны» признавать, что «требует» от нас безусловного признания, и т. п. Все это вполне справедливо, но ничего не говорит о том, что значат такие требования и обязательства и как их распознать. Не удовлетворяясь такими расплывчатыми определениями, прагматизм требует, чтоб «истинность» всех отвлеченных идей и суждений была выведена из их отношения к действительности, к живому опыту, и чтобы было уяснено реальное содержание этого отношения. Постановка этих задач уже предрешает характер ответа на них. Объяснить истину – значит свести ее к чему то иному, что уже не есть истина, – иначе мы будем вертеться в ложном кругу. Этим исключается понятие истины, как самодовлеющей «теоретической» ценности, ибо под теоретической ценностью мы разумеем ценность познавательную, т. е. ценность в смысле отношения к «истине», что приводит к тавтологии. Иначе это можно показать следующим образом: наше знание может быть разделено на знание-знакомство, знание в смысле живого обладания содержанием и знание об этом содержании20. В первом смысле знание просто есть и вопрос об истинности его не может ставиться; это есть опыт, наличность в сознании самого содержания. Истинным и ложным может быть только знание об этом содержании, знание-суждение. Это есть то, что можно называть «идеями» о вещах, в отличие от самой реальности; но эти идеи, как нечто добавочное к живому опыту, были бы лишены смысла и совершенно не нужны нам, если бы то, что мы называем знанием, ограничивалось простым усвоением его содержания. Если, однако, ценность идей должна определяться их связью с этим содержанием, то понять эту связь можно только из уяснения значения их в нашей психической жизни, роли их в нашем отношении к этому содержанию, т. е. к действительности. А именно, истинны те идеи, которые ставят нас в некоторое удобное, выгодное, полезное нам отношение к действительности, которые помогают нам «ориентироваться» в действительности, расценить, классифицировать, упорядочить опыт. Идеи истинны, когда они «работают» на нас, служат «орудиями» нашего отношения к действительности. Но всякое отношение есть в конечном итоге отношение практическое. Всякая ценность предполагает оценку, одобрение и неодобрение, выбор; всякая ценность апеллирует к воле, к практике. Мы ищем и признаем не «истину» идей, в смысле их абсолютной самодовлеющей ценности; напротив, когда мы находим то, что мы одобряем, признаем, принимаем в отношении идей к действительности, т. е. то, что полезно и плодотворно для нас в этом отношении, то мы называем это «истиной»; познавательная ценность есть подвид общего понятия ценности, частный случай (в применении к мышлению и «идеям») руководящего всей нашей практической жизнью различения между добром и злом, хорошим и дурным, полезным и вредным. Поэтому процесс «проверки» есть не внешний прием для определения независимо от него существующей истины; напротив, в нем заключается самый смысл истины: истина, в качестве ценности, осуществляется или творится в этом процессе оценки (veri-fication = проверка = созидание истины)21, ибо процесс проверки есть процесс уяснения надобности идеи для нашей жизни. Человеческое познание есть, таким образом, не проникновение в независимо от человека существующую объективную «природу вещей», а живой процесс ориентировки человека в мире, руководимый всеми практическими нуждами конкретной человеческой жизни. Всякое, даже самое отвлеченное и внешне далекое от практики знание имеет целью дать нам какое-либо полезное для жизни указание, воздействовать так или иначе на нашу волю и поведение. Подлинный смысл всякого суждения состоит именно в таком практическом указании или руководствовании, и истинность его определяется его плодотворностью или практической годностью. «Истина» есть не сверхчеловеческий или внечеловеческий идеал, а продукт чисто человеческой нужды и потребности. Человек в основе есть существо практическое, волевое; так называемое «бескорыстное», незаинтересованное, чисто теоретическое познание не только невозможно, но есть нечто внутренне противоречивое; познание не возникло бы и было бы лишено всякого смысла, если бы оно не имело сплошь практического значения, не служило бы нуждам жизни. Мы называем утверждение истинным не когда оно открывает или воспроизводит действительность (что невозможно), а когда оно «помогает» нам, «работает на нас» в каком-либо отношении; всему нашему знанию присуща та условная, практическая ценность, которую мы приписываем так называемым «рабочим гипотезам». Знание есть и всегда должно быть «орудием» практической ориентировки (поэтому в формулировке Дьюи «прагматизм» называется также «инструментализмом»).
Эта гносеологическая теория сама претендует быть прежде всего практическим методом; она стремится дать людям удобное и легкое мерило для расценки познания; она хочет содействовать прекращению излишних, ненужных споров и рассуждений, уяснению и упрощению философских проблем. В отношении каждой теории, каждого понятия она выставляет методологическое предписание: уясни себе, в чем практическое значение этой теории или этого понятия, в чем они помогают тебе ориентироваться в мире и овладеть им, – и ты узнаешь и их подлинный смысл, и меру их истинности; все же остальное, не имеющее практического значения, ни в чем не меняющее нашего отношения к жизни, есть пустая отвлеченность, «словесность», не заслуживающая никакого внимания. Так изображает значение прагматизма его первый основатель Пирс, а Джемс, который называешь прагматизм «новым названием для некоторых старых методов философии», уясняет это значение на ряде философских и историко-философских примеров. Так, прагматистом, по его мнению, был Беркли, когда он показал ненужность понятия «материи» для познавательной ориентировки; прагматистом был Локк, когда он в вопросе о природе души отметил, что практически для нас важно только конкретное тождество личного сознания, а не отвлеченная «субстанциальность души»; точно так же спор между материализмом и спиритуализмом есть в сущности не онтологический спор об абсолютном субстрате мира, а практически-моральный спор об основательности нашей надежды на победу нравственного миропорядка и т. п. Всюду, в самых сложных, отвлеченных и мнимо-непрактических вопросах прагматизм требует, чтобы внимание было фиксировано на конкретных, жизненных, практических моментах дела, к которым прямо или косвенно сводятся все проблемы, имеющие реальный смысл. Прагматизм надеется таким путем освободить философию от пустых словопрений, очистить удушливую атмосферу философских отвлеченностей живой струей практического интереса и содействовать взаимному пониманию и сближению философских миросозерцаний.
Это определение «истинности», как полезности, практической пригодности, желательности идеи, само по себе недостаточно точно и вызывает ряд недоумений. Какая именно цель имеется в виду при познавательной оценке идей? Здесь прагматическая теория как бы колеблется между двумя крайностями – между допущением, что любая цель, удовлетворение любого желания может обосновывать «истинность» суждений, и допущением, что эта цель безусловно предопределена самобытным внутренним назначением познания, как такового, в отличие от других человеческих стремлений и деятельностей. Первое допущение привело бы к совершенному скептицизму и нигилизму, к отрицанию всякого различия между истинным и приятным, выгодным, желательным. В такой грубо-парадоксальной форме прагматизм, по-видимому, пользуется успехом в Италии, и один из его представителей, Преццолини, выразил его в циничной фразе: «ученый есть лжец, полезный для общества; лжец же есть ученый, полезный для отдельной личности»22. Но по существу к этой форме прагматизма приближается и Джемс в некоторых своих утверждениях; так, объявив понятие абсолютной истины несостоятельным, он, «в качестве прагматиста», признает эту идею относительно истинной, поскольку она дает нам душевное удовлетворение23. Однако, сам Джемс признал позднее, что такими утверждениями он подал повод к ложным обвинениям прагматизма в разрушении истины, и по существу отказался от них24. Решительно отвергают такое толкование прагматизма также Шиллер и в особенности Дьюи. И в самом деле, оставляя совершенно в стороне моральную неблаговидность таких суждений, ясно, что они противоречат самому замыслу прагматизма. Прагматизм, в качестве гносеологии, хочет не устранить или отвергнуть понятие истины, а объяснить его; если он признает в «истине» подвид общей функции практической оценки, то он не может ни отождествлять этот подвид с каким-либо иным, ему противоположным, ни отрицать вообще различие между видами оценки; напротив, он хочет выяснить специфическую ценность, лежащую в основе «истины», в ее противоположности другим ценностям человеческой жизни. В обратную крайность впал бы прагматизм, если бы его утверждение сводилось к тому, что ценность идей сводится исключительно к их теоретической полезности, т. е. к помощи, которую они оказывают нам в деле познания. Это означало бы отказ от самостоятельной теории истины, от сведения «истины» к чему то иному, к действенному и волюнтарному началу, в чем и заключается смысл теории прагматизма. И в этом отношении Джемс не воздержался от суждений, по буквальному смыслу ведущих к уничтожению специфической теории прагматизма. Истинна, по его теории, идея, помогающая нам оперировать, теоретически или практически, с известной реальностью, или идея, подводящая нас к действительности; или относительная истинность идеи определяется тем, что она лучше помогает нам воздействовать на реальность, причем «лучше» надо опять понимать «или в теоретическом, или в практическом смысле»25. Но ведь понятие «теоретического оперирования» тождественно понятию познания; «теоретически лучшее» равносильно «более истинному». И в таком случае учение прагматизма свелось бы либо к бессмысленной тавтологии, что «истинны те идеи, которые приводят нас к истине», либо же, в лучшем случае, к скромному утверждению, что в составе наших идей, наряду с истинным знанием, имеются и «рабочие гипотезы», ценность которых заключается в их полезности для приобретения истинного знания. Столь же мало можно понимать прагматизм, как учение о том, что обладание истиной полезно для человечества; такая социологическая теория, правда, предполагается учением прагматизма и входит в его состав, но совсем не исчерпывает его, ибо не содержит никакого учения о сущности истины. Благоприятная оценка влияния знания на человеческую жизнь разделяется, за исключением немногих обскурантов, всеми людьми, и совершенно не затрагивает гносеологии.
Напротив, сущность прагматизма заключается в утверждении, что практическая ценность идей есть основание и критерий их истинности.
Если, однако, эта практическая ценность не может быть ни любой ценностью, ни сама основываться на теоретической истинности, то требуется ее дальнейшее определение. Очевидно, дело сводится к тому, чтобы объяснить, с точки зрения прагматизма, характер объективности, общеобязательности, необходимости, который присущ «истине» в противоположность любому, просто полезному или желательному мнению. Прагматизм, правда, отвергает абсолютность этой черты истины: мнение может быть с одной точки зрения истинным, с другой – ложным, в одно время истинным, в другое – ложным, для одних – истинным, для других – ложным. Так как ценность идеи определяется не ее внутренним содержанием, а ее отношением к человеческим целям, то истина всегда имеет относительный характер, и так называемые «абсолютные» или «общеобязательные» истины суть только наиболее прочные и распространенные (в силу своей полезности) мнения26. Однако, это не значит, что все мнения равноценны, и что различие между истиной и заблуждением лишено смысла. Если познавательная оценка мнений определяется степенью их соответствия или полезности для целей человеческой жизни в ее отношении к действительности, то оценка эта опирается на два объективных момента, не допускающих совершенного разброда мнений и дающих основу для объективного критерия: на сущность человеческой природы и на содержание непосредственно данной в опыте действительности. На первом моменте особенно останавливается Шиллер, и значение его уже выражено в термине «гуманизм», который он предпочитает прагматизму. Основной грех всей прежней логики заключается, по его мнению, «в деперсонизации» («обезличении») мысли, в отвлечении познания от целостной реальности человеческой жизни, и именно это есть источник неразрешимости для нее проблемы истины. Явление познания должно рассматриваться в общей связи телеологической активности человеческой жизни. Оно есть частный случай отбора лучшего, именно лучшего средства для осуществления цели. В этом смысле безусловно справедливо положение Протагора «человек есть мера всех вещей», и борьбу прагматизма с «абсолютизмом» Шиллер прямо рассматривает, как возобновление спора между Протагором и Платоном, как историческое воздаяние справедливости Протагору, вытесненному из сознания человечества платонизмом27. Шиллер отказывается понимать, по образцу других позитивистов (например, Лааса и Гомперца) термин «человек» в этой формуле только в родовом смысле. По его мнению, эта формула имеет глубокий и верный смысл, только если она одновременно подразумевает и индивидуального, и родового человека. «Истина» человека есть сложный и постепенный продукт взаимодействия «истин» людей; и если бы каждый отдельный человек не был «мерой всех вещей», то ею не мог бы быть и человек вообще. В этом общем смысле, конечно, все мнения истинны, как говорил Протагор, а именно, все мнения суть верования, убеждения, определяемые природой человека, и прагматизм, как уже было указано, отказывается признавать «истину», как нечто, принципиально противоположное субъективному мнению. Но подобно тому, как отказ от идеи абсолютного добра (в утилитарной или вообще позитивистической этике) не означает отказа от этической расценки человеческих действий, так и отказ от «Истины» не равносилен, как то думается платонизму, полной анархии и полному равноправию мнений. Идеи могут быть более или менее истинными – смотря по тому, в какой мере они объективно соответствуют условиям человеческой жизни и природы; одни из них могут удовлетворять временный и преходящий интерес, другие – длительный и устойчивый, одни годятся только для немногих, другие – для всех. Логика, как нормативная наука, есть именно учение о такой утилитарной расценке человеческих мнений, определение их относительного достоинства, меры справедливости претензий каждого из них на звание «истины». В этом смысле общечеловеческая истина имеет явные преимущества над истиной индивидуальной: она есть представление, укрепившееся среди человечества в результате борьбы и отбора между индивидуальными представлениями, идея, оказавшаяся более полезной и пригодной для большинства. Все так называемые «абсолютные» истины носят именно такой характер. Все «аксиомы» суть только «постулаты», определяемые общими нуждами человеческой природы28. Даже математические истины («дважды два четыре») истинны только для большей части опыта, даже так называемые «логические аксиомы» определены преобладающими человеческими потребностями. (Например, «закон тождества» – потребностью удерживать старое и находить его в новом). Таким образом, мы сохраняем мерило – если не абсолютной «истины» в ее противоположности абсолютному же заблуждению, то относительных степеней истинности человеческих мнений; и прагматизм есть не отрицание познавательной расценки мнений, а, напротив, учение, дающее твердую основу для этой расценки через исследование объективных требований человеческой природы.
Другой объективный момент для расценки человеческих мнений заключается в их отношении к опыту, как выражению в сознании самой действительности. Прагматизм не есть ни солипсизм (уже потому, как указывает Шиллер, что убеждение в существовании других людей есть необходимое условие человеческой жизни), ни идеализм. В нашем знании есть элемент безусловный и безотносительный – это чисто опытные данные, которые всеми с очевидностью признаются за «действительность». Сомневаться в последней не имеет никакого смысла; гносеологи тоже только люди и должны исходить из очевидного и общепризнанного; и самое честолюбивое наше желание в отношении наших мнений не может идти дальше того, чтобы сделать их столь же «очевидными», сколь очевидны для нас опытные элементы знания, которые мы признаем действительностью. Относительный и утилитарно-телеологический характер всех «истин» предполагает все же их пригодность в виду данных опытных элементов, или полезность их для тех целей, которые человек преследует в данной среде и в отношении ее. Поэтому определение познавательной ценности идей предполагает уяснение их отношения к тем реальным данным, которые образуют прочную и неотменимую основу всякого знания. Реальностью в этом смысле прагматизм признает только конкретные опытные содержания знания, тогда как то, что обычно зовется «подлинной», «абсолютной» действительностью, т. е. идеал, к которому стремится познание и который осуществляется в нем, прагматизм признает лишь фикцией; вся ценность таких идеальных построений и картин заключается только в их полезности для нашего практического ориентирования в опытных содержаниях. «За пределами опыта нет ничего», цитирует Джемс выражение одного эмпириста. «Все дороги ведут в Рим – говорит он же – и в конце концов все истинные процессы должны приводить где-нибудь к некоторым непосредственным проверкам путем чувственного опыта, воспроизведенного кем-нибудь в его представлениях»29. Но если чувственный опыт есть последняя и единственная инстанция для проверки нашего знания, то прагматизм, с другой стороны, подчеркивает, что опыт есть скорее материал и основа для знания, чем самый смысл знания. Опыт мы имеем; то же, что мы называем знанием, есть совокупность идей об опыте, рассуждения о нем, ценность которых, как мы уже видели, никогда не может заключаться в буквальном совпадении с ним. В зависимости от того, что нам важно в этом опытном содержании или что нам нужно делать с ним, идеи, нужные для этих наших целей, могут быть различными; и хотя опытное содержание ставит некоторые преграды для выбора между идеями, так что полезность идеи до некоторой степени предопределена соотношением между их смыслом и опытными данными, однако, у нас все же остается большой простор для выбора между идеями. «Действительностью» или «миром» мы называем совокупность таких «истинных», т. е. пригодных для обработки опыта, идей. Если бы связь между идеями и опытными данными была для всех и всегда однозначной и определенной, то действительность мы должны были бы мыслить, как нечто неизменное, одинаковое для всех и вполне законченное, как то и полагают «рационалисты» и «абсолютисты». С точки зрения же прагматического учения о знании действительность есть нечто текучее и подвижное.
Не существует никакой абсолютной, окаменелой, независимой от целей познания и человеческих нужд действительности; «действительностью» мы зовем ту совокупность представлений и понятий, которая выражает относительно устойчивую, привычную часть нашей опытной ориентировки. Мир вещей, сил, законов природы, который изучает наука, не имеет никакого абсолютного познавательного превосходства, например, над миром дикаря, населенным духами и фетишами, или над миром религиозной веры и т. п. Все это – условные, изменчивые обобщения и обработки текучих данных опыта, – обработки, из которых каждая вызвана некоторой практической потребностью и, следовательно, каждая имеет свою ценность; выбор происходит здесь не между «подлинной действительностью» и вымыслом, а лишь между равнозначными по существу орудиями жизни, из которых одно может оказаться пригоднее или удобнее другого. За пределами изменчивых, текучих опытных данных не существует никакой идеальной действительности, к которой бы приближались в большей или меньшей степени наши фактические представления или понятия о действительности; наоборот, эти представления и суть то, что мы зовем действительностью. Мы живем в мире, созданном и неустанно создаваемом нами самими. Отсюда следует, что мир пластичен (выражение Шиллера), гибок, до известной степени подчинен нашим желаниям и потребностям. Каковы пределы этой пластичности – этого мы наперед не знаем; но чтобы узнать это, чтобы натолкнуться на подлинные границы изменяемости мира, мы должны дерзать изменять его, т. е. должны верить в его всеобщую пластичность. Таким образом, познание и в том отношении тождественно с волей, что оно есть творчество: познавая, мы не «воспроизводим», не «копируем», а творим мир. Отсюда также следует, что не существует единого мира, а скорее множество миров, соответственно множеству человеческих интересов, запросов и устремлений. Слияние этого множества миров в единый, общий для всех мир есть, в свою очередь, не реальный, вне человека находящийся факт, а лишь выражение потребности в практической согласованности индивидуальной и социальной жизни; его можно ждать, к нему можно стремиться, но его нельзя считать завершившимся фактом и исходной точкой познания.
Легко заметить, что эти рассуждения Джемса и Шиллера оставляют без точного разъяснения основной вопрос прагматической теории знания – вопрос о том отношении, которое должно установиться между (несовпадающими по содержанию) идеями и опытными данными, для того, чтобы идеи оказались «полезными» для наших целей и были бы притом истинными. Попытку систематического ответа на этот вопрос дает только чикагский профессор Джон Дьюи и его школа30. Согласно Дьюи, знание (в смысле суждения или «рефлектированного» знания) возникает всегда лишь в результате некоторого разногласия или конфликта в составе нашего опыта, причем условием этого конфликта является наличность некоторого практического интереса у познающего, требующего сочетания или слияния того, что по своему непосредственному опытному содержанию непосредственно несогласимо. Это разногласие между данным и желательным, наличным и отсутствующим есть основа отношения между бытием и мышлением. Суждение отделяет данное (материал) от того идейного содержания, которое должно примирить непосредственно несогласимое, и вместе с тем соединяет или отожествляет то и другое. Субъект и предикат суждения, или «бытие» и «идея» по существу совсем не разнородны и не имеют никакого абсолютного значения. «Реальность», которую мы имеем в виду в суждении, есть не абсолютная и всеобъемлющая реальность, а те черты в опыте, которыми мы интересуемся, как предметом наших затруднений. «Предикат» или «идея» означает, напротив, ту комбинацию содержаний, которая помогает нам преодолеть несогласованность и выйти из затруднения. Таким образом, самое различие между «идеями» и «фактом» имеет только «инструментальное» значение и зависит от точек зрения или интересов, с которыми мы приступаем к опытному материалу. И то, что мы называем согласием или совпадением идей с «фактами», есть не что иное, как соответствие представлений, как средств, осуществление тех представлений, которые являются нашей целью. Каждая идея имеет смысл, как мотив, т. е. как побудитель или разрядитель определенных действий. Если эти действия действительно приводят к той цели, которую они ставят себе в отношении данного комплекса содержаний, называемого нами реальностью, то возбудившая их идея должна быть признана истинной. Поэтому истинна не всякая идея, дающая любое удовлетворение или в каком-либо отношении полезная, а истинна только идея, возбуждающая действия, приводящие к той цели, ради которой выставлена эта идея и которая образует ее конкретный смысл. Так, для заблудившегося путника истинна та идея, которая приведет его домой. По аналогии с этим примером, можно сказать, что назначение всех идей такое же, как назначение географической карты или плана: не будучи воспроизведением реальности, он дают нам такие символические представления, какие нам нужны для практической ориентировки в соответствующих сторонах или явлениях среды31.
III
Это суммарное изложение общего содержания учения прагматизма должно быть дополнено уяснением основных логических мотивов этого учения.
1) Прагматизм есть прежде всего законное дитя английского сенсуалистического эмпиризма; он образует правомерный, логически неизбежный этап в развитии эмпиризма, по-видимому, последний пункт, до которого эта точка зрения может и должна дойти; он тесно примыкает к некоторым руководящим идеям Бэкона, Беркли и Юма и, с другой стороны, находится в близком и несомненном родстве с современным немецким выражением этого направления – с эмпириокритицизмом. В этом отношении прагматизм можно прямо определить, как сочетание Бэконовского учения о задач знания с номинализмом Беркли и вытекающим отсюда скептицизмом Юма. Задача знания – служение жизни; наука должна перестать быть бесплодной, «подобно монахине, посвященной Богу», а стать орудием счастья и могущества человека; этот утилитарный мотив философии Бэкона образует основную движущую силу современного прагматизма. Сочетая этот взгляд на задачу знания с номиналистическими и скептическими выводами, к которым привело развитие эмпиризма, мы получаем схему гносеологии прагматизма. Беркли отверг понятие абсолютной действительности, как фантом философского умозрения, указав, что единственная практически нужная «действительность» содержится в самом представлении, и вместе с тем признал отвлеченное понятие субъективным созданием, имеющим исключительно прикладное, техническое назначение – служить орудием обозрения фактов и ориентировки в них. Юм пришел к общему выводу, что, хотя опыт есть единственный законный источник знания, он дает лишь хаотический, беспорядочный материал, так что всякое общее утверждение о фактах, в сущности, произвольно, опирается не на философские основания, а на психические свойства людей, и оправдывается лишь своей практической надобностью для жизни. Юм уже сознает, что идеал общеобязательного знания, основанного только на данных опыта, неосуществим; вместо этого недостижимого идеала мы должны поневоле помириться на его суррогате – психологической необходимости. Здесь остается сделать еще два шага: с одной стороны, заменить упрощенную интеллектуалистическую психологию Юма более сложными и богатыми психологическими соображениями, благодаря которым однородная и простая «психологическая необходимость» известных категорий, научных суждений и т. д. исчезает, сменяясь множеством различных, равно необходимых и равно субъективных «обработок» опыта и картин мира. Этот шаг совершил отчасти уже Авенариус. Второй, и самый принципиальный шаг делает прагматизм; если опыт, с одной стороны, есть единственный общеобязательный элемент знания, а с другой стороны, не дает собственно никакого знания, а только сырой материал для него, то, следовательно, знание вообще имеет иные задачи и иные критерии, чем теоретическая обоснованность. Если теория знания разошлась с реальной природой знания, то в этом виновато не знание, а сама его теория, которая вместо того, чтобы описывать его реальные свойства, ставит ему невыполнимые требования. Эмпиризм прав, признавая опыт единственным материалом и реальным содержанием знания; но он неправ, требуя построения из этого материала общеобязательного и обоснованного знания или принуждая знание ограничиваться простым констатированием данных опыта. Эмпиризм может лишь требовать, чтобы никакие понятия, суждения, теории, раз они не содержатся в самом опыте, не претендовали на абсолютное значение, не выдавали себя за отображение «действительности»; и так как в опыте не содержится никакого знания, то это требование применимо вообще ко всему человеческому знанию. Но из этого по следует, что никакого подлинного знания и нет; наоборот, логический абсолютизм несовместим с эмпиризмом; если никакое знание не вытекает из опыта, то никакое знание, в сущности, не может ему и противоречить; здесь, следовательно, нет вообще критерия для определения ценности знания. Без произвольных, с точки зрения «чистого опыта», допущений обойтись невозможно; в этом смысле прав априоризм, который, однако, делает из «категорий», «основоположений» и т. п. каких-то теоретических идолов с абсолютным и непререкаемым авторитетом, тогда как они суть лишь служебные орудия человеческой жизни и практики. Итак, последовательно проведенный эмпиризм требует признания, что все человеческое знание, с точки зрения абсолютной логики, произвольно, но что это не умаляет его ценности, ибо оно по существу имеет не теоретическое, а практическое назначение. Отвергнув понятия «действительности» или «истины» (в смысле соответствия с действительностью), мы получаем новую эмпирическую теорию знания, по которой знание есть свободное, творческое комбинирование и обработка данных опыта в интересах самосохранения и вообще осуществления практических целей. Единственное, что человеку, действительно, «дано», в чем предел его творческой силы, это то, что зовется «фактами» и что есть текучее, хаотическое многообразие ощущений, неосмысленное и неустойчивое конкретное содержание сознания: все остальное – представление о «едином» мире, о «вещах», их свойствах и действиях, о закономерности природы, всякого рода отвлеченные понятия и общие суждения не имеют никакого абсолютного значения, не суть ни логически, ни даже психологически необходимые и для всех обязательные истины; все это – только «рабочие гипотезы», ценность которых зависит от того, «служит» ли она нам, помогают ли разобраться в материале жизни, ориентироваться в окружающей среде, и вообще нужны ли они нам для каких-либо практических целей.
2) В этом ходе мыслей особенно существенно то, что прагматизм делает логически безупречный и необходимый вывод из номинализма. Вывод этот, коротко говоря, состоит в том, что все понятия, а следовательно, и все суждения (в которых, ведь, по крайней мере, предикат есть общее понятие) могут иметь не реальное, а только условное или символическое значение. В отношении некоторой части научных понятий и суждений, например, отвлеченных гипотетических конструкций физики, это понимание выставлено уже давно и пользуется большой популярностью; физические теории рассматриваются здесь, как вспомогательные символические картины, лишенные объективного значения и имеющие целью упрощенное описание явлений. Прагматизм распространяет это понимание на всю сферу человеческого знания. Шиллер, например, как мы видели, признает даже математические истины и логические аксиомы только техническими приемами, выработанными в интересах некоторого практического отношения к фактам; Джемс утверждает, что когда мы, посмотрев на предмет, висящий на стене, говорим: «это – часы», мы конструируем понятие, которое, в сущности, лишено абсолютного или объективного значения, а есть лишь способ практической ориентировки: весь смысл этого суждения в том, что мы регулируем наше поведение в связи с движением стрелки по циферблату. Сколь бы парадоксальным, на первый взгляд, ни казалось такое расширение понятия «рабочей гипотезы» или «регулятивной идеи», отрицание объективного значения даже за самыми достоверными формальными суждениями математики и логики, с одной стороны, и за имманентными, опытными суждениями о фактах, – с другой, оно логически вытекает из последовательного номинализма. В самом деле, ведь ни единое понятие и суждение, к какой бы области знания оно ни относилось, не содержится в самом чувственном опыте, «не дано» в нем, а есть всегда продукт произвольной (с точки зрения чистого опыта) обработки опытных данных. И если, таким образом, понятие может претендовать лишь на символическое или номинальное значение, то все человеческое мышление становится, так сказать, по ту сторону объективной теоретической истины. Если понятию не соответствует никакая объективная реальность, если оно есть лишь название для некоторой группы индивидуальных фактов, символический значок для упрощенного и удобного описания явлений, то все наше познание неизбежно должно руководиться сверхлогическими или внетеоретическими критериями. Какое иное основание мы имеем тогда делить факты на те или иные группы, составлять и утверждать понятия, как не наше практическое отношение к действительности? Образование отвлеченных признаков и предицирование их в суждении было бы бессмысленным и невозможным делом с точки зрения последовательного номинализма, если бы оно не выражало просто практической важности или надобности того или иного субъективного отношения к фактам. К этой практической важности нашего отношения к вещам и сводится смысл всех наших суждений. Формулируя строго логическое учение прагматизма, можно сказать: предикат всякого суждения высказывает не объективное, независимое от нас внутреннее свойство самого явления, а лишь наше субъективное отношение к нему.
Таким образом, прагматизм делает формально совершенно безупречный вывод из посылки номинализма: он обнаруживает, что самодовлеющее теоретическое значение научного, да и всякого вообще знания несовместимо с признанием условности и субъективности понятий. При чтении литературы прагматизма прежде всего бросается в глаза, так сказать, воинствующий номинализм этого направления. «Надо, наконец, понять, что абстракции суть именно только абстракции, и сделать надлежащие выводы отсюда» – таков боевой клич прагматизма. Разумеется, и в этом вопросе суждения отдельных прагматистов далеко не совпадают. Джемс, например, выражается гораздо осторожнее, чем Шиллер, и некоторые его суждения содержат довольно меткое, приемлемое и не для одних прагматистов, уяснение значения отвлеченных понятий. Для нас существенно, однако, только то, что прагматизм по существу есть вывод из прямолинейного и крайнего номинализма. Отрицание объективного значения отвлеченных понятий и суждений логически приводит к отрицанию теоретического смысла и теоретической ценности всякого знания – таков основной вывод прагматизма, формальная правильность которого, повторяем, представляется бесспорной.
3) В этой связи, однако, обнаруживается уже третий основной мотив прагматизма. Номинализм теснейшим образом связан с психологизмом. Прагматизм ведь не отрицает вообще ценности отвлеченных понятий; напротив, он восстает против стремления старого эмпиризма устранить или признать негодным все, что выходит за пределы простого констатирования фактов; он хорошо понимает неосуществимость идеала «чистого опыта», понимает невозможность обойтись без идеального и мыслимого, без абстракций. Он только отрицает объективное, сверхпсихическое или внепсихическое значение абстракции. Отвлеченное мышление, а следовательно, и знание есть для него некоторая психическая функция, которая не может, подобно своему материалу – конкретному опытному данному – претендовать на абсолютное значение. Если абстракция не совпадает с «опытом», с конкретным эмпирическим данным, если она по существу «выходит за пределы» чувственно-опытной реальности – что, конечно, понятно само собою, – то, с точки зрения прагматизма, для нее вообще не остается места в сфере объективного. Познание есть психическая деятельность; та часть его, которую мы называем «опытом», дана, так сказать, непреложно, и ее наличность в сознании и есть ее истинность; все остальное есть в известном смысле свободное творчество человека, к которому столь же нелепо применять строгий, теоретический критерий истины, как, например, к художественному творчеству; и если его можно расценивать, то только иными, практическими или жизненными критериями. Если все идеальное тождественно с «субъективным» или «психическим», если, поэтому, все наше познание есть по существу субъективный психический процесс, то оно и должно рассматриваться и расцениваться исключительно психологически; и эта психологическая точка зрения неизбежно ведет к концепции прагматизма.
Прагматизм и здесь делает формально правильный вывод из весьма распространенных посылок. Он впервые показывает, к чему, собственно, обязывает «психологизм». Психологизм есть прежде всего «антропологизм» (пользуясь обозначением его критика Гуссерля) или, согласно терминологии Шиллера, «гуманизм»32. Если познание не только с фактической стороны, как реальный процесс, но и со стороны своего идеального смысла, своей ценности и назначения, есть явление психическое, то тем самым всякая истина и всякий смысл определены человеческой организацией и имеют значение и обязательность только для человека. Однако, этим в корне разрушается предносящийся всегда философии идеал истины, как абсолютной инстанции или ценности. Признание всего познания, вместе с логическими законами и мерилами, продуктом «человеческого сознания» не только утверждает недостижимость для человеческого познания абсолютной истины, так как уничтожается уверенность, что «истина для нас» есть вместе с тем подлинная или абсолютная истина, но – что еще важнее – обнаруживает противоречивость самой идеи абсолютной истины. Ведь идея эта, как и все остальное, есть чисто человеческое создание; если она имеет смысл, то тоже только относительный, человеческий смысл; она, очевидно, для чего-то нужна именно человеку, означает какую-то его субъективную мечту и, следовательно, за пределами человеческой души лишена всякого значения, тогда как она претендует именно на такое сверхчеловеческое значение. Психологически эта идея объясняется прагматистами более или менее удачно из потребности в устойчивости, прочности, крепости нашего знания; Джемс сравнивает настроение человека, неспособного отказаться от идеала абсолютной истины или реальности, с настроением человека, который не может представить себе мир не стоящим на какой-нибудь подпорке. Во всяком случае, если рассматривать человеческое познание психологически, то «истина» есть всегда что-то «нужное» или «ценное» для человека, и за пределами этой практической надобности не имеет никакого смысла.
Обычно психологизм старается избегнуть скепсиса и сохранить идеал объективного и общеобязательного знания двумя допущениями. С одной стороны, он предполагает, что психическая деятельность познания может протекать и изучаться изолированно, вне влияния воли и чувства, что можно определить психологические законы познания и мышления, устраняя вмешательство других психических функций, при чем эти законы и приводят к результатам, которые называются «истиной» или «объективной целью» познания. С другой стороны, он исходит из убеждения, что эти законы интеллектуальной жизни в основе одинаковы у всех «нормальных» людей, так что психология познания остается тождественной в отношении всего зоологического вида homo sapiens. Исходя из этих допущений, представляется возможным на почве психологии построить логику и теорию познания, указать условия относительной, но тем не менее «общечеловеческой» истинности познания. «Истина» есть с этой точки зрения то, к чему вынуждено приходить человеческое сознание на основании общечеловеческих законов мышления, когда «нормальный» процесс мышления не прерывается вмешательством посторонних психических сил (например, чувствований и хотений). Именно против этих допущений энергично и весьма убедительно восстает прагматизм. Прежде всего прагматизм показывает, что не существует в человеческом сознании мышления и познавания, изолированного от практики, от потребностей, инстинктов, чувствований и хотений. В этом допущении он видит основной грех интеллектуализма, против которого он апеллирует к современной волюнтаристической психологии. Не мышление, а волевое устремление, хотение есть центральная и первичная сила человеческого сознания; интеллект есть лишь отпрыск, всецело питаемый этим корнем. Эволюционная и биологическая психология показала, что познание есть лишь орудие самосохранения и приспособления организма к среде; отвлекаясь от этого истинного назначения познания, мы получаем совершенно фальшивую теорию. Познание не имеет никаких самостоятельных законов, в силу которых оно двигалось бы по пути, не предуказанному практическими потребностями человека; все так называемые «законы мышления» суть не что иное, как привычки, выработанные в интересах достижения известных полезных, благотворных или вообще нужных для действенности представлений. Поэтому все эти законы относительны, они обусловлены направлением воли, с одной стороны, и средой, обстоятельствами жизни – с другой. К приспособлению, к овладению природой, к целям человеческой жизни ведут многие пути, и столь же многообразны, следовательно, те представления, которые могут претендовать на значение «истин» (в условном, человеческом смысле). Таким образом, «гуманизм», последовательно развивая психологическую теорию знания, ведет к отрицанию самой возможности теоретического критерия знания.
К тому же результату приводит проверка второго допущения психологической теории. Существуют ли представления, суждения, законы мышления, действующие всегда и всюду, у всех экземпляров вида homo sapiens, и способные поэтому служить однозначным мерилом общеобязательной ценности знания? Прагматизм решительно отрицает это. Шиллер, как уже было указано, убедительно разъясняет, что вне допущения «индивидуально-человеческих» истин теряет смысл и критерий истины, как «общечеловеческого» представления. «Общечеловеческая» истина имеет, правда, преимущества над истиной индивидуальной. Но принципиально, с гносеологической точки зрения, она не отличается от индивидуального мнения. Между «истиной», в которую верят миллионы людей, и «истиной» данного отдельного человека нет принципиальной разницы; и если мы решились назвать истиной то, что психологически необходимо для всех, мы обязаны считать истиной и то, что необходимо для некоторых или одного. С другой стороны, Джемс показывает относительность того, что зовется «общеобязательной истиной»; по его мнению, например, категории причинности и субстанциальности суть такие же общераспространенные верования нашей эпохи, какими в свое время были верования в привидения или фетишей. Смысл этих суждений прагматизма состоит, собственно, в утверждении, что с психологической точки зрения не может быть речи о какой-либо принципиальной общеобязательности, как критерии истины. Ссылка на психологическую необходимость «нормального» человека, как на мерило истинности, лишена смысла: где же мерило самой «нормальности»? Либо мы называем нормальным человека, обладающего общераспространенными психическими свойствами, и тогда мы вертимся в кругу, либо же «нормальность» означает какую-либо объективную, сверхчеловеческую и сверхпсихическую оценку психических состояний и идей – и тогда мы не имеем на нее никакого права. Признать истину «представлением рода», мнением «человека вообще», или «сознания вообще» и т. п. значит уже уничтожить объективное понятие истины; но, проводя последовательно эту точку зрения, мы неизбежно должны сказать, что раз есть «истина для человека», должна существовать и «истина для данного человека». Мы в лучшем случае получим здесь иерархию истин, количественное различие между степенями истинности, относительную расценку «истин» по степени их пригодности, но никогда не получим единой истины, обязательной для всех и принципиально отличной от «мнения» (мысль, особенно защищаемая Шиллером). Психологически остается навсегда бесспорным и в данном вопросе решающим общее наблюдение: «сколько голов, столько умов». И если истина определяется человеческим «умом», то прагматизм прав, дополняя это изречение словами: «и сколько умов, столько истин».
Таким образом, психологически познание есть всегда живой, индивидуальный, определяемый всеми мотивами и свойствами личности процесс, и психологическая логика и гносеология, оставаясь последовательной, не может подставлять вместо этого своего реального объекта фикцию мышления, управляемого только общечеловеческими и логическими законами. Основной упрек, который прагматизм делает господствующей теории познания, состоит в том, что она имеет дело не с живым индивидуальным и человеческим процессом познания, а с измышленным безличным и внечеловеческим, т. е. как бы выхолощенным познанием.
4) Прагматизм есть распространение на нормы и идеал знания субъективно-релятивистического понимания идеала вообще. На приведенные выше выводы прагматизма из психологической постановки проблемы знания гносеология, казалось бы, может ответить, что она намеренно ограничивает свою задачу изучением идеального, совершенного познания, исследованием единой идеальной истины, а не фактического многообразия мнений и их конкретного, эмоционально-волевого источника. Прагматизм, однако, не считает убедительным такой ответ. Напротив, именно в новой постановке и решении этой проблемы «идеала знания» и лежит центр тяжести его учения, и именно здесь он наиболее решительно и последовательно проводит до конца основную идею психологической гносеологии. Прагматизм отнюдь не отрицает нормативного характера логики и гносеологии, в отличие от психологии познания; он только придает понятию нормы тот единственный смысл, который оно может иметь с психологической точки зрения. Основная идея всего прагматизма есть мысль, что идеал познания, подобно всякому другому идеалу, не есть что-либо объективно и самобытно сущее, а есть лишь мечта, субъективная цель, замысел человеческого познания, словом, существует лишь субъективно, как эмоционально-волевой феномен отношения личности к своему знанию. В толковании идеала познания прагматизм впервые проводит ту точку зрения, с которой издавна всякий утилитаризм и субъективизм толковал смысл нравственного идеала и нравственных ценностей. Пользуясь терминами античной философии, учение прагматизма можно было бы выразить, как утверждение, что идеалы познания существуют не physei, a thesei, не «по природе», а условно-субъективно. Прагматизм есть, так сказать, последнее слово субъективизма, крайняя точка, до которой может дойти борьба против гипостазирования и объективирования идеала. Он распространяет на «истину», на идеал познания то отрицание платонистического реализма, которое в области морали проповедует Эпикур, Гоббс, Спиноза, Бентам, Штирнер. В познании, как и в нравственности, не конкретная оценка опирается на логически предшествующую ей и вне ее объективно существующую ценность, а, наоборот, так называемая объективная ценность дана только, как идеальный момент конкретных оценок. Подобно тому, как добро, в качестве реальной метафизической сущности, есть фикция, излишнее гипостазирование конкретной расценки вещей, поступков, настроений, субъективной реакции одобрения и неодобрения, так и «истина» не должна быть удвояема и, в качестве «Истины», т. е. в качестве самобытной и объективной сущности, противопоставляема конкретной, субъективной познавательной оценке суждений и представлений. Истина, идеал познания есть только наше отношение к нашим мнениям, субъективная эмоциональная окраска, которая присуща известной части нашей интеллектуальной жизни. Вместе с объективностью истины отпадает, как уже было указано, и понятие объективной действительности. С этой точки зрения действительность есть не что иное, как обозначение цели познания, т. е. она имеет смысл лишь руководящей идеи, которая намечает желательный, ценный, нужный путь познания. Словом, как бы ни обозначать критерий или идеал познания, он неизбежно есть не что иное, как человеческая оценка человеческого мнения, т. е. отношение нашей «души», нашего общего психического состояния к отдельному представлению или суждению. Таким образом, идеал познания не может противопоставляться реальному ходу познания, ибо он есть лишь часть или момент последнего; гносеология и логика суть, следовательно, не что иное, как психология веры, изучение психического процесса одобрения или неодобрения мнений, а такое учение, конечно, становится не только схематичным, но и прямо ложным и бесплодным, если оно игнорирует личные, практические, эмоционально-волевые моменты человеческого сознания.
5) Из применения психической и субъективистической точки зрения к самому идеалу или объекту знания вытекает тенденция прагматизма объяснить знание через подчинение объекта знания познающему субъекту. В этом отношении прагматизм есть своеобразное выражение основного мотива кантианской гносеологии. Теория прагматизма по существу тождественна с мыслью Канта, что идеал научного знания есть не проникновение в абсолютную действительность, а лишь упорядочение опытных данных в согласии с субъективными свойствами и запросами человеческого духа. Отсюда общая прагматизму с кантианством мысль, что предмет познания не существует вне самого познания, что он не «дан», а «задан» человеческой мысли, и что познание есть не уяснение, а творческое созидание реальности. Это растворение идеала познания в деятельности познания с необходимостью ведет к подчинению идеала познания общей человеческой активности, практическому началу человеческой жизни, как таковому. Здесь прагматизм идет по тому же пути, на котором лежит утверждение Фихте, что «сознание действительного мира вытекает из потребности действования, а не наоборот»33, или нормативизм Виндельбанда-Риккерта, признающий высшей гносеологической категорией практическое понятие «ценности» или «долженствования». Отсюда также и другая, общая прагматизму с кантианством, мысль, что эта творческая деятельность необходимо многообразна, так что специфическая точка зрения и интерес всякого познания определяют для него своеобразное строение его предмета: истина есть не только «истина для человека», но и «истина для данной науки» или «для данного духовного интереса»34. Своеобразие прагматизма – лишь в том, что этот априоризм и субъективизм он берет в строго психологическом и натуралистическом смысле. Субъект, духовное творчество которого определяет предмет познания, есть не «гносеологический субъект», не «сознание вообще», не «научное сознание» и т. п., а реальный человек в его реальном практическом отношении к среде.
IV
При оценке прагматизма следует прежде всего различать задачу, которую он ставит, от ее разрешения.
В оценке задачи прагматизма следует признать его большой заслугой то, что он выдвигает на первый план проблему истины, которая в других гносеологических построениях часто остается в стороне или ставится в зависимость от иных проблем. Прагматизм убедительно показывает, что либо абсолютная истина есть нечто первичное, самоочевидное, ни к чему иному не сводимое и, наоборот, определяющее все остальные гносеологические понятия, либо же ее совсем нет, а есть только субъективные мнения, различные лишь по степени своей практической пригодности для человеческой жизни. Постановка этой дилеммы имеет большую ценность в виду наличности многих половинчатых, до конца непродуманных гносеологических построений, которые пытаются вывести основные признаки истины – вечность, безотносительность, общеобязательность – из каких-либо иных, субъективных и относительных начал. В этом отношении в высшей степени ценна та неуклонная логическая последовательность, с которой прагматизм делает последние, крайние выводы из весьма распространенных в современной гносеологии тенденций номиналистического эмпиризма, релятивизма, антропологического психологизма и субъективизма. Усилиями и агитацией прагматизма сравнительно мелкие, школьные споры в гносеологии вытесняются основным разногласием между «абсолютизмом» и «релятивизмом», и, таким образом, в ходячих формулировках обнажаются их последние, глубочайшие логические корни.
Совсем иной должна быть оценка решения этой задачи в прагматизме. Здесь можно признать ценным только общее стремление прагматизма свести отвлеченное знание и понятие теоретической истины к чему-то более глубокому и первичному, что можно было бы назвать живым или цельным знанием, знанием-жизнью, в противоположность знанию-теории35. Но форма, в которой осуществлено это стремление в прагматизме, должна быть признана безусловно несостоятельной. Прагматизм, будучи крайним и наиболее последовательным осуществлением тенденции, которые в конечном итоге все сводятся к номинализму и психологизму, с особенной яркостью обнаруживает противоречивость, присущую этим гносеологическим направлениям. Номинализм внутренне противоречив, ибо если ни одно понятие не имеет самодовлеющего смысла, и ни одно суждение не имеет самоочевидной истины, то все теории и суждения становятся логически произвольными, в том числе и сама теория прагматизма. Ибо, если смысл понятия сводится к указанию определенного действия, а истинность суждения измеряется осуществимостью этого действия, то ведь и понятие «действия», и понятие «осуществимости», и вообще все термины, которыми должен оперировать прагматизм, суть тоже только условные символы, приобретающие ценность в связи опять с чем-то иным, что тоже есть символ, и т. д. до бесконечности. Мы стоим здесь либо перед неизбежным регрессом до бесконечности, лишающим все утверждения всякого объективного смысла, либо перед необходимостью признать некоторые понятия имеющими самодовлеющее внутреннее значение и образованные из них суждения – самоочевидными истинами. И фактически прагматизм именно в это и верит: как бы своеобразна ни была его гносеология, она есть все же теория знания, т. е. исследование явлений знания, результаты которого выставляются, как внутренне очевидные и вытекающие из смысла анализируемых понятий. А в таком случае прагматизм противоречит сам себе, ибо является теорией, доказывающей невозможность теории, истиной о несуществовании истины. Последовательный прагматизм должен был бы и себя самого оценивать только «прагматически», т. е. ограничиться доказательством, что вера в утилитарно-условный смысл суждений полезнее веры в их безусловное внутреннее значение. Тогда прагматизм либо вообще был бы не гносеологией, а просто историческим и психологическим исследованием функции знания в человеческой жизни, и его гносеологические претензии были бы тем самым отвергнуты, либо же, поскольку такое исследование он отождествлял с уяснением смысла знания, впадал бы в указанный regressus ad infinitum: ибо доказательство полезности прагматической теории могло бы вестись опять только в форме доказательства полезности веры в полезность прагматизма, и т. д. до бесконечности. Нетрудно также заметить, что когда прагматизм от общих и неясных соображений переходит к более детальному анализу содержания и ценности знания, он неизбежно учитывает объективную, т. е. безотносительную его ценность. Так, если Дьюи уподобляет понятия географической карте или плану, которые, не копируя или повторяя реальность, помогают нам ориентироваться в ней, то, ведь, очевидно, что такая помощь возможна лишь в том случае, если те или иные стороны реальности действительно содержатся в этих символических орудиях: так, план города, при всем своем отличии от нашего восприятия самого города, должен точно воспроизводить, например, соотношения между направлениями, расстояниями и т. п., и лишь при этом условии может годиться нам, как орудие. На этом примере ясно видно, что если от нашего практического интереса и субъективного отношения к опыту зависит, на какую сторону его мы обращаем внимание, что именно выделяем в нем, в качестве «идеи», то связь этой стороны с другими сторонами реальности, и, следовательно, истинность высказываемого суждения, даже поскольку она обнаруживается в осуществимости намеченного в нем действия, зависит от объективного содержания знания и не имеет в себе ничего субъективного. В таком виде, т. е. освобожденный от притязания на гносеологическое значение, прагматизм окажется правильной и весьма ценной психологией внимания, и только в этом скромном виде он имеет внутреннюю правомерность.
Но и психологизм внутренне противоречив. Поскольку прагматизм предполагает самоочевидную истинность тех реальных условий, от которых, по его теории, зависят смысл и критерии истинности всех суждений, именно, психологической природы человека и ее отношения к внешней среде, он, подобно всем другим натуралистическим теориям знания, делает противоречивую попытку вывести первичное из производного. Ибо признание реальности человеческой природы и среды предполагает признание абсолютного значения знания; иначе, т. е. если бы это признание было тоже только относительным, мы пришли бы к противоречию: истинность суждения о бытии человека и среды основывается на полезности этого мнения для человека, а полезность предполагает это бытие, т. е. истинность этого суждения. Допуская же абсолютную истинность указанной реальной основы знания, мы не только исходим из веры в абсолютную истинность вообще, но вместе с тем признаем и истинность всех логических признаков и категорий, входящих в сложное понятие «человеческой жизни вообще». Коротко говоря: психология не может служить основой логики и теории знания потому, что сама уже предполагает, в применение к конкретному материалу, истины логики и теории знания.
Этих элементарных логических соображений вполне достаточно для опровержения прагматизма. Всякая попытка проверить прагматизм анализом входящих в него понятий неизбежно приводит к обнаружению его противоречивости, в силу уяснения невозможности для мысли отрицать абсолютные права мысли. А это значит, что исходной точкой всякого рассуждения, всякой философской концепции, всякого мировоззрения должно служить признание абсолютной истины и абсолютного смысла, как цели и мерила познания. Сомнение и отрицание возможны относительно всего, кроме того, во имя чего они именно и возможны, и на почве чего они имеют смысл, т. е. кроме самого абсолютного идеала истины. Но уяснить самоочевидность, абсолютно недосягаемую верховность истины – значит отказаться от философского релятивизма и снова вернуть философию к объективизму; такое уяснение требует радикального пересмотра многих распространенных гносеологических мотивов. Поэтому прагматизм, не имея никакого положительного значения, в качестве определенного решения проблемы истины имеет ценность, как невольное reductio ad absurdum философского субъективизма и релятивизма. Его разрушительная деятельность расчищает почву для построения или, вернее, возрождения того объективного философского знания, стремление к которому человеческой мысли никогда не может прекратиться, ибо вытекает из самой природы мысли, как таковой.
1
Странным образом такое же возражение было сделано и против моего сочинения: «Предмет познания. Введение в транс. философию», 2 изд., 1904 г., хотя оно начинается словами: «К понятию познания принадлежит, кроме субъекта, который познает, предмет, который познается» и хотя на стр. 140 имеется следующая фраза: «Вопрос, существует ли вообще истина, невозможен даже в начале теории познания, хотя бы как ее предварительный отправной пункт».
(обратно)2
Это замечание не относится, конечно, к такому мыслителю, как Липпс. Липпс называет психологией все, что каким-либо образом касается духовной жизни, но резко различает в этой «психологии» логику от психологии в узком смысле. Тогда спорный вопрос превращается в вопрос терминологии.
(обратно)3
Я сожалею, что нахожу в их среде такого заслуженного ученого, как В. Джемс. Им, к сожалению, исчерпан уже весь запас юмора при защите его прагматизма. – Он называет (я цитирую по немецкому переводу) мои мысли «невыразимой тривиальностью» и «фантастическим полетом идей» – два обозначения, соединимые только в логике прагматизма. Кроме того, он говорит, что оспаривать моего текста он не может, но, несмотря на это, утверждает, что «мое доказательство в этой главе настолько слабо, что прямо удивляешься тому, как мог воспользоваться им автор, вообще говоря, столь способный». Я нашел бы подобные суждения весьма странными даже у автора, который верит в абсолютное различие истинного и ложного, у которого, следовательно, они были бы более чем выражением индивидуальной точки зрения. Но в устах человека, который этого различия не признает, они не что иное, как личная неучтивость, которая даже не может принести никакой «пользы».
(обратно)4
То, на что я здесь вкратце намекаю, подробно изложено в моей книге: «Границы естественнонаучного образов, понятий. Логическое введение в исторические науки». 1896– 1902 г.
(обратно)5
Этот путь я избрал в своем труде «Предмет познания» 1892 г., и мне придется из него кое-что вкратце повторить здесь. Но при этом я ограничиваюсь его первым изданием. Вторичная его обработка уже принимает во внимание в понятии смысла точку зрения, указывающую на второй путь, которая будет рассмотрена в ближайшей главе.
(обратно)6
Th. Lipps, Philosophie und Wirklichkeit, 1908, стр. 27. Родственные этим мысли в натурфилософии того же автора (Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, 2. Aufl. 1907, S. 67) и в некоторых других его сочинениях. Я хотел бы заметить, что тонкое и глубокое остроумие этого гносеологического построения чрезвычайно ценно. – Но именно поэтому я не должен затемнять выдвинутой в текст противоположности. Согласие с Липпсом ограничивается здесь, как и в других вопросах, более выражениями, нежели сущностью дела, и в интересах науки следует отметить не только общее, но и различия. Только таким образом проблемы могут быть выявлены.
(обратно)7
Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, § 13: «Кто, научая мысль (das Gedachte) и связывая с нею трудности, перескакивает к рассуждению об акте мышления, тот покидает свой предмет, которого ему следовало бы привыкнуть держаться». Далее срв. § 34 и другие места в сочинениях Гербарта. Я не могу здесь дать перечисление и оценку авторов, работавших над выяснением этого различия до и после Гербарта. На первом месте следовало бы назвать Bolzano. Насколько мне известно, он первый провел это различие с большей силой и вполне систематической последовательностью. Его Wissenschaftslehre (1837) долгое время было, можно сказать, совершенно неизвестно вне Австрии; к тому же писатели, бывшие под влиянием Bolzano, находились, кроме того, под таким сильным гнетом своеобразного схоластически окрашенного психологизма Brentano, что именно наиболее значительные мысли Bolzano, так же сильно окутанные схоластикой, остались совсем незамеченными. Лишь Husserl, самый своеобразный и вместе с тем глубокий последователь мыслей Bolzano (наряду с его «Логическими исследованиями» следовало бы еще назвать «Gegenstandstheorie» Мейнонга), первый содействовал тому, что Wissenschaftslehre снова многими стало читаться. К сожалению, книгу эту очень трудно достать. Я поэтому познакомился с нею только в прошлом году, когда излагаемый ниже ход мыслей уже был мною найден. Размежевание с Bolzano и с Гуссерлем, который, впрочем, не совсем освободился ни от психологизма, ни от схоластики Брентано, завело бы нас здесь слишком далеко. Как далеко идет наше согласие с обоими этими мыслителями, сведущий читатель сам тотчас же заметит. Все же, по тем же основаниям, что и при ссылке на Липпса, я хотел бы вкратце указать на принципиальную противоположность. Прежде всего я полагаю, что последовательное разделение логики и психологии только еще резче должно выявить оспариваемый Husserl'ем характер логики, как науки о теоретических ценностях. Полемика Гуссерля против Зигварта, в которой очень много правильного, нельзя считать здесь последним словом. Это находится в связи с тем самым пунктом, в котором уже выводы Гербарта кажутся мне сомнительными. Последний называет образования, которые не суть «ни реальные предметы, ни действительные акты мышления», понятиями, разумея под ними значения отдельных слов. Со значения слов начинают и Bolzano, и Husserl. В тексте я пытаюсь показать, почему для того, чтобы схватить сущность логического, в основу должно быть положено значимое предложений. К критике Гуссерля срав. также R. Kronner «Über logische und ästhetische Allgemeingültigkeit». 1908.
(обратно)8
В рассмотрение образований, каковы отрицательные числа, или величины, мы здесь, конечно, не входим. В них понятие отрицания имеет совершенно иное значение. Для ориентирования в этом вопросе может служить сочинение Канта: Versuch, den Begriff der negativen Grössen in die Weltweisheit einzuführen.
(обратно)9
Из вполне понятных оснований я не могу решиться на терминологию, которая под бессмыслицей (Unsinn) понимает лишь безразличное смыслу, и только «противное смыслу» (Widersinn) употребляет для обозначения того, что враждебно смыслу. – Мне кажется, такая терминология прикрывает тот характер ценности, который имеет понятие смысла. Мне нет здесь нужды входить в рассмотрение вопроса о различии бессмысленного и противного смыслу. Достаточно, что оба они обозначают логическую не-ценность (Unwert).
(обратно)10
В особой книге об основных проблемах логики я намерен изложить основные начала намеченной здесь науки и их систематическую связь.
(обратно)11
«Существует ли “примат практического разума» в логике?”, доклад на III международном конгрессе философии в Гейдельберге, 1908 г.
(обратно)12
«Логические исследования», рус. пер. под. ред. С. Франка, стр. 24– 41. 1909 г.
(обратно)13
Срав. мою статью: Psychophysische Kausalität und psychophysiologischer Parallelismus. 1900. («Психофизическая причинность и психофизический параллелизм». «Новые идеи в философии», сб. VIII).
(обратно)14
«How to make our ideas clear», Popular Science Monthly, Январь 1878. По-французски в Revue philosophique, 1879, стр. 39– 57. Ср. его же в Revue philosophique, 1878, стр. 553 – 569: Comment se fixe la croyance. Обе статьи объединены общим заголовком: La logique de la science.
(обратно)15
Об отношении между философией Бергсона и прагматизмом см. предисловие С. Гессена к русскому переводу книги Бергсона «Время и свобода воли». М. 1911, изд. «Русск. Мысль».
(обратно)16
О ней в русск. литературе см. статью П. В. Мокиевского «Прагматизм в философии» (Русск. Богатство, 1910, № 5 и 6) и Я. А. Бермана. «Сущность прагматизма». М. 1911, гл. 2.
(обратно)17
Об отношении между логикой и психологией см. в особенности Шиллер, Studies in Humanism, Essay III: the relations of logic and psychology.
(обратно)18
Studies in Humanism, p. 3.
(обратно)19
Джемс, Прагматизм, русск. пер. I изд. 1910, стр. 123, 130.
(обратно)20
Джемс, The meaning of Truth, 1901, стр. 11 и сл.
(обратно)21
Джемс, Прагматизм, стр. 123– 124.
(обратно)22
Марсель Эбер, Прагматизм, русск. пер. под ред. М. Лихарева, Спб. 1911, стр. 19.
(обратно)23
Джемс, Прагматизм, стр. 165 и сл.
(обратно)24
Meaning of Truth, предисловие.
(обратно)25
Прагматизм, стр. 130, 131 и в др. местах.
(обратно)26
Джемс и здесь противоречит самому себе признанием особого класса «вечных истин»; о них сейчас же ниже.
(обратно)27
Studies in Humanism, Essay II: From Plato to Protagoras и Essay XIV: Protagoras the Humanist. Русский прагматист Я. А. Берман справедливо указывает, что инициатива уяснения этой исторической преемственности принадлежит игнорируемому английскими прагматистами Laas'y, в его книге «Positivismus und Idealismus». Берман, Прагматизм, стр. 5.
(обратно)28
Schiller, Axioms as Postulates, в сборнике «Personal Idealism, by Henri Sturt». 1902.
(обратно)29
Прагматизм, стр. 132. Если, однако, тот же Джемс признает содержанием действительности не только опытные данные, но и «вечные истины», т. е. логически необходимые связи между понятиями (ibid., стр. 128 и сл., стр. 149 и сл.) и полагает, что и в этой сфере «убеждения носят абсолютный, безусловный характер», то он противоречит не только своему собственному, приведенному в тексте суждению, как и суждению Шиллера о природе математических и логических истин, но и самому существу прагматизма, который всем отвлеченным идеям и образуемым из них суждениям приписывает лишь служебный характер. Из того, что к этим двум содержаниям «действительности» Джемс далее присоединяет, в качестве третьего элемента, все старые и распространенные мнения (каково бы ни было их содержание), в относительности которых он сам убежден, ясно, что он смешивает здесь два разнородных понятия «действительности» (действительность, как непосредственное опытное содержание, и действительность, как обозначение идеала знания, или как предмет веры), в строжайшем различении которых заключается смысл прагматизма.
(обратно)30
John Dewey. Studies in logical theory. Chicago 1903. The experimental theory of knowledge, Mind 1906. Reality and the criterion for truth of ideas, Mind 1907. The Control of Ideas by Facts (Journ. of Philosophy, 1907) What pragmatism means by practical (ibid. 1908). Objects, Data and Existence (ibid. 1909). How we think. London 1910.
(обратно)31
Подробности см. в русской литературе в указанных выше работах П. В. Мокиевского и Я. А. Бермана.
(обратно)32
По справедливому указанию Виндельбанда, английский термин «humanism», собственно, совершенно неточно передается словом «гуманизм», в котором обычно мыслится указание главным образом, на духовные и общечеловеческие ценности. «Humanism» есть, точнее, «гоминизм», – термин, производный от биологического понятия homo sapiens.
(обратно)33
Назначение человека, русск. пер. стр. 84.
(обратно)34
Генетическая связь прагматизма с кантианством молоть быть усмотрена, во-первых, в том, что основатель прагматизма, Пирс, считает себя учеником Канта и даже заимствовал от Канта самое обозначение своего учения, и, во-вторых, в том, что прагматизм, как указывает Джемс, есть развитие теории естествознания Маха и его школы, Мах же, по собственному признанию, пришел к своему учению под впечатлением гносеологии Канта.
(обратно)35
В этом пункте прагматизм соприкасается с замыслом философии Бергсона. В связи с этим надлежит, однако, указать, что «интуитивизм» Бергсона есть нечто совсем иное, чем простой номинализм. Бергсон противопоставляет отвлеченному знанию не конкретную чувственную реальность, а текучее содержание целостного сознания, и отвлеченному понятию ставит в вину не его «идеальность», а его упрощенность, грубость, недостаточность. Оставляя в сторон фактическое строение системы Бергсона, можно сказать, что по своим выводам этот «интуитивизм» и номиналистический эмпиризм должны чрезвычайно резко расходиться.
(обратно)


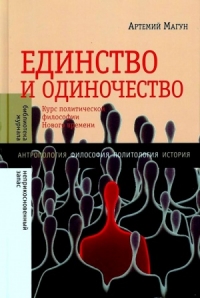

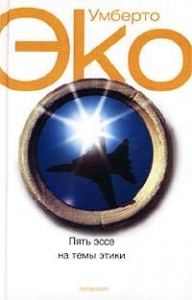
Комментарии к книге «Новые идеи в философии. Сборник номер 7», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев