MAX PICARD
DIE WELT DES SCHWEIGENS
(1948)
МАКС ПИКАРД
МИР ТИШИНЫ
(перевод с английского и немецкого - Владимир Данылив)
ГАБРИЕЛЬ МАРСЕЛЬ. ПРЕДИСЛОВИЕ
Разрешите признаться? Когда я впервые прочёл книгу Макса Пикара "Мир Тишины", то был сбит с толку. Повсюду в своей книге Пикар говорит о тишине - и говорит настойчиво и почтительно. Сначала мне трудно было поверить, что упоминаемая им тишина есть нечто позитивное, а не просто недостаток чего-либо. Однако, сегодня это уже не так: мне кажется, что книга Пикара затрагивает те же, или почти те же, струны моей души, что были затронуты в нём, когда он задумывал её. Дело в том, что за прошедший год я и сам непосредственно и ясно осознал наличие тайны, имплицитно присущей словам как таковым. Ко мне пришло понимание ценности онтологии - или иначе философии бытия - человеческого языка; и этим пониманием я обязан нескольким страницам Хайдеггера, на которых он подытожил свои размышления, навеянные чтением Гёльдерлина и Рильке. Я задумался над его утверждением в "Письме о гумманизме": "Язык - это дом бытия": такое утверждение сложно перевести на язык абстрактных понятий, но несомненно оно выражает чрезвычайно глубокую интуицию. И, как бы это не казалось парадоксально, лишь исходя из понимания значимости и реальности языка на уровне философии бытия - значимости не только языка, но и слова как такового - нам может открыться то, что имеет ввиду в своей книге Макс Пикар, говоря о тишине.
Конечно, с точки зрения враждебно настроенного критика - или, иными словами, с точки зрения эмпирической и эволюционной традиции, уходящей корнями в минувшее столетие, или даже ещё глубже - в философию XVIII века перцепционизма и ассоциационизма - метафизика тишины Пикара лишена всякого смысла, она попросту абсурдна. Ибо для эмпирической философии слово как таковое есть лишь разновидность знака. Но давайте вспомним великого Вильгельма фон Гумбольдта, который убедительно установил, что язык нельзя свести к всего лишь системе знаков, когда заявил, что, по его мнению, к языку следует относиться как к благу, дарованному человеческому существу как таковому. Если признать эту позицию Гумбольдта, то немедленно приходит понимание - или, по крайней мере, ощущение - уместности рассуждений о слове как таковом, исходящем из полноты тишины: и каким образом эта полнота тишины наделяет слово его законной силой. Макс Пикар, к примеру, говорит нам, что, когда беседуют два человеческих существа, всегда присутствует и третий - Тишина. Однако подобное утверждение постижимо умом, лишь когда мы различаем речь, в её подлинном смысле, и просто толки. Когда два человека всего лишь толкуют, то нет больше и третьего слушателя, или - слушающей тишины, возможно потому, что в обмене словами участвует уже не реальный человек, а нечто автоматоподобное. Более того, и это Хайдеггер также сумел ясно разглядеть, речь сегодня всё большей мере склонна вырождаться в толки - то, что он называет Gerede. И, принимая это во внимание, становится всё сложнее распознать ценность тишины: её онтологическое свойство, её глубину бытия или глубину в бытии.
В работе Пикара читатель сможет найти полный набор рассуждений на такие темы, как взаимосвязь тишины и любви, тишины и веры, тишины и поэзии - рассуждения, предоставляющие конкретные подходы к ставшей сегодня столь труднодоступной реальности. И она настолько труднодоступна, насколько мы утратили понимание смысла "созерцания" - да и само слово "созерцание" для многих современников стало мёртвым. И здесь было бы уместно процитировать поразительные замечания в адрес непостоянства сегодняшнего существования, приведённые Пикаром в другой своей книге "Гитлер и мы".
В некотором смысле тишина - и особенно тишина созерцания - объединяет между собой прошлое, настоящее и будущее. Любовь, с другой стороны, находит собственное выражение в тишине в большей степени, чем в речи; и сам этот факт позволяет понять насколько люди, влюблённые друг в друга, возносятся выше простой временности. Дары предчувствия и ясновидения, которыми порой наделены возлюбленные, уходят своими корнями именно в эту надвременность тишины.
Можно пойти ещё дальше; именно в тишине возникает возможность отыскать ту естественную почву, на которой вера смогла бы дать свои ростки, или те изначальные основания, на которых она смогла бы обрести себе опору. Тишина в качестве буфера вклинивается между беззвучным событием Воплощения и человеческим существом, и, таким образом, приближаясь к Богу, человек приближается к окутывающей Его тишине. Как точно подметил Макс Пикар, то, что таинство Веры всегда покрыто аурой тишины, свидетельствует о любви Бога. Мне кажется, что принимая за отправную точку подобный опыт - опыт, в значительной степени общий как для прекрасного, так и для священного - мы сможем глубже постичь суть послания Макса Пикара. Но, с другой стороны, наш мир становится всё более секуляризированным. И чем больше он страдает от кощунства и святотатства - слова, которые сейчас, когда больше ничто не свято, перестали означать что-либо, - тем выше риск, что эта книга останется непонятой, риск того, что нечуткий читатель сведёт её к набору бессмысленных конструкций из пустопорожних слов.
Было бы любопытно сравнить книгу Пикара со знаменитым пассажем о тишине от Меттерлинка - если мне не изменяет память, - и одна из причин этого в том, что, на мой взгляд, Меттерлинк никогда не был настоящим мыслителем. Он скорее являлся типичным литератором, без конца блуждающим вокруг мысли, суть которой так и не удосужился ясно выразить; мысли, которая в действительности утратила бы для него ореол таинственности, раскройся она до конца. Случай же Пикара совершенно иной: мало сегодня людей, способных мыслить столь сконцентрировано, как он; однако следует отметить, что его мышление это не то, что движется от предпосылки к заключению, но скорее, если так можно выразиться, видящее мышление. Так и хочется определить мысль Пикара техническим термином, знакомым по работам Канта и его последователей: это почти что «интеллектуальная интуиция». Но выражение «интеллектуальная интуиция», возможно, чересчур отдаёт доктринами философского идеализма, которые в данном контексте вряд ли уместны. Я не уверен в этом, поскольку поздние разработки Шеллинга, великого немецкого мыслителя-идеалиста, лишены каких-либо глубоких и явных параллелей с идеями как Макса Пикара, так и многих других современных метафизиков, отказавшихся от гегельянской одержимости системопостроений.
Следует отметить также, что современный философ - если это не просто профессиональный, академический философ - склонен к дрейфу в сторону поэзии. Происходящее вокруг нас можно сравнить со всплытием Атлантиды из морских глубин. На этом вновь возникшем континенте заново обретается единство мысли и поэзии как таковых, и совершенно ясно, что работа Макса Пикара по праву принадлежит этой новой Атлантиде. Очевидна, правда, некоторая путаница, которой нам следовало бы избежать здесь. Макс Пикар - христианин, он - римокатолик. Оттого струны души, задетые в этой книге, отличны от тех, которых коснулся Хайдеггер или даже Рильке: мне кажется, что Пикар восхищен "Дуинскими эллегиями", но со многими оговорками.
Не опасаясь самообмана, можно, по крайней мере, утверждать следующее. Все медитативные усилия Макса Пикара обращены к чему-то вроде полноты бытия, а такой полноте сегодня угрожает не только технический прогресс, но и воля к власти тех, для кого техника - это всего лишь сумма слепых инструментов; они рискуют стать свидетелями того, как эти слепые инструменты, превращаются в хозяев - слепых хозяев, конечно же - тех, кому они должны были бы служить. Не стоит недооценивать всей серьёзности подобных предупреждений, но следует подчеркнуть, что в позиции Пикара нет и намёка на нигилистический пессимизм. Его предупреждения, в полном смысле этого слова, суть пророчества, и сам он – пророк в том смысле, в каком пророками являются Пеги и Bloy. Провидческие слова его берут свой исток в эсхатологическом сознании - из знания о последних вещах, о смерти, о суде, о рае и аде. Замечательно, тем не менее, то, что при всём этом тональность его книги остаётся чудесно умиротворённой. Тишина, столь превозносимая им в своей книге, есть ни что иное, как тишина «покоя, превосходящего всякое понимание».
Габриель Марсель
ЭРНСТУ ВАЙХЕРТУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
LINGUA FUNDAMENTUM SANCTI SILENTII
Надпись на алтаре в костёле Марии Кульм (Chlum Svaté Maří, Чехия)
(из дневников Гёте)
ВВЕДЕНИЕ
Тишина это не просто то, что случится, стоит нам замолчать. Это больше, нежели просто негативное отвержение языка; это больше, чем просто состояние, которого мы можем достигнуть по собственной воле.
Когда замолкает язык, наступает затишье. Но наступает оно не оттого, что замолкла речь. Просто отсутствие речи делает более явным присутствие тишины. Тишина – это самостоятельный феномен. Следовательно, она не равнозначна временному прекращению языка. Это не просто негативное состояние, воцаряющееся за устранением позитивного; скорее это независимое целое, существующее в себе и посредством себя. Она созидательна так же, как созидателен язык; и она конститутивна для человеческих существ так же, как конститутивен язык, хотя не в той же степени.
Тишина принадлежит к основной структуре человека. Это книга, однако, не задумывалась для того, чтобы привести читателя к некой «философии тишины» или подтолкнуть его к презрению языка. Не тишина, но язык делает человека таковым. Слово превосходит тишину.
Но язык беднеет без связи с тишиной. Поэтому наша задача - раскрыть мир тишины, тот мир, что так тускло освещён в эти дни - и не ради тишины, но ради самого языка.
Может показаться удивительным, что о тишине получается поведать лишь посредством языка - но только при условии, что тишина воспринимается как нечто полностью негативное. Тишина же, напротив, позитивна, это реальность, а для суждения о реальности необходим язык, у которого есть соответствующая сила для этого.
Язык и тишина взаимосвязаны между собой: язык ведает о тишине, а тишина ведает о языке.
ПРИРОДА ТИШИНЫ
1
Тишина не есть нечто негативное; это не просто отсутствие речи. Она позитивна, она – целый мир в себе.
Тишина обладает величием, просто потому, что она им обладает. Она присутствует, и в этом её величие, её чистое существование.
Тишине нет ни начала, ни конца: похоже, она берёт свои истоки из тех времен, когда всё было ещё чистым Бытием.
Когда воцаряется тишина, то словно и нет ничего другого.Там где присутствует тишина, тишина зрит человека. Она всматривается в человека пристальнее, чем человек всматривается в неё. Не человек испытывает тишину, но тишина испытывает человека.
Невозможно себе представить мир, в котором нет ничего кроме языка и речи, но возможно представить мир, где нет ничего кроме тишины.
Тишина содержит в себе всё. Она ничего не ждёт; она всегда присутствует целиком в себе и полностью заполняет пространство, в котором она появляется.
Не она развивается и расширяется во времени, но время разрастается в тишине. Это так, как будто время рассеяно в тишине, как будто тишина впитала его; как будто тишина – это почва, в которой время разрастается до своей полноты.
Тишина незрима, но всё же её существование очевидно. Она распростёрлась на дальние расстояния, и при этом настолько близка к нам, что мы можем ощущать её так же явственно, как собственные тела. Она неосязаема, но всё же мы ощущаем её так же, как ощущаем материалы и ткани. Её не определить в словах, но всё же она вполне определённа и безошибочно различаема.
Ни в каком ином феномене отдалённость и близость, размах и непосредственность, целое и частное не объединены так, как в тишине.
2
Тишина является единственным на сегодня «бесполезным» феноменом. Она не вписывается в мир пользы и выгоды; она просто есть. Похоже, у неё нет никакого иного назначения, она недоступна для эксплуатации.
Все прочие великие феномены оказались приручены миром пользы и выгоды. Даже пространство между небом и землёй стало всего лишь средой для воздухоплавания летательных аппаратов. Вода и огонь поглощены миром наживы; их замечают лишь в той мере, в какой они являются частью этого мира: они утратили своё независимое существование.
Тишина же, однако, стоит в стороне от мира пользы и выгоды; на ней не нажиться; из неё вовсе ничего нельзя извлечь. Она "непродуктивна". Поэтому к ней относятся как к бесполезной.
Но вместе с тем действие тишины утешительнее и целительнее, чем действие всего «полезного». Лишённая назначения, не поддающаяся никакой эксплуатации тишина внезапно возникает в краю всего-чрезмерно-полезного и пугает нас самой своей бесполезностью. Она сталкивается с потоком полезного. Она укрепляет неприкасаемое и уменьшает вред наносимый эксплуатацией. Она вновь делает вещи целостными, унося их из мира рассеяния в мир целостности. Она придаёт вещам нечто от своей священной бесполезности, ибо это как раз то, чем она и является: священной бесполезностью.
3
«Прежде всего оставить нужно нетронутою девственную почву, божественно созданную по безупречному закону» (Гёльдерлин)
Здесь, в тиши, пребывает Священная Пустыня, поскольку сама пустыня и образ Божий суть одно. Движения тут не подчиняются законам: существование и действие в тишине суть одно и то же. Это так, как если бы движение некой звезды внезапно сконцентрировалась в одинокий луч света: так же единство существования и действия сконцентрировано в тишине.
Тишина придаёт пребывающим в ней вещам нечто от мощи собственного автономного бытия. Автономное бытие в вещах усилено в тишине. Развёртывающееся и эксплуатируемое в вещах исчезает, когда они пребывают в тишине.
Силою автономного бытия тишина указывает на состояние, в котором действительно только собственно бытие: это состояние Божественного. Печать Божественного на вещах сохраняется посредством их связи с миром тишины.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН ТИШИНЫ
Тишина – фундаментальный феномен. Это означает, что она - первичная, объективная действительность, которую нельзя свести к чему-либо ещё. Кроме Самого Творца, за ней не стоит ничего, имеющего отношения к ней.
Тишина изначальна и самоочевидна, как и всякий другой фундаментальный феномен: как любовь и привязанность, как жизнь и смерть. Но она существовала до них и присуща каждому из них. Тишина – перворожденный фундаментальный феномен. Она охватывает прочие фундаментальные феномены: любовь, привязанность, смерть; и в них больше тишины, чем речи; больше невидимого, чем видимого. В человеке скрыто больше безмолвия, чем он может использовать за всю свою жизнь. Вот почему всякое человеческое высказывание окружено тайной. Тишина в человеке выходит за рамки одной только человеческой жизни. В такой тиши человек связан со своими прошлыми и будущими поколениями.
Фундаментальные феномены как таковые возвращают нас к истоку вещей; мы же затерялись в том, что Гёте называл "производными феноменами", среди которых мы обычно и живём. И это похоже на смерть, ибо в тишине мы остаёмся один на один сами с собой, представ перед лицом нового начала и оттого не на шутку пугаемся. "Когда нашему восприятию открываются первичные феномены, мы испытываем нечто вроде робости или даже страха", говорит Гёте. Следовательно, в тишине человек вновь предстаёт перед истинным началом всех вещей: всё может начаться снова, может быть воссоздано заново. В любой миг посредством тишины человек может оказаться у истоков всего. В союзе с тишиной, он не только приобщается к истинной сущности тишины, но и к истинной сущности всех вещей. Тишина - единственный фундаментальный феномен, что всегда с человеком. Ни один другой фундаментальный феномен не присутствует в любой момент столь полно, как присутствует тишина.
Сексуальное - это ещё один фундаментальный феномен, всегда находящийся в человеческом распоряжении. А поскольку в наши дни фундаментальный феномен тишины оказался в прискорбном состоянии, то человек попал под сильное влияние сексуального; он перестал замечать, что безудержная сексуальность потеряла всякую меру и принимает теперь извращённые формы, выходя за границы своего должного места среди прочих фундаментальных феноменов.
Тишина напоминает некое древнее, забытое животное, чья широкая спина всё глубже утопает в колючих зарослях мира шума, словно эта доисторическая тварь постепенно погружается в глубины своей собственной тишины. Но порой, однако, весь шум нынешнего мира представляется не более чем жужжание насекомых на этой широкой спине тишины.
ТИШИНА КАК ИСТОЧНИК РЕЧИ
1
Речь возникла из тишины - из полноты тишины. Полнота тишины должна была бы разорваться в клочья, не найди она способа вытекать в речь.
Явившаяся из тишины речь оправдана предшествовавшей ей тишиной. Дух узаконивает речь, но именно тишина, предшествовавшая речи - это беременная мать, разрешившаяся речью при созидательном содействии духа. И символ этого созидательного содействия духа - тишина, предшествовавшая речи.
Когда бы не заговорил человек, каждый раз слово его появляется из тишины.
Оно является так самоочевидно и ненавязчиво, словно речь - это всего лишь оборотная сторона тишины, словно тишина просто совершила оборот вокруг себя. И в самом деле, речь - это оборотная сторона тишины, так же как и тишина - оборотная сторона речи.
В каждом слове есть нечто от тишины, что свидетельствует о ней, как об истоке речи. И во всякой тишине есть нечто от высказанного слова, как свидетельство мощи тишины, способной творить речь.
Поэтому речь сущностно связана с тишиной.
Лишь говоря с другим, человек удостоверяется в том, что речь более не принадлежит тишине, но - человеку. Он познаёт это через Ты другого, ибо лишь через Ты слово впервые начинает принадлежать человеку, а не тишине. И всё же, когда двое общаются друг с другом, то всегда присутствует и третий: слушающая тишина. Вот, что придаёт широту общению: слова движутся не в узком пространстве, занятом двумя собеседниками, но приходят издалека, из того места, где слушает тишина. И это придаёт словам новую полноту. Но и не только это: слова выговариваются так, словно они - возникают из тишины, из этого третьего, и потому слушателю открывается большее, нежели сам говорящий способен поведать. В таком разговоре тишина - это третий собеседник. В конце платоновских диалогов всегда вещает сама тишина. Те же, кто говорил, оказываются её слушателями.
2
Было сказано, что, когда Бог сотворил человека, Он говорил с ним: как если бы человек ещё не осмеливался произнести слово, не осмеливался обладать словом; как если бы Бог, говоря с человеком, хотел приучить его привычке распоряжаться словами.
"Если мы вспомним о красоте, мощи и многообразии языка, раскинувшегося по всей земле, то мы увидим в нём что-то почти нечеловеческое; что-то, что не похоже на исходящее из человека; что-то, чьё совершенство человек на самом деле лишь испортил и извратил" (Якоб Гримм)
Источник языка непостижим, как и источник всего сотворённого, поскольку он берёт свой исток в совершенной любви Творца. Только постоянно пребывая в совершенной любви, человек может познать источник языка и всего тварного.
3
Ясно выраженное и чётко оформленное слово возникает из неотчётливой, широко раскинувшейся области первобытной тишины.
Тишина раскрывает себя в тысяче невыразимых форм: в тиши рассвета, в молчаливом вознесении деревьев к небу, в незаметном наступлении ночи, в тихой смене времён года, в падающем лунном свете, сочащемся в ночи подобно дождю тишины; но более всего - в тихости устремлённой внутрь души. Все эти формы тишины безымянны: тем яснее и увереннее возникающее из неё слово, контрастирующее с безымянной тишиной.
Нет естественного мира шире, чем естественный мир тишины; нет духовного мира шире, чем духовный мир языка, сотворённого миром тишины.
Тишина - это мир в себе, и на примере этого мира тишины речь узнаёт, как следует обосновываться в этом мире; мир тишины и мир речи противопоставлены друг другу. Поэтому-то речь противопоставляет себя тишине, однако не как враг: она всего лишь другая - оборотная - сторона тишины. Прислушавшись, можно различить тишину, звучащую в речи. Настоящая речь в действительности есть ни что иное как отзвук тишины.
4
Звучание музыки, в отличие от звучания слова, не противостоит, но скорее сонаправленно с тишиной.
Звуки музыки словно проносятся над поверхностью тишины.
Музыка - это зазвучавшая тишина, погружённая в собственные грёзы. Звонче всего звучит тишина именно в тот момент, когда замирают последние звуки музыки.
Широко раскинулась музыка; она способна охватить собою весь мир. Правда, этого не случается, ибо музыка охватывает мир медленно, стыдливо, ритмично, всегда возвращаясь к одним и тем же основным мелодиям, и потому может показаться, что музыка вовсе никуда не уносилась, что музыка была повсюду и одновременно в определённом ограниченном месте. В музыке отдалённость и близость пространства, безграничное и ограниченное соприсутствуют в благородном единстве, подкрепляющим душу утешением и благоговением. Вот почему музыка так успокаивающе действует на беспокойных людей: душа обретает умиротворение в музыке - здесь ей нечего опасаться.
5
Язык - это не просто один мир, приложенный к другому. Ему присуща своя полнота, выходящая за рамки целесообразности: в языке сокрыто больше, чем это необходимо для простого понимания и осведомления.
Конечно, язык принадлежит человеку, однако он так же принадлежит и самому себе. В нём заложено больше боли, радости или печали, чем человек способен извлечь из себя. Язык словно придерживает для себя необходимое ему количество боли, скорби, радости или восторга.
Язык порой творит поэзию по собственной воле и для себя самого.
6
Тишина способна прожить без речи, но речь не может обойтись без тишины. Лишившись её фона, слово теряет свою глубину. Тем не менее, тишина сама по себе не превосходит речь, но наоборот, мир тишины без речи - это мир до сотворения, мир неоконченного творения, мир грозный и опасный для человека. Лишь с появлением из тишины речи, тишина преображается из состояния, предшествовавшего творению, до состояния творения, из доисторического - в историю человека, вступает в близкую связь с человеком, становясь частью человека и законной частью речи. Но речь превосходит тишину, потому что именно речь, а не тишина, впервые конкретно выражает истину.
С помощью речи человек впервые становится человеком:
Случайность ли, что греки определяли существо человека как ζωον λογον ξχων? Позднейшее толкование этой дефиниции человека в смысле animal rationale, «разумное живое существо», правда не «ложно», но оно скрывает феноменальную почву, из которой извлечена эта дефиниция присутствия. "Человек кажет себя как сущее, которое говорит." (Хайдеггер)
Тишина осуществлена, лишь когда речь выступает из тишины. Речь придаёт ей значение и честь. Посредством речи тишина - это дикое, дочеловеческое животное - превращается в нечто прирученное и человеческое.
Наружная сторона речи такова: она подобна твёрдым кускам лавы, изверженным на поверхность тишины, разбросанным вокруг и соединённым между собой этой же поверхностью.
И так же, как масса воды больше массы суши, так же и тишина массивнее речи. Но так же, как в суше сконцентрировано больше бытия, чем в море, так и речь могущественнее тишины, ибо в ней скрыта большая интенсивность бытия.
7
Тишина вплетена в саму текстуру человеческого естества, но она лишь основание, на котором возникает нечто более высокое.
Для человеческого ума тишина - это знание о Deus absconditus, скрытом боге.
Для человеческого духа тишина - это тихая гармония с вещами и слышимая гармония музыки.
Для человеческого тела тишина - это родник красоты.
Но так же, как красота больше, чем физическое тело, музыка больше, чем неслышное основание духа, открывшийся Бог больше, чем Deus Аbsconditus, так же и речь больше, чем тишина.
8
По собственной воле человек никогда не смог бы произвести речь из тишины. Речь настолько совершенно отлична от тишины, что человеку самому никогда не удалось бы совершить скачок из одной в другую.
То, что два таких противоположных феномена, как тишина и речь, оказались так тесно взаимосвязаны друг с другом, никогда не могло быть достигнуто только человеком, но лишь при участии Самого Бога. Смежность тишины и речи есть свидетельство Божественного блеска, в котором они безупречным образом соединены.
Речь была просто обязана возникнуть из тишины. С тех самых пор, когда из уст Христа до людей снизошло Слово Божье, его "тихий, негромкий голос", для них отныне и навеки открылся путь превращения тишины в речь. Слово, явленное две тысячи лет назад, шло к человеку испокон веку, а значит, испокон веку между тишиной и речью зияла брешь. Событие же двухтысячелетней давности оказалось настолько чудесным, что речь сумела прорвать существовавшую с незапамятных времён тишину. Незадолго до того, как это случилось, тишина дрогнула и раскололась надвое.
ТИШИНА, ЯЗЫК И ИСТИНА
1
Язык превосходит тишину, поскольку в нём оглашается истина. Тишине также присуща истина, но она не так характерна для тишины, как для языка, в котором она обитает. Истина присутствует в тишине лишь постольку, поскольку тишина принимает участие в истине, т.е. в порядке бытия вообще. Пребывая в тишине, истина пассивна и бездеятельна; в языке же она бдительно-бодрствующа, т.к. именно в языке принимаются активные решения на основании истинности или ложности.
Сам по себе, по своей природе, язык сиюминутен - он словно недолгая пауза, возникшая в долговременности тишины. И именно истина одаряет язык долговременностью, позволяя ему таким образом стать самостоятельным миром; истина, заключённая в непреходящести языка, придаёт ему качество долговременности. Породившее язык безмолвие отныне преображено в окутанную тайной истину.
Без истины язык был бы не более чем общим туманом из парящих над тишиной слов; без истины он превратился бы в невнятное бормотание. Именно она делает язык ясным и устойчивым. Грань, разделяющая истину и ложь, есть та самая опора, которая удерживает язык от падения. Истина - это подмости, дающие ему точку опоры в тишине. Как мы уже сказали, язык стал самостоятельным миром - миром, не только оставившим за своей спиной мир тишины, но и миром, распоряжающимся миром истины на своё собственное усмотрение.
Однако слово истины вынуждено оставаться в согласии с тишиной, иначе истина была бы слишком грубой и жёсткой. Тогда казалось бы, что существует лишь одна единственная истина, поскольку строгость отдельно взятой истины подразумевала бы отрицание её взаимосвязанности со всеми прочими истинами. Важнейшим свойством истины является её связь с другими истинами во всеохватывающем контексте.
Близость тишины подразумевает также близость прощения и близость любви, ибо тишина составляет естественную основу для прощения и любви. Наличие этого естественного основания крайне важно, ибо в таком случае прощение и любовь уже не нуждаются в дополнительном создании среды для своего появления.
2
"Нет никакой истины" - сказал один другому. Тот возразил: "Но сам-то ты считаешь истинным, что истины нет".
Сила логики, представленной в этом утверждении, указывает, как посредством изначально присущей языку логичности истина способна автоматически находить своё выражение в языке. Сама структура языка обеспечивает человека истиной: истина накладывает на него свой отпечаток до того, как он пускается на её поиски.
И это ещё одно свидетельство того, что человек не изобрёл язык сам, но получил его в дар от Существа, являющегося Истиной самим по себе.
Сама структура языка отражает провозглашённую в нём истину. Следовательно, всякая вещь стремится обрести в языке своё выражение, поскольку язык позволяет ей найти в нём собственное воплощение и тогда при содействии истины она возносится на более высокий уровень. Путь от тишины к языку - к истине в слове - идёт вниз под уклон и сила тяжести выталкивает истину по наклонной из языка в сторону активной жизни мира.
В логичности языка истина присутствует в качестве объективной реальности, и данная объективная реальность обращает человека к чему-то, что находится вне него - к объективному вообще. Говоря, человек встречается с определённостью объективно данной истины.
В силу объективности языка, в нём заложено больше, чем индивид (т.е. субъект) способен почерпнуть из него - гораздо больше, чем это нужно индивиду. В языке столько объективной реальности, что она будет длиться до конца человеческой истории и даже после её завершения.
В виду своей объективности язык часто выражает больше, чем говорящий намерен открыть, и, следовательно, часто из языка человек может узнать больше, чем сам задумал.
Язык возвышает человека, потому что он превосходит человека.
Человек так устроен, что не способен выразить в своих словах всей полноты истины. И потому он привносит в них скорбь, дабы наполнить ею незаполненные истиной пустоты. Скорбь может довести слово до тишины, в которой оно утопает в покое и забвении.
Только Христос был способен до краёв наполнить речь истиной. Вот отчего его слова не меланхоличны: пространство языка в Нём наполнено ничем иным, как истиной. Для меланхолии или скорби просто не остаётся места.
3
Истину окружает сияние, и это сияние - знак того, что истина склонна распространяться во всех направлениях.
Сияние, окружающее истину, есть красота. Таким образом истина способна проникать вдаль и вширь, сияние красоты подготавливает движение истины - оно занимает всё пространство до истины и ради истины. Истина уже присутствует повсюду, в partibus infedelium.
Красота также присутствует в тишине - и прежде всего в тишине. Не присутствуй красота в тишине, тишина, увлекаемая своей тяжестью, утонула бы в собственной тьме, ушла бы в бездну, утягивая за собой многое из того, что принадлежит великолепию земли. Красота же наделяет тишину лёгкостью и воздушностью, и таким образом она тоже приобщается к земному великолепию. Красота освобождает тишину от её тяжести, выводит её на свет земли и выводит её к человеку. Сияние красоты, покоящееся в тишине, есть предчувствие сияния, свойственного слову истины.
В Богочеловеке Слово, Истина и сияние Совершенной Красоты слиты воедино. Не одно не следует за другим или даже стоит рядом, но все они суть совершенное единство. И в этом единстве вся история находит себя в одном Лице: в начале человека, в его грехе и в его искуплении.
ТИШИНА В РЕЧИ
1
Речь и тишина взаимосвязаны. Не увидеть в речи тишину значит увидеть только шекспировских шутов и не увидеть основательности шекспировских героев, или видеть на средневековых картинах только мучения святых и не увидеть их преображения. Речь и тишина, герой и шут, мученичество и преображение - они едины.
Речь должна оставаться связанной с тишиной, из которой она и вышла. Возвращение к тишине естественно для человека, ибо человеческой природе свойственно возвращаться на то место, откуда она пришла.
Человеческая речь обусловлена не только истиной, но и благодатью: в благодати речь возвращается к своему изначальному источнику.
Важно, чтобы речь оставалась связанной с тишиной посредством благодати, ибо это означает, что благодать с самого начала присуща текстуре всякого слова, что во всякой языковой структуре имеется склонность к благодати. В слове, связанном с величайшей тишиной, присутствовала величайшая благодать.
Слова же, рождающиеся только из других слов, грубы и агрессивны. Они к тому же и одиноки, и большая часть нынешней мировой скорби вызвана как раз тем, что, отделив от тишины, человек вверг их в одиночество. Вина в таком отречении от тишины лежит на человеке, и скорбь мира свидетельствует о его виновности. Отныне не ореол тишины, но мрачный ореол скорби обрамляет язык.
Тишина остаётся в языке даже после того, как язык покинул её. Мир языка возвышается над миром тишины и превосходит его. Язык может пребывать в безопасности, лишь свободно обращаясь в словах и идеях, пока внизу простирается широкий мир тишины. На примере широты тишины язык учится достигать собственной широты. Тишина для языка значит то же, что растянутая внизу сеть значит для канатоходца.
Разум - тот бесконечный разум, что присутствует в языке - нуждается в бесконечности тишины под собой - для того, чтобы вознести над нею собственный купол. Разум может быть бесконечным и неизмеримым по собственной воле. Но тишина под ним позволяет ему свободно передвигаться в его собственной бесконечности.
Тишина служит естественным основанием для неизмеримой бесконечности разума. В любой ситуации Она - естественное основание разума: то, что непроизносимо на языке разума, соединяет разум с тишиной и даёт ему приют в мире тишины.
Язык должен пребывать в интимной связи с тишиной. Прозрачность, парение тишины делает и сам язык прозрачным и парящим. Он подобен светящемуся облаку над тишиной - светящемуся облаку над безмятежным озером тишины.
Тишина дарит языку естественный источник отдохновения, источник восстановления сил и очищения от порочности, которую язык сам и породил. В тишине язык переводит дыхание и наполняет свои лёгкие чистым и самобытным воздухом.
Даже оставаясь неизменным, язык, возникший из тишины, способен на самобытность и новизну. Поэтому истина, выражаемая всегда одними и теми же словами, не коснеет.
Дух тоже способен наделить язык живительным дыханием новой жизни. Есть вид освежения, который случается от контакта с природной тишиной, и вид, произведённый духом. Совершенство достигается тогда, когда самобытная сила и свежесть природной тишины и духа встречаются и переплетаются в одном человеке - как в Данте и Гёте.
Вот ты закончил предписанную работу здесь внизу, угрюмый Разум, и мягкое игривое солнце прорезало лучами последний вечерний шторм на твоей груди, наполнив шторм и розами, и златом. Весь шар земной и все земные вещи, из коих созданы спешащие миры, были слишком малы и легковесны для тебя. Ибо искал ты нечто высшее, чем жизнь за жизнью - не самого себя, не бренное и не бессмертное существо, но Вечное, Альфу, Бога - и в этом низком мире вид всех вещей, хороших ли, плохих ли, был безразличен для тебя. Теперь же ты покоишься в подлинном мире бытия, смерть вырвала из твоего тёмного сердца страстное облако жизни и отныне открыто сияет вечный Свет, тот Свет, что так давно искал ты, и ты - один из его лучей - живёшь опять в этом огне. (Жан Поль, "Титан")
Эти слова Жан Поля подобны круглым надувным шарам, невидимо управляемым снизу тишиной. Как будто всё, произнесённое здесь вслух, уже свершилось в тишине, ибо именно это придаёт данным словам свойство определённости, интимности и возвышенности. Словно во сне слова имитируют движения, уже случившиеся в тишине.
У Гёте язык относится к тишине осознаннее, чем у Жан Поля. В высшей степени важна именно победа языка над тишиной - не в смысле хвастливого триумфа, но в смысле гордости и сознания человека, постигшего, что именно язык впервые сделал его человеком, и поэтому выражающего свою гордость за то, как он применяет слова.
2
Человек живёт между миром тишины, из которого он вышел, и миром тишины, в который он идёт - миром смерти. Язык человеческий также живёт между двух этих миров, поддерживающих его. Вот почему язык отдаётся двойным эхом: из места, откуда пришёл он, и места смерти.
Из той тишины, из коей он пришёл, язык обретает невинность, простоту и самобытность, но его кратковременность, хрупкость и то, что язык никогда полностью не соответствует вещам, которые он описывает, исходит из второй тишины - из смерти.
Черты обоих миров налицо в языке Жан Поля: невинность и самобытность, и в то же время готовность умереть и спешащая мимолётность языка.
В современном мире язык далёк от обоих миров тишины. Он возбуждается шумом и в шуме же растворяется. Сегодня тишина перестала быть собственным автономным миром: она всего лишь место, куда ещё не проник шум. Это всего лишь пауза в продолжительном шуме, подобно технической поломке в машине шума - вот что такое тишина сегодня: сбой шума на какой-то миг. Больше нет у нас ясной тишины и ясного языка, но есть просто слова, уже сказанные или ещё не сказанные - но и они присутствуют, лежа под рукой подобно неиспользуемым инструментам; они лежат и ждут - угрожающе или скучающе.
Другая тишина - тишина смерти - тоже отсутствует в сегодняшнем языке, так же, как отсутствует и смерть в современном мире. Смерть больше не собственный автономный мир, но лишь нечто негативное: жизнь, высушенная до последней капли - вот что такое смерть сегодня. Смерть сама оказалась умерщвлена. Сегодня смерть далеко отодвинута от той смерти, о которой говорится в следующей фразе:
Человек умирает только раз в жизни и потому, не имея опыта, умирает неудачно. Человек не умеет умирать, и смерть его происходит ощупью, в потемках. Но смерть, как и всякая деятельность, требует навыка. Чтобы умереть вполне благополучно, надо знать, как умирать, надо приобрести навык умирания, надо выучиться смерти. А для этого необходимо умирать еще при жизни, под руководством людей опытных, уже умиравших. Этот-то опыт с м е р т и и дается подвижничеством. (Флоренский)
Когда язык более не связан с тишиной, он теряет источник своего восстановления и обновления, и, следовательно, что-то от своей сущности. Сегодня язык выговаривается автоматически, опустошая и рассеивая себя, он слаб, и он, кажется, стремится к концу. Сегодня в языке есть что-то жёсткое и упрямое, как будто он изо всех сил пытается остаться в живых, не смотря на свою опустошённость. В нём есть также что-то отчаянное, как если бы он ожидал, что его опустошённость подходит к непреклонному концу, и это чередование упрямости и отчаяния так сильно беспокоят его. Изъяв язык из тишины, мы осиротили его. Язык, на котором мы говорим сегодня, больше не родной нам, но чуждый для нас язык. Порой кажется, что человек стыдится языка, который он оторвал от его родителя: он чувствует, что ему с трудом удастся передать свои слова другому. Он больше говорит с собой и в себя, как будто желая сокрушить, обвалить и разрушить говоримые им слова и опрокинуть их подобно руинам в опустошённость собственной души.
Лишь в языке поэтов ещё иногда появляется подлинное слово - слово, соединённое с тишиной. Оно словно призрак, преисполненное горечи оттого, что оно - призрак и должно исчезнуть снова. Красота - это хмурое облако, в котором подобные слова появляются, лишь чтобы сгинуть опять.
3
Язык вновь погружается в тишину. О нём могут забыть. Языку свойственно забвение и, кажется, оттого он не способен стать слишком резким. Таким образом гасится превосходство языка над тишиной.
Погружение слов в забвение словно символизирует лишь временную принадлежность вещей нам; в любой момент они могут быть отозваны обратно - туда, откуда они возникли.
Погружаясь в забвение, слово забывается, и такое забывание подготавливает почву для прощения. Это свидетельство того, что любовь вплетена в саму структуру языка: слово утопает в забывчивости человека, ибо забывая, он также способен и прощать.
Исчезновение и забвение слова также подготавливает к приходу смерти. Как только очеловечивающее нас слово исчезает, человек умирает: смерть также вплетена в структуру языка.
Сегодня же кажется, что у языка выкрали его забывчивость: каждое слово присутствует где-то в общем шуме слов вокруг нас. В этом общем шуме слов всё проявляется лишь на миг, чтобы затем снова исчезнуть. Всё здесь и одновременно не здесь. Нет больше действительной непосредственности слова, а, значит, нет и забвения. Забвение больше не совершается непосредственно по воле самого человека, но происходит неподконтрольно ему в общем шуме распихивающих друг друга слов. Однако это совсем не забвение, а всего лишь исчезновение. И, следовательно, сегодня нет также и прощения, поскольку теперь уже никто не может избавиться от слова или вещи, ведь они всегда стремятся вынырнуть где-то опять. Справедливо и то, что никто больше не обладает ни словом, ни вещью - оттого люди так беспокойны сегодня.
4
Мы сказали, что язык возникает из тишины и в неё же возвращается. И это так, словно за тишиной скрывается некое абсолютное слово, по направлению к которому сквозь тишину и движется язык. Человеческое слово самоосуществляется через абсолютное слово, в силу присутствия которого, оно не рассеивается подобно пыли. Человеку нужно было бы постоянно восстанавливать область языка, не защищай его от посягновений абсолютное слово. Все человеческие слова крутятся вокруг этого абсолюта.
Тишина подобна вспоминанию его. Разные же языки подобны разным попыткам поиска его. Как будто слова договорились разделиться по различным языкам в попытке с разных сторон открыть абсолютное слово. Языки подобны множеству экспедиций, отправившихся на поиск абсолютного слова.
Существуй только один язык, этот язык находился бы в слишком выгодном положении по отношению к тишине. Язык походил бы на территорию, отвоёванную у тишины, а тишина оказалась бы в глубоком подчинении воле языка. Человек возгордился бы от такого ошеломительного успеха. И он действительно был тщеславен, когда все люди говорили на одном языке:
Вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. (Книга Бытие 11:6)
Покуда же существует множество языков, все они взаимосвязаны. Ни один из них не привилегирован, каждый - лишь один среди многих других.
Отныне удивление вызывает не былое существование одного-единственного языка, но то, что истина стала передаваться через множество разных языков. Языки теперь заново объединены тем, что истина выражена через всех них одновременно.
ЧЕЛОВЕК МЕЖДУ ТИШИНОЙ И РЕЧЬЮ
1
До тех пор, пока человек не заговорил, язык всё ещё парит над тишиной, только что им покинутой - он парит между тишиной и речью. Слово всё ещё не ведает, куда повернуть: вернуться ли ему в тишину и сгинуть там или, обратившись в звук, решительно порвать с ней. Человек волен решать куда отправиться слову.
В отличие от слова, пребывающего в тишине, изречённое слово - это не просто общение с другим человеком. Оно качественно отлично от слова неизречённого. Становясь звуком, слово не просто выводится из тишины и передаётся другим, но скорее проступает на фоне прочих слов, ещё обретающихся в тишине. Изречённое слово обособляет идею больше, чем она обособляется в тишине, ибо в тот миг, когда она изрекается вслух, она приобретает особую, собственную ценность. Пребывая в тишине, идея может быть чётко отлична от других идей, но решение о том, которой идее будет отдано предпочтение, ещё не принято. Пока слова ещё заключены в тишине, человек не осмеливается взять на себя такой риск. Лишь когда слово изречено или написано, человек полностью определяет себя этим словом.
Слово, обретающееся в тишине, обитает в мире, выходящем за приделы мира видимого - в мире тишины. Проблеск ясности, свойственный слову, возникает из проблеска невидимого мира - проблеска, нисходящего на слово, пока оно ещё заключено в человеческой тишине.
2
Тишина вызывает в человеке скорбь, поскольку она напоминает ему о состоянии, в котором падение, вызванное словом, ещё не свершилось. Тишина заставляет человека тосковать по состоянию, предшествующему падению, и одновременно она тревожит его, ибо в тишине всё так, словно в любой момент внезапно может возникнуть слово и с этим словом вновь случится первое грехопадение. Вот почему люди относятся ко всякому поэту как к выскочке - потому что он, поэт, имея под рукой лишь язык, похоже, не обременён сознанием того, что люди впали в грех именно по вине слова. Но человека также тянется к поэту, поскольку в поэзии слово пребывает в своём изначальном состоянии, подобно самому первому слову, сделавшему его человеком - и это вселяет в него радость.
3
Безмолвствующий, человек пребывает - не субъективно, но феноменологически - в состоянии, предшествовавшем возникновению языка. Иначе говоря, безмолвствуя, человек словно выжидает появления языка в первый раз. И хотя в тишине он и обладает словом, но слово это - на грани исчезновения. В тишине человек готовится вернуть слово Творцу, от которого он впервые и получил его. Следовательно, почти во всякой тишине есть что-то священное.
Пребывая в тишине, человек находится на грани готовности вернуть слово туда, откуда оно явилось. Но в следующий миг - миг, когда он начинает говорить - он становится тем, кто только что обрёл слово из тишины. В тишине человек почти перестаёт быть человеком, но с произношением первого же слова вновь становится собой. Приглядевшись к нему, вдруг заговорившему после долгого молчания, мы становимся свидетелями акта сотворения человека, заново подтвердившего себя таковым посредством слова.
Из тишины, снова и снова, как при акте сотворения, возникает слово - каждый раз абсолютно иное. И этот акт сотворения воплощён в фундаментальной структуре человека.
Способность творить настолько свойственна человеку, что нам не следует относиться к ней как к чему-то исключительному и необычному, но скорее как к естественной черте, делающей человека прежде всего человеком, подобно тому, как это же делает речь. Способность творить - такая же часть фундаментальной структуры человека, как и речь.
Однако, утрать речь свою связь с тишиной, на месте, прежде занятом безмолвием, останется лишь зияние бездны. Язык растворится в её пустоте так же, как раньше растворился в тишине. По мере поглощения слов бездной, человеком овладевает чудовищный страх того, что с последним словом, исчезнувшим в этой зияющей бездне, он и сам перестанет быть собой.
4
Следовательно, в тишине человек пребывает на грани уничтожения (поскольку тишина может стать началом окончательной утраты слова) и возрождения.
Здесь покоится центральное место Веры: в тишине человек как будто отрекается от слова, посредством которого он стал собою, и возвращает его Богу, из чьих рук и обрёл его, веря в то, что затем снискает его вновь.
Именно в этом центральном месте Паскаль уничтожил себя, чтобы затем возродиться опять - но уже как Паскаль "Мемориала" и "Мыслей". Уничтожив самого себя, он как будто заново открыл для себя слово.
Он говорил только отрывками, и каждое предложение в "Мемориале" и в "Мыслях" звучало как впервые.
Он словно всякий раз желал начать оттуда, откуда был начат сам; как будто желал повторять опять и опять то уникальное событие первоисходного обретения слова, в котором он вновь воспрял из духовной смерти. И это не просто отрывки, но общий итог возрождения человека.
ДЕМОНИЧЕСКОЕ В ТИШИНЕ И В РЕЧИ
1
Тишине свойственна не только исцеляющая и дружественная сила, но и сила тьмы и ужаса, смерти и зла, извергающаяся на человека из подземелий тишины. "Le silence eternal de ces espaces infinis m'effraie" (Паскаль)
Возникая из тишины, слово рискует столкнуться с разрушительной и демонической силой, скрытой в её недрах. В любой момент в нём может проявиться нечто потустороннее и угрожающее и вытеснить собою все те дружелюбие и мир, что также стремятся проступить в слове из глубин тишины.
Однако угрожающая сила демонического вторгается в слово, лишь если оно не преисполнено духом. Ибо силе духа в слове по плечу одержать верх над демоническим. Слово, ставшее обителью духа, а значит - истины и порядка, способно изгнать, изъять из тишины страх. Дух истины и порядка укрощает демонический элемент в тишине, и тогда она следует за словом, как ручное, послушное животное: она помогает слову, питая его самобытной силой тишины.
Таким образом, мы говорим на языке, освобождённом духом от власти демонического. Язык, в котором действует дух, частично охраняет человека от вторжения демонического.
В присущем слову духе сохраняется черта божественного Логоса, наделяющего слово силой, способной подчинить себе демоническое.
Но слово, лишённое связи с духом, открыто перед всеми напастями демонического, включая и ту, что может явиться из подземелий тишины. И тогда тишина молчит не ради слова, но лишь ради себя самой: она угрожающе нависает над словом, и человека охватывает ужас: тишина грозится увести у него не только само слово, но и всякое его звучание.
Иногда человек пользуется изначальной демонической силой тишины: когда пытливый судья часами высиживает в тишине перед преступником, естественная демоническая власть тишины становится столь велика, что воля обвиняемого более не способна скрывать свои секреты. Притворство сломлено и истина раскрывается.
2
Исток языка - в "доисторическом акте, о котором нам ничего не известно" (Шелер), но этот доисторический акт под стать подчинению Титанов и доолимпийских богов: не победи Олимпийцы, над землёй воцарилась бы власть потусторонней тьмы. Но ради победы духа, присутствующего в слове, над демоническим, присутствующем в тишине, тишина сначала должна была захватить мир и подвергнуть его опустошению.
До сотворения слова кругом царила одна только тишина. Весь мир принадлежал ей. Его словно бы возвели на постаменте тишины и тот возвышался над нею, будучи не более чем её окраиной. И затем явилось слово. И тогда демоническая тишина обратилась в руины, но ещё долгое время приходилось участок за участком, подобно тому, как расчищают девственный лес, отвоёвывать у тишины этот мир. Так, при содействии духа, присущего слову, в девственном лесу тишины возникла дружественная почва безмолвия, несущая и подкрепляющая слово.
Но порой по ночам к тишине вновь возвращается всемогущество её изначальной мощи. В такие моменты она словно вынашивает планы вторжения в мир слова.Тёмный лес оказывается местом, где тишина собирается с силами для нападения; освещённые стены домов напоминают могильные плиты слова. Но вдруг в верхней комнате зажигается свет, и свет этот подобен впервые произнесённому слову: и тогда весь колосс тишины, словно послушное животное, смиренно замирает в ожидании хозяина.
3
В следующем стихотворении Матиаса Клаудиуса раскрыто превосходство языка над демоническим в ночной тишине:
Месяц взошёл,
Золотые звёзды красуются
На небе светлом и чистом;
Лес тёмный стоит и молчит,
И из лугов поднимается
Чудесный белый туман.
В этом стихотворении освещённость языка одерживает победу над демонической тишиной ночи. Луна и звёзды, лес, долины и дымка находят и встречают друг друга в ясном сиянии слова. В свете стихотворения ночь становится такой ясной, что луна, звёзды, лес, долины и дымка выходят к дневному свету, откуда к ним снизошло слово. Тишина более не темнит: падающий на неё сияющий свет слова, просвечивает её насквозь. В слове завершается демоническое уединение тишины и она превращается в дружелюбную сестру слова.
ЯЗЫК И ЖЕСТ
Неверно выводить язык из жеста (Кондильяк, Мен де Биран, Бергсон). Жест относится к совершенно иной, нежели язык, категории. Будучи перемешан с ними, он неотделим от вызвавших его страстей. Он часть их и обычно выражает собою страстное желание. Со своей же стороны, язык выражает существо, целое, а не просто присущее ему желание, само по себе которое есть всего лишь его часть, но не целое существо как таковое. В нём больше от сущности целого существа, чем в страсти или в желании. Язык, по сути, является необычным существом, которое, будучи собою, создаёт себя само. С другой стороны, жест лишён независимого источника сущего, из которого он мог бы передать что-либо другому феномену. Он лишь суетится вокруг, не обладая при этом собственным существованием.
Идя каменистым бродом жеста, человек никогда не достигнет языка, ибо в жесте имеется нечто невысвобожденное, и лишь при участии особого творческого акта он может породить что-то свободное. Язык же чист, свободен и суверенен, он вздымается над собой, оставляя позади всё, кроме тишины, из которой он выступает. Жест, в свою очередь, не свободен, не высвобожден, он полностью перемешан с материалом, используемым в его попытках самовыражения. Пребывая внутри материала и оставаясь связанным с ним, он не способен непринуждённо подступиться к нему со стороны тем образом, каким дух подступает к слову.
Жесту присущи пустота и мрак физиологических и психологических рефлексов, из которых он порождён и которые же высвобождает (что обеспечивает основу для его доступности); он лишён ясности и яркости языка. (Баухофер)
У ребёнка жест предшествует языку, но не это вовсе самое главное. Главное же то, что язык является ребёнку независимо от предшествующего ему жеста - не принимая во внимание, что до него тут уже существовал жест. Значение имеет не то, что жест предшествовал языку, но то, что через творческий акт всякий ребёнок освобождает себя от жеста.
Язык прочно связан с вечным миром бытия (даже генетический фактор в языке не важен) - кажется, что мощь бытия поглотила его. Даже если язык и развивался медленно, "становление" не стоит принимать в расчёт, ибо оно полностью впитано миром бытия.
Наблюдательное око всякого духовного существа, следящее за постепенным развитием и совершенством животного мира, которые видим мы от вида к виду, ещё не достигнув человека, может прийти к такому заключению: голос, так роскошно звучавший в птице, постепенно затухает в млекопитающем, и оттого создание, следующее за обезьяной, должно было стать совершенно немым. Однако, так уж почти всегда действует высшая творческая сила: рассеивая блага и чудеса жизни более высокого порядка, она позволяет им развиться в местах, где, казалось, старая жизнь умерла, и призывает новые свои творения из уже мёртвых. (Г.Г. фон Шуберт)
Язык принадлежит самой человеческой жизни, является её неотъемлемой частью, возникает из неё и с ней же смешивается.
По моему глубочайшему убеждению язык следует считать неотъемлемой деталью устройства человека. Для того, чтобы понять одно единственное слово не как физический стимул, но как артикулированный звук, описывающий некую концепцию, язык в человеке должен пребывать как целостная и отчётливая структура. (В. Гумбольдт)
Язык мог быть произведён лишь другим существом, причём Существом более могущественным, чем существо языка.
ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ
1
Люди раньше, согласно преданиям о Золотом Веке, могли понимать язык животных, деревьев, цветов и трав. И эта способность свидетельствует о том, что первоначальному языку - едва лишь возникшему из полноты тишины - всё ещё была присуща её всеохватывающая полнота.
И в то же время язык этот устремлялся ввысь, в небеса.
Перекинув мост поверх земных звуков, он открыл путь для их всеобщей встречи друг с другом. Так же как всё взращённое на земле возносится на небо, так и все голоса земные отправились на небеса языка. Влившись в язык и причастившись к нему, всякий голос стал понятным. Языковое царство небесное стало родным краем для всех голосов; здесь, на небе, они сходились друг с другом. И несмотря на всю свою мощь, язык оставался ненавязчив, как ненавязчива сама тишина.
2
Древние языки устроены радиально, всегда начинаясь от центра тишины и в него возвращаясь, подобно фонтану, с его струями, бьющими из центра чаши, возвращающимися в него и в нём же исчезающими.
В современных работах идея подобна движению целеустремлённо идущего вперёд человека. Напротив, в античных трудах она напоминает кружащее парение птиц. (Жубер)
В ранних языках сила всегда шла рука об руку со смирением: смирением и кротостью, поскольку язык едва только появился из тишины, и силой, оттого что ему необходимо было закрепиться, упрочить своё положение, дабы не быть опрокинутым обратно в тишину.
Колчан полный стальных стрел; прочно закреплённый якорный канат; медная труба, рассекающая воздух пронзительными звуками: таков иврит - немногословен, но то, что сказано, подобно ударам молота о наковальню. (Ренан, "Израиль")
Почти неизменные, подобно глыбам в циклопической стене, стоят древние слова, словно выжидая, что их позовут обратно в тишину - как будто из тишины же их и вызвали. Как если бы над ними ещё распространялась её власть, и оттого они всё время оглядываются туда, откуда пришли. При этом из тишины всегда могло явиться и другое слово - слово более высокого порядка, поправляющее предыдущее.
Ранние языки укрепляли за собой позиции, и потому они были статичны. Отдельные слова стояли на земле подобно столбам, каждое само по себе, почти без всякой связи с соседними. Архитектура языка была вертикальной. Каждое слово погружалось в предложение отвесно и колонноподобно.
Язык наших старых законов обычно звучал веско и твёрдо; не так резко, и не так грубо, скорее медленно, но всё же без растягивания. (Якоб Гримм)
Сегодня в языке уже утеряна статичность древних наречий. Предложение стало динамичным, каждое слово торопится за следующим. Иная и архитектура языка: вертикальные колонны заложены низко и предложение отныне задаётся горизонтально устремлённой тягой. "Вертикальные колонны, словно барьер, ещё сдержали бы полёт мироздания, но теперь всё движется горизонтально, по траектории его бега" ("Бегство от бога"). Предложение стало текучим и динамичным. Слова толкаются между собой в яростной спешке. Язык сегодня резок и агрессивен, и часто в самой форме языка агрессии больше, чем в выражаемом им содержании. В языке стало слишком много самосознания: всякое слово теперь исходит в большей степени из предыдущего слова, а не из тишины, и движется больше в сторону слова, следующего перед собой, а не в сторону безмолвия.
3
Бросается в глаза, что в древних языках рождение слов из тишины отнюдь не было чем-то обыденным, но само по себе воспринималось как важное событие, требовавшее приостановки течения речи до того, как появится очередное слово. Слова часто прерывались тишиной. Так же, как зарождающаяся река подпитывается из множества притоков, так и в поток предложения после всякого слова вливался новый приток тишины.
Слово древних языков лишь ненадолго прерывало безмолвие. И всякое слово было окаймлено тишиной. И именно эта окружающая канва безмолвия придавала ему индивидуальное обличие и отделяла от прочих слов, ограждая тишиной его индивидуальность. Слова, не имеющие тишины меж собой, лишаются своей личной формы и индивидуальности. Вместо того, чтобы быть индивидуальностями, они превращаются в безликую массу.
В древних языках тишина обитала в паузе между двумя словами. Язык дышал тишиной, выговаривал тишину - в ту самую великую тишину, из которой он возник.
В классическом стиле тишине обычно отведена важная роль. Она доминирует в стиле Тацита. Вульгарный гнев разражается, гнев потише бормочет, но возмущение ощущает необходимость в тишине, дабы предоставить слово тому, что творится в ожидании будущей справедливости. (Эрнест Хелло)
4
Древним языкам следует обучать ещё в школе, поскольку они выявляют родственную связь языка с тишиной, её власть над языком, а также целительное влияние тишины на него - яснее, чем это возможно в современном языке.
Необходимо это также и потому, что посредством "бесполезных" древних языков человек обретает возможность высвободится из мира голой наживы и полезности. С древними языками не "своротить гор", но они вводят нас в соприкосновение с чем-то, что лежит за пределами мира чистой целесообразности.
Также важно, чтобы сохранились и диалекты. Человек, привыкший к диалекту, в своей речи или в письме на общепринятом языке не способен безответственно перескакивать от слова к слову.Чтобы войти в стандартный письменный язык, ему каждый раз приходится возвращаться к родному наречию. Для него стандартный письменный язык, не есть нечто само собой разумеющееся и готовое к применению, и когда он, привычный к диалекту, начинает говорить "правильно", то всё равно опирается на диалект подобно тому, как телегу подпирают колодкой. Диалектизмами труднее управлять. Как тишина приостанавливает поток слов и не позволяет языку превратиться в механическую рутину, так и диалект, хоть и в меньшей степени, стоит на страже обособленной индивидуальности слов.
Вероятно, растворение диалектов в общепринятом стандартном языке - причём растворение чрезмерное, далеко выходящее за должные рамки - противоречит сущности языка, а, значит, и сущности человека. Во всех делах человеческих имеется определённое соотношение между качеством феномена и его количеством. Человеческий феномен не может расширяться далее определённых границ, не разрушив при этом себя, и, видимо, к языку это относится в той же степени, как и ко всему остальному.
Чистейшей истине английского языка вредит его чрезмерная универсальность... Всякий любитель птиц готов признать за воробьём наличие множества достоинств, но одна только мысль о способности самовоспроизведения этой маленькой птички заставит его неприятно вздрогнуть. Увлекись он подобными размышлениями, его захватит идея о мире, из которого исчезли все более разборчивые виды живности и где осталось только универсальное воробьиное царство." (Бэйзил де Селинкоурт)
"Я" И ТИШИНА
1
Человек, чья сущность всё ещё подчинена тишине, выдвигается из неё во внешний мир; безмолвие занимает в нём центральное место. В мире тишины движение совершается не от одного человека к другому, но из тишины в одном к тишине другого.
На полотнах старых мастеров люди выглядят так, словно они только что вышли из бреши в стене; как будто они с трудом пробивали себе путь через неё. Беззащитные и колеблющиеся, они зашли слишком далеко и, кажется, до сих пор в большей мере принадлежат тишине, нежели сами себе. Они замерли в ожидании другого разлома, чтобы вновь отступить в тишину. И кажется, что в тишине их движения встречаются прежде, чем встречаются сами люди. Глядя на группу таких людей, изображённых на работах старых мастеров - людей, словно только что переступивших порог безмолвия - не покидает ощущение, что люди эти собрались в комнате ожидания, готовясь к великому разлому тишины, в котором они смогли бы исчезнуть вновь.
Человеческая ситуация теперь иная. На первый план вышло движение ради движения - движение, достигающее заданной цели лишь по случайности; движение, начинающееся ещё до возникновения такой цели; движение, всегда опережающее самого человека и опережающее настолько, что тому приходится мчаться сломя голову и запрыгивать вперёд, неизбежно наскакивая на других и тревожа как самого себя, так и этих людей.
Даже посреди шума современного мира в людях ещё можно встретить проявления тишины. Однажды на чрезвычайно оживлённой улице Виа Торино в Милане, прямо в сердце большого города, я увидал одного одетого в старый костюм человека, причём костюм его не просто покрывал тело, но как будто сросся с ним; то был костюм, страдавший вместе со своим хозяином и напоминавший расцарапанную в кровь кожу. Человек этот и не стоял, и не шёл: идя, он стоял замерев, а остановившись - понемногу продвигался вперёд. Лицо было мягким и розовым, но ото лба до щёк его густо покрывали морщины. Глаза отрешённо смотрели на всё, с чем встречался взгляд, и всё же ждали чего-то, что могло возникнуть рядом, прямо у него под рукой. Левая прижата к телу так, как будто то не желало её отпускать, и всё же руку он держал немного вытянутой. Я положил в неё деньги, и не знаю (ибо не осмелился полюбопытствовать), притянулась ли эта рука обратно и положил ли он купюру себе в карман. Или одна рука переместилась к другой с тем, чтобы переложить в неё деньги?.. Этот человек существовал где-то между подаянием и стяжанием, между близостью и отдалённостью, между юностью и старостью. Он жил за счёт безмолвной сущности, обитавшей в глубине его сердца; за счёт того самого внутреннего места встречи и сосредоточия, что является отправной точкой всякого движения наружу.
Дела человека, по-прежнему движимого безмолвной сущностью, преисполнены тишины. Поэтому-то они неторопливы и взвешены. Они не сталкиваются яростно друг с другом - ведь они суть порождения тишины; они всего лишь [накатывающие] волны безмолвия. В таком человеке и в его языке ничто не размыто и не неопределённо: тишина вторгшаяся между словом и делом, чётко разделяет их между собой, отчего просветляется вся его индивидуальность - индивидуальность, остающаяся во тьме в отсутствие тишины, когда человек и слова его слиты в один непрерывный шум.
Такой человек благороден, ибо привносит тишину в этот мир. Покой, в котором он проживает свою жизнь, не сковывает его, поскольку покой этот связан с тишиной, а тишина расширяет границы его существования. Даже беспокойство не гнетёт его, ведь для него оно не более чем колыхание тишины.
Однако, там где тишина перестала быть движущей силой,
покой не нужен человеку, ибо он сковывает и угнетает там, где тишины нет; оттого-то и вынужден он, позабыв о покое, с трудом пробираться вперёд и всякое его новое начинание неизбежно отмечено превратностью. (Гёррес)
2
Пребывая в царстве творческой тишины, отдельный человек не замечает противоречий между собой и обществом, ибо здесь они не противостоят друг другу, но взаимно предстоят перед ликом безмолвия. Под руководством тишины различие между личностью и обществом перестаёт быть существенным.
В современном же мире человек предстаёт не перед тишиной и обществом, но только перед всеобщим шумом. Покинутый, он стоит между шумом и безмолвием, отлучённый как от одного, так и от другого.
В мире, где тишина всё ещё остаётся движущей силой, одиночество не подчинено субъективности и из субъективности не выводится. Оно стоит перед человеком как нечто объективное - даже в том случае, если это его внутреннее одиночество; оно предстаёт в виде объективной тишины. Святые, следовавшие стезёй отшельничества, обретали не самих себя, но ту объективную уединённость тишины, в котором их личное, направленное внутрь одиночество было лишь малой частью [целого]. Святой принимал уединение так, будто оно передавалось ему от другого, и для него это было в порядке вещей. Следовательно, одиночество святых не достигалось в борьбе, как это сегодня имеет место в случае с "направленным вглубь" одиночеством, но напротив, оно подразумевало под собою родство великого объективного мира тишины с её объективной уединённостью. А значит, в уединении святые приобретали больше, чем только в своём личном одиночестве, ибо на деле уединение не было лишь их собственным: оно пребывало вне них и являлось чем-то большим, нежели то, чем их личное одиночество могло когда-либо стать. Одиночество же изолированной личности, остающееся лишь частью её направленности внутрь, ничтожит и сводит на нет саму личность.
3
Человек, по-прежнему преданный духу тишины, вовсе не обязан всё время следить за движениями своего самого внутреннего бытия, как и не обязан осознанно приводить всё в порядок, поскольку и без его осознанной осведомлённости многое обустраивается властью безмолвной сущности, которая способна преобразовывать враждующие внутри него противоречия. Такой человек может обладать несовместимыми чертами и всё же избегать их конфликта, ибо дух тишины способен уместить в себе [любые] противоречия.
Тогда жизнь не разрывается на полярности веры и знания, истины и красоты, жизни и духа; перед человеком предстаёт вся совокупность действительности, а не только её понятийные полярности. Жизнь человеческая определяется не несовместимым выбором "или - ..., или - ...", но усреднением крайностей. Дух тишины встаёт между противоречиями и не позволяет им враждовать друг с другом. Прежде чем один элемент противоречия достигнет другого, он должен пронестись над широкой и умиротворяющей гладью тишины. Дух тишины выступает посредником между несовместимыми полярностями.
Лишь здесь человек способен возвыситься над своими внутренними противоречиями и лишь здесь ему присуще чувство юмора. Ибо перед лицом тишины противоречия перестают быть подозрительными и тишина поглощает их.
Для чувства юмора
нужно обладать бесконечными жизнерадостностью и уверенностью, чтобы суметь приподняться над противоречиями собственной личности, а не огорчаться из-за них. (Гегель)
Если же дух тишины отсутствует, противоречия открываются для анализа и дискуссий. "Радость и удовлетворение" исчезают, а чувство юмора сходит на нет.
Тот, в ком обретается безмолвная сущность, легче переносит вещи, враждебные его естеству - вещи, эксплуатирующие его. По этой причине народы Востока, по-прежнему преисполненные духом тишины, способны легче переносить сосуществование с машинами, чем народы Запада, чья безмолвная сущность оказалась почти что полностью разрушенной: жизнь с машинами и техника сама по себе не причиняют вреда, если человека опекает дух тишины.
Унамуно утверждал, что Гёте не развил до конца всех заложенных в себе возможностей - такое могло прозвучать только в мире, лишённом всякой связи с тишиной. Мы забыли, что не осознанные ещё до конца возможности подпитывают дух тишины. Тишина подкрепляется ими и тем самым придаёт дополнительную силу иным - уже осознанным - потенциальным возможностям.
Причастность тишины к различным сторонам человеческой жизни является неотъемлемой составляющей её сущности. Жизнь эта по-прежнему принадлежит тишине. Порой во время разговора человек удерживает нечто при себе, не давая ему выхода в словах - [в такие моменты] он словно чувствует себя обязанным удержать что-то, что по праву принадлежит [лишь] тишине.
Часто бывает так, что целая нация на протяжении долгого периода своей истории оказывается неспособной разглядеть [скрытые] в себе потенциальные возможности. К примеру, невостребованным может оказаться дар поэтического творчества. Но это не значит, что его нет, просто его возможность пока ещё не была осознанна должным образом. Вероятно, она лишь переводит дух и в тишине восстанавливает свои силы. И всё же такая тишина по-своему прекрасна - источник этой красоты скрыт во всепроникающей тишине ещё не написанной поэзии.
Сегодня в мире уже не осталось места для безмолвной сущности. Всё постоянно пребывает в атмосфере шумного бунта, и человек, лишившийся той тишины, в которой раньше он ещё мог утопить чересчур-разнообразное, чересчур-навязчивое множество вещей, отныне позволяет им испаряться и исчезать во всепоглощающей пустоте языка.
Сегодня миру не достаёт безмолвной сущности, способной вызволить человека из-под гнёта вещей. Ради освобождения его от непосильной ноши, предпринимаются попытки систематизировать личность, чтобы затем допускать к нему только то, что соответствует складу его ума.
Вот новый метод в образовании: не обучать ребёнка ничему такому, что не соответствовало бы его ментальной конституции. Но в мире, где по-прежнему витает дух тишины, нет ничего страшного в том, чтобы ребёнок узнал о вещах необязательно близких его темпераменту. Ребёнку нужно позволить переступить рамки его умственного склада - например, в область латыни или греческого, к которым, казалось бы, у него нет никакой склонности. Смешивая чужеродный материал с содержимым детского ума, безмолвная сущность помогает усвоить его, расширяя натуру ребёнка в целом и раздвигая его умственные пределы. Правильное образование и правильное преподавание выдержаны в духе тишины.
Мы уже говорили о том, что избыточное многообразие вещей, в каждую секунду плотными рядами выстраивающихся перед обделённым духом тишины человеком, действует на него угнетающе. Он более не может оставаться безучастным к их непрерывному появлению, и потому тем или иным образом вынужден вступать в отношения с ними. Эмоционально реагируя на всякий новый объект, он отвечает ему, ибо так уж устроен человек: появившийся объект вызывает в нём ответную реакцию. Когда же перед человеком собирается такое огромное множество объектов, что и сама безмолвная сущность (которой он лишён) оказывается неспособной полностью растворить в себе, - то ему самому уже не хватает собственного запала и чувств, чтобы отреагировать на каждый из них. Беспорядочно разбросанные вокруг и оказавшиеся не у дел объекты угрожающе обступают его. Чтобы спастись от инвазии и переполнения себя объектами, усвоить которых он уже не в состоянии, человек должен вновь вступить в отношения с миром тишины - миром, в котором объекты сами упорядочивают себя, собираясь в гармоничное целое.
Когда в ком-то обретается дух тишины, он вбирает в себя все качества такого человека; и именно с тишиной качества связаны прежде всего, а только затем - непосредственно друг с другом. Следовательно, порок одного из них вряд ли передастся другому, поскольку сама тишина препятствует его распространению. Однако в отсутствие тишины всего лишь один-единственный порок способен настолько глубоко поразить человека, что тот, полностью охваченный своим опороченным качеством, уже будет не в силах оставаться самим собой и из человека превратится в человеческую личину, лишь прикрывающую сам порок и скрытое за ним зло.
Безмолвная сущность - это к тому же и место отдыха человека. Конечно, всякий отдых проводится, дабы перевести дух; тем не менее, отдых невозможен в отсутствие тишины, ибо человеку не дано полностью избавиться от бремени прошлого, не разделив при этом своё прошлое и своё нынешнее стеной молчания.
Сегодня, в условиях нехватки тишины, человек уже не может перевести дух, ибо способен лишь развиваться. Поэтому-то нынче так высоко ценится "развитие". Но "развитие" это теперь происходит не в тишине, а в непрестанных рассуждениях "о том - о сём".
Для отдыха необходимо присутствие духа тишины; оно же необходимо для ощущения радости. Радость, нисходящая на человека из сферы загадочного, счастлива оказаться на просторах тишины; только на её просторах безмерная радость чувствует себя как дома. Радость и тишина взаимосвязаны между собой так же, как связаны выгода и шум.
Там, где исчерпаны залежи тишины, всё, относящееся к человеку, воспринимается лишь с точки зрения выгоды. Выгода и слава дают сегодня человеку право на имущество и занятость. Только в мире повсеместно присутствующей тишины, обращаясь к Помпею, Цицерон мог сказать, что тому следует возглавить борьбу с пиратами не только потому, что он был хорошим солдатом, но прежде всего потому, что на его стороне была сама фортуна.
Между печалью и тишиной также имеется взаимосвязь: на просторах тишины печаль достигает равновесного состояния. Сила страстей стихает, и очищенная от них печаль, освобождается от чуждых ей примесей. Плач в печали преображается в плач тишины. По реке из слёз человек сплавляется вниз к тишине.
ЗНАНИЕ И ТИШИНА
1
"Человеческий ум не только постигает объект так, как это представляется ему, но он также способен выходить за рамки [постигаемого] объекта" (Гуссерль).
Возможности ума не ограничиваются лишь перцепцией объектов. Они расширяют кругозор ума.
Широта ума и просторы тишины взаимосвязаны, ибо широта ума нуждается в созвучной себе естественной широте, выходящей за собственные пределы. И хотя ум автономен и он в силах сам расчистить пространство для себя, но просторы тишины являются для него своего рода естественным примером. Человеческий взор, окидывающий их, не сосредотачивается только на каком-нибудь одном аспекте феномена. И несмотря на то, что ум обретает мощь всеохватывающего знания из рук Всеведущего Господа Бога, в мире имманентного именно тишина становится импульсом, наделяющим человеческий взор качеством всеохватности. Нам предстаёт не просто один аспект - чисто психологический, экономический или расовый - но весь феномен целиком.
Сосредотачиваясь же лишь на какой-либо одной стороне явления, человеческий взор компенсирует неполноту картины за счёт искусственного преувеличения выбранного аспекта, придавая ему абсолютное значение (будь то экономическое, психологическое или расовое). Подобным количественным раздуванием феномена достигается лже-широта, отражающая тягу человека к Всеведению, к целому.
Человеку бросаются в глаза лишь заметные детали - т.е. те, что вступая в противоречие с другими, резко выделяются на фоне всего прочего. Очевидное противоречие легче приковывает взор человека, чем то, что не является очевидным - а именно действительность целого предмета. К примеру, мы больше не способны объять целиком действительность веры и знания - все наши сведения о них ограничиваются лишь противоречиями, существующими между ними. "Жизнь и дух", "вера и знание" воспринимаются дееспособными только тогда, когда они предстают в диаметральной противоположности друг к другу. Человек уже не в состоянии дать волю вере и знанию, жизни и духу - столь необходимых для его удовлетворительного существования - не став при этом помехой для кого-то ещё.
В действительности противоположностей не так много, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что с явлениями нарочно обращаются таким образом, чтобы они вступали в противоречие с другими феноменами, ведь иначе их могут просто не заметить. Без этого человек даже не обратит на них внимание.
Например: в последнее время отношения между Америкой и Россией пребывают в стадии нешуточного противостояния. Однако на самом деле как русские, так и американцы - и не только они - лишь преувеличивают существующие между ними расхождения, заостряя на них своё внимание, и всё это из-за того, что люди уже не способны разглядеть ничего кроме различий - различий непременно сенсационных и выдающихся, которые просто обязаны быть раздуты, дабы вообще быть воспринятыми. Незаметные стороны жизни сегодня игнорируются, как будто они не существуют вовсе. Такое заострение различий может даже привести к войне, и это было бы самое страшное, что только можно себе представить: войну, начатую не в силу порыва или политической необходимости, но всего лишь из-за присущего человеку психологического изъяна, вынуждающего преувеличивать различия между феноменами просто для того, чтобы он смог заметить их наличие.
2
Когда человек связан с тишиной, знание не обременяет его, ибо сама тишина снимает с него это бремя. [Оттого] груз знаний не угнетал людей прошлого - каким бы тяжёлым он ни был: тишина помогала им нести его. Не за чем было ограничивать знание, ведь избыток его растворялся в тишине, и потому человек оказывался способен всякий раз заново представать перед миром в своей изначальной невинности и непредубеждённости.
Тишина была вплетена в самую суть подхода к знанию; отсутствовала срочная потребность всё раскрывать. Охраняя многое от соприкосновения с языком, тишина получало право на свою долю в вещах.
В том мире тишины вещи не бросались в глаза так, как это обстоит сейчас (когда кажется, что вещи взывают, обращаются к человеку с просьбой принять их в своё распоряжение и озаботиться исключительно ими). Казалось, вещи принадлежали в большей степени тишине, нежели человеку - вот почему он не накладывал на них так страстно своих рук и не эксплуатировал столь интенсивно в собственных нуждах; и даже результаты исследований и разысканий указывали скорее на притаившуюся за ними тишину, чем на сами вещи. То, что открывалось в них, было ни что иное, как тишина, становившаяся теперь слышимой. Это "открывшееся" являлось составной частью тишины, по своей воле представшей перед человеком.
Знание не отрывалось от тишины, но всё ещё пребывало во взаимоотношении с нею. Оно словно было начинено тишиной и, следовательно, оставалось с ней связанным. К примеру, и во времена Геродота знание было чрезвычайно разнообразно, однако при этом над всем объёмом знаний царил покой - покой, источаемый пристальным безмолвием богов и заранее ниспосланный для сопровождения в божественную тишину, присущую вещам и принадлежащую богам.
Так же как сегодня нет различия между тишиной и языком (тишина больше не является феноменом самим по себе, но всего лишь ещё неизречённым словом), так же сегодня нет различия между уже исследованным и ещё не исследованным. Ещё неисследованное - всё ещё скрытое и загадочное - больше не феномен как таковой, но представляет из себя лишь нечто, пока ещё не исследованное.
Это не означает, что современная наука бесполезна, но означает прежде всего то, что в ней больше не случается подлинной встречи между человеком и объектом исследования. В этом-то и кроется фундаментальный изъян лихорадочной активности сегодняшней науки: личная встреча, личное сближение с объектом больше не нужны. Ни объект, ни сам исследователь не имеют мало-мальского значения. Методы современной науки обезличили их. Механизировался сам процесс. Прежде встреча человека с объектом являлась событием: в ней между ними вершился диалог. Объект вручал себя человеку под опеку и охранение, и через личную встречу с человеком и тот, и другой раскрывали себя более полным образом, ибо в ходе такой встречи человек помогал объекту раскрыться полнее, чем объект был до неё. Так было у истоков современной науки: во времена Галилео, Кеплера и Сваммердама.
ВЕЩИ И ТИШИНА
1
В первой главе мы уже рассказали о том, что тишина полностью относится к миру бытия, что её характеризует чистое бытие. Онтологическая власть тишины пронизывает вещи, пребывающие в беззвучности. Тишина укрепляет онтическое в вещах; подручное же в вещах стоит вдали от мира тишины. Оно не соперник ей и не способно ей противостоять.
Бытие и тишина взаимосвязаны между собой. Времена, лишённые связи с тишиной (подобные нынешним), безразличны к онтической стороне вещей. Их заботят лишь выгода, подручность и революционные возможности последних.
Древним народам - человек которых оставался в большей степени самим собой, чем он является сейчас - было свойственно более детское, более скромное и смиренное представление о дарах небес. (Жан Поль)
Целое вещи сосредоточено в её бытии, но лишь малая часть целокупного бытия вещи принимает участие в её становлении, и слово, описывающее становление, приближается к действительности вещи лишь в той степени, в какой все части её существа присутствуют в таком становлении. "Бытие относится к становлению так же, как истина - к видимости" (Платон, "Тимей"). И хотя нынче бытием, кажется, озабочен экзистенциализм, однако на деле он рассматривает не само бытие, но лишь части его, его атрибуты: такие как ужас, забота, смерть, уязвимость; всё перечисленное искусственно преувеличивается им и возводится в абсолют с таким размахом, что в результате атрибуты поглощают собственно бытие.
2
Всякий объект таит в себе пласт действительности более глубокой, нежели обозначающее данный объект слово. Этот потаённый пласт раскрывает себя перед человеком лишь в тишине. Человек непроизвольно замолкает, увидев объект впервые: храня молчание, он вступает в отношения с той действительностью объекта, которая существовала задолго до того, как язык нарёк его своим именем. Безмолвие - это дань уважения объекту.
Потаённый пласт действительности не подъёмен для человеческого языка.
"A une certaine hauteur, dit ernest Hello, le contemplateur ne peut plus dire, ce qu'il voit, non parceque son objet fait defaut a sa parole, mais parceque la parole fait defaut a son objet, et le silence du contemplateur devient l'ombre substantielle des choses qu'il ne dit pas.... Leur parole, ajoute ce grand ecrivain, est un voyage qu'ils font par charite chez les autres hommes. Mais le silence est leour patrie." (Leon Bloy, Le Desespere)
Человек ничего не теряет, поскольку не способен описать этот пласт словами. Что важно: при помощи таких в буквальном смысле неописуемых залежей действительности он вступает в связь с изначальным состоянием вещей, существовавшим до пришествия языка. Более того, потаённый пласт действительности свидетельствует о том, что вещи не являются делом рук человеческих. Будь вещи обязаны своим появлением человеку, язык знал бы о них абсолютно всё.
В мире, где тишина по-прежнему в силе, всякая отдельная вещь привязана к ней крепче, чем к остальным вещам. Будучи самостоятельной, вещь эта принадлежит себе в большей степени, чем это было бы в лишённом тишины мире - в мире, где вещи соединены между собой, но более не имеют отношения к тишине. В мире тишины вещь напрямик предлагает своё бытие человеку - она предстаёт перед ним так, точно её намеренно вывели из тишины. Вещь ясно проступает на фоне тишины, и оттого нет нужды добавлять что-либо для её ясности.
3
Брошенный с необъятных просторов тишины взор способен охватить всё целое, а не только его отдельные части, ибо он всматривается широким и всевидящим оком самой тишины. Слово, возникающее из неё, охватывает объект с силой, изначально присущей ей, отчего часть такой силы передаётся сущности этого объекта.
Слово же, лишённое изначальной связи с тишиной, обращается в чистый, лишь касающийся поверхности объекта звук - оно есть не более, чем ярлык. В результате подобные слова-звуки и слова-ярлыки живут самостоятельной жизнью - как если бы тех вещей, которые они должны описывать, нет в помине. А вещи, в свою очередь, также живут собственной жизнью - вещь с вещью; ибо слово, уничтоженное самим отсечением его от тишины, уже не вмещает в себя свою вещь и та отрывается от слова. Она теряет всякую меру и переступает свои естественные границы. Вещь начинает производить вещь (как это и обстоит ныне), словно человека никогда не существовало. Никакая вещь - даже самая новая - уже не представляется по-настоящему новой, поскольку все они являются лишь звеньями в нескончаемой веренице вещей. По этой причине всякая вещь кажется скучной и чрезмерной.
Сами вещи отворачиваются от человека. Например, старинные статуи в музеях: порой они стоят так, точно замышляют что-то недоброе. Огородившиеся от человека белой стеной, они словно не замечают его. Именно этим отстранённый мир вещей и наводит адскую жуть: он поражает человека лишь своей мерой и масштабом. Но чистая, отстранённая фактичность губительна. Она разъедает и разрушает ресурсы мира.
Сегодня лоб ко лбу столкнулись две грозные структуры: псевдо-мир словесной машины, вознамерившейся перемолоть всё в шум слов, и оторванный от языка псевдо-мир механических вещей, затаившийся в ожидании громкого взрыва и уповающий на создание собственного языка. Как иногда немой в попытке овладеть силой речи вопит так, словно его рвут на части, так и вещи сегодня трещат и разрываются в клочья, как бы в потугах раздаться звуком - трубный гласом [Судного дня].
ИСТОРИЯ И ТИШИНА
1
В ходе человеческой истории - истории отдельных людей и целых стран - время от времени случаются такие периоды затишья, когда не происходит ничего "исторически" важного, когда всё, что вроде бы должно стремиться наружу, словно затягивается внутрь.
Внешние события точно избегают нарушить безмятежное течение тишины и своим спокойствием лишь ещё более укрепляют её мир. В истории порой бывают настолько бедные событиями периоды, что кажется, она сама представляет из себя тишину и ничего кроме тишины и тишина эта с головой накрывает людей и события. Возможно, период между закатом Римской империи и ранней зарёй Романской эпохи как раз и был примером подобного временного затишья.
Вероятно, в начале времён человечество не придавало истории большого значения, ведь в его жизни всё ещё могущественно присутствовала тишина: в ней начинались все исторические события, в неё же они и возвращались. Не было вообще никакой событийной истории, но только одна тишина. "Исторические" личности и события [того времени] лишь являли собой зрелище тишины - на примере их тишины человек познавал свою собственную.
У истории есть две стороны: дневная - сторона всего видимого и заметного, и сумеречная - сторона всего незримого и беззвучного.
А значит, события, не оказавшиеся в распоряжении исторической памяти, - вовсе не являются "не оправдавшей себя" экзистенцией (по Гегелю), но суть события, относящиеся к тишине.
Неспособность человеческой памяти ухватить и впитать в себя всё чрезмерное множество исторических событий вовсе не следует считать её изъяном. Человек вообще не для того устроен, чтобы подмечать и запоминать всё, что ни попадя - ведь события имеют отношение не только к нему, но также и к Незримому, к самой тишине.
Тишина всегда сопутствует всему событийному. Наглядным свидетельством этого стало окончание последней мировой войны - войны, в которой шум восстал против тишины, - когда на протяжении по меньшей мере нескольких дней [миром] властно правила тишина. Ни слова не было вымолвлено о войне - тишина поглощала их ещё будучи непроизнесёнными и на какое-то время она смогла превозмочь все ужасы войны. Не уничтожь её шум индустриальной машины, заново принявшейся за свою работу, тишине удалось бы исцелить мир, заново преобразив его и вернув ему его утраченные силы. Эта неудача стала величайшим поражением послевоенного человека.
Мы говорили, что тишина есть такая же часть истории, как и шум, с той лишь разницей, что она - невидимая её часть, в то время как шум - видимая. Однако уже приблизительно со времён Французской революции человек стал обращать своё внимание только на громкие исторические факты, при этом пренебрегая свидетельствами сопутствующей им тишины - а они не менее важны. Восприятие же в истории одного лишь слышимого есть материализм чистой воды.
И если снаружи исторические деятели и события устремляются в царство видимого и слышимого, то внутри они проникают глубоко в тишину и образуют рельеф её закулисной стороны. Исторические деятели и события преподносят человеку не только свои деяния, но также и безмолвие. Подобно упряжным животным тянут они тишину за собой.
В немом страдании отдельных людей и целых народов частично просматриваются контуры иной стороны истории - истории немотствующей. Но страдания этих людей и народов глубже, нежели видно на первый взгляд. Похоже, человечество скорее предпочтёт страдать в тишине, предпочтёт, даже страдая, оставаться в мире тишины, чем выходить с ними на шумные площади истории. Лишь этим можно объяснить ту стойкость, с которой народ способен терпеливо сносить гнёт тирании.
Посреди всего громогласия истории эти страдальцы выступают послами и союзниками мира тишины. Лишь потому способны они переносить подобные муки, что великая тишина, царящая в мире, помогает внутренней тишине человека нести на себе тяжесть этих страданий. Невыносимыми страдания становятся только тогда, когда, отделившись от великой тишины мира, они сливаются с шумом истории и самостоятельно влачат собственное бремя.
2
Время от времени, как мы уже говорили, наступают такие исторические эпохи, когда тишина отчётливее звука. История [тогда] не просто перетекает напрямую из шума одной эпохи в шум последующей - её течение прерывается эпохой затишья, и лишь тишина этой последней способна обратиться в [очередную] громкую эпоху. Однако, сегодня всё иначе - сегодня шум и громогласие заглушили собой немотствующую суть истории.
Существуют народы, безмолвствующие и дремлющие, кажется, столетиями: такие, как испанцы на протяжении последних трёх веков. Они почуют в тишине, которую, однако, нельзя назвать ни запустением, ни признаком бесплодия. Скорее это свидетельство того, сколь ценна эта тишина для испанцев. Их страну считали отсталой и старомодной из-за того, что та не перешла на рельсы индустриализации и не присоединилась к общему шуму и суете современности. Но Испания не более отстала, чем ребёнок, желающий остаться с матерью или вернуться к ней - к тишине.
В безмолвной сущности таких стран, как Испания, накоплен огромный запас, в них таится мощная опора для прочих стран. Все мы - народы шума и громогласия - живём за счёт капитала тишины, которым по-прежнему располагают народы вроде испанского. Такие нации бездействуют, дремлют и безмолвствуют не ради себя, но ради всех народов - шумных и беспокойных. Испанцы, а вместе с ними и многие народы Азии и Африки, блюдут собственную тишину не ради себя, но и для всех нас. Не имей мы возможности прильнуть к этому неприкосновенному запасу тишины, опустошенность, вызванная чрезмерной бодростью мира шума, достигла бы куда больших масштабов. Все народы мира взаимосвязаны между собой, и потому мы можем впитывать в себя тишину одних народов - в то время как другие пользуются нашим бодрствованием.
3
Во времена, когда наряду с шумом в ходе истории ещё действенно участвовала и тишина, много внимания уделялось знамениям: беззвучному полёту птиц, безмолвию жертвенных животных, бесшумному ходу природы.
Когда Гальба возвращался в Рим, и на всем его пути, от города к городу, справа и слева закалывали жертвенных животных, то один бык, оглушенный ударом секиры, порвал привязь, подскочил к его коляске и, вскинув ноги, всего обрызгал кровью. Вскоре после того Гальба был убит. (Светоний)
Человеческая сущность тогда ещё была преисполнена тишины. Вот отчего тишина, обретавшаяся в мире вне человека, - в немых знамениях, в бесшумном полёте птиц и неслышных движениях природы - легко входила в человеческий мир и настолько чувствовала себя в нём как дома, что само появление её оставалось совершенно незамеченным.
Однако мир знамений нёс угрозу христианскому миру - угрозу Слову, которым жив человек, - и потому Слово Христово изгнало знамения прочь в тишину.
Там, где речётся Слово, знамениям больше нет нужды держать речь - да они и не осмеливаются. Но если язык не твёрд и не ясен, - как сегодня - то человек вновь вынужден отправиться на поиски знамений. Впрочем, нынешние знамения больше не указывают на действительность как прежде: они лишь свидетельствуют о разрушении языка. Они тут именно потому, что тот уничтожен. Точнее сказать, знаменательно само уничтожение слова - правда, в том смысле, в каком знаменательным может быть появление призрака. Иначе говоря, знамения повествуют не о будущем, но о минувшем - о руинах уничтоженного слова.
То, что сегодня принимают за знамения, напоминает статую античного бога - гипсовую имитацию, осыпающуюся от одного взгляда на неё.
4
Если человек - глухой как к слову, так и к тишине - пренебрегает их наставлениями о пути праведном, то уже не они, но сама история и ход её начинают учить его уму-разуму. И тогда истина, более не способная пробиться к человеку посредством слова, являет себя в череде событий.
Слово Христово предостерегало людей от обращения к злу, но они не вняли Ему, и потому были им ниспосланы испытания, дабы образумить их. Отмахнувшиеся от слова, грозившего им крахом, они были поставлены перед фактом краха их собственного существования. Истина заговорила с ними не словами, но событиями - войной и прочими бедами.
Поскольку люди перестали верить учению, отвергающему насилие, ненависть и злодеяние, оно возвратилось к ним в факте войны. ("Гитлер в нас", Пикар)
Время Христово стало речью самой истории - святой истории. Сам Бог явился человеку в Слове, ибо тот отвернулся от Слова.
Миф
Миф расположен между миром тишины и миром слова. Подобно тому, как в сумерках всё видится крупнее, чем на самом деле, так и мифические образы преувеличиваются в размерах, возникая из сумрака тишины.
Оттого-то образы эти так крупно начертаны на стене молчания, что изначально были немы, и не слова, но деяния их говорили за них.
Слова же мифических персонажей, по сути, как будто специально разучены ими для человека, под-сказываются ему и пребывают в ожидании человека.
Пришествие Христа в слово из тишины оказалось столь непосредственным (а эта непосредственность Христа передалась и человеческому слову), что целый мир, расположенный между тишиной и словом, мир мифических образов, разлетелся вдребезги, лишившись всей былой значимости. Мифические герои отныне обратились в демонов, уже не под-сказывающих человеку слова, но крадущих их у него, околдовывая человека своими дьявольскими чарами. Бывшие до рождества Христова проводниками людей, они стали теперь искусителями рода человеческого.
Незадолго до появления на свет Христа, в десятилетия, предшествующие Его рождению, тишина объяла античный мир: древние боги молчали, но молчали действенно, ведь безмолвие их было даром, принесённым в честь приближающегося Христова пришествия. Теперь, когда люди перестали приносить жертву старым богам, последние сами устроили жертвоприношение в честь нового Бога - они принесли Ему в дар тишину, дабы Он превратил её в Слово.
ОБРАЗ И ТИШИНА
Образ безмолвен, но всё же храня молчание, он повествует о чём-то. В нём зримо просматривается тишина, однако рядом с этой тишиной присутствует и слово. Образ - это говорящая тишина. Он точно перевал на пути из тишины в слово. Образ расположился на рубеже между словом и тишиной - на том дальнем рубеже, где друг против друга выстроились тишина и слово, и только красота способна снять напряжение между ними.
Образ напоминает человеку о бытии до появления слова, и в этом суть чувствительности человека к образу: он пробуждает в людях тоску по тому бытию. Однако эстетическое может представлять опасность для человека, если он, пленённый этой тоской, предастся образу, отвергнув свою [подлинную] сущность - слово. Красота же образов делает их ещё более опасными.
Душа есть хранилище безмолвных образов вещей. Она, в отличие от духа, речёт о вещах посредством не слов, но их образов. Вещи присутствуют в человеке двояко: сначала в душе - в виде образов, а потом в духе - но уже в виде слов.
Иначе говоря, в душе обретаются образы, а не слова о вещах: она сохранила в себе то состояние человека, в коем пребывал он до появления слова.
Душевные образы указывают на некую область возвышенного, где нет ничего кроме образов - туда, где образы говорят как слова, а слова - как образы.
В том и заключается различие между человеческим мышлением и Божественным, что Бог выражается на языке вещей, в то время как мы - на языке слов. (Зольгер)
Вещи как будто намеренно препоручают душе свой образ, дабы та передала их дальше - Божественному, изначальному прообразу.
Переизбыток вещей окружает нынче человека, переполняя излишком образов душу его, и нет ей больше безмолвного покоя, но лишь одно безмолвное беспокойство. Человек взвинчен и раздражён, ибо образы, призванные успокаивать, отныне ввергают его в тревогу. Приходящие в душу молчаливые образы уже не дарят душевный покой, но его забирают: привнося смятение в душу, скопом наваливаясь на неё и её обессиливая.
Тишина изгнана из нынешнего мира, и теперь широко распространено мнение, что она - ни что иное, как немотствующая пустота; тишина воспринимается как временный сбой нескончаемого конвейера шумопроизводства. Поэтому так важно, чтобы в душе безмолвные образы вещей остались в сохранности.
Повторим, что всякая вещь пребывает в человеке двояко: с одной стороны - в душе, в виде образа, с другой - в его духе, в виде слова. Присущие душе молчащие образы вещи сосуществуют в человеке бок о бок с присущими духу словами о ней же. Присущие душе молчащие образы вещи вновь и вновь обращают тишину к слову, в котором обретается дух; они прививают тишину к слову и наделяют слово тишиной - наделяют его изначальной мощью безмолвия.
Чем зримее образы вещей в душе человека, тем легче ей держать под контролем слово. Ибо образ удерживается под действием центростремительной силы: отдельные части его устремляются к его центру, к его центральной идее, чем и обеспечивается цельность этого образа. Будучи связанным с образом, слово принимает участие в действии центростремительной силы и удерживает образ от бурного распада. Образное слово сдержаннее слова абстрактного - оно предохраняет человека от безудержных ассоциаций.
В тишине прошлое, настоящее и будущее пребывают в единстве друг с другом (см. главу "Природа тишины"). Единство это присуще и душе - её безмолвным образам, но не в качестве знания прошлого и настоящего - такое знание может быть присуще лишь духу как слово, - оно присуще душе как предчувствие прошлого, настоящего и будущего; в безмолвных образах души обретается это предчувствие. Слово знает, а образ предчувствует. В присутствии же душевных образов даже слово становится провидческим.
Итак, в присутствии безмолвных образов слово часто становится провидческим, однако не размывается, но наоборот - принимает ещё более чёткие очертания. Наличие образа делает вещь, наречённую словом, отчётливо зримой; наличие образа предохраняет слово от чужеродных примесей.
Сны - это те же образы: образы, преисполненные безмолвия. Они подобны цветным оттискам на поверхности тишины. Сны возвращают человеку тишину, растраченную им в пору бодрствования.
Образы сновидений растворяются, и вместо них остаётся лишь тишина, постепенно проступающая в сутолоке беспокойных дней подобно утренней росе.
Сновиденческие образы превосходят по своей силе образы, обретающиеся в бодрствующей душе, и потому прошлое, настоящее и будущее столь тесно переплетены в них; поэтому многие сны становятся вещими.
Психоанализ же разрушает существеннейшее сна, его безмолвную мощь, отдавая её на потребу шумных аналитических кривотолков. Психоаналитический разбор снов, по сути, является ни чем иным, как оккупацией шумом безмолвного мира снов.
ЛЮБОВЬ И ТИШИНА
В любви больше тишины, чем слова.
Афродита, богиня любви, родилась из пены морской, а море - ни что иное, как тишина. По совместительству она также богиня луны - та, что улавливает тишину ночи в тенета отбрасываемых на землю золотых нитей.
Слова влюблённых умножают тишину - в них она прирастает. Слова нужны им лишь для того, чтобы сделать тишину слышимой. Именно в этом заключается смысл любви: чтобы общаясь друг с другом, приумножать тишину. Все остальные феномены растрачивают её, забирают у неё, и только любовь тишине даёт.
Оба влюблённых суть заговорщики, заговорщики тишины. Когда бы влюблённый ни заговорил со своей возлюбленной, она скорее вслушивается в тишину, чем в слова любимого. "Тише!", - едва шепчет она. "Говори тише, чтоб я могла слышать тебя!"
Прошлое, настоящее и будущее слились в тишине воедино. Оттого влюблённые существуют вне течения времени. Ничто ещё не свершилось и всё ещё возможно; то, что будет, то уже тут; а то, что было, то словно пребывает в вечном настоящем. Для влюблённых время остановилось. Именно потому влюблённые так проницательно-прозорливы, что прошлое, настоящее и будущее для любви составляют единое целое.
Ничто так не нарушает повседневное течение жизни, как любовь. Ничто не способно вернуть мир в тишину в той мере, в какой способна любовь.
Тишина любви изымает слово из словесного потока и направляет его к первоисточнику - к тишине. Влюбленные близки к тому изначальному состоянию, когда слово ещё не существовало, но уже в любое мгновение могло появиться.
Любовь высвобождает из мира "производных явлений" (Гёте) не только слово, но и самих влюблённых, приводя их к первофеноменам. Она сама по себе - первичный феномен и именно это делает влюблённых одинокими среди остальных людей, ибо они обитают в мире изначального, а значит - в мире, где присутствие важнее, чем движение, символ важнее, чем толкование, а тишина важнее, чем слово.
Робость, свойственная любви, есть робость всякого начинания, всякой изначальности: влюблённые робеют перед необходимостью погружения из состояния изначальности в суету мира.
Преображение, испытываемое человеком в опыте любви, обусловлено тем, что первофеномен ставит его перед новым началом. Силы, обретённые человеком в любви, черпаются им в той силе, что присуща ей как первофеномену.
Лица влюблённых озарены внутренним светом - это сквозь них просвечивает прообраз любви. Оттого лица их становятся ещё прекраснее. Они словно парят над этим прообразом.
Свойственная влюблённым таинственность обусловлена близостью прообраза.
Чем больше в любви от первофеномена, тем она прочнее.
Пожалуй, влюбленные не лишены беспокойства: это беспокойство прообраза, испуганного перспективой своего воплощения в явленности; обретшего внешние очертания и ставшего явленным, его начинает бросать в дрожь от этого.
И всё же прообраз тоскует по явленности, по воплощению, и ни какой другой первофеномен не отважится зайти так далеко во внешний мир, как любовь; ни в какой другой явленности, ни в какой другой действительности первичный феномен не зрим так отчётливо, как в любви; нигде больше прообраз и явленность не стоят так близко друг к другу, как в любви.
Как мы уже говорили, в любви больше тишины, чем слова. По своей полноте тишина любви сравнима с тишиной смерти! Любовь и смерть взаимосвязаны. Всякая мысль и всякий поступок в любви уже изначально ведёт к смерти. Но чудо любви заключено в том, что в том месте, где возможна смерть, возникает возлюбленный.
В любви больше тишины, чем слова, и:
Несравнимо проще любить, когда любимый безмолвен, нежели когда он говорит. Подбор верных слов весьма пагубен для сердечных порывов. И если кто-то при жизни теряет любовь, то потеря эта становится велика (при условии, что он знает истинную цену любви). (Хамон, процитированный по "Мистицизму и поэзии" Бремона)
Таким образом, любить куда проще, храня молчание. Любить молча проще потому, что в тишине любовь способна достичь самые дальние дали. Однако тишина сопряжена и с опасностью, ибо это пространство, раскинувшееся до самых отдалённых уголков, никому не подвластно - и в нём может оказаться даже то, что к любви отношения не имеет.
Лишь слово делает любовь определённой и отчётливой, лишь оно даёт ей то, что принадлежит только ей одной. Лишь в слове любовь обретает конкретность, лишь в слове она находит опору в истине - в нём и только в нём она становится человеческой любовью.
Любовь - это всего лишь ручеёк, оставивший своё каменистое ложе, превращаясь сначала в поток, а затем и в реку, меняя при этом с каждой новой волной свой нрав и вид, и, наконец, вытекающий в безмерный океан, исполненный, для несовершенных умов, монотонности, но на берегах которого широкие души растворяются в бесконечном созерцании. (Бальзак)
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО И ТИШИНА
1
Лицо человека - последний рубеж между тишиной и словом. Это стена, из которой сочится словесный источник.
Тишина как будто неотъемлема от человеческого лица. На нём имеются не только глаза, рот и лоб, но также и тишина. Пребывая в основании всякой его части, она расположилась на нём повсеместно.
Щёки - это грани, укрывающие слово со всех сторон. Однако резко выдающаяся наружу линия носа указывает на то, что то, что удерживается взаперти по обе их стороны, ищет себе дорогу вовне.
Не наружу стекает тишина по покатому своду лба, но подобно каплям росы собирается внутри.
Глаза: из их обеих глазниц струится свет - заменяющий собою слово и озаряющий сгусток тишины на лице человека. Будь иначе, тишина была бы мрачной.
Уста: словно не они говорят сами по себе, но притаившаяся за ними тишина понуждает их говорить за себя. И тишина эта так полна, что лицо человеческое, наверное, взмыло бы ввысь, не будь слова, которое могло бы снять её напряжение. Тишина точно нашёптывает устам слова; тишина вслушивается в слова, изрекаемые устами.
В тишине очертания уст напоминают сложенные крылья бабочки; но вот уста роняют слово - крылья раскрываются и бабочка упархивает прочь.
Незаметно, без излишнего драматизма совершается незаурядное: на лице человеческом из тишины рождается слово. Лицо сохраняет спокойствие, все движения его спокойны, ибо нет ничего важнее этого величайшего и протекающего в покое события - возникновения слова из недр тишины. Свершающееся преисполнено загадочности: рождённое слово не только не умаляет тишину, её породившую, но, напротив, сгущает её и оттого само же прибавляет в собственном весе.
Так глубока была когда-то ночь тишины на лице человеческом: все события, перед ним разыгрывавшиеся, бесследно растворялись в ней. Мир оставался нетронутым и нерастраченным.
2
Не овладей человек словом, то так и быть бы ему образом, символом, - как животному, которое как раз таково, каковым оно выглядит: в обличье зверя заключена его сущность, и образ его - его слово. Не овладей человек словом, то так и остался бы вместе со всеми тварями не более, чем образом или символом. Земля была бы усеяна памятниками и весь сотворённый мир превратился бы в монумент, воздвигнутый Богом в свою же честь.
Но человек овладел словом, и тем возвысился над собственным обликом - отныне он господин его, ибо посредством слова решает сам соответствовать ли сущности, заданной его образом, его обличьем, или не соответствовать; слово освобождает его, позволяя возвыситься над образом, над собственной внешностью - оно помогает преодолеть ему собственный образ.
Человек может быть таким, каким он выглядит, однако не обязан: слово даёт ему право решать, принять ли свой лик или нет.
Некий Зопир, утверждавший, будто он умеет распознавать нрав по облику, однажды перед многолюдной толпой стал говорить о Сократе; все его подняли на смех, потому что никто не знал за Сократом таких пороков, какими наградил его Зопир, но сам Сократ заступился за 3опира, сказав, что пороки эти у него действительно были, но что он избавился от них силою разума. (Цицерон)
Человек самостоятельно решает принимать ли ему образ, заданный молчаливым выражением своего лица, или нет - и именно возможность подобного выбора преисполняет человеческое лицо выражением собственного достоинства. Этим решением человек выходит из русла естественного течения жизни и заново творит самого себя силою собственного же духа. Иначе говоря, человек свободен от необходимости соответствовать своей наружности, своему внешнему виду, ибо слово - судья и господин его внешности.
Слово определяет человека в большей мере, чем что-либо ещё. С ним человек связан прочнее, чем со своим внешним видом и со своими природными особенностями. В этом причина обособленности человеческого обличия: оно вознеслось выше остальных природных форм, и отныне слово оберегает его, и слову же оно подчинено. Однако из соотнесенности слова с образом вытекает также и прозрачность человеческого обличия: дух, обретающийся в слове, делает человеческое обличие прозрачным, он растворяет его так, словно тот совершенно бесплотен.
Стоит слову в человеке прекратить труд по превозмоганию облика, т.е. податься навстречу собственной наружности, как эта наружность, его внешность утрачивает связь со словом и возвращается к своему естеству - но естество это зло и порочно.
Возможно, человек опустился до дикого варварства наших дней как раз оттого, что, отвергнув порядок, установленный обретающимся в слове духом, он погрузился в собственную звериную сущность и теперь уже пытается установить связь между собой и звериным порядком.
Отпав от слова, человеческое естество теряет связь с остальной природой. Такое обличье похоже на злобный комок плоти, расположившийся в пропасти между словом, которого оно теперь лишено, и остальной природой, связь с которой им также утрачена. Злобно стоит оно между словом и природой. Вместо слова остался ему только крик, вместо тишины - опустошённость.
"Человек способен сохранять человеческий облик лишь до тех пор, пока он верит в Бога" (Достоевский)
3
Человеческий облик сам по себе, ещё до всякого слова, - т.е. безмолвный человеческий облик - есть ни что иное, как чистая наличность; иначе говоря, он словно бы возникает лишь на мгновение ока с тем, чтобы в следующий миг исчезнуть вновь. Так наличествуют звери - как сновиденческий образ, в большей мере относящийся к зыбкой грёзе, чем к незыблемой действительности. Так зверь предстаёт перед наблюдателем - точно он вышел из его сна. Всегда немного напуганный, замирает человек перед ним, словно тот только что вышел из его собственного сновидения и теперь отчуждённо глядит на него. Присутствие животного резко выражено. Никто не присутствует перед человеком так остро, как зверь, однако это всего лишь сиюминутное присутствие. Подобная же сиюминутность присуща и сновиденческому образу. (Такая сиюминутность не свойственна змеям, ибо они беспрерывно струятся между норами, подобно сочащемуся среди камней ручейку, и оттого они выглядят так чужеродно - чужеродно по отношению к другим зверям и к человеку. Птицы же, напротив, сиюминутны, однако, быстро проносясь мимо, они описывают траектории, по которым снова и снова возвращаются на круги своя.)
Лишь посредством слова человек перестаёт быть чистой наличностью; посредством слова возносится он выше зыбкости и кажимости и вырывается из собственной наличности: появляется его вот и он обретает незыблемость, ибо слово незыблемо и слово укрепляет его. Оно изымает человека из чистой сиюминутности, присущей зверям, и помещает его в длящееся мгновение, в вот-бытие. Подлинное слово порождает бытие и опору - и не только для того, что оно определяет и укрепляет, - оно является источником силы, производящей само вот-бытие.
Наличность зверей с одной стороны и вот-бытие человека с другой: это два настолько отличных друг от друга качества, что человек сам никогда не смог бы совершить переход от первого ко второму. Для того, чтобы из наличности существования возник человек, необходим особый акт - и это акт истины в слове.
Стоит человеку утратить слово - то, в чём обретается истина, и то, что порождает бытие, - и облик его превращается в голую наличность, способную лишь на наличное и преходящее, зыбкое и ускользающее. И тогда его уносит чудовищный стремительный поток, судорожно барахтаясь в котором человек пытается превзойти стремительность несущего его течения.
4
Человек, так и не сумевший превзойти собственную наличность силою духа, присущего слову, остаётся таким, каким он и выглядит, а его почерк сходным образом соответствует его наружности. О психологических свойствах такого человека можно судить по его лицу и почерку, однако такой человек будет не подлинным, но упрощённым, ибо он утратил связь с подлинным словом. Физиогномика, графология и психология описывают как раз такого персонажа. Выдавая себя за науку о человеке, за антропологию, они тем самым узаконивают упрощённое человеческое существо. Подобная антропология темна, подпольна и нелегальна, как и всё связанное с ним.
В том, что о человеке судят таким образом, виновны не одни только физиогномисты, графологи и психологи, но прежде всего он сам, ибо он оказывается неспособным преодолеть ту сугубую фактичность, которой представлен. Лицо подобного человека перестаёт быть незримым средоточием, к которому устремляются его составные части и приводящим их порядок, - отдельные части предстают друг перед другом в своей сугубой фактичности; такое лицо словно распадается на куски, маня наблюдающего принять участие в этом распаде; обнажённое, оно требует исследования. Подобному лицу прежде всего недостаёт тишины - тишины, требующей её же и от самого наблюдателя, порождающей её в нём.
На таких лицах слишком глубоко вытравлен весь пережитый опыт - этот опыт слишком явно представлен на нём, он играет на нём слишком важную роль. Ему не хватает просторов тиши, в которых следы былых переживаний могли бы разгладиться и растаять.
То, что в тишине пережитый опыт исчезает, указывает на важный факт: по ту сторону личного опыта существует и другой мир - мир объективного, в котором субъект не важен.
Если на лице отсутствует тишина, тогда ничто уже не защищает слово, ещё не сорвавшееся с уст; все слова неприкрыто пребывают на лице и всякое слово непрерывно речётся с него, даже если при этом и не говорится ни слова; неговорение перестаёт быть молчанием, отныне оно всего лишь временная остановка в работе словесного механизма. Шум обрушивается не с одних только уст, но и из каждого уголка лица, даже если уста так и остаются сомкнутыми. Такое лицо становится поприщем, на котором отдельные части его шумно состязаются друг с другом.
5
Пейзаж и природа накладывают печать на облик и лицо человека, однако тихой силе природного пейзажа необходимо присутствие тишины на человеческом лике, чтобы оказать на него своё воздействие. Лишь при посредничестве тишины пейзаж способен оказывать на лицо формирующее влияние. Силы пейзажа широки и для того, чтобы проникнуть в пределы лица человеческого и его сформировать, им нужна широкая дорога, широкая дорога тишины.
Безмолвный пейзаж на человеческом лице превращается в говорящую тишину: "На лице горца отчётливо прочерчен образ гор. В костях такого лица видны вздымающиеся скалы. На этом лице присутствуют тропы, ущелья и горные вершины, а ясность глаз, расположенных поверх его щёк, подобны ясности неба над окутанными мраком горами.
Приметы моря аналогично отображены на лицах людей, живущих рядом с морем.
Выдающиеся части лица - нос, рот и прочие выступы - напоминают корабли, замершие на морских просторах лица.
Это когда услыхал Посейдон, сотрясающий землю,
В Схерию, где обитал феакийский народ, устремился.
Там он ждал. Подходил уже близко корабль мореходный,
Быстро плывя. Подошел к нему близко Земли Колебатель,
Сделал скалою его и в дно ее втиснул морское,
Крепко ударив ладонью. И после того удалился.
(Гомер)
На замершие на его лице корабли словно издалека поглядывают глаза. Порой, когда настоящее море спокойно, как если бы его глубины пребывали в спячке, эти замершие корабли пытаются сдвинуться. Но вот на горизонте показывается пара тяжёлых кораблей, и корабли на лице вновь замирают как прежде.
Ландшафт нанёс отпечаток на человеческое лицо, и лицо словно парит над собственным ландшафтом, взмывая над и за ним, освобождённое от самого себя. Субъективное на лице больше не имеет значения, а объективное проступает со всей чёткостью. Это свидетельство того, что человеческое лицо не принадлежит лишь себе.
Однако, это не значит, что субъективность стёрта с лица, когда оно сливается с объективностью. Субъективное просто занимает своё должное место, как подпись художника на средневековой картине: полускрытая в углу картины монограмма, содержащая имя и фамилию автора.
Когда на лице отсутствует тишина, лицо в прямом смысле отгораживается, отрывается от природы, становится самостоятельным, так же как город более самостоятелен и более обращён в себя, чем природа.
На таком лице уже не появляется ландшафт, но человек всё же может порой быть связанным с природой и иметь некоторое внутреннее понимание её. На этом лице по-прежнему отсутствует ландшафт, но вместо это оно чрезмерно наполнено "направленностью внутрь". Или, иными словами, нет той тишины и ландшафта, которые могли бы прикрыть "направленность внутрь".
Сегодня на лице не найти больше ни моря, ни гор. Лицо теперь не гостеприимно для них, оно гонит их прочь. Нет на лице им места. Оно столь заострено, что кажется, внешний мир отряхнули и опрокинули с лица его заострённостью. Деревья срубили с лица, горы снесли, а моря осушили - и на обширном пустыре лица возвели огромный город. ("Человеческое лицо", Пикар)
ЖИВОТНЫЕ И ТИШИНА
Сущность человека нагляднее в его словах, нежели в его внешнем облике. "Говори, чтобы я мог тебя видеть!" - сказал Сократ.
Напротив сущность зверей со всей полнотой выражена в их внешнем обличье, ибо зверь таков, каким он выглядит, и он просто обязан быть таким. Человек же может быть таким, как он выглядит, но не обязан, ибо способен вознестись над собственным обликом посредством дара речи: он может быть большим, чем то, к чему его принуждает внешность (См. главу "человеческое лицо и тишина", 2). Человека поясняет слово, тогда как зверя - безмолвие его обличья.
В этом заключено совершенство животных - в отличие от человека их бытие и наличность, внутреннее и внешнее, сущность и обличие не расходятся между собой. В этой согласованности заложена основа животной невинности.
"Внутренней природе человека уделялось столь много времени, что его "поверхность" (облик) оказалась обделена вниманием" - сказал Гёте. Сама пёстрая окраска некоторых животных представляется попыткой вырваться из безмолвия при помощи яркого цвета. Тишина, не сумевшая взрастить язык, приняла образ ярчайшего цвета.
Если Платон был прав, утверждая, что звери произошли от человека ("Тимей"), для того, чтобы он, человек, мог появиться сам - если это так, тогда вместе с животным в человеке из него была исторгнута плотная тишина природы с тем, чтобы у слова появилось достаточно места быть словом.
Но животные остаются рядом с человеком, и вместе с ними - скрытая в них плотная тишина.
В стародавние времена животные для человека были важнее, чем сейчас. Тишина животных утяжеляла и замедляла человеческую речь и движения. Животные тянут лямку тишину от имени человека. Они тянут на своих спинах не только навьюченную поклажу, но также и тяжесть тишины.
Животные - это создания, проводящие тишину через мир человека и языка и укладывающие её перед ним. Многое из того, что разметал человек, тишина животных возвращает обратно в состояние покоя. Животные тянутся через мир подобно каравану тишины.
Животные суть образы тишины. Они в большей мере эти зверо-образы, чем животные. Так же, как звёздные образы всматриваются в тишину небес, так и зверо-образы пристально изучают тишину земли.
Целый мир - мир природы и мир животных - заполнен тишиной. Природа и животные словно протуберанцы тишины. Тишина природы и животных не была бы столь величественной и благородной, если бы она была всего лишь неудачей материализации языка. Тишину вручили природе и животным для её же блага.
Безмолвие животных отлично от безмолвия людей. Безмолвие людей чисто и ясно, поскольку оно стоит перед лицом слова, каждый раз выпуская его на свободу и тут же получая его обратно. Это расслабленная тишина, затронутая словом и его же затрагивающая.
Тишина в людях напоминает полярную ночь северных стран, залитую дневным светом.
Безмолвие животных тяжеловесно. Словно каменная глыба. Животные ступают по каменным глыбам, стремясь оторваться, но они навечно прикованы к ним.
Тишина изолирована в животных, а это значит, что они одиноки.
Она словно физически ощутима. Она рвётся наружу из животного, но животные закрепощены не только из-за того, что они бессловесны, но также потому, что закрепощена сама тишина: это твёрдая, загустевшая тишина.
Конечно - ворон каркает, собака лает, а лев рычит. Но голоса животных суть лишь узкие просветы в тишине. Кажется, что животные стремятся прорваться сквозь тишину всей массой своего тела.
"Сегодня собака лает так же, как и в момент Сотворения", сказал Якоб Гримм. По этой причине собачий лай столь отчаян - ибо от начала времён до наших дней он тщится разорвать тишину, и сама попытка сокрушить тишину сотворения всегда занимает человека.
Голоса птиц вовсе не так отчаянны, как голоса животных. Переливы их трелей, выстреливаемые в тишину словно мячики, напоминают скорее игру, и, кажется, что их песни возвращаются к ним, стоит им вернуться обратно с поверхности тишины.
ВРЕМЯ И ТИШИНА
Время развеяно в тишине.
Бесшумно движется один день за другим. Каждый день остаётся незамеченным, словно Бог только что спустил его из Собственного покоя.
Бесшумно движутся дни в течение года. Движутся они в ритме тишины: хотя день и преисполнен шума, но начало его всегда остаётся бесшумным.
Один день день связан с другим не столько равной мерой часов, которая каждый день одна и та же, сколько равной мерой тишины, в которой зарождается всякий новый день.
Времена года бесшумно сменяют друг друга один за одним.
Весна приходит не из зимы - она приходит из той же тишины, из которой пришла зима, а также и лето, и осень.
Однажды весенним утром вишня вдруг покрывается цветом. Кажется, что белые цветки не распустились на ветках, но словно осыпали их из сита тишины. Не было слышно ни звука; мягко спускались они в тишине и именно тишина окрасила их в белый цвет.
На ветках пели свои песни птицы. И было это так, словно тишина отряхнула с себя последние звуки. Птичья трель подобна подхваченным нотам тишины.
Вдруг на деревьях появляется зелень. Когда одно зелёное дерево стоит рядом с другим зелёным деревом, создаётся впечатление, что зелень перешла с одного дерева на другое, подобно тому, как во время разговора одно слово переходит к другому.
Весна является внезапно: человек всматривается в даль, словно в надежде увидеть предвестника весны, принёсшего её в тишину. Весной человеческие глаза вглядываются в даль.
Сущность весны так смиренна, что что ей нет необходимости проламываться сквозь стены времени и шума. Она просто просачивается через щели времени и вот она тут.
Дети, резвящиеся на площадке, первыми проникают сквозь эти щели. Ещё до начала цветения появляются они со своими мячами в воздухе и стеклянными шариками на земле.
И являются они не из родительского дома, но прямо из этих щелей - вместе с весной. Они подкидывают мячи высоко вверх; они громко кричат, эти первые предвестники весны, указывая путь всему остальному, идущему вслед за весной.
За вешними звуками стоит тишина времени. От неё отскакивают детские мячи, подобно тому, как они отскакивают от стен домов.
Цветы на деревьях становятся воздушными, словно в попытке осесть в тишине незаметно для неё самой, чтобы перенестись в вечно движущемся круговороте времён года в следующую весну, подобно тому, как птицы, сидя на кораблях, продолжают своё собственное странствие.
Затем совершенно незаметно приходит лето.
Воздух горяч от стремительности его вторжения. Словно бросившись из укрытия, вещи лета внезапно объявляются во всей своей полноте. Но никто не слышал, как лето пришло. Оно тоже наступило в тишине. Укрытие, затаившее в себе всю полноту лета, врывается в тишину. Никто не слышал и звука, когда время с глухим ударом обрушило на землю лето. Всё свершилось бесшумно.
Но с приходом лета всё тут же начинает голосить: звериные голоса становятся громче, люди бросаются словами словно мячами; из садов и таверн сыпятся голоса так, словно внутри им уже слишком тесно. Звуки лета празднуют победу над тишиной.
Отныне тишина скрывается в лесу. Лес подобен зелёному туннелю, ведущему из летнего шума в тишину. И так же, как одним видится свет в конце туннеля, так и лесной олень словно вспышками света озаряет собой тишину.
Отныне тишина затаилась, но в любой миг она способна выйти наружу и покрыть всё собою. В жаркий летний полдень всеобъемлющая тишина поглощает всякий летний звук. В такие мгновения кажется, что лето замирает в тихом спокойствии. Замирает так, словно уже никогда больше не придёт движение. Его образ как будто оттесняется в воздухе с тем, чтобы пребывать в нём в подвешенном состоянии.
Со следующим вздохом тишины приходит осень.
Подобно птицам, перед отлётом густо облепившим высоковольтные провода, с веток яблонь свисают яблоки . То тут, то там с каждым падением на землю яблока на миг наступает тишина. Тишина словно протягивает руку к яблоку, чтобы сорвать его.
Окраска листьев и плодов приобретает большую живость. Кажется, что захоти кто сорвать их, они тут же заголосят. Тёмно-синие ягоды винограда напоминают собой головки нот. Тёмные головки ягод густо налиты песнями жнецов.
Осенью всё тянется к речи: кажется, сама тишина подпевает между песнями жнецов.
Зимой тишина становится видимой: снег - это обретшая очертания тишина.
Пространство между небом и землёй объято тишиной; они всего лишь край снежного безмолвия.
Снежинки встречаются в воздухе и падают вместе на землю, уже всю белую от тишины. Тишина встречается с тишиной.
По краям улицы безмолвно стоят люди. Человеческий язык присыпан снегом тишины. Тело, застывшее в тишине словно столб - единственное, что осталось от человека. Тишина перетекает между замершими людьми.
Тишина сопровождает время, и она же задаёт время. Его спокойствие исходит из тишины, заключённой в нём. Но звучание измеримого времени, ритмическое биение времени - утоплены в тишине.
Тишина раздвигает время.
Когда тишина настолько превосходит время, что время совершенно растворяется в ней, тогда время замирает. И тогда нет ничего кроме тишины - тишины вечности.
Когда во времени больше не остаётся тишины, шум его несущегося потока становится различимым для слуха. И тогда больше нет времени, но есть лишь стремительность рвущегося потока. Люди и вещи тогда словно бы вовлечены в стремительный поток движения времени, больше не являющийся самостоятельным, но ставший составной частью самого времени. Люди, вещи и время состязаются друг с другом в гонке и существуют лишь как соперники в этой гонке - "в гонке со временем" и в гонке времени с людьми и вещами.
Не будь тишины во времени, не было бы ни прощения, ни забвения. Как время входит в тишину, так же вместе ним входит и всё, что случается во времени; следовательно, тишина, присущая времени, ведёт человека к прощению и забвению.
Когда тишина полностью поглощает в Вечности время, не остаётся больше ничего кроме великого забвения и прощения, ибо Вечность пронизана великой тишиной, в которую падает и исчезает всё, что когда-либо случалось.
Да, дух стоит выше времени и выше тишины, скрытой во времени - именно дух обуславливает забвение и прощение. Но духу легче даётся прощать и забывать, когда во времени он встречает тишину: тишина напоминает ему о Вечности, которая по себе есть великое безмолвие и прощение.
ДЕТСТВО, СТАРОСТЬ И ТИШИНА
Ребёнок
Ребёнок подобен маленькому холмику тишины. И на этом маленьком холмике тишины вдруг возникает слово. Когда дитя изрекает первое своё слово, холмик этот становится ещё меньше. Словно по волшебству он проседает под тяжестью слова, и слово при этом стремится выглядеть важным.
Это так, словно с этим звуком, обронённым из детских уст, ребёнок стучится в двери тишины, и тишина отвечает: Вот она я - Тишина; я пришла со словом для тебя.
Слову непросто выйти из тишины ребёнка. Подобно тому, как ребёнка ведёт мать, так же и тишина подводит слово к детским устам и крепко держит его, отчего каждый слог поодиночке должен отделяться от тишины. В детских словах больше тишины, чем звука, и больше тишины, чем настоящего языка.
Изрекаемые ребёнком слова текут не по прямой, но по выгнутой линии, словно они замышляют снова свалиться в тишину. Медленно держат они свой путь от ребёнка к другим людям и, прибыв на место, ещё немного колеблются: остаться ли им там или же вернуться в тишину. Ребёнок следит за своим словом так же, как он смотрит за полётом мяча в воздухе, чтобы увидеть вернётся ли тот или нет.
Ребёнок не способен заменить слово, с таким трудом выведенное из тишины, на другое слово; даже местоимением не может заменить его. Ибо для ребёнка каждое слово возникает как бы впервые, а всё, что впервые, что совершенно ново, то естественным образом не желает быть заменённым чем-либо ещё.
Ребёнок никогда не говорит о себе как о "Я", но обязательно скажет своё имя: "Андрюша хочет...". Детям кажется, что они пропадут, если вместо своего имени назовут местоимение, т.е. вместо имени, только что со словом вышедшего из тишины и пребывающего в мире впервые.
Детский язык поэтичен, ибо это язык начала вещей, а значит - язык первичный и непосредственный, так же как первичен и непосредственен язык поэтов. "Луна сломалась", говорит ребёнок про молодой месяц. "Отнесём её маме, чтобы она починила".
Детский язык мелодичен. Слова, робко вышедшие из тишины, укрываются и защищают себя в его мелодии. В словах ребёнка больше мелодии, чем содержания.
Кажется, что тишина накапливает собственные запасы внутри ребёнка для шумного мира последующих лет, когда ребёнок уже станет взрослым. Взрослый, сохранивший в себе не только остатки детской речи, но и детской тишины, способен доставлять радость другим людям.
Язык ребёнка - это преображённая в звук тишина. Язык же взрослого - звук, ищущий тишины.
Дети - эти маленькие холмики тишины - разбросаны повсюду в мире слов в напоминание людям о происхождении речи. Они словно тайный заговор против чересчур динамичного мира наших дней. И порой они не только напоминают о том, откуда вышло слово, но также и предупреждают о том, куда оно может вернуться: обратно в тишину. Да и что может быть лучше для искажённого слова, чем вернуться в эти маленькие холмики тишины, чтобы затем раствориться в них? Тогда на Земле остались бы одни лишь холмики тишины, и слово бы погрузилось бы них глубоко-глубоко - для того, чтобы в глубине тишины могло зародиться новое, истинное слово.
Старики
Медленно взбирается Слово из тишины в ребёнке, и так же неспешны слова стариков на своём обратном пути в тишину, являющейся ни чем иным, как концом жизни. Подобно ставшей слишком тяжёлой ноше слово срывается с уст старика - больше вниз к тишине, чем к другим людям, ибо старик обращается больше к тишине, чем к ним.
Как тяжёлыми камнями во рту ворочают старики своими словами. Они словно закатывают их обратно в укрытие в тишине - ещё до того, как сами уже покинут эту землю - в попытке вернуть тишине слова, столь легко принятые ими из тишины, когда они были ещё детьми.
Старик и старуха, безмолвно сидящие рядом на вечернем крыльце своего дома... Они пребывают в тишине - так же как и каждое их слово, как и каждое движение, вызванное этим словом. Они больше не вслушиваются в речь тишины, ибо уже сами стали частью тишины. Как раньше они водили на реку скот, так сейчас они проводят вечер к водопою тишины и ждут, пока тот не пресытится. Затем медленно встают и отводят его обратно в уютный свет дома.
Ещё до того, как самим спуститься в тишину смерти, в стариках уже присутствует нечто от этой смертной тишины; движения их замедленны, словно они не хотят беспокоить тишину в конце пути. Неуверенно, с помощью палки передвигаются они так, будто идут по мосту без ограды, по обе стороны которого больше не язык, но смерть, вздымающаяся им навстречу. Они идут за тем, чтобы смертная тишина встретилась с их внутренней тишиной. Последнее слово старика напоминает корабль, везущий его из тишины жизни в тишину смерти.
ТИШИНА И КРЕСТЬЯНИН
1
Деревня... Робко вырастают стены домов из земли - сначала медленно, шаг за шагом, горизонтально, затем немного ввысь, осторожно, словно опасаясь натолкнуться на нечто, чего касаться нельзя.
Подобно выброшенной старой обуви, раскинулись сельские дороги. Они коротки и, внезапно прервавшись, пропадают за углом. Они напоминают остатки некой великой дороги, которой уж больше нет. Лишь тишина гуляет по ним, в хвосте которой тянется немногочисленная группка людей.
А из маленьких окошек домов за собственным шествием по дороге следит всё та же тишина.
Люди неспешны, словно пытаясь попасть в неспешный ритм самой тишины.
Утром два человека на улице стоят рядом и разговаривают друг с другом. Осторожно озираются, словно ночная тишина всё ещё наблюдает за ними. Они неуверенны могут ли говорить вслед тишине ночи, и оттого слова украдкой кружат между ними. Они говорят уже битый час, но кажется, что с каждой минутой тишина становится всё плотнее.
2
Весной сквозь щель в тишине сначала беспрепятственно проскальзывают первоцвет и серёжки, а после них уже появляются тюльпаны и крокусы. И появление их столь внезапно, что кажется его можно услышать, однако звук переходит в цвет: в сияющую красность и жёлтость тюльпанов.
Птицы начинают петь. И песня эта напоминает шелест птичьего крыла в воздушной тишине.
Летом цветы в садах налиты подобно спелым плодам, как разноцветные мильные камни - путевые столбы, стоящие на дорогах тишины.
Порой летним днём деревня погружается в тишину, словно уходит под землю. Стены домов - единственное, что остаётся ещё над землёй, и только церковная башня возвышается подобно крику о помощи - крику, в тишине обратившемуся в камень.
В такие летние дни цветы в садах выглядят иначе: цветы потемнее подобны водорослям на дне океана тишины; а те, что поярче - напоминают отражённые на глади тишины образы звёзд или сверкающую в толще тишины рыбу.
3
Пасущийся на полях скот: они словно животные тишины. Широкие спины... Кажется, они тянут на себе саму тишину. Глаза их подобны бурым камням на дороге тишины.
Вот идут две коровы, а рядом - человек... Он словно сливает тишину со спин коров на поля, или словно боронит тишиной.
Мычание коровы подобно прорехе в тишине - тишине, разрывающейся на части.
Широкие взмахи людей в поле - они заново сеют тишину, погубленную в городах.
4
Жизнь крестьянина проходит в тишине. После блужданий слова возвращаются в бесшумные движения человека. Движения крестьянина напоминают растянутое слово, в долгом странствии лишившееся собственного звучания.
Когда крестьянин косит, сеет или доит, то движения его остаются каждый раз одними и теми же. Совершаемые им действия так же явственны, как и дом, в котором он живёт, или растущее в поле дерево. Неизменный порядок повторяемых движений поглотил в себе весь шум работы, и работа крестьянина погружена в тишину. Ни в каком ином призвании упорядоченность повседневного труда не проступает столь явственно и очевидно, сколь в крестьянском труде.
Крестьянин продвигается вслед за плугом и лошадьми... Все поля мира распластались под его плугом, под поступью крестьянина и его лошадей. Движения крестьянина, лошадей и плуга не зависят от языка, поскольку никогда они из него и не выходили, словно крестьянин, перед тем как выйти в луга, вовсе не говорил: "Сейчас я отправляюсь пахать поле"; и вообще - словно человек ни разу и слова не обронил о полях, лошадях или пахоте, ибо движения крестьянина стали подобны бесшумному пути звёзд на небе.
Крестьянин движется так медленно, что кажется, звёзды движутся вместе с ним и их пути - пути крестьянина и звёзд - бесшумно пересекаются в тишине.
Зерно, обильно просыпающееся из ладони крестьянина в разверстую землю, напоминает звёзды, щедро усеивающие собой Млечный Путь. Зёрна и звёзды совместно сияют в дымке и лёгком тумане.
Крестьянская жизнь похожа на созвездие тишины на человеческом небосводе.
Поскольку вся крестьянская жизнь обрела упорядоченный характер, она вышла за рамки остальной человеческой жизни и связана в большей мере с порядком природы и внутренней жизни, чем с людьми, пребывающими вне мира тишины и упорядоченности.
Порой, когда крестьянин ступает по раздолью поля вслед за быком и за плугом, приближаясь навстречу горизонту - туда, где небо соприкасается с землёй - кажется, что в следующий же миг небосвод примет в себя крестьянина вместе с его быком и плугом, дабы тот, словно одно из созвездий, пропахал небесную твердь.
5
Крестьянин - звено в цепи поколений - как предыдущих, так и последующих - так что поколения прошлого, так же как и ещё не рождённые поколения будущего, пребывают вместе с ним в тишине. Человек любого другого образа жизни, отличного от крестьянского, не только навязчивей крестьянина, но и более вовлечён в настоящее и больше отрезан от прошлого и будущего, он больше отрезан от тишины.
Когда крестьяне шумят на своих празднествах, то они словно бы пытаются вырваться из объятий тишины, и для этого им необходимо прилагать усилия.
Взгляните на движения крестьян на старинных картинах голландских мастеров. Движения их лиц и конечностей суть движения людей, только что восставших из тишины, яростно отряхивающих с себя весь мир и спокойствие, и сквозь слёзы и смех производящих одномоментно все только возможные движения, на кои способны их лица и конечности - всё, о чём они позабыли в тишине.
6
Крестьянин, сидящий вечером с женой перед домом - оба погружённые в затянувшуюся тишину... Вдруг из уст одного или другого в тишину роняется слово. Но тишина не нарушена: слово как будто лишь постучалось, чтобы удостовериться, что тишина всё ещё тут, и снова отступило назад. Или же оно появилось лишь с тем, чтобы тишина предстала во всём своём величии; это последнее слово, бегущее за остальными - уже прозвучавшими и сгинувшими, запоздалое слово, принадлежащее больше тишине, чем языку.
Это безмолвие крестьянина вовсе не значит потери языка. Напротив: в подобном состоянии тишины человек возвращается к началу времён, когда он ждал от тишины дара слова. Он словно раньше и не владел словом; оно словно давалось ему теперь в первый раз. Первое слово опять появляется - но не из человека, а из тишины.
Слово, срывающееся вверх с просторов тишины, подобно человеку, взмывающему ввысь с уровня земли. Но сегодня только у крестьянина сохранился этот изначальный уровень тишины. Крестьянин, взмывающий вверх с полей, соответствует изначальному уровню тишины, из которого возникают человеческие слова.
ЛЮДИ И ВЕЩИ В ТИШИНЕ
1
Nous nous taisions. Heureux ceux, heureux deux amis, qui s'aiment assez, qui veulent assez se plaire, qui se connaissent, qui ¿entendent assez, qui sont assez parents, qui pensent ec sentent assez de même assez ensemble en dedans, chacun séparément, assez les mêmes, chacun côte à côte, de marcher longtemps, longtemps, d'aller, de marcher silencieusement le long des silencieuses routes. Heureux deux ainis, qui s'aiment assez pour (savoir) se taire ensemble. Dans un pays qui sait se taire. Nous montions. Nous nous taisions. Depuis longtemps nous nous taisions. (Пеги)
За благо следует почитать не только общее понимание сути вещей, но также и понимание сути тишины. Быть безмолвным значит не просто молчать. Тишина должна присутствовать в человеке на правах первичной действительности, а не только в качестве противоположности речи. Пребывание в этой первичной тишине придаёт иное измерение жизни человека, который лишь будучи в слове является самим собой: такое пребывание оживляет тишину. Оно направляет его вовне жизни в слове - в жизнь вне слова, т.е. направляет человека вне его самого.
Часто Платон Каратаев говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то и другое было справедливо... Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад... Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. (Толстой, "Война и мир")
Это наглядный пример человека, пребывающего внутри столь прочного, неизменного порядка, что для совершения поступков слово больше не требуется. Поступки следуют один за другим - беспрепятственно и незаметно.
Платон Толстого не нуждается в словах, и, следовательно, его слово обретает самостоятельность. Оно более не связано с предметом или с другими словами, но всё же ещё не раскрепощено до конца: оно блаженно парит поверх предметов и поступков. Слова взаимосвязаны и удерживаются друг с другом не за счёт формальной внешней логики, но посредством блаженства их собственной свободы. Поэтому "здесь нет противоречий", и человек может "говорить совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то и другое будет справедливо".
Слова указывают не на себя и не на вещи или поступки, описываемые ими, но на блаженство внутренней свободы. Такой человек может говорить и при этом быть безмолвным; молчать и при этом говорить. По сути дела слово озвучивает тишину, и счастье, обычно переживаемое лишь как ощущение, обретает очертания явленного предмета, ясно видимого в своей открытости.
2
Крошечные старинные городки кажутся лежащими в пропасти тишины, по окраинам всё ещё окутанные тишиной. Словно в этом месте с тишины стянули покрывало; словно сама тишина глядит с высоты вниз на городок.
Дома как будто онемели от ошеломления, вызванного чересчур внезапным появлением маленького городка на поверхности тишины.
В маленьком городке всё расположено очень близко друг к другу. Дома, улицы, площади теснятся так плотно, словно приготовились к немедленному самоустранению. Кажется, что достаточно одного единственного толчка, и всё снова исчезнет в зияющей тишине.
Улицы походят на мосты, перекинутые над тишиной. Пешеходы же ходят по ним взад и вперёд так медленно, что создаётся впечатление, что они опасаются за прочность земли под ногами.
Надёжен лишь собор - он стоит подобно крепкой трубе, по которой тишина опускается вниз навстречу ещё более глубокому безмолвию.
Крупные города современного мира резко отличны от этой картины. Тишина словно внезапно взорвалась и разметала всё вокруг в хаос и смешение. Сам город оказался разрушен в результате взрыва тишины. Он лежит теперь в обломках, оставшихся после взрыва, и похож на руины тишины.
Язык, на котором разговаривают люди в крупных городах, больше не принадлежит им. Он стал частью общего шума, словно слова больше не проистекают из человеческих уст, но в виде визга и крика происходят из недр механизма мегаполиса.
Распространено мнение, что если ищешь "спокойствия природы" и тишины, то достаточно выбраться за город. Но люди и там не обретают тишины; ведь вместе с собой они приносят шум больших городов и собственных душ.
В этом опасность движения "обратно к земле": шум, ранее сосредоточенный в крупных городах, запертый в них словно в темнице, вырывается теперь на природу. Децентрализация мегаполисов равнозначна децентрализации шума, а значит распространению его вне города.
3
Порой, когда полуденный свет освещает стены дома, то свет этот словно овладевает ими от имени тишины. В полдень с приходом жары можно ощутить приближение тишины. Свет уверенно ложится на стены в знак их принадлежности тишине.
Дверь в стене заперта, окно задёрнуты занавесками, люди внутри затихли, словно склонив свои головы в приближении тишины.
Кажется, что под давлением тишины стены вдавливаются внутрь дома.
И вдруг стены изнутри озаряет песня. Звуки её подобны ярким шарикам, ударяющимся о стену. И с этого момента тишина начинает подниматься по стене и отрывается в небо, и окна в стене напоминают ступени лестницы, по которой ввысь вместе с песней устремляется тишина.
4
Вот у дороги стоит скамейка, а на - ней кошка. И за вымощенной булыжником дорогой нет ничего, кроме лугов, крутым скатом спускающихся в долину. Скамейка, кошка, улица, луг словно парят между небом и землёй на дне откоса. И здесь, в этих немногих сущностях, притаилась сама тишина. Она словно покинула мир с тем, чтобы обрести свой покой в этих нескольких вещах.
Кошка так бездвижна, как будто она недавно ещё была одной из скульптур, вечно украшающих собой стены соборов: безмолвное животное, присматривающее за самой тишиной.
Животное, залитая солнцем скамья, мостовая, поле - мир тишины приподнял их над обыденностью. Животное, скамейка и земля вернулись в начало, когда отсутствовал язык, и имелась одна лишь тишина. Таким образом сейчас они таковы, какими были изначально и какими будут в конце мира.
Глядя на них, человек желает добавить к этим беззвучным вещам собственное безмолвие, чтобы оно смогло вместе с ними путешествовать от сотворения мира к его концу. Он выговаривает в нём то, что видит перед собой, и в слове этом тишина предстаёт ещё явственнее, чем в образе.
5
Огромная каменная стена - огромная внешняя стена Античного Театра в прованском Оранже: это сама тишина.
Это не та тишина, что выталкивает себя из слова; каменная конструкция не раздавливает тишину. Здесь она изначально присутствует в камне - в камне, так же, как греческие боги - в мраморе: так, словно и не человек высек их из мрамора, но словно они сами по себе - из мрамора, словно они долгое время странствовали сквозь мраморную породу, покуда не добрались до края мраморной горы. Словно из врат, последних врат мраморной горы, из мрамора вышли боги.
И тишина этой стены точно такая же. Она будто прошла через все камни мира, пока, преисполненная ожидания, не явилась здесь в виде последней каменной стены. Круглые врата разверзлись из стены в нижней её части и по сторонам, словно приготовившись исторгнуть из себя в мир свою тишину.
Будь стена эта только из одного камня, то она была бы мемориалом тишины - всего лишь мемориалом. Но она состоит из множество малых камней, возвышающихся над землёй и растянувшихся вширь по длине стены подобно органам тишины.Тишина жива; она не всего лишь мемориал. Камни напоминают собою каменную плоть тишины. Глядя на эту величественную стену, можно даже почувствовать всю плотность тишины.
Кажется, здесь сосредоточено столько тишины, что её хватит на весь мир - прямо на этом месте можно возвести целый мир тишины: его фундамент из тишины; реки несут в берегах не воды, но тишину; плотно прижавшиеся друг к другу, словно камни в этой стене, стоят деревья по берегам рек.
Сквозь листву деревьев пробивается яркое сияние, и это сияние листвы подобно плодам тишины.
ПРИРОДА И ТИШИНА
1
С человеческой точки зрения природная тишина противоречива. С одной стороны это блаженная тишина, поскольку она наделяет человека смутным ощущением того великого безмолвия, что царило над миром до того, как появилось слово, принесшее за собой и всё остальное. И в то же время она подавляет тем, что возвращает человека обратно в то состояние, в котором он пребывал до сотворения языка; до сотворения самого человека. Изначальная тишина словно угрожает опять лишить его слова.
Будь человек всего лишь частью природы, то он никогда не был бы одинок. Он был бы постоянно связан со всем через тишину - но связью, касающейся только природной стороны своей натуры. Однако, человек не только часть природы, он также и дух, а духу одиноко, если он связан со всем лишь посредством тишины, ибо для связи с миром духу необходимо слово. И тогда дух уже более не одинок в присутствии безмолвной природы: он говорит и при этом пребывает в тишине. При помощи слова он может сотворить тишину. То, что слово способно породить из себя нечто совершенно иное, отличное от того, что содержится во внешней данности слова, а именно - нежданную тишину, свидетельствует о божественном происхождении слова.
Связь вещей с тишиной непрерывна, связь же со словом привязана к данному моменту. Однако в слове является момент истины, и это - момент Вечности.
Мы сказали уже, что связь вещей с тишиной непрерывна; она воздух, которым дышит природа. Движения природы суть движения тишины. Смена времён года протекает в ритме тишины - она покрывает собой порядок смены времён года.
Безмолвие природы есть первичная действительность. Все проявления природы направлены лишь на то, чтобы сделать тишину ясно видимой. Они - образы тишины, выставляющие не столько себя, сколько тишину, подобно знакам, указывающим на местопребывание тишины.
2
Вначале, ещё задолго до вещей, была тишина. Лес рос, словно подражая ей: ветви деревьев подобны тёмным линиям, следующим за движениями тишины; листья густо покрывают ветви, словно тишина желает утаить себя.
Птицы поют в лесу. Звуки эти не направлены против тишины: они суть взор самой тишины на лес.
С разрастанием тишины разрастается и лес. Листья опадают кучнее, а птицы поют звонче. Но теперь ясный взор тишины более не способен пронзать лес.
Широкая спина горы... Кротко подставляет она себя человеческому взору и смиренно ждёт, когда же человек издаст крик. И тогда лес подхватит слово и вернёт его человеку, ибо оно принадлежит человеку, а не лесу.
После эха тишина становится ещё глубже, но там, где в сторону горы промчалось эхо, лесная опушка словно преобразилась.
Цветы за лесом напоминают растаявшую и сверкающую на солнечном свете тишину.
За лесом - озеро: оно подобно печати, наложенной тишиной на поверхность земли. Или внезапно оно может показаться серо-голубой плитой, прибитой к земле и не дающей тишине окончательно распасться и засыпать собою всё вокруг.
По обе стороны озера видны два пароходика - медлительные, настороженные, внимательные.
Рядом с озером стоит мощное дерево. Его тяжёлый ствол вдавлен в землю, подобно огромному колу, вбитому в тишину. Но тишина взвилась вверх по стволу, и раскинувшаяся крона дерева словно расчищает пространство для тишины.
Вещи природы преисполнены тишины. Они как будто огромные запасы её.
Лес напоминает огромный резервуар тишины, из которого струится тонкий, медленный поток, наполняющий воздух своей прозрачностью.
Гора, озеро, поля, небо - они словно только и ждут сигнала, чтобы опорожнить собственную тишину на шумные вещи человеческих городов.
Птица летит из одного конца долины в другой. Своим тельцем она похожа на клубок тишины, запущенный кем-то сквозь пространство, как мяч. Словно мяч птичье пение рассекает воздух, и тишина становится ещё явственнее после каждой трели, изданной птицей.
В ждущем спокойствии тишина разрастается в вещах. Вещи как будто утопают в тишине, они словно её внешний край. Именно это случилось со старыми деревнями на горных склонах Тичино. Они погрузились в тишину, подобно кораблям, покоящимся на дне океана, а облака над ними похожи на пёстро раскрашенную рыбу, однажды столкнувшуюся с огромными обломками на дне моря и теперь держащуюся от них на солидном расстоянии.
Люди, неспешно прогуливающиеся по этим деревням, похожи на водолазов, извлекающих с морского дна утерянные сокровища тишины.
Тот, кто вошёл сюда ещё разговаривая, уходит уже в полном безмолвии.
3
С приходом весны из тишины возвращаются вещи, уже более сосредоточенными на самих себе.
Весной, когда листья подобно бабочкам робко оседают на ветвях деревьев, а синее небо так беспрепятственно переливается в их кронах, что кажется, что листья трепещут скорее в небе, чем в кроне, в такие моменты дерево больше относится не к тишине, а к небу и к самому себе.
Олень в прыжке проносится мимо двух деревьев, и яркие пятна на его шкуре похожи на звук, промчавшийся в тишине.
Затем неожиданно появляется месяц, чей серп подобен открывшейся прорези, сквозь которую на лес устремляется тишина и вскоре заполняет собою всё вокруг.
В разгар летнего дня в мир врывается тишина. Кажется, замерло само время, скованное этим внезапным толчком.
Небосклон простирается ввысь, и небо подобно вышнему краю безмолвия.
Земля низко проседает. Виден лишь её край - это нижний край тишины.
Гора, деревья и разбросанные дома словно последние остатки всего того, что полуденная тишина тщательно впитала в себя. Сгустившаяся тишина замерла, и кажется, сдвинься она хоть чуть-чуть, то сгинут и эти последние остатки.
В небе медленно летит птица, и её движения подобны тёмным нитям, удерживающим тишину заключённой в себе. Словно тишина может развернуться в любой момент и затянуть всё в себя.
Не темнота, но свет принадлежит тишине. Никогда не бывает он так ясен, как в летний полдень, когда тишина окончательно превращается в свет.
Тишина словно раскрывается перед нами, и свет предстаёт сущностью тишины.
В эти летние дни тишина обнажена, и неприкрытый свет бросается в глаза. Ничто не движется, ничто даже не смеет сдвинуться.
Свет настолько точно выражает суть тишины, что всякое слово кажется лишним. Свет предстаёт воплощением тишины.
Порой из нас исходит свет глубинный, и всякий свет иной уже не нужен больше. (Гёте)
Ночью тишина спускается ближе к земле. Земля покрывается тишиной, и кажется, что она проникает даже сквозь поверхность земли. Слова дня растворяются в тиши ночи.
Вдруг в ночи раздаётся птичье пение. И песня эта подобна остатку всех дневных звуков, в страхе обнявших друг друга и нашедших в пении птицы своё укрытие.
По озеру скользит лодка, и удары вёсел о воду подобны стуку о стену тишины.
Ночью деревья тянутся ввысь, словно своими стволами подхватили что-то и собираются передать тишине. Наследующее утро стволы кажутся более вытянутыми, чем до этого вечером.
Отчуждённые от себя и отчуждённые от места собственного пребывания вещи стоят в ночи словно днём тут их не было и в помине, и только ночью, незаметно для них самих, их расставила тишина. Они тайно прибыли сюда на тишине, как на корабле: как Одиссея вынесло на Итаку, и на морском берегу сокровища лежат вокруг него, так же и вещи выносятся в ночь.
4
Порой безмолвие природы выглядит как бунт - словно оно жаждет вторгнуться в человеческое слово.
Ветер воет, несясь сломя голову, как будто в поисках слова, чтобы вырвать его из говорящих человеческих уст; слово исчезает в завывании ветра.
Когда завывает ветер, природа напугана тем, что тишина может оставить её и место безмолвия займёт что-то иное.
В бурю тишина съёживается, но в блеске молнии, озаряющей лес и обгоняющей гром, вырывается стрелой.
В гнущихся деревьях сквозит страх. Это страх существа перед лицом изменения и превращения.
Но вот внезапно всё стихло. Неистовый ветер разбил все звуки вдребезги.
Море грохочет. Оно словно жаждет разорвать себя, словно вздымающимися волнами желает обнажить себя.
Но вдруг оно погружается в себя, словно в собственной глуби нашло то, что искало; и морские глубины вновь накрывает покой.
Ночью нити луны подобно сетям проникают вглубь моря. И теперь, когда под гнётом тишины, море утопает в самом себе, это похоже на то, когда в звучании моря растворяются все человеческие звуки и испуганный человек издаёт вопль, обращённый к себе.
Огонь... Когда в потрескивающем огне замирает пламя, а затем вновь возвращается во внезапной вспышке, то кажется, что огонь решил ухватиться за что-то - отчего и замерло пламя, - но потом вздымается ещё выше и яростнее в ещё более глубоком отчаянии.
5
Когда в природе тишина сгущается так плотно, что кажется, что все проявления природы не более чем скопление этой тишины, то человек словно бы лишается слова, а само слово - является всего лишь разломом в тишине.
Есть ли в мире другая страна, чьё безмолвие столь же совершенно? Здесь, в краю эскимосов ветер не гуляет в ветвях, ибо на них нет листьев. И птицы не поют. Нет журчания бегущей воды. Нет зверей, испуганно скрывающихся в темноте. Нет камня, соскользнувшего под стопой человека и упавшего затем в реку, ибо все эти камни прочно вмёрзли в землю и похоронены под покровами снега. И всё же слово отнюдь не умерло: это только обитающие в одиночестве существа стали бесшумными и невидимыми.
Это спокойствие, такое уединяющее, так успокаивающе действующее на мои изношенные нервы, постепенно начало наваливаться на меня тяжёлым бременем. Пламя жизни внутри нас забиралось всё глубже в своё тайное убежище, и сердца стали биться медленнее. Скоро настанет день, когда нам нужно будет встряхивать себя, чтобы возобновить биение сердца. Тишина сковала нас, мы глубоко погрузились в неё и оказались на дне колодца, выбраться из которого было неимоверно сложно. (Гонтран де Понсинс, "Каблуна")
В этой цитате можно расслышать человека, дрожащего от страха быть поглощённым тишиной и стать частью природного безмолвия. Его слова как будто взрасли в тишине - в подбирающейся всё ближе тишине; они подобны длинным теням, отбрасываемым на стену безмолвия. Они словно последняя попытка удержать эту надвигающуюся стену.
Тишина природы вдавливается в человека. Человеческий дух подобен небу над широким простором тишины. Дух превращает природное безмолвие в часть человеческого мира. Он берёт чистую природную тишину и соединяет её с тишиной, породившей слово и несущей на себе печать безмолвия Бога.
ПОЭЗИЯ И ТИШИНА
1
Поэзия берёт начало в тишине и тоскует по тишине. Словно человек, она скитается от одной тишины к другой. Она словно полёт, словно кружение над тишиной.
Подобно тому, как пол дома может быть выложен мозаикой, так и дно тишины выстлано поэзией. Великая поэзия - это мозаика, выложенная в тишине.
Но это не значит, что в поэзии тишина важнее, чем язык:
Самое возвышенное и великолепное заключено не в том, что невыразимо - как если бы поэт сам по себе был выше своих стихов, - но именно стихи его представляют лучшее, что есть в нём ... Поэт - это отнюдь не то, что остаётся невыраженным при нём. (Гегель)
Великий поэт не станет полностью заполнять пространство выбранной им темы собственными словами. Он всегда оставляет достаточно места для того, чтобы другой, ещё более одарённый поэт смог вставить здесь своё слово. Он позволяет другому разделить с ним эту тему; он превращает тему в свою собственную, но не удерживает её целиком за собой. Поэтому такая поэзия не постоянна и не скованна, но обладает летучестью и готова в любой момент перейти к другому, более одарённому поэту.
Возьмём, к примеру, то, как описывает что-нибудь Гёте. Его образ не утяжеляет описываемый им предмет - напротив, предмет становится легче и даже более прозрачным.
В случае же Эрнеста Юкнгера дело обстоит иначе. Его образ захватывает всё пространство предмета; он пленяет его, обезоруживает, и не только накрывает собою сам предмет, но и раздавливает его до смерти. Он вторгается и завоёвывает, и в таком творчестве нет места свободе.
Лишь там, где поэзия связана с тишиной, возможен монолог: ибо говорящий человек не одинок - он стоит перед лицом тишины, и монолог, по сути, есть диалог с тишиной.
Было бы глубоким невежеством принижать ценность монолога или даже называть его неестественным... Когда на сцене разворачивается действие, сопровождаемое им, то этот монолог, способный на то, чтобы раскрывать человеческие сердца, кажется менее всего "неестественным". (Якоб Гримм)
Пространство тишины в каждом истинном стихотворении не следует путать с теми пустотами, которые также можно найти в любой великой поэзии. Эти пустоты не настоящая пустота, но подобны пустоши, порой встречаемой в природе. Это не слабость или недостаток. Это как с Готтхельфом: пустоты похожи на замершую природу, а потому в них гнездится истинная тишина.
Слово поэта не только естественно связано с породившей его тишиной, но в силу заложенного в него духа способно также и само воспроизвести тишину. В творческом акте дух слова вновь воссоздаёт естественную тишину. Слово может оказаться настолько сильным и совершенным, что его противоположность - тишина - автоматически возникнет рядом с ним. Она поглощается словом: совершенная тишина отдаётся эхом совершенного слова.
В "Прологе на небе" "Фауста" Гёте мощное слово в конце каждой строфы порождает мощную же тишину. После каждой строфы ощущается присутствие активной, различимой на слух тишины. Вещи, словом расставленные по своим местам, в тишине неподвижно замирают, как бы ожидая, когда их вызовут обратно в тишину, где они смогут снова исчезнуть. Слово не только выводит вещи из тишины; оно также создаёт тишину, в которой они исчезают. Вещи не обременяют землю: слово приводит их в тишину и та уносит их прочь.
2
Современная поэзия утратила свою связь с тишиной. Она возникает из слова, из всех слов, вместе взятых, из слов, как правило, ничего не выражающих. Скорее это слово рыщет в поисках чего-то, что оно могло бы выразить. Но истинная поэзия начинается с обладания предметом, и только потом пускается в поиски слова, а не наоборот.
Сегодня слово поэта обращено ко всем словам. Оно сочетается со многим и многое притягивает к себе; выдаёт себя за нечто большее, чем оно есть в действительности. Его словно выпустили на охоту за прочими словами. И таким образом выходит, что писатель сегодня представляет из себя больше, чем он является на самом деле. То, о чём он пишет, масштабнее его самого, он не тождественен своей работе. Ввиду этого несоответствия он часто впадает в периоды творческого кризиса. И в прежние времена поэт мог расходиться со своей работой, но его личность не была столь зависима от неё, поскольку работа его принадлежала скорее космическому мироустройству, чем ему лично. Объективная вескость слова была важнее сущности субъекта, изрекавшего это слово. Личность поэта и написанное слово не противоречили друг другу, а значит и не враждовали между собой.
Мы сказали, что поэзия утратила связь с тишиной. Сегодня поэзии даже вменяется в обязанность представлять мир шума - он должен шуметь в поэзии точно так же, как и всюду окрест. Предполагается, что она оправдывает шум, и что его можно превзойти, загнав в рамки рифмованной строки. Но шумом поэзии нельзя превозмочь шум внешнего мира, ибо когда поэтический шум начинает мериться силой со всемирным шумом, то в итоге оба грохочут в унисон друг другу.
Шум возможно одолеть лишь чем-то, что совершенно отлично от него. Орфей одержал победу в подземном царстве не за счёт того, что он стал столь же мрачным, как Аид, но при помощи полностью отличного от него ясного звучания собственной песни.
3
Причащённое к миру тишины слово выражает нечто совершенно иное, нежели слово, из тишины изъятое. По этой причине, к примеру, так трудно трактовать Гёльдерлина, пользуясь современным словарём. И как раз потому, что нынешние слова не соответствуют словам минувшей эпохи, мы всегда силимся постичь значение старых слов. Мы отрезаны от языка Гёльдерлина и всё же ещё пребываем вблизи него; это поощряет нас шаг за шагом пытаться проникнуть к нему. Поддерживающие с тишиной связь слова таких поэтов сегодня почти непостижимы для рассудка. Это таинственные иероглифы, тайнопись тишины.
Для современного человека Гёльдерлин стоит в одном ряду с другими поэтами, суть которых раскрывается в тишине: с Лао-Цзы, Софоклом, Шекспиром, Гёте. Их подлинная форма принимает настолько чёткие очертания, что её полнота вновь обретает возможность произвести на свет изначальное слово.
ПРИМЕРЫ
ПЕРВОБЫТНЫЕ НАРОДЫ
Куда ушла моя душа?
Вернись назад, вернись.
Она забралась далеко на Юг,
Южнее самых южных нам племён.
Вернись назад, вернись.
Куда ушла моя душа?
Вернись назад, вернись.
Она забралась далеко на Восток,
Восточней самых восточных нам племён.
Вернись назад, вернись.
Куда ушла моя душа?
Вернись назад, вернись.
Она забралась далеко на Север,
Севернее самых северных нам племён.
Вернись назад, вернись.
Куда ушла моя душа?
Вернись назад, вернись.
Она забралась далеко на Запад,
Западнее самых западных нам племён.
Вернись назад, вернись.
(Песня эскимосов, записанная Расмуссеном)
Кажется, что в этой песне язык едва осмеливается на собственное существование. Он уже отделён от тишины, но всё ещё не уверен в самом себе. Он повторяется опять и опять, словно учась жить, словно обуянный страхом исчезнуть вновь. Песня эта продолжает звучать, даже когда сам певец уже спит. Её звуки выгравированы в воздухе, как на граммофонной пластинке тишины. Песни первобытных народов содержат в себе великую меланхолию - меланхолию человека, охваченного двойным страхом: он напуган тем, что слово изгнало его из тишины, но и он же боится вновь оказаться ввергнутым в тишину и лишиться слова. Меланхоличность песни без конца кружит между этих двух страхов, и они так же бесконечны, как бесконечны тишина и язык.
Первобытный человек страшится потерять язык, и потому так часто повторяет его. Слово песни - это страж в ночи, накрывшей тишину. Как огонь отгоняет враждебных зверей, так и слова песни отгоняют враждебную тишину, жаждущую поглотить их.
СКАЗКА
Сюжет сказки довольно прост.
У родителей закончился хлеб и в такой нужде они выгоняют детей из дому, или же злая мачеха издевается над ними или даже оставляет их на верную смерть. Тогда сестрица и братец оказываются одни в лесу; их пугает зима, но они стойко держатся друг за дружку; маленький братец знает дорогу домой или сестрица превращается в оленёнка и ищет траву и мох, чтобы постелить братцу постель; или она тихонько сидит и вышивает рубаху из цветов, напоминающих звёзды, дабы разрушить колдовские чары. Весь круг этого сказочного мира определён и замкнут; короли, принцы, верные слуги и честные труженики, как то: рыбаки, мельники, угольщики и пастухи, оставшиеся верными природе, оказываются внутри него; всё за пределами этого замкнутого круга чуждо ему. (Якоб Гримм)
Слова и поступки в сказках так просты, что могут исчезнуть в любой миг. Им не нужно для этого отрываться от сложного мира. Скудость сказки в том, что в ней нет ничего незыблемого: всё готово отступиться и исчезнуть вновь.
В то же время, однако, звёзды разговаривают с детьми, лошади - с королями и даже деревья владеют даром речи и обращаются к людям. В сказке никогда точно не знаешь заговорят ли звёзды, цветы, деревья или даже сам человек: всё временно и может быть отменено в любой момент. Словно в глубине сказки тишина ещё не решила кого навечно наделить даром речи - звёзды, деревья или людей. Человек снискал слово, но и деревья вместе со звёздами и животными также способны говорить.
В настоящей сказке всё должно быть чудно, загадочно и непоследовательно... Естественное чудесным образом перемешано с волшебным; это время всемирной анархии, свободы и изначального состояния до создания мира. Это время до сотворения мира, так же как и первобытное состояние природы, являются странной метафорой вечного царства. (Новалис)
Всякое событие в сказке подобно новому началу - пример нового порядка, способного стать основой для мира, отличного от нашего. Сказка изобилует возможными мирами, и оттого из неё изливается поток несметного богатства. Таинственным образом лишь человеческий мир - мир, в котором только человек наделён даром речи - стал единственной воплощенной возможностью из множества других. Сказка вводит нас в благоговение перед этой тайной. Мир тишины светит ярче и ослепительнее, пока мир сказок простирает над ним.
В сказке всё уже произошло ещё до того, как оно случилось. Слова следуют за вещами, но не предшествуют им и их не объявляют. Всё налицо ещё до того, как слова поведали историю. Всё могло бы случиться и без слов вовсе. Сказка сама по себе есть лишь словесное сопровождение того, что могло бы случиться и всяких слов.
Сказки относятся к миру тишины так же, как к нему относятся дети. А значит, дети и сказки тоже связаны друг с другом.
ПОСЛОВИЦЫ
Возьмём для примера следующую: "Повадился кувшин по воду ходить - тут ему и голову сломить." Когда-то давно такое высказывание могло показаться только что возникшим из тишины. Оно заключало в себе конкретные образы кувшина, спуска в колодец и самого колодца. Кому-то виделся кувшин, вращающийся на гончарном круге; кому-то слышался плеск колодезной воды, заливающейся в кувшин, и люди, снующие от колодца до дома и обратно. Само высказывание казалось таким надёжным и устойчивым, словно он и не зависело от человека вообще. Казалось, оно существовало ещё до того, как было произнесено человеком, более того - до появления самого человека, как будто оно скорее было создано для человека, нежели просто произнесено им.
Но в современном мире - мире, утратившем связь с тишиной и свою всякую внутреннюю логику, - кувшин, колодец и спуск в него оказались оторваны друг от друга. Кувшин разбился на самом деле. В этой пословице кувшин словно склеен из разбитых осколков, подобно тому, как в одно предложение, которое больше никто толком не понимает, склеена извлечённая из собственных руин разрушенная память о нерушимом мире.
Когда-то пословицы были словно начало мира, словно дощечки, испещрённые с его самого начала. Но сегодня они - это конец мира, последние оставшиеся высказывания, последние слова, кучкой сбившиеся в объединённые предложения в разъединённом мире.
КЛАССИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Вещи и события словно существовали задолго до слов, словно словам понадобилось время для того, чтобы появиться и дать им их наименования. Это беззвучное время присутствует в античной драме. Порой кажется, что в ней вещи, всё ещё полностью принадлежащие миру тишины, бесшумно и угрожающе ступают своей поступью в сопровождении изо всех сил пытающихся их удержать слов.
Этот героический мир классической драмы, этот "бесполезный мир, в котором нет ничего, кроме распрей, королевских трагедий и богов", как его охарактеризовал Якоб Буркхардт, этот мир просто нуждается в фоне тишины, которая сама по себе является "величайшим из всех бесполезных существований".
Ведущими актёрами античных драм были боги, человек же играл в них всегда вторую роль. Боги сопровождали людей и вещи; их тишина царила в людях и в вещах. "О тишине мы узнаём у богов, о речи - у человека" (Плутарх). В классической трагедии, когда говорит человек, в его речах слышится безмолвие богов. Человек говорит за тем, чтобы услышать это безмолвие; он умирает, чтобы услышать его. Когда умирает герой, кажется, что молчание богов оживает и начинает вещать само по себе.
Хор стоит посредине между словом человека и тишиной богов. С помощью хора слово человеческое сдаётся на милость божественного безмолвия. Оно останавливается в хоре, прежде чем перейти в тишину богов, и в хоре же оно останавливается на обратном пути оттуда.
Античные герои разговаривали с людьми, но в их поступках было больше тишины, чем речи, и подобно богам до них они также хранили молчание. Слова же их следовали по колее тишины, уже проложенной богами. И поскольку слова всегда исчезали в тишине, то их повторяли опять и опять. "Слава твоя воссияет на весь мир и навечно, Ахиллес".
ДОСОКРАТИКИ
Кажется, что всякое изречение вышло прямиком из тишины. Даже сами изречения изумляются, обнаруживая себя существующими. Слова всё ещё протирают свои глаза ото сна; они всё ещё не вполне в себе; они всё ещё на полпути ото сна к пробуждению. Слова изрекаются для того, чтобы услышать самих себя, чтобы удостовериться в самих себе. Они всё никак не могут поверить, что они - в мире пробуждения и в мире слов.
Человек зажигает для себя огонь в ночи, потому что он уже мёртв, хоть всё же и живой. Во сне он притрагивается к себе как к мёртвому, когда затухает свет очей его, но в бодрствовании он прикасается к себе не как к мёртвому, но как к спящему. (Гераклит)
В этом изречении нет ничего лишь для себя: одно сливается с другим. Сон ещё не определён строго как сон, он соприкасается со смертью и с жизнью. Всё по-прежнему немного беспомощно. Всё как и раньше держит всё остальное за руку. Пробуждение держит сон за руку и сон тянется к смерти. Ничто не хочет остаться предоставленным только самому себе.
Слова ещё не обрели приют в мире слов; они вообще лишены приюта. Они выпали из сна тишины и пробиваются в безмолвие богов. Но часть их подобно метеоритам погрузилась в мир человека, смешав человеческие слова с собственной тишиной - тишиной, принадлежащей богам.
ГЕРОДОТ
Предметы и события конкретны в своём существовании, и их конкретность уже сама по себе есть сюжет. Словно не человек говорит о них, но они сами повествуют друг другу о себе - на первом месте предметы и события, а человек, повествующий их - на втором. Такое возможно, лишь когда слово вверяет себя владеющим им предмету и событию как будто в первый раз, и тогда слово так крепко держится за них, что они сливаются в единое целое.
В последующие века, когда словами и предметами также постоянно манипулировали, поэт всё ещё мог восстановить единство слова и предмета так, как если бы они встретили друг друга раз и навсегда; как если бы предметы вещали о себе лишь собственным голым существованием без какого-либо посредства языка.
Так это в «Сокровищах рейнского домашнего друга» Иоганна Петера Хебеля. В этих рассказах предметы словно сбежали из шумного, разрушенного и разрушающего мира в уединённую долину, чтобы там, вдали от людей, поведать друг другу о себе, коротая время за воспоминаниями и шутками и ожидая там, в уединённой долине, когда же мир вновь вернётся в то состояние, где в любой момент с ними может случится то, что уже случилось с ними однажды: когда слово надёжно охраняло их от всякого ложного и излишнего движения и от манипулирования.
Во всём мире сегодня больше не осталось молчащих людей; не осталось даже различия между молчащим и говорящим человеком, есть лишь различие между говорящим и не-говорящим. Поскольку больше нет молчащих людей, то нет и слушателей. Современный человек не умеет слушать, а так как он не способен слушать, то он и не способен поведать историю, поскольку слушание и настоящее рассказывание взаимосвязаны: они суть одно целое.
В рассказах «Сокровища рейнского домашнего друга» можно услышать не только голос самого рассказчика, но и молчание слушающих его. И тогда слышно, как молчавший ранее слушатель сам начинает вести рассказ, ибо слушание и рассказывание меняются местами.
ШЕКСПИР
Слова и сцены наделены такой новизной и живостью, словно лишь в этот самый миг они выскочили в язык прямиком из тишины. Он всё ещё не привычен для них. Они резвятся вокруг языка подобно молодым животным, выпущенным на волю в первый раз. Они проносятся длинными вереницами. Некоторые предстают перед иными как две враждебные армии. Другие безудержно взбираются поверх голов остальных. Но есть и одинокие слова, напоминающие караульных в ожидании чего-то (слова Офелии в "Гамлете", например). Самые же изящные слова воплощаются в образах - образах, подобных геральдическим фигурам, подобных символам, свидетельствующим не только о существовании слова, но и о его пребывании во всём церемониальном блеске.
ЖАН ПОЛЬ
У Жана Поля всё возникает сразу: оно не развивается, но раскрывает себя. Это поэзия, переходящая от слова к слову и при этом остающаяся статичной как сама тотальность, парящая над тишиной подобно лёгкому облаку; словесные образы напоминают видения тишины. Волшебство языка заключено в синтезе движения от слова к слову и неподвижности всей структуры: движение и покой суть одно и то же.
Слова подобны крыльям огромной птицы, взмывшей над поверхностью тишины и отбрасывающим в полёте на неё свою обширную тень.
ГЁЛЬДЕРЛИН
Слова будто исходят из пространства, существовавшего ещё до сотворения мира. Доисторическое пространство отдаётся в словах мрачным и почти что угрожающим эхом. В этом источник неопределенности, ужаса и заброшенности поэзии Гёльдерлина. Слово взывает к человеку через прихожую творения. Оно подобно слову, звучащему ещё до сотворения человека: трепещет в тоске по человеку.
ГЁТЕ
НОЧНАЯ ПЕСНЯ ( колыбельная)
Тебе, что-то в мягкой перине
Пригрезится пусть в полусне,
Под звуки струны говорливой-
Спи! Что же нужно тебе?
И звуки струны говорливой,
И звездное войско во тьме
Несут тебе чувства благие-
Спи! Что же нужно тебе?
Несут тебя чувства благие
Всё ввысь, а внизу в суете
Остались заботы земные-
Спи! Что же нужно тебе?
Остались заботы земные-
Летишь, отчуждаясь, вовне
С прохладными чарами. Ныне-
Спи! Что же нужно тебе?
Прохладными чарами ныне
Охвачен твой слух в полусне,
На мягкой на этой перине-
Спи! Что же нужно тебе?
(перевод С.Дубцов)
Подобно тому как детвора во дворе дома кричит своему товарищу, чтобы тот вышел на улицу, так и здесь слова влюблённого вымаливают слова возлюбленной, но не по-детски шумно, а тихо, ибо слова её погружены в сон. Влюблённый словно выманивает их из грёз. Подобно мягким, бархатным шарикам скользят слова по спящей возлюбленной. Подобно росе тишины выпадают они на слово возлюбленной.
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ТИШИНА
ГРЕЧЕСКИЕ И ЕГИПЕТСКИЕ ХРАМЫ
Колоннады греческих храмов пограничными столбами выстроились вдоль межи тишины. На её фоне они кажутся ещё стройнее и белее.
Как будто колоннада могла бы продолжаться до бесконечности - колонна за колонной. Именно так творят боги: тихо и беззвучно. И колонны эти словно вышли из мастерской богов.
Очутившись среди египетских столбов, ты словно оказываешься во мраке - в том, что лежит за ними. И хотя ты бредёшь на уровне земли, создаётся впечатление, что на самом деле спускаешься в пещеру и в конце концов добираешься до самого царства смерти. Это путь ко всевозрастающей тишине. Слышится, как слова египтян эхом отражаются от стен этой подземной галереи смерти.
Прогуливаясь среди греческих колонн, ты словно бродишь в сияющей тишине. Тишина и сияние слились воедино. Тишина эта знаменует собою момент отдыха перед началом нового творения - тишина и творение сменяют друг друга. Колоннада похожа на лестницу к Олимпу, где боги, тишина и творение превратились в одно и более не сменяют друг друга.
Разрушенные колонны и разрушенные храмы... Это словно перед вторжением шума лопнула тишина и разорвала храм на части. Мраморные блоки и колонны вместе с тишиной отчаянно рвутся утонуть в земле. Их вновь опрокинула и раздавила под собой обрушившаяся тишина.
Покой, царящий вокруг храмов, - это не покой тишины, но кладбищенский покой. Здесь захоронена тишина, а белые колонны и мраморные глыбы не что иное, как могильные плиты над утонувшей тишиной.
ГРЕЧЕСКИЕ СТАТУИ, ЕГИПЕТСКИЕ СТАТУИ
Греческие статуи были похожи на сосуды, наполненные тишиной. Они стояли рядами, и человек проходил между ними как по аллее тишины.
Заключённая в статуях тишина обратилась в великолепие их белизны.
И тишина их преисполнена тайны. Как будто они хранят молчание лишь пока рядом находится человек, но стоит им оказаться наедине, они тут же начинают говорить. Их речь обращена к богам, для человека же они безмолвны.
Мраморные статуи греческих богов подобны белым островам тишины, лежащим посреди шума современного мира. Древние белые статуи богов - остатки, брошенные тишиной, после того, как она вынуждена была отступить под натиском нынешнего шума.
Присущая греческим статуям тишина не угнетает их: это светлая и сияющая тишина. Внешние очертания главенствуют над тишиной: в любой миг слово может явиться из тишины, как бог с Олимпа.
В то же время египетские статуи полностью подчинены тишине: они её пленники. Глаз и рот принадлежат богу лишь для того, чтобы выразить их безмолвие.
Не камень сделал их тяжеловесными и неповоротливыми, но окружившая их тишина, к которой они не смеют даже прикоснуться.
На лицах древних египтян - на этих суровых лицах - читается страх, царивший в мире ещё до того, как слово одержало верх над тишиной. Мы словно возвращаемся во времена, предшествовавшие появлению слова, и это объясняет, почему египетские лица ближе нынешним людям, чем греческие: в современном мире неистового шума человек тоскует по миру, расположенному за пределами всякого языка и звука.
На египетском лице раннего царства тишина не так дружелюбно расположена к языку, как на греческом лице; наоборот, она надменно враждебна по отношению к языку.
Скульптуры египтян демонстрируют так много безжизненной строгости и нераскрытой таинственности, что в представленных образах отражается не столько индивидуальная внутренняя жизнь, сколько более отстранённый смысл, значение которого неизвестно и им самим. (Гегель)
Некоторые египетские лица выглядят так, словно они увидали обнажённую тишину и её вид парализовал их. Египетское лицо замуровано в тишине точно так, как в застывшей древесной смоле - в янтаре - замурованы доисторические насекомые.
Египетские фигуры свёрнуты внутрь. Словно внутри главной фигуры присутствует другая, с которой первая ведёт речь - или даже говорит в тишине, без слов.
С другой стороны, греческое лицо раскрыто наружу. На нём нет печати страха о мире, в котором слово ещё не объявилось; оно прямо обращено к миру, из которого слово выходит.
На нём запечатлена уверенность в том, что в любой миг слово способно одолеть тишину, а дух – материю, и оттого оно всегда выражает спокойствие и свободу. Тишина не возвращается к чему-то уже минувшему, к бессловесному миру , но обращена в настоящее и в грядущее, в мир языка. И именно поэтому греческое лицо прошло через века и даже сегодня присутствует с нами.
ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ
Они производят подавляющее впечатление, словно когда-то раньше могли много дальше простираться над землёй и в сторону неба, чем сейчас.
Лишь оттого, что пирамиды связаны с записанным в них звёздным порядком, они остановили дальнейшее продвижение.
Они подавляют потому, что их не может удержать ни человек, ни какой-либо человеческий порядок, но лишь порядок сверх-человеческий, лишь сами звёзды.
Тишина звёзд глядит на них сверху вниз и околдовывает их своими чарами.
Не только покойники и их безмолвие захоронены в пирамидах, но и тишина звёзд.
Пирамиды стоят подобно боевым укреплениям, возведённым тишиной для себя самой, когда она отступала с земли; именно отсюда однажды она снова отвоюет себе землю.
ЕГИПЕТСКИЙ СФИНКС
Египетский сфинкс – это уже не просто тишина, но целая пропасть тишины.
Изгибы его тела словно околдовывают эту пропасть. Они напоминают магические знаки, налагающие на неё свои чары.
Подобно тому, как после яростной битвы духи павших в бою продолжают сражаться в воздухе; подобно тому, как образ битвы ещё остаётся витать в воздухе, так и сфинкс сегодня воплощает в себе образ тишины, дошедшей до нас из времён своего самого яростного буйства. После того, как сгинула тишина, он всё ещё с нами, всегда угрожающе готовый вторгнуться в мир шума.
ДРЕВНИЕ ОБЕЛИСКИ
Древние колоссы, каменные мемориалы Сардинии, груды камней в микенских дворцах... Всё, что не тишина, придавлено гнётом камня.
Эти безмолвные колоссы производят впечатление такой мощи, что кажется, им под силу отнять у человека его язык и всё, что заложено в нём, растворив в себе.
Всё обособленно в молчании этих камней. Слова более не покрывают собою вещи: вещи словно поглотили их и они сгинули в безмолвии камней.
Экбатану, мидийскую столицу, окружали семь крепостных стен – каждая с бастионами, раскрашенными в определённый цвет. Согласно Геродоту, они символизировали собой небесные сферы, внутри которых располагался дворец-солнце, лучами которого стали каменные обелиски. Никакое слово не может так выразить всей мощи небесных сфер, как этот монумент, исполненный в молчаливом камне. В безмолвии камней небесные сферы и солнечные лучи заново оживают на земле, и в их тишине можно расслышать их движение по небосводу.
Всякое слово, изречённое в присутствии древнего камня, становилось вторжением в принадлежавшую богам тишину. Наличие тишины было столь интенсивным, что казалось, что даже слово в любое мгновение может превратиться в каменный колосс - точно так, как лучи солнца окаменели в обелиске или движения звёзд на небе обратились в каменные кольца.
Раскапывая древние обелиски, их извлекают скорее из тишины, чем из земли. Они словно развалины тишины. Глаз, оглядывающий их, как будто оглядывает саму тишину. Их лицевую сторону избороздила тишина: линии и поверхности натянуты на неё, она несёт их на себе. И вся фигура пронизана тишиной.
Здесь человеческая форма кажется навсегда законсервированной. Ни одна линия на поверхности не дерзнёт сдвинуться с места в тишине.
КИТАЙСКИЕ ВРАТА
Китайские врата, возведённые в одиночестве на поверхности китайской равнины, не соприкасались ни со стеной, ни со зданием... Бескрайняя равнина и бескрайняя тишина. Ничто иное, как тишина, проходит через эти врата. Закруглённость врат напоминает окоп, вырытый самой тишиной для себя. Сакральные образы богов и священных животных на вратах похожи одновременно на караул и на свиту.
Порой кажется, что множество невидимых арок вздымалось над одной видимой - направляясь ввысь, возводя один свод над другим, подобно устремлённой в небеса лестнице. Сама тишина взбирается вверх на небо по этой арочной лестнице.
КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Китайские картины подобны силуэтам в залитой лунным светом дымке, стелющейся над миром тишины; они сотканы из лунных нитей, растянутых над тишиной.
Предметы словно обрушились в тишину и безмолвие выкристаллизовалось вокруг них. Лист падает в тишину и тишина оседает вокруг него, окутывая со всех сторон. Он полностью окутан тишиной; в тиши он обретает прозрачность; он превращается в средоточие, в фокус тишины.
На такой картине тишине нужны тысячи лет, чтобы окутать лист. Ей присущи время и длительность. Само время подходит к собственному концу, когда тишина наконец полностью охватывает собою лист.
КАФЕДРАЛЬНЫЕ СОБОРЫ
Тишина заперта и надёжно защищена в стенах собора.
Как плющ в течение столетий обвивается вокруг стен, так и соборы вьются вокруг тишины. Их возвели вокруг тишины.
Безмолвие романского собора существует в виде субстанции, как если бы соборы уже одним фактом своего существования производили на свет стены тишины, города тишины, людей тишины, рождая их подобно огромным стельным животным.
Соборы суть выложенная из камня тишина.
По углам колонн стоят статуи: это вестники тишины, принесшие безмолвие в город человека. Как слуг посылают набрать кувшины воды, так и их отправили за тишиной – но в тиши они позабыли о движении.
Соборы стоят подобно огромным резервуарам тишины. В них не найти ни слова: над глубинами ещё большей тишины слово обращается в музыку и песню.
Башня кафедрального собора похожа на тяжёлую лестницу, по которой тишина взбирается на небеса, чтобы затем затихнуть и раствориться в них. По радуге она ниспадает вновь - на башню другого собора. Эта радуга тишины соединяет между собой все кафедральные соборы.
Сегодня соборы заброшены так же, как заброшена тишина. Они превратились в музеи тишины, но между собой они всё так же взаимосвязаны - собор с собором, тишина с тишиной. Они высятся подобно ихтиозаврам тишины - больше никто не понимает их. Неудивительно, что во время войны они подверглись бомбардировкам: абсолютный шум бомбил абсолютную тишину.
Порой собор напоминает огромный ковчег, собравший на борту людей и животных, чтобы спаси их от потопа шума. Птица сидит на краю крыши и трель её подобна приглашающему стуку о стену тишины.
КАРТИНЫ СТАРЫХ МАСТЕРОВ
Изображённые на картинах фигуры словно обронили слова свои в тишину. Их позолоченный фон – ничто иное, как само безмолвие, просочившееся меж слов святых фигур.
Полотна старых мастеров наполнены тишиной до предела, за которым только разрыв: тишина достигла такой полноты, что кажется, в любой миг из неё может появиться слово – однако появляется лишь ещё большая тишина.
Фигуры излучают сияние над миром тишины. Сияют они оттого, что они позволили безмолвию содержать их в тиши. В этом сиянии они обратили свой слух к тишине; замерли в сиянии и вслушиваются тишину.
ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА
На его полотнах изображены не только объекты, но вмести с ними и идеи этих объектов - при чём так же отчётливо, как и сами объекты: на них предстаёт мир идей Платона. Здесь всё готово к отправлению в новую действительность, где идея и форма слились воедино; словно в последний момент перед этим путешествием объединились идея и объект. Взгляд богов обозревает эти фигуры, словно платонические идеи в надмирном пространстве, и в безмолвии этого пристального взгляда они разрастаются в размере и в самом своём существовании.
Кажется, что боги ещё не сотворили людей, и люди Пьеро делла Франческа ещё только блуждают в грёзах богов. Странствуя в божественных грёзах, они преисполнены безмолвия.
А иногда они сами словно грёзы, привидевшиеся тишине, прежде чем она вышлет вещи в пространство бодрствующей действительности.
Фигуры утопают в тиши подобно затерянным городам на дне океана. Воды безмолвия оберегают их точно так, как верхний слой почвы оберегает доисторических животных.
Как вода сбегает каплями с лица человека, вышедшего из моря, так и с их лиц каплями стекает тишина. Для людей с полотен Пьеро делла Франческа тишина обрела новое значение: они говорят посредством тишины, словно она - их новый язык. Порой они кажутся тенями - чёткими тенями, отбрасываемыми миром тишины на мир шума. Они становятся всё длиннее и длиннее, словно замыслив затмить собою мир шума и беззвучно распространить над ним своё господство.
ШУМ СЛОВ
1
В наше время слова более не исходят из тишины - в творческом акте духа, наполняющем смыслом как язык, так и тишину, - но исходят из других слов: из шума других слов. Также и возвращаются они не в тишину, но в гам других слов - с тем, чтобы потонуть в нём.
Язык утратил свою духовную составляющую; всё, что осталось, это его акустическое проявление. Так духовное превращается в материальное, а слово (которое и есть дух) - в материю шума.
Шум слов есть не что иное как громогласная пустота, накрывающая собою пустоту беззвучную. С другой стороны, истинное слово - это звучная полнота, возвышающаяся над тихой гладью тишины.
Есть разница между обычным шумом и шумом слов. Шум вообще - враг тишины; он противостоит ей. Шум же слов не просто противостоит тишине: он принуждает нас к забвению тишины как таковой. И дело даже не в акустической стороне шума: акустический элемент, непрестанное жужжание вербального шума всего лишь свидетельствует о том, что он заполняет собой всё пространство и время.
С другой стороны, обычный шум ограничен, он тесно связан с определённым объектом, т.е. он - свидетельство такого объекта. Шум праздничного собрания или фольклорной музыки окружён тишиной, придающей этому шуму большую интенсивность и отчётливость. Тишина как будто выстраивается на рубежах шума в ожидании часа, чтобы вернуться на свои позиции. На рубежах же вербального шума выстраиваются только пустота и небытие.
В наши дни слова приходят более не из тишины, но из других слов: из шума других слов. В то же время, слово, вышедшее из тишины, перемещается из тишины в слово, а затем обратно в тишину, из тишины - к новому слову и снова назад, и так далее: таким образом, слово всегда приходит из сосредоточия тишины. Поток изречений непрестанно прерывается тишиной. Вертикальные барьеры тишины постоянно прерывают горизонтальный поток речений.
С другой стороны, чистый вербальный шум беспрепятственно перемещается вдоль горизонтальной траектории изречения. Для него лишь важно продолжаться без препятствий, а не нести в себе некий смысл.
Исчезнет полгорода народу, появится столько же других, потом и эти исчезнут, следующие являются, исчезают. Дома, длинные ряды домов, улицы, мили мостовых, груды кирпича, камня. Переходят из рук в руки. Один хозяин, другой. Как говорится, домовладелец бессмертен. Один получил повестку съезжать – тут же на его место другой. Покупают свои владения на золото, а все золото все равно у них. Где-то тут есть обман. Сгрудились в городах и тянут веками канитель. Пирамиды в песках. Строили на хлебе с луком. Рабы Китайскую стену. Вавилон. Остались огромные глыбы. Круглые башни. Все остальное мусор, разбухшие пригороды скороспелой постройки. Карточные домишки Кирвана, в которых гуляет ветер. Разве на ночь, укрыться.
Любой человек ничто.
Сейчас самое худшее время дня. Жизненная сила. Уныло, мрачно: ненавижу это время. Чувство будто тебя разжевали и выплюнули. (Джеймс Джойс)
Вот пример языка, на котором говорит вербальный шум.
В этом так называемом языке подлежащие, сказуемые, дополнения и наречия перемешаны между собой. Предложение почти полностью превращается в аморфную звуковую массу, из которой время от времени вырывается тот или иной случайный звук. Такие слова суть всего лишь намёки и указания на нечто, но они не способны содержать в себе какой-либо смысл. (Кто-то может возразить, что даже вербальному шуму под силу выражать смыслы. И это верно. Однако выраженный смысл есть не более чем банальное утверждение некоего факта; истинное же смыслообразование возможно только тогда, когда слово обращает внимание на бесконечность описываемой вещи (Гуссерль). Свойство бесконечности - никогда полностью невыразимой и неисчерпаемой словами - присуще тишине. Соответственно, в вербальном шуме действительно выражаются банальные смыслы, но среда, в которой они зарождаются - среда вербального шума - враждебна самой природе смысла; она перевешивает и проглатывает его.)
Язык стал всего лишь механическим средством передвижения внешних языковых символов.
Язык лишился органичности и гибкости, он перестал ладно скраивать вещи. Слова превратились в символы чего-то, выхваченного из мешанины шума и брошенного в слушателя. Слово перестало быть собой. Нынче его можно заменить знаками - цветовыми или звуковыми; оно превратилось в машину, и как всякая машина оно может развалиться. Поэтому человек, не живущий непосредственным словом, но позволивший машине шума увлечь себя, также в любой миг может подвергнуться разрушению.
Похоже, что вербальный шум порождается и не людьми вовсе: это словесный призраки, явившиеся из мира мёртвых слов, общающиеся между собой - одно мёртвое слово с другим мёртвым словом, - довольные, когда двум-трём из них удаётся сформировать последовательное предложение, точно так же как призраки счастливы встретить друг друга в каком-нибудь заброшенном местечке.
Уничтожение жизни подразумевает превращение её во врага. Жизнь бессмертна, и когда её убивают, она похожа на ужасный призрак себя. (Гегель)
Уничтожение слова подразумевает превращение его во врага, но не во врага открыто противоборствующего, а в пронизывающего и всепроникающего подобно приведению.
Сравним с изречением из мира подлинных слов - изречением Хебеля:
Любопытно, что порой человек, считающийся другими людьми не особо далёким, оказывается способен преподать урок мудрости другому, который сам-то к себе относится как к исключительно мудрому и проницательному.
В этом изречении каждая его часть точна сама по себе, знает себе цену, настаивает на своём, и при этом все слова относятся к чему-то более значимому. "Любопытно": это слово подготавливает место для события. Оно словно шнур опоясывает пространство, внутри которого чему-то определённому ещё только предстоит случиться. И само слово это - "любопытно" - напоминает афишу, предвещающую некое знаменательное действо. "Что порой человек": человек возникает в этом размеченном пространстве, колеблясь: "порой" свидетельствует о таком колебании. "Считающийся другими людьми не особо далёким": этот человек кажется крошечным на фоне огромного пространства. Он замер в ожидании того, что может случиться с ним, и вот это самое оно случается: "способен преподать урок мудрости другому". Внезапно колеблющийся маленький человечек оказывается огромным, а человек, "который сам-то к себе относится как к исключительно мудрому и проницательному", становится крошечным. Словно у него отняли его "исключительную мудрость и проницательность", как какой-нибудь чемодан, ему не принадлежащий.
Каждое слово в данном изречении Хебеля подтверждает, что фраза эта крепко сбита. Его слова столь надёжны, что миру достаточно лишь краткого изречения вроде этого, чтобы доказать своё существование. В таком изречении находит выражение целый мир и все слова мира.
2
Вербальный шум, заменивший сегодня подлинное слово, берёт истоки не в определённом акте - в отличие от слова. Он не рождается, но размножается путём деления - а именно: один шум делится на части, чтобы произвести на свет другой шум. Подлинное слово сотворено в качестве, вербальный шум - в количестве.
И, кажется, что вербальный шум вообще никто не создавал. Кажется, он был всегда. Вряд ли можно найти такое место, где бы он не присутствовал. Он просочился повсюду. Мы воспринимаем его как нечто совершенно естественное - так, как, к примеру, воспринимаем воздух. Всё начинается с шумом и с ним же и заканчивается. Похоже, он вовсе не зависит от присутствия человека: шум просто выговаривает сам себя вокруг него. Он проникает в человека, заполняя его до краёв и выливаясь из его уст.
Человека никто не слушает, когда он говорит, ибо слушать можно лишь, если в человеке обитает тишина: слушание и тишина взаимосвязаны. Вместо того, чтобы общаться подлинным образом, сегодня мы просто ждём, когда подвернётся возможность вывалить на других все те слова, что скопились в нас. Речь превратилась в чисто биологическую функцию выделения.
Вербальный шум - это не тишина и не звук. Он проходит как сквозь тишину, так и сквозь звук, и человек забывает о тишине и о мире вокруг.
Исчезло всякое различие между речью и тишиной, поскольку человека говорящего, как и молчащего, заполнил словесный шум. Тихий слушатель превратился в просто бессловесного.
Вербальный шум является лже-языком и лже-тишиной. Т.е., что-то вроде бы и говорится, но это не настоящий язык. Чего-то не достаёт в шуме - ведь он и не настоящее безмолвие. Когда шум вдруг замолкает, за ним не следует тишина, но наступает пауза, в которой шум сжимается с тем, чтобы разжаться уже с большей силой, когда его отпустят вновь.
Шум словно боится исчезнуть, он словно постоянно в движении, поскольку должен убеждать себя в собственном существовании. Он сам не верит в своё существование.
Напротив, подлинное слово лишено подобного страха, даже если его не выражают в звуке: на самом деле его присутствие в тишине становится ещё более осязаемым.
Однако человек, превратившийся в придаток вербального шума, всё меньше верит в действительность собственного существования. Он вглядывается в своё изображение на тысячах картинок на экране и в иллюстрированных газетах, словно желая убедиться, что человек всё ещё существует,что он всё ещё выглядит как человек.
Человек сегодня настолько лишён подлинности, что в комнате с большими зеркалами люди выглядят не по-настоящему, но так, словно вышли из этих зеркал. А когда гаснет свет, то кажется, что они проваливаются обратно в зеркала и исчезают в их темноте.
Но там, где всё ещё присутствует тишина, человек постоянно черпает жизненные силы из исходящего из неё слова и постоянно растворяется в безмолвии перед лицом Бога. Его бытие - это постоянное созидание в слове через Бога и растворение в тишине в присутствии Бога.
Сегодня же его существование - это всего лишь постоянное появление из словесного шума и постоянное же исчезновение в нём.
3
Язык настолько обусловлен своим истоком из Логоса, который есть ничто иное как порядок, что он не впускает в человеческий мир ничего, что лежало бы за пределами человеческого порядка. Язык - это укрытие человека. Многое демоническое выжидает момента, чтобы вторгнуться в человека и уничтожить его, но человек укрыт от соприкосновения с демоническим; на самом деле он даже и не замечает этого, т.к. оно не входит в язык: слово обороняет его от вторжения демонического. Но слово способно одерживать верх над злом только в том случае, если человек сохранил слово в его первозданном виде. Словесный же шум, ставший современным заменителем языка, прорван, и эта прореха открыта для вторжения демонических сил.
Что угодно может проникнуть в шум слов; что угодно может смешаться с ним - даже демоническое. Шум сам по себе фактически является частью демонического.
В шуме всё распространяется во все стороны. Антисемитизм, классовая борьба, национал-социализм, большевизм, литература - всё это распространяется во все стороны. Всё было уже до появления человека на сцене. Оно стоит в ожидании его. Все пределы и границы размываются, все стандарты рушатся. Подлинное слово устанавливает пределы. Словесный же шум преодолевает пределы, игнорируя их.
В мире вербального шума война легко может обрести "тотальный" характер, поскольку война способна с легкостью переступить через что угодно ради собственных нужд.
В таком вербальном шуме можно сказать всё, что захочется, и всё, что захочется, тут же перечеркнуть и опровергнуть. Фактически всё перечеркнуто уже до того, как было произнесено. Глупости, как и мудрости, высказываются лишь для поддержания равновесия, ибо самое главное - это общее звучание шума, а не то, из чего исходит данный шум. Произведен ли он добром или злом в расчёт не берётся. Таков механизм безответственности в действии.
В этом мире вербального шума, где одно проникает в другое, где всё пребывает во всём, человек лишён внешних и внутренних пределов. Всем всё доступно и все всё понимают. И кажется просто невозможным, что кто-нибудь (например Гёте) не понимает Гёльдерлина или кто-то (как Якоб Буркхардт) отчаянно сторонится Рембрандта (там, где присутствует подлинная личность, должен быть и предел этой личности: в этом заключается суть подлинных личностей). Но здесь - в мире словесного гама - все без исключения знают толк в Гёте и Гёльдерлине, Рембрандте и Якобе Буркхардте: всё всем доступно.
Таким образом в шуме содержится всё и всё может развиться из шума. Появление чего-либо более не связано с отдельным актом: актом решения или творческим актом. Всё случается автоматически: посредством чего-то вроде мимикрии шум производит то, что требуют обстоятельства текущего момента, и это навязывается человеку.
К примеру, если окружающий мир - нацистский, тогда шум генерирует нацистские идеи, и это происходит без ведома человека, без его сознательного акта решения в пользу нацизма. Человек настолько сросся с окружающим его вербальным шумом, что даже не замечает, что навязывается ему.
Шум перестаёт навязывать ему идеи нацизма, когда приходит новая ситуация, или же когда ему наскучивает доминирующая идея, и он меняет свою тональность - просто ради собственной перемены. Отношение человека к миру зависит от движения шума, а не от его воли. Человек больше не обитает в слове. Слово больше не критерий для человека в вопросах истины и любви: шум принимает решение за него. Шум превыше всего: человек - это всего лишь место для шума, пространство для заполнения им.
Шум также больше и не предлог для действия: он уже часть действия и это делает его опасным.
В то же время подлинное слово исходит из Логоса. Оно подкрепляется непрерывностью и дисциплиной Логоса, и в своих движениях соотносится с Логосом, уносящим его на глубину прочь от горизонтального напора обычного шума. Поэтому действие, предпринимаемое человеком, восходит не непосредственно из слова, но с ещё большей глубины - из того места, где само слово взошло из Логоса. Поэтому действие приковано не к слову, но к более глубинному уровню - к Логосу. И поэтому подобное действие защищено от опасностей необузданной вольности.
Во всеобщем вербальном шуме сегодняшнего дня действия лишены прочной опоры, лишены пределов и контроля, поскольку они более не связаны прочно со словом. Фактически их накрыл царящий вокруг шум. Они исчезают в нём и подлинные действия прекращают своё существование.
Таким образом этот мир движется автоматически, производя при этом шум и действие. Он кажется преисполненным волшебства, ведь всё здесь свершается само собой, без вмешательства человека. И именно этот волшебный блеск вводит человека во искушение.
4
В мире вербального шума отдельным событиям не достаёт собственной отличительной особенности, той особенности, что могла бы стать их лицом - точно так, как у каждого отдельного человека есть собственное лицо.
C’est un des plus grands mystères qu’il y ait dans l’histoire et dansJa réalité, et naturellement aussi, naturellement donc l’ua donc de ceux su? qui l’on passe le plus aveuglement, le plus aisément, le plus inattentivement, le plus sans sauter, que cette espèce de différence absolue, qu'il y a dans le prix des événements. Que certains événements soient d’un certain prix, aient un certain prix, un prix propre. Que des événements différents du même ordre ou d’ordre voisins, ayant la même matière ou des matières du même ordre et de même valeur, aient pourtant des prix, des valeurs infiniment différentes: que chaque événement opérant une même matière, faisant devenir une même matière, sous une même forme, dans une même forme, que tout événement ait pourtant un prix propre, mystérieux, une force propre en soi, une valeur propre, mystérieuse . . . (Péguy)
В мире вербального шума, события больше не отличаются друг от друга: шум обезличивает их. Именно поэтому сегодня события приобретают такой огромный размах; поэтому они поднимают свой крик на нас. Словно одно событие пытается выделиться из ряда других, производя при этом как можно больше шума, поскольку выделиться иначе оно уже не способно.
Недавно вышла книга "Год 1848 в Европе" - это собрание событий, описанных день за днём, в течение всего года. Многое случилось в 1848 году. Взбунтовались целые нации, пали короли, рабочие ощутили себя как никогда обездоленными, богачи как никогда подняли планку своих запросов, новые мировые державы - Италия и Германия - стали с трудом приобретать свои очертания, начались войны или, по крайней мере, повеяло духом войны, ни дня не прошло без ошеломительных новостей и весь мир был преисполнен новых событий - и, наверно, кому-то может показаться, что тот переизбыток событий схож с той мешаниной событий, что мы наблюдаем сегодня. Но это не верно.
Всякое событие, имевшее место в 1848 году, чётко отличалось от любого другого, являясь очевидным и незаменимым никаким иным событием, будучи при этом наделённым собственной физиогномикой и уникальным содержанием. А самое главное - для возникновения каждого из них необходимо было особое усилие, и такие усилия прилагались на самом деле: абсолютно, уникально и своеобразно. То были полноценные события не только из-за вызываемого ими ажиотажа. Среда их существования создавалась самими этими событиями.
Сегодня всё иначе. Сначала появляется среда, а именно - вербальный шум; вот, что важно. Он притягивает к себе событие или, иными словами, он сотворяет из себя нечто, напоминающее событие. Но такое событие уже не является отдельным феноменом: это всего лишь сгусток, скопление шума и не более того. Это объясняет, почему все события похожи друг на друга, и почему они вызывают так мало интереса. Люди сегодня не интересуются политикой, поскольку события наскучили им. События легко забываются, и человеку не нужно даже прилагать усилий, чтобы забыть их: это делает за него шум.
Не будь события растворены в шуме и если бы они были подлинными, то они не могли бы следовать так стремительно друг за другом. Ибо подлинному событию необходимо определённое время; существует взаимосвязь между подлинностью события и его длительностью. Подлинное событие черпает свою длительность из длительности времени. Когда событие больше не растянуто во времени, но возникает лишь на мгновение и тут же исчезает, оно становится фантомом.
Приблизительно до 1920 года события и предприятия ещё не были лишены подлинности: можно сказать, что вербальный шум ещё только омывал чётко различимые вещи. Такое перетекание шума уже становилось привычным, но ещё можно было различить ту разновидность литературы, вокруг которой шум устроил шумиху, а именно - экспрессионизм, и этот экспрессионизм пока ещё казался более важным, чем весь шум вокруг него. Ещё не размылось представление об "общественной разрядке"; хотя шум бурлил вокруг и накрывал с головою, правила политики пока ещё преобладали над царящим вокруг него словесным гулом.
Сегодня всё выглядит совершенно иначе. Уже не объект создаёт шум вокруг себя, как то было в давние времена, но на первый план вышел шум, который и извлекает объект. Его и объект уже не различить отчётливым образом. Вещи и их порядок потонули в одном общем шуме. Конечно, и сейчас люди говорят на разные политические и научные темы, но это всего лишь вехи в пространстве шума, точки, из которых темы, а за ними и человек, завлекаются во всеобщий шум, в котором затем и исчезают.
5
Шум слов уравнивает всё, он делает всё одинаковым: он - машина по уравниванию. Индивидуальность в прошлом. Каждый - всего лишь частица шума. Индивиду уже больше ничто не принадлежит. Всё словно влилось во всеобщий шум. Все претендуют на всё, поскольку никто в отдельности не обладает ничем. Массы взяли верх. Они - придаток шума и подобно шуму они то возникают, то исчезают; они заполняют собой всё и при этом неосязаемы: как будто есть, но как будто их и нет.
Словесный гул настолько необъятен, обширен и неизмерим, что не видно ни конца его, ни начала, да и сам человек уже не в силах увидеть собственные пределы. Шум напоминает рой насекомых: неясное облако, облако насекомых, чьё жужжание накрывает собой и уравнивает всё вокруг.
Человек пребывает в ожидании чего-то, что острым и звонким звуком рассечёт на части этот рассеянный шум. Он устал от монотонного жужжания. Кажется, что и бесформенный, смутный шум тоже дожидается, когда же в него вонзится что-либо и разделит его напополам.
Крика диктатора - вот чего ждёт шум. Чёткий, пронзительный голос диктатора и мировой шум прекрасно подходят друг другу. Один порождает другого и они не могут жить друг без друга.
Совершенно неважно, о чём вещает диктатор: важны лишь чёткость и звонкость его слов. Человек обретает в нём веху, указывающую на его существование. До этого он был всего лишь частицей бесформенного словесного гула, но теперь он становится деталью чёткого, механизированного языка.
Суть механизированного языка диктатора - это голый крик, лишённый подлинного содержания, и когда войска диктатора вторгаются в другую страну, то это выглядит так, словно делается это не для расширения территории нападающей стороны, но для расширения пространства диктаторского крика. Цель стоит закричать, уничтожить криком тишину сопредельного государства, уничтожить его бесшумную действительность, столкнуть крикливым шумом тишину с её насиженного места.
Механизированный язык диктатора - неотъемлемая часть вербального шума, но нарочитая грубость, жестокая агрессивность и захватнические войны также согласуются с шумом. Шум бесформенен сам по себе, и он ждёт, когда что-то чётко оформленное обрушится в него.Потерявшемуся в шуме человеку кажется, что его спасёт жёсткая структура войны или зверской жестокости. Вот почему в мире шума так легко развязываются войны и совершаются зверства. Война и бомбы поглощаются вакуумом шумного мира.
Как в начале времён слова почти что бесшумно предшествуют действиям (человек приглушает слова, т.к. видит, что они способны как по волшебству порождать действия), так и в конце времён, действия вершатся почти что без сопутствующих слов, но теперь - потому что слово лишилось творческой силы: она была уничтожена.
6
Точно так же, как слово больше не рождается в творческом акте, но уже постоянно присутствует в виде непрерывного шума, так и поступки человека совершаются уже не в силу принятого решения, но в силу непрерывного процесса. Теперь главным стал процесс, человек же превратился в придаток этого процесса. "Процесс работы" настолько самодостаточен, что кажется, что он уже совсем не зависит от человека: он словно природное явление, почти что не зависящее от людей. И этот бесконечный и вышедший из под контроля человека процесс в точности соответствует бесконечному процессу шума. Кажется, что процесс работы настолько всё пропитал собою, что даже в перерывах на отдых он продолжает бесшумно присутствовать.
И здесь важна не цель процесса работы, но то, что он ни на минуту не останавливается. Как всеобщий шум перемолол в себе слово, так и рабочий процесс искоренил творческий порыв человека. В этом бесконечном рабочем процессе больше не осталось ничего от человеческой целеустремлённости. Возникла новая форма бытия - чистое, бесцельное бытие, принимаемое лишь в силу своей видимой непрерывности. Оно настолько воспринимается как должное, что даже не вызывает никаких споров. И в этом заключена великая сила трудового процесса: в том, что он вывел себя за рамки каких-либо споров.
Ничто не способно улучшить его. Сегодня весь рабочий процесс превратился в подделку, и потому никакие изменения уже не улучшат его. Напротив, такие изменения могут лишь создать впечатление того, что сам процесс является подлинным и его ещё можно улучшить, и таким образом придать ему обманную легитимность.
7
Ещё в большей степени чем трудовой процесс, воплощением беспрерывного, стерильного единообразия в мире вербального шума стала машина.
Машина - это превратившийся в железо и сталь шум. И так же как шум никогда не отваживается остановиться - словно если он не будет заполнять собой всё пространство, то может исчезнуть навеки, - так и над машиной властвует страх того, что она может раствориться подобно призраку, если не будет постоянно убеждать себя в собственном существовании, пребывая для этого в непрерывном движении.
Сегодня человек больше не верит в жизнь после смерти, и в качестве компенсации этого он претендует на нечто вроде бесформенной непрерывности шума, труда и техники. Постоянному движению машины свойственна некая псевдо-вечность. Как будто с остановкой машины закончится и явленность человека в мире. В мире, лишённом любого другого вида вечности, присутствует, по крайней мере, продолжающееся, нескончаемое движение машины.
На заводах тишину словно заливают в пустоты между стальных балок и таким образом превращают её в шум. Кажется, что могучие станки задались целью перемолоть всю тишину мира - более того, создаётся впечатление, что они уже почти завершили эту работу и теперь осталось лишь несколько последних оборотов. Фабричные станки стоят с триумфальным видом, словно после окончательного уничтожения тишины они уже задумывают новую кампанию по разрушению.
Остановленная машина заполняет собой пространство ещё более властно, чем работающая. Всё теперь принадлежит ей. В присутствии стали кажется, что сам воздух и спокойствие обрели твёрдость.
Покой, наступающий после того, как машина перестаёт работать, - это не тишина, но опустошённость. Поэтому с завершением рабочего дня в жизни рабочего воцаряется пустота. Опустошённость машины провожает его до дома. В этом суть его страданий, его истинной угнетённости. В то же время крестьянин, продолжает оставаться в тишине, в которой он трудился, и по завершению работы. Рабочий - нем, крестьянин - тих.
Раздаются речи о "мире рабочего класса" и "мире машин". Но машина, вгоняющая рабочего в свою механическую опустошённость, - это не мир, но окончание его, и приближение конца мира вызывает в человеке не радость, но только тоску и отчаяние. Поэтому для него машина никогда не станет источником радости.
Машина не способна спасти человека, потому что она извлекает его из сферы времени, являющегося мигом вечности. Постоянно работающая машина создаёт механическую продолжительность времени, но в нём нет автономного мгновения, нет "атомов вечности". Такая механическая продолжительность вообще не связана со временем: она заполняет пространство, а не время. Время словно застыло и превратилось в пространство.
Таким образом человек отлучён от времени. Поэтому ему так одиноко наедине с машиной, которая превращает его в замурованное в пространстве существо. И кажется, что не время, но только пространство совершает движение совместно с оборотами машины. Так человек, ведомый машиной, оказался в пространстве, лишённом времени - словно в бесконечном туннеле, в недра которого он теперь погружается всё глубже и глубже.
В машинном мире уже не суждено появиться на свет слову поэта, ибо поэтическое слово исходит из тишины, а не из шума. Вся сегодняшняя механическая поэзия словно отлита из металла на заводском конвейере.
И единственный бог, возможный в этом машинном мире - это бог, произведённый всё той же машиной: в прямом смысле слова deus ex machina.
8
В этом мире шума для человека возможность важнее действительности. Возможности же лишены прочной опоры и чёткой формы - они перетекают из одной неопределённости в другую. Им нет ни конца, ни края. Они преисполнены двусмысленности и напоминают рассеянное жужжание. Как неразлучны слово и подлинная действительность, так же неразлучны и шум с возможностью.
Мир шума это к тому же ещё и мир эксперимента. И этот эксперимент по своей природе никогда не завершён и чётко не обозначен. Он протекает не в силу определённого акта, независимого от других актов. Сам же по себе он является не самодостаточным феноменом, а всего лишь продолжением череды других экспериментов, их разновидностью, подобно тому, как один вербальный шум это всего лишь продолжение других шумов. Поэтому эксперименты никогда не прекращаются - они продолжаются автоматически. И так человек превращается в лаборанта, которому позволено записывать лишь то, что позволят ему.
Сегодня вещи связаны друг с другом посредством причинно-следственной связи так, что вещи выступают лишь в роли сырья для неё - и это тоже неотъемлемый атрибут вербального шума.
Не стоит воспринимать это как акт насилия со стороны причинно-следственной связи. Связь такая необходима, она элемент структуры человека. Да и сами вещи готовы взаимодействовать друг с другом согласно законам каузальности. Однако такая связь не должна быть автономной, не должна существовать лишь ради одной себя, но ради вещей и ради самого человека.
Психоанализ, глубинная психология и большая часть других психологических учений анализируют явления, опираясь на бесконечное множество их толкований. Феномен заваливают его объяснениями и в итоге он растворяется в них. Подобно тому как слово разваливается на куски во всеобщем словесном гуле, так и феномен или факт разваливается на куски в процессе объяснения. Подобно тому, как больше нет точно определённых слов, но есть лишь разрозненный словесный гул, так нет больше и очевидных фактов и феноменов, но только разрозненные толкования фактов и феноменов.
Сегодня существует нечто вроде механизма толкования, который работает автоматически, затягивая феномены в свою деятельность. Всё как будто уже заранее истолковано - ещё даже до того, как явился сам феномен. И уже не толкования подыскиваются для разъяснения феномена, но сам феномен становится сырьём для уже готового толкования.
Психоаналитические толкования и толкования глубинной психологии полностью выхолащивают феномены. К примеру, феномены отца, матери и сына сводятся на нет толкованием, приготовленным для них психоанализом: Эдип убил отца и стал мужем своей матери. Два этих чудовищных преступления смешиваются психоанализом вместе с феноменами отца, матери и сына и низводятся до уровня всего лишь привеска к эротическому комплексу. Там, где Софокл впервые выводит на свет омраченный убийством феномен отцовства, очевидна суть: убили отца - отца! Конечно, инцестуозная связь, в которую вступили мать с сыном, разрушает образ матери - но только в непосредственный миг самой этой связи. Однако он возрождается снова в момент сыновнего искупления. И этот образ становится отражением изначального феномена материнства. Не Эдип, но сама судьба выколола себе глаза, лишь бы не видеть, как на краю страдания (а не на краю толкования) погибают и вновь воскресают отец, мать и сын.
После этой трагедии изначальные феномены материнства и отцовства стоят ещё прочнее на своих позициях. Кажется, после неё земля становится ещё лучшей опорой. Кажется, земля впервые обрела для себя эти изначальные феномены. - Но психоанализ отбирает их у земли и развеивает по миру.
Современная экзистенциальная философия пытается вырваться из механизма вербального шума и вещей.
Человек бросает себя в ничто. Ему предпочтительнее оказаться в небытии, чем просто быть шестерёнкой в механизме слов и вещей. Кажется, что в таком броске механизм заклинивает, и человек, рухнувший в ничто, оказывается перед лицом нового начала.
Но человек перед лицом этого нового начала не существует. В небытии его нет: он растворился в нём. Нет больше человека, который мог бы приблизиться к основным категориям экзистенциальной философии: ужасу, заботе, смерти. Есть лишь пустота, в которой растворились человек с его заботой, ужасом и смертью - они погрузились во всепоглощающее ничто. Человек оказался в пустоши. И он сам эта пустошь, в которой отзвуки шумного мира слышны ещё громче, чем прежде.
В экзистенциальной философии есть что-то от подземной буровой установки, и шум этой машины является составной частью общего мира шума.
9
В таком вселенском шуме, где суть слов уже утеряна или больше не важна и замещена чистой акустикой, и где всё покрыто шумом и им же нивелировано, там слово поэта, так же как и суетная болтовня погружены и поглощены в единый всё пронизывающий шум.
Здесь нет места ни одиночеству, ни подлинной общности: есть лишь мешанина шума.
Два фундаментально противоположных объекта уже не стоят лицом к лицу, но соскальзывают один за другим в этот шум.
Нет больше никаких полярностей, а значит нет ни страсти, ни судьбы. То, что выдаёт себя за судьбу или рок, - всего лишь слияние многих шумов в один чудовищный оглушающий гул (гул нацизма, к примеру). Но это только временный сбой, перерыв в потоке шума.
Здесь больше нет нужды в воображении: у шума всего в достатке.
Нет необходимости превращать истину в ложь, когда хочется солгать, ибо в шуме истина не отлична от лжи.
Здесь жизнь - это появление из шума, а смерть - исчезновение в нём.
Однако механика вербального шума разносит больше злого, чем доброго, ибо сам феномен зла в большей степени соответствует структуре шума и его размытой неопределённости, чем феномен добра. Добро почти всегда чётко определенно и разграничено. В то же время зло обожает неопределённость сумерек. В сумерках оно способно проникнуть куда угодно.
Сам по себе вербальный шум не является злом, но он открывает дорогу злому: дух стремительно погружается в шум.
Однако зло, рождённое в шуме, отлично от зла Ричарда III, например. Оно обитает в человеке ещё до того, как тот решился на него, и даже до того, как он заметил его присутствие в себе.
Родство этого зла с шумом напоминает родство болотного растения с болотом: они соотносятся друг с другом уже с самого начала; где одно, там и другое. Болотное растение и болото, ложь и шум - одно выражает другое.
Правда, в мире шума ещё по-прежнему живы простые явления: рождение, смерть и любовь. Но они существуют в мире, лишённом слов, в качестве голых феноменов, пребывая в одиночестве посреди всей этой механики. Они излучают вокруг себя свет - нигде так не светло, как тут - словно пытаясь выжечь окружающую их механику в пламени собственного свечения.
Сияние исходит из феноменов любви, смерти и детей. Это сияние переходит от одного феномена к другому, и в таком сиянии они перестают быть одинокими. В нём они связаны друг с другом: при помощи этого сияния эти явления общаются между собой. Там, где слово уничтожено, это сияние стало языком изначального.
РАДИО
1
Целый мир стал миром радио, и мир этот зиждется на словесном шуме - вот почему сегодня словесный шум не просто незначительная частичка мира.
Радио - это машина, производящая абсолютный вербальный шум. Содержание больше не имеет значения; основная забота - это производство шума. Радио словно перемололо слова, превратив их в аморфную массу.
В радио нет ни тишины, ни подлинных слов, поскольку сложилась ситуация, в которой больше нет нужды в тишине или в словах, в которой слова перемолоты в радио шум, в которой всё наличествует и одновременно всё отсутствует.
Радио полностью заняло пространство тишины. Тишины больше нет. Кажется, что даже когда радио выключено, радио шум неслышно продолжается. Радио шум так аморфен, что кажется, что ему нет ни конца, ни начала; он безграничен. И таков же тип человека, сформированного под постоянным влиянием шума: бесформенный, нерешительный как внутри, так и снаружи, лишённый чётких границ и стандартов.
Больше не осталось места, где можно было бы пребывать в тишине, ибо всё пространство уже заранее занято. Словно люди боятся, что тишина прорвётся в каком-нибудь месте и уничтожит шум радио. И таким образом всё пространство заполнено шумом, оно не смеет затихнуть, оно постоянно в обороне от тишины.
Нет больше тишины - одни лишь перерывы в радио шуме.
Не только то, что уже существует, но и то, что только ещё будет существовать в будущем, уже заранее занято радио. Шум настоящего сопровождает человека в будущее, которое также - шум, и которое поэтому уже знакомо ему ещё до того, как оно произойдёт. И настоящее, и будущее вызывают у него скуку, поскольку заранее уже всё известно.
В таком мире радио шума нет настоящего. То, что передаёт радио никогда не наличествует прямо перед человеком; объект никогда не присутствует непосредственным образом. По радио всё пребывает в непрерывном движении, в состоянии бесконечного потока; ничто не постоянно и неизменно. Прошлое, настоящее и будущее перемешаны между собой в затяжном, продолжительном шуме.
Поэтому шум радио разрушает человека. Человек, в чей долг входит стояние лицом к лицу с объектами во всей конкретности, оказывается лишён силы конкретного опыта настоящего.
Вот почему живущий в мире радио человек так раздражителен и встревожен: радио обрушивает на него поток всего, и в то же время ничего этого нет. Всё ускользает от него.
Прошлое, настоящее и будущее перемешались между собой в этом мире. Всё, что ещё только может случиться в будущем, уже присутствует в такой смеси, и факт этот лишает человека в мире радио всякой надежды.
Этот нескончаемый шум радио, всегда неизменный и принимаемый всеми как само собой разумеющееся, поражает человека своей продолжительностью и очевидностью, словно он есть нечто совершенно естественное - подобно шелесту воды или ветра - столь же естественное и неизбежное. По своей сути противоположный природе, этот радио шум, способен выдать себя за природный - за сами звуки природы! И такой "природный" шум, возникший из-за духовной ущербности человека, беспрерывно взывает к сугубо телесному, сугубо инстинктивному и витальному в человеке.
Это не человек делает радио, но оно делает человека. Оно не есть нечто, исходящее из человека, но оно само является человеку, обволакивает его и накрывает. Человек стал просто приложением к радио. Радио производит шум и человек имитирует движение этого шума. Лишь в этом заключена его жизнь.
Радио заполняет всё и само же всё производит - человеческие чувства, желания, знания и даже самого человека как личность. Человек стал продуктом радио - первый опыт самого себя приходит к нему через радио. Так же как некоторым людям нужен кто-то другой или какое-нибудь занятие для того, чтобы удостовериться в собственном существовании, так и многие люди сегодня узнают о себе самих из радио. Но когда возникает нужда в персональном действии для установления связи с другим человеком или занятием, радио всегда тут как тут, даже ещё до того, как человек решил, что ему это необходимо для уверенности в том, что он жив. И оно, а не человек, устанавливает такую связь.
Создаётся впечатление, что связь между человеком и миром может возникнуть лишь при посредничестве радио.
Всё является ему через радио. Если нужно навязать ему любое мнение, то достаточно только подкинуть его в общую смесь радио шума, и оно будет принято, ибо радио способно внушить человеку всё, что угодно.
2
Поэтому радио стало новой действительностью, и ценно теперь только то, что содержится в шуме, что осваивается при посредничестве радио. Событие представляется реальным лишь при условии, что оно - часть шума, производимого радио; что оно транслируется по радио. Бомба, взорванная перед тобой, целый завод, взлетевший на воздух - всё это отпечатывается на твоей сетчатке, но вряд ли эти события будут замечены, пока они не сольются с универсальным шумом радио. Всё, увиденное самим тобой, твоими собственными глазами, лишь внушает подозрение и не становится настоящим событием до тех пор, пока не прозвучит из радио приёмника.
Соответственно, шум этот фальсифицирует прямую взаимосвязь между личностью и объектом. Радио полностью разрушает подлинный способ познания и опыта.
Что же такое "подлинный способ познания"? Когда мы слушаем кого-либо или когда мы читаем, то акт слушания и чтения кажется нам неповторимым, уникальным и живым действием. В таком слушании и чтении истина является, как нечто уникальное и, следовательно, индивидуальное. Но знание, обрушивающееся на нас из радио, повторяется механически; как акту коммуникации, так и акту слушания не достаёт индивидуальности. Радио разрушает основное свойство знания, а именно то, что оно должно передаваться от человека и быть для человека. По радио можно транслировать любые утверждения, но само по себе утверждение ещё не есть истина, ибо для истины существенно важно не только раскрытие некого объекта, но то, что данный объект имеет отношение к человеку.
Истина, постигаемая при чтении или во время прямой личной встрече, обладает свойством непосредственного личного отношения: читатель или слушатель, по мере чтения или слушания, приглашается к реконструкции интеллектуального процесса, уже завершённого писателем или оратором. Во время слушания или чтения прямая связь с объектом остаётся ненарушенной. Именно этой естественной связи не достаёт радио. Знание, переданное по радио, похоже, завершено раз и навсегда; слушателю не предлагается повторить процесс; факты попросту вдавливаются в слушателя, как содержимое в пустые коробки. Факты не только не открываются людьми, но и не предназначаются для них вовсе. Смысл знания сфальсифицирован радио.
3
Мы уже сказали, что ценностью обладает лишь то, что является составной частью радио шума. События не только совершаются в том виде, в каком они доходят до нас по радио, но и воспринимаются таковыми сначала, словно они были собственностью радио ещё до того, как они прошли по нему. Нечеловеческое такого положения дел заключено в том, что события часто уже подготовлены для представления по радио с самого начала. Порой, например, событиям, происходящим во время войны, не дают течь так, как им самим того хотелось бы, но изменяют их с учётом того, как они будут представлены по радио. Случается не то, что имеет место, но то, что склонно и что способно стать шумом по радио. Это можно назвать перерывом действительности.
По этой причине современные войны столь чудовищны: на поверхность выступает не ужасная действительность, но только радио шум. Они не предстают перед человеческим разумом во всей своей конкретности и поэтому не сдерживаются должным образом. Вероятно, войны сегодня обретают всё более жестокий и ужасающий характер по той причине, что они хотят показать себя тем, чем они являются на самом деле, т.е. отчётливо показать себя действительно ужасающим явлением, а не просто частью радио шума.
Во времена, когда тишина ещё обладала властью, войны звучали на фоне тишины, и на таком фоне они становились совершенно отчётливыми. Их ужасы всё ещё отличались изначальной простотой, и шум их стихал в приведённой ими за собой смерти. В этих ранних формах войны человек просто переносил её в тишине. Она была не темой для дискуссий, но изначальным опытом.
Сегодня же война это даже не бунт против тишины - она лишь самый большой круговорот шума в общей суматохе жизни. Если бы в течение всего дня каждую минуту не трубили по радио боевые сводки, то повсюду раздавались бы пушечные залпы и стоны умирающих. В тишине стали бы слышны стенания умирающих, которые даже смогли бы перевесить грохот канонады. В тишине война зазвучала бы настолько громко, что она стала бы просто невыносимой. Однако непрерывный шум боевых сводок уравнивает пушечный грохот и стоны умирающих с общим всемирным шумом. Война превращается в часть всеобщего радио шума, она приспосабливается к нему, и как результат её начинают воспринимать как должное подобно всему, что появляется в шуме радио.
Все те бесчисленные смерти, что случаются сегодня, словно пытаются восстановить зону тишины. Когда, как это имеет место в наши дни, машина по производству шума достигает максимума своей производительности, тогда тишина являет себя в максимуме смерти.
4
Радио - это автономный шум. Он занял собою всё пространство: человека оттолкнули на край и теперь ему остаётся лишь продираться сквозь несколько оставшихся в пространстве прорех и трещин.
В шесть утра его зовут на утреннюю гимнастику, в 6:20 - послушать немного музыки, в семь - новости со всех концов света, затем опять музыка. В восемь приглашают на молитву. В пол девятого его заваливают рецептами для домохозяек, в девять - Бахом, - и так далее. Кажется, что радио ни в малейшей степени не зависит от человека. Оно всё время как будто прислушивается к самому себе. Композиции для фортепьяно Шопена вторит джаз, а ему на замену приходит беседа о витаминах. Радио словно вовлечено в общение с самим собой. Человека оттолкнули в сторону; он просто механик, обслуживающий машину радио шума.
Весь мир превратился в радио шум. Отвергается всё, что не вписывается в формат радио. Власть радио столь велика, что можно, проходя мимо одного дома, услышать звучащую из окна симфонию Чайковского, а затем, пройдя ещё немного, услышать ту же музыку и из соседних окон. Одна и та же музыка присутствует повсюду, куда бы ты не пошёл. Она вездесуща. Словно ты и не шёл никуда, но стоял на том же месте, хотя на самом деле всё время пребывал в движении. Реальность движения обратилась в нереальность. Кажется, что шум радио избавлен от зависимости пространства и времени и воспринимается теперь как нечто естественное, подобно воздуху, которым мы дышим.
Радио шум проникает повсеместно, и всюду он оставляет о себе впечатление постоянства. Оттого человек тоже начинает создавать впечатление постоянства, в результате чего он, которому на самом деле этого постоянства не достаёт, лишается возможности осознать, что он не постоянен. Его внутренняя непостоянность скрывается в постоянном потоке радио, который есть ничто иное, как постоянство непостоянства. Различие между постоянством и непостоянством устранено, подобно тому как в шуме радио исчезают и все остальные границы и различия.
На основании постоянства радио шума человек преисполняется ложным чувством безопасности. Его подталкивают к представлению о том, что радио являет собой нечто постоянное и что и сам он так же постоянен. Человек отправляется на работу: радио сопровождает и окружает его там. Он ложится спать, и радио - последнее, что остаётся в его сознании, прежде чем он погружается в сон. Он просыпается - и радио шум тут как тут, словно он есть нечто совершенно не зависящее от человека, нечто более реальное, чем сам человек, нечто, выступающее гарантией человеческого постоянства. Радио шум всё время вокруг него, всегда под рукой, словно всегда готовый позаботиться о нём, поддержать его.
Бог - Тот, что извечно Постоянен - низложен, а на его место возведён радио шум. И то, что, хотя радио и было изобретено человеком, но оказывается совершенно не зависимым от человека, придаёт ему налёт мрачной мистики.
Утверждается, что человек не обязательно должен затухать подобно радио волнам, что он в конце концов волен сам выбирать подходящую для себя программу. Я вспоминаю дебаты о смертной казни в Баден-Бадене в 1930-ом году, когда один из участников выражал своё недоумение в том, почему так много говорится о смертной казни, в то время как болезнен не сам миг смерти, но страх перед смертью, и у приговоренного всегда остаётся выбор испытывать страх или нет. Схожим образом и мы выбираем из радио программы то, что обеспечивает постоянство нашей внутренней жизни.
В таком псевдо-постоянстве человек забывает о том, что всё существенное осуществляется посредством отдельного, определённого творческого акта, и он полностью лишается связи с элементом спонтанности в жизни. В этом порочность радио. Ни один из изначальных элементов жизни - таких как истина, верность, любовь, вера - не способен существовать в мире радио шума, ибо эти изначальные феномены по своей сути непосредственны, они чётко определены и очерчены, это исходные феномены из первых рук, тогда как мир радио - это мир окольный, вовлечённый, опосредованный. В подобном мире изначальные феномены обречены на крушение.
5
Многие считают, что в силах радио научить человека истине, добру и красоте, однако не стоит забывать, что здесь человек встречает не подлинное слово, но словесный шум, в котором истина, добро и красота лишь ненадолго появляются на поверхности, чтобы затем исчезнуть вновь. Содержание радио программы есть ничто иное, как наполнение шума. Добро, истина и красота обезличиваются во всеобщем шуме, в котором размыты все действительные границы и различия.
Утверждают, что крестьянин на одиноком и обособленном хуторе при помощи радио обретает возможность в большей мере участвовать в жизни своей страны. Однако всеобщая жизнь, в которую вовлекают крестьянина, это не органичная жизнь общины, куда каждый может внести собственную лепту и тем самым расширить её, но скорее абстракция настоящей жизни, в которой личность растворена и сведена к минимуму.
В заброшенной горной деревушке для крестьянина конкретной действительностью является одиночество гор. Он отождествляет себя с одиночеством природы и сам же воплощает его в себе. Эта конкретность, этот образ гор в крестьянине разрушается радио, которое превращает его в обезличенную частичку абстракции, претендующей на универсальность в виду своей неопределённости. Однако эта абстракция лишь неопределённа, но отнюдь не универсальна.
Человек уже давно не обращает внимание на окружающий его радио шум. Он не слышит непрерывного жужжания радио: оно давно стало чем-то вроде шумной тишины, которую он почти не замечает, как бы громко оно не шумело вокруг него.
Это самое глубокое из всех возможных оскорблений языка: бьёт мощный непрерывный поток слов, на который никто не обращает внимание.
Радио учит человека не вслушиваться в слова, что означает - не слушать говорящего человека. А следовательно оно отрывает человека от Тебя, отрывает его от Любви.
Мысль о том, что утерян контакт с подлинным словом, должна бы удручать человека. Но радио шум заполняет собой те пустоты, в которых прежде обитало слово, и в результате человек упускает из виду, что у него отняли слово. Он сам не замечает этого, но данный факт отмечается бессознательно, и это лишает его покоя и заставляет нервничать.
Мне кажется, в этом заключена суть многих современных психозов: радио вышвыривает на нас безграничную массу слов, которые требуют ответа. Но для ответа их чересчур много, и потому никто его и не ждёт, ибо в каждый следующий миг на нас выбрасывается новый массив слов.
Люди, которые тем или иным образом всё ещё осознают свой долг в нахождении ответа на всё, что встаёт перед человеческим разумом, пребывают в замешательстве. Они чувствуют, что ответ должен быть дан, однако для него не осталось ни времени, ни места, и на почве подобного замешательства может легко развиться психоз, проявляющий себя в во всевозможных формах подавления. Этот психоз способен стать лазейкой для бегства из мира, в котором у человека отнято самое существенное в его жизни: способность давать ответы и быть ответственным.
6
Радио приёмники напоминают автоматическое оружие, ведущее непрерывный огонь по тишине.
За всем этим шумом в убежище притаился его враг: тишина.
Шум радио становится всё более и более яростным оттого, что его охватывает всё более острый страх, что на него внезапно может напасть тишина и подлинный мир.
Порой, когда над всем этим радио шумом в небесной выси вдруг возникает тишина, а в ней - всепоглощающий Свет, чуть ли не поглощающий стены самого царства небесного, случайный свидетель задерживает своё дыхание - отчасти в страхе, отчасти в восторге - чтобы не позволить в следующий миг этому свету поглотить в себе шум радио.
ОСТАТКИ ТИШИНЫ
1
Дело обстоит так, словно наступило время уничтожить последние остатки тишины, словно уже был отдан приказ провести опись этих остатков в каждом человеке, в каждом доме, чтобы затем как врага истребить их.
Самолёты зачищают небо от тишины, разбившей свой лагерь за облаками. Пропеллеры, взбивающие воздух, как будто наносят множественные удары по тишине.
Мегаполисы напоминают огромные резервуары шума. Шум производится в городах, как ходовой товар. Большой город - это место, где он всегда в избытке, отделённый от породившего его объекта. Он нависает над городом и обрушивается на людей и на вещи.
Но ночью, когда гаснут огни, улицы напоминают глубокие колодцы, в которые провалился шум и где его след простыл. Люди и вещи устало дремлют, уже не будучи преисполненными шума. Люди подобно призракам бродят между домами, и стены домов напоминают фронтонные стены огромных заброшенных и разваливающихся гробниц.
Однако во сне, утопив свои уши в подушках, люди словно вслушиваются в глубины земли, в сгинувший шум или, может быть, в сгинувшую тишину.
Мегаполис - это обороняющаяся от тишины крепость, над которой парит разрушение во всей своей взбудораженной возне. Он наполнен устремлённостью к разрушению, поиском смерти и поиском тишины после смерти.
Тишина больше не существует как мир, но как фрагменты, как руины мира. И так же как человек страшится руин, так же он страшится и остатков тишины.
Иногда в городе, посреди шума оживлённой трассы, человек вдруг падает в полном изнеможении и умирает. И тогда клочья тишины, ещё разбросанные вокруг, среди верхушек деревьев у обочины, внезапно опускаются на умершего. Эти обрывки тишины словно подкрадываются к тишине умершего на проезжей части, и на мгновение в городе воцаряется покой. Остатки тишины скрываются вместе с павшим в разломе смерти. Мертвец забирает с собой последние остатки тишины.
2
Тишина больше не воспринимается, как нечто естественное. Когда её обнаруживают в ком-нибудь, то она скорее похожа на музейный экспонат или фантом.
Кристин Б. была прекрасна, когда сидела в тишине: всё в ней казалось безупречным. Она напоминала крестьянку, одно только присутствие которой приводило большую ферму в порядок. Когда Кристин Б. просто сидела, ничего не говоря, то в наступившей тишине можно было разобрать слова, неслышно исходящие из неё. Всякий, вслушивающийся в эти слова, с одной стороны пребывал здесь, с Кристин Б., а с другой - в том далёком краю, откуда эти слова появлялись и где они обретали собственное звучание. По волшебному мановению тишины он был здесь и в то же время в далёком краю.
Но стоило Кристин Б. заговорить, как раздавался словесный шум, да и сама она целиком превращалась в шум. Она словно не владела тишиной, скрытой внутри неё. Она начинала совершать такие нервные телодвижения, что казалось, что тишина исчезла не только в ней самой, но и во всём мире.
Вне сомнения, тишина всё ещё таилась в Кристин, но она была тщательно спрятана от неё, оторванная от слова, а, следовательно, оторванная и от неё самой. Слова жили своей жизнью, а тишина - своей: в одиночестве. Слова и тишина настолько были отделены друг от друга, что, когда она говорила, то лишь слова присутствовали в ней, а когда молчала, то только тишина. В тишине Кристин была отрезана от слов, и тогда тишина так основательно охватывала её, что казалось, что она демонически одержима последними остатками тишины в мире. Она сидела подобно призраку тишины, окружённому шумом остальных людей.
3
Конечно, в мире шума всё ещё остаются слова, явившиеся из мира тишины, но они одиноки в мире шума, и тишина, окутывающая их собою, пронизана меланхолией. Слова как будто произрастают из тёмной почвы меланхолии, а не из тьмы безмолвия. Словно темнокрылая бабочка, Камбервельская Красавица, порхают эти одинокие слова в мире шума.
Конечно, в мире шума всё ещё остаются слова, явившиеся из мира тишины, но подобно выкопанным из земли древним сокровищам, они принадлежат иному миру. Когда люди слышат такие изначальные слова, на миг их охватывает страх, и этот миг страха одновременно есть и миг тишины - пока не появится паровой каток шума и не сравняет с землёй слово и тишину, уничтожив их.
Такие слова, сохраняющие изначальную связь с тишиной посреди моря шума, вызывают ассоциацию с богом, вышедшим из белого мрамора найденной в земле статуи. На мгновение замирают люди, машины, самолёты; внезапное появление бога действуют как запретительный знак на всё, пребывающее в движении. Но уже в следующий миг налетит машина и унесёт с собой бога в шум вновь ожившего транспортного потока, и бог превратится в всего лиши крошечную частичку шумного автопотока.
Да, тишина, как самостоятельный мир, уничтожена; звук охватил собой всё; вся земля теперь принадлежит ему. Больше не осталось мирового единства духа, веры и политики. Есть лишь всемирное единство шума. В нём люди и вещи объединены воедино.
Но кое-что осталось: спокойствие рассвета и незаметное наступление ночи.
Никогда прежде тишина этих явлений не была более совершенной, чем сейчас; никогда не были они прекраснее. Их тишина одинока: власть тишины, однажды выступившая из них и охватившая людей и всё земное, отныне предоставлена сама себе. Они хранят тишину для самих себя. Один бедняк сказал другому: "Раз никто не уважает меня, то я сам буду уважать себя". Так же и они: никто не дарит им тишину, никто её у них и не отнимает. Они сами дарят её себе, и сами же ею владеют.
БОЛЕЗНЬ, СМЕРТЬ И ТИШИНА
1
Современный человек потерял сон, потому что потерял тишину. Во сне человек с помощью тишины возвращается в великую тишину вселенной. Но в наше время человеку не хватает той тишины, которая могла бы привести его к великой тишине вселенной. Сон сегодня - это реакция на шум, это вызванная шумом усталость. Он перестал быть самостоятельным миром.
"Даже во сне они соучаствуют во всем, что происходит в мироздании" (Гераклит)
2
Даже в мире шума присутствует тишина, окружающая собой болезнь - та тишина, которую не способны отпугнуть все, будь то правые или не правые, речи врачей. Как будто тишина, изгнанная отовсюду, нашла своё убежище в больных. Она обитает в них, как в катакомбах.
Безмолвно лежит больной, словно он - всего лишь место, в котором осела тишина. Болезнь приходит в сопровождении тишины. Она медленно захватывает всё тело, и сквозь такую тишину уже не могут проникнуть ни слова самого больного, ни его посетителя.
Тишина всегда пребывала с больным. И всё же тишина, пребывающая с больным сегодня, уже не та, что в прежние времена. Тишина, пребывающая с больным сегодня, кажется неестественной, ибо её место в нормальной жизни, но её изгнали оттуда, и теперь она живёт лишь с больными.
Шум занял ту добрую часть жизни, что раньше принадлежала тишине, и ей осталось только найти укрытие в порочной части жизни - в мире болезни и недуга: отныне тишина подбирается к человеку только тайными порочными тропами. Тишина, служившая раньше спасением и исцелением человеческим, теперь превратилась в угрозу и бедствие.
Есть болезни, воплощающие в себе мстительность тишины: тишина мстит за своё изгнание и за то, что может прорваться к человеку лишь из мрачных пустот болезни. Рак - такая болезнь. Он окружён тишиной. Это не значит, что источник самой болезни погружён в безмолвие, но человек болеет раком гораздо тяжелее, чем видно по симптомам, ведь они - всего лишь симптомы порочной тишины.
3
Случившийся с профессором Л. удар вынудил его говорить медленно. Он не считал потерей то, что теперь ему с трудом удавалось извлекать слова из тишины и облекать их в звук. Он утверждал, что раньше говорить для него было проще простого; слова возникали слишком просто, перескакивая с одного на другое, и никогда подолгу не задерживались на появлении из тишины. Но теперь из-за болезни превращение слова в звук стало значительным событием. Словно извлечение слова из тишины каждый раз требовало от него творческого усилия. Он стал словно средневековый человек, для которого каждое движение из тишины в речь было самим по себе событием. Ранее не доступный ему в добром здравии опыт - опыт рождения слова из тишины как выдающееся событие - открылся в болезни.
Таким образом профессор Л. преодолел свою болезнь. И не только это: в болезни он стал большим, чем был раньше.
4
Цветы, поля и горы стояли перед нами во всей своей действительной отчётливости, словно они всегда будут такими и словно нет нужды в ком-то, кто помнил бы их потом, когда они тихо уйдут в зиму.
Человек стоял, глядя на них, и размышлял о собственной смерти и о том, как однажды он уже не увидит всего этого.
В тот самый миг, когда он подумал о смерти, его вынесло из настоящей действительности, и он увидел цветы, долину и деревья так, словно уже находился в царстве смерти. Они выглядели теперь таким образом, словно на них смотрели с другого конца подзорной трубы: далёкими и крошечными, как игрушки, парящими в отдалении. Они были прекрасны как никогда раньше, и он в тревоге ждал, когда они совсем уменьшатся в размерах и полностью растворятся в царстве смерти, из которого он взирал на них.
Движение духа, позволившее этому человеку увидеть настоящее из прошлого, из царства смерти, возможно лишь там, где в человеке обитает тишина. Тогда тишина выводит душу из настоящего в отдалённое царство смерти, а дух не чувствует себя оставленным, но, цепляясь за неё, движется вдоль стены тишины.
5
Что бы ни было у нас дома и за душой, кем бы ни были мы перед Богом и человеком, чтобы ни было нужно нам в лесах и на полях, на кухне и в подвале, всё это - опыт и изобретения, приобретения и открытия мёртвых, сослужившие нам хорошую службу, на которые мы рассчитываем и от которых зависим в надежде достичь ещё более высокого и лучшего. Таким образом у каждого из нас есть своя доля в огромном наследстве прошлого, и всякий, лишённый безумного высокомерия, будет благодарен тем, кто ушёл до него, за те страдания, плоды которых мы пожинаем сейчас в таком изобилии. (Готтхельф)
Человек может быть связан с миром мёртвых, только будучи уже связанным с миром тишины. Слова мёртвых слышны лишь в тишине его собственной жизни. Тогда мёртвые привносят в мир человека мир слова. Слова эти отчасти наделяют властью, присущей тишине. И они же научают людей и вещи быть послушными власти, исходящей из тишины.
Сегодня смерть уже не является самостоятельным миром, она лишь последний остаток жизни - жизни израсходованной и больше не владеющей тишиной. Её тишина словно дана ей взаймы, дана из жалости.
И всё же смерть способна ещё внезапно предстать самостоятельным миром, для которого жизнь - всего лишь прелюдия. Она может предстать в облике войны, и, поскольку миллионы смертей не способны принести с собой тишину, её приносят ужасы войны. Изгнанная из жизни и смерти тишина является в оцепенении ужасом.
Из-за того, что смерть заставляет нас наиболее остро ощущать таинственность мира, она должна быть последним средством, к которому прибегаем мы для усложнения жизни друг другу. Давайте же чтить смерть как чистейший символ нашей общности в тишине - символ, нависающий над нами неизбежной судьбой. (Овербек)
МИР БЕЗ ТИШИНЫ
Ничто так не изменило человеческую натуру как утрата тишины. Введение книгопечатания, техника, обязательное образование - ничто из перечисленного не переменило человека так, как недостаток связанности с тишиной, и то, что тишина больше не воспринимается как нечто естественное - как небо над нами или воздух, которым мы дышим.
Человек, лишившись тишины, оказался не просто лишён одного из своих свойств - целиком изменилась вся его структура.
Прежде тишина покрывала собою всё: перед тем как приблизиться к чему-либо, ему нужно было прорваться сквозь покровы тишины, и тишина оберегала даже те мысли, которые он только ещё намеревался продумать. Человек не был способен наброситься на вещи или идеи: их защищала окружавшая их тишина, сдерживающая человека от слишком стремительного рывка к ним. Тишина занимала своё расположение прямо перед вещами и идеями. Она объективно присутствовала там. Она, словно силы самообороны, разбила там свой лагерь. А человек приближался к идеям и вещам медленно и тихо. При переходе от одной идеи к другой и от одной вещи к другой всегда присутствовала тишина. Ритм тишины задавал тон такому переходу.
Любое движение становилось отдельным актом: чтобы продолжить его, нужно было сдвинуть в сторону неотёсанную глыбу тишины. Но зато когда кто-либо приходил к идее, то он уже по-настоящему был с ней, и впервые сама идея или вещь по-настоящему обретали своё существование. Конкретная действительность созидалась в прямой и личной встрече с человеком.
Сегодня же человек больше не осторожничает с вещами и идеями. Они растворяются в его опустошённости, спешат навстречу к нему, вьются вокруг него. Человек больше не думает - всё уже продумано за него. Cogito, ergo sum заменено на cogitor, ergo non sum.
Когда-то мир уже был захвачен не меньше, чем сегодня, но он был захвачен тишиной, и потому человек не мог присвоить себе всего, поскольку всё крепко удерживала при себе тишина. Человеку не нужно было знать всего: тишина знала всё за него. И будучи связанным с тишиной, он многое узнавал от неё.
Сегодня же небеса тишины больше не нависают над миром идей и вещей, сдерживая их своим весом и давлением. На их месте отныне зияет пустота, и вещи словно засасываются в пространство, где прежде обитала тишина. Они обнажены, не прикрыты и их тянет ввысь. Всё больше вещей начинают отрываться от земли, и это - настоящее "восстание масс", бунт вещей и идей, более не сдерживаемых давлением тишины.
Человек даже не заметил утраты тишины: настолько полно пространство, прежде занятое ею, теперь запружено вещами, что кажется, что всё на месте. Но там, где прежде над вещью стояла тишина, теперь стоит другая вещь. Там, где прежде тишина окутывала идею, теперь к ней рвутся тысячи ассоциаций, хороня её под собою.
В сегодняшнем мире, где судят обо всём, исходя из немедленной выгоды, для тишины нет места. Её изгнали ввиду её непродуктивности, поскольку она всего лишь присутствовала без всякой цели. Единственная оставшаяся разновидность тишины - та, что вызвана потерей дара речи. Она совершенно негативна: это отсутствие речи. Не более чем техническая неполадка в непрерывном потоке шума.
Возможно, ещё осталось немного тишины: немного ещё допустимо. Подобно тому, как почти полностью истреблённым индейцам разрешают жить в их жалких резервациях, так и тишине порой отдают под санаторий клочок пространства между двух и трёх часов пополудни: "час тишины" и "две минуты молчания в память о...". Но никто не объявляет минуту молчания в память по тишине, которой больше не стало.
Конечно, тишина всё ещё присутствует в монашеских общинах. В средние века тишина монахов была связана с тишиной мирян за стенами монастырей. Сегодня же тишина изолирована в монастыре, она буквально живёт в монашеском уединении.
НАДЕЖДА
Дома больших городов напоминают блиндажи, возведённые для войны с тишиной. Из их окон-бойниц ведётся огонь по ней.
По ночам здания и площади кажутся подвешенными в воздухе - лишённые опоры, они словно парят над землёй. Огни как будто приподнимают весь город и он парит над самим собой. Вспыхивает всё больше и больше огней, зелёных и синих, и кажется, что город парит. Но звёздное небо над городом вдруг охватывает дрожь и оно спасается бегством.
Как один затухают огни. Наступает мгновение тишины, словно город размышляет над тем, не стоит ли ему сейчас рухнуть на землю и таким образом покончить с собой.
Но вдруг с верхнего этажа одного из домов через щель пробивается луч дружественного света. Этот луч похож на голубку с Ноева ковчега - он вырвался посмотреть, не пришла ли пора городу бросать якорь на горе тишины. Но луч возвращается на верхний этаж дома. Его миссия тщетна - пока не появится луна и не растворится в рассвете, забрав его вместе с собой.
Возможно, тишина ещё не истреблена до конца. Возможно, она ещё обретается в человеке во время сна. Ибо иногда кажется, что если одно свойство личности или целого народа заслоняет собой другое, то это второе как будто угасло. Например, может показаться, что внутри какого-либо народа угасла способность к поэзии и на её месте взросли научные и политические таланты. Но однажды она возникает вновь и столь ярко, что своей полнотой затапливает всё пространство своего многолетнего отсутствия. Или, может, воцаряется эпоха рационализма, и создаётся впечатление, что кроме рационализма уже и не быть ничему. Но внезапно рационализм исчезает и приходит время антирационализма. Метафизическая энергия в человеке не уничтожена - она не мертва, а всего лишь дремлет. Похоже, что время от времени одна из сторон духа должна проявиться отчётливее и яростнее, чем ей этого хочется самой, чтобы другая смогла притаиться и в покое восстановить свои силы.
Возможно, так же обстоит дело и с тишиной. Возможно, она не мертва, но просто дремлет и отдыхает. И тогда шум - это лишь стена, за которой приснула тишина, а сам шум не победитель тишины и не её хозяин, но только слуга, охраняющий сон своей госпожи - тишины.
Ах, - сказала Селина, - это скрытое в наших душах сокровище не даёт мне покоя; неужели не осталось и надежды на то, что бессознательная наша любовь к Богу выше осознанной, и что, когда мы отдаём себя внешнему миру, внутри нас безмолвно срабатывает инстинктивная тяга к миру возвышенного? (Жан Поль)
Порой кажется, что между тишиной и шумом идёт схватка; как будто тишина незаметно собирает силы для вторжения.
Шум могущественен, но иногда кажется, что тишина ещё более могущественна - настолько, что даже не замечает присутствия шума.
Конечно, шум постоянно нарастает, он постоянно накапливает в себе всё больше и больше разных вещей. Но, возможно, это делается для того, чтобы его было легче разрушить, когда тишина вдруг перейдёт в нападение.
Возможно, этот гигантский механизм шума сам взорвётся от собственного неистовства, о об этом станет известно из обращённого к тишине призыву: твоё время пришло.
Сторож! Сколько ночи?
Сторож! Сколько ночи?
Сторож отвечает: приближается утро, но ещё ночь.
Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. (Книга Иссаи, 21:11)
ТИШИНА И ВЕРА
1
Тишина и вера взаимосвязаны между собой. Сфера веры и сфера тишины совпадают. Тишина - это естественное основание сверхъестественной сущности веры.
Бог стал человеком ради человека. Это настолько невиданное, противоречащее всему разумному опыту и выходящее из ряда вон событие, что человек не способен отреагировать на него в словах. Слой тишины лежит между человеком и тишиной, и в этой тишине человек приближается к тишине, окружающей Самого Бога. Первая встреча человека и великого таинства происходит в тишине, и первое слово, возникшее в тишине - подлинно, поскольку оно появилось прежде всего сказанного. Поэтому ему по плечу нести весть о таинстве.
То, что таинство всегда отделено от человека покровом тишины, свидетельствует о любви Бога. Это так же и напоминание о том, что, приближаясь к тайне, человеку должно хранить молчание. Сегодня, когда внутри человека и вокруг него царит шум, к таинству стало тяжело подступиться. С отсутствием покрова тишины сверхъестественное беспрепятственно соприкасается с естественным, с обыденным потоком вещей, и человек низводит сверхъестественное до уровня повседневного - до ещё одной детали механической обыденности.
Слова многих проповедников о Божественном Таинстве часто безжизненны и бесплодны. Их речь проистекает из мешанины многих тысяч других слов. Она не исходит из тишины. Но именно в тишине случается первая встреча человека с Божественным Таинством, и именно из тишины слово черпает силу для становления таким же сверхъестественным, как и Сам Бог. И тогда оно возносится над порядком обыденных слов так же, как Божественное Таинство возвышается над обыденной повседневностью вещей. Как будто слова созданы исключительно для отображения сверхъестественного. Посредством этого они отождествляются со сверхъестественным, с таинственным, и оттого сила их родственна силе таинства.
Конечно, человек способен мощью собственного духа наделить слова изначальной силой, но слово, возникающее из тишины уже изначально. Нет нужды в том, чтобы человеческий разум растрачивался на придание слову силы изначального - тишина уже наделила его этой силой. Тишина содействует человеческому духу.
Человек способен силою духа удерживать себя в вере, но тогда дух будет вынужден постоянно пребывать в бдении, быть настороже, и тогда вера утратит свою естественность и непринуждённость. Прилагаемое усилие станет важнее самой веры. Такому усиленно верующему человеку может показаться, что Сам Бог поручил ему веровать, что Сам Бог возложил на него это бремя. И он решит, что он пророк. Да, вера сверхъестественна, но сверхъестественное не имеет ничего общего с внешними условиями веры, для веры не требуется никакого усилия. Внешние условия могут подняться на уровень сверхъестественного, лишь если не станет естественной основы тишины.
2
Безмолвие Бога отлично от безмолвия человека. Оно не противостоит слову: в Боге слово и тишина едины. Как язык неотъемлем от сущности человека, так же и тишина неотъемлема от сущности Бога; но в этой сущности всё прозрачно, всё одновременно и слово, и тишина.
Глас Божий - это не какой-нибудь отдельный голос природы или не все природные голоса, вместе взятые, но голос тишины. Как верно то, что мир был бы нем, не надели его Бог силой речи, или то, что всё, что дышит, должно славить Имя Господне, так верно и то, что лишь тот различает Глас Божий в многоголосице мира, кто способен расслышать, голос лишённый всякого звучания. (Вильгельм Вишер)
Иногда создаётся впечатление, что человек и природа держат речь только потому, что Бог ещё не взял своё слово, или что человек и природа хранят молчание лишь потому, что они не расслышали ещё тишины Бога.
Любовь преображает Божественную тишину в Слово. Слово Божье - это отдающаяся человеку тишина.
Лучи того, кто движет мирозданье,
Все проницают славой и струят
Где — большее, где — меньшее сиянье.
Я в тверди был, где свет их восприят
Всего полней; но вел бы речь напрасно
О виденном вернувшийся назад;
Затем что, близясь к чаемому страстно,
Наш ум к такой нисходит глубине,
Что память вслед за ним идти не властна.
(Данте, "Божественная комедия")
3
В молитве слово возвращается от себя самого в тишину. Уже изначально оно обитает в царстве тишины. Бог забирает его, отняв у человека; тишина поглощает слово и слово растворяется в ней. Молитва может быть нескончаемой, но её слова исчезают в тишине. Молитва сливает слова в тишину.
Слово молитвы возникает из тишины - оттуда же, откуда возникает всякое подлинное слово - но оно появляется лишь затем, чтобы отправиться прямиком к Богу - к "голосу убывающей тишины".
Во время молитвы приземлённая, человеческая тишина соприкасается с возвышенной тишиной Бога; низкое покоится в высоком. Поэтому молящийся человек находится посреди двух сфер тишины. Молитва удерживает его между ними.
Всюду, за пределами молитвы, тишина воплощается и обретает своей смысл в речи. Но только при молитве её смысл и воплощение обретаются во встрече с безмолвием Бога.
Всюду, за пределами молитвы, тишина находится на службе человеческого слова. Но только в молитве слово прислуживает тишине: слово направляет человеческую тишину к тишине Бога.
Нынешний мир и всё живое тяжело больны. Если бы я был врачом и меня спросили совета, то я бы ответил: "Творите тишину!" Приведите людей к тишине. Слово Божье не слышно в шуме современного мира. И даже если его выставили бы напоказ во всём великолепии шума, дабы его стало слышно среди всего прочего гвалта, то это уже было бы не Слово Божье. Поэтому - творите тишину. (Кьеркегор)

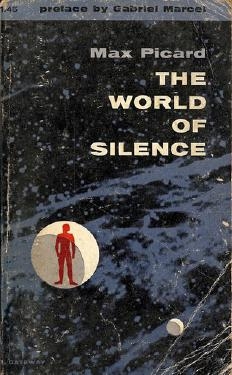

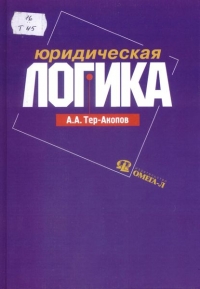


Комментарии к книге «МИР ТИШИНЫ», Макс Пикар
Всего 0 комментариев